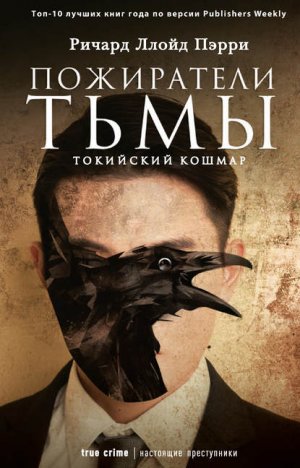
© Richard Lloyd Parry, 2011
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019
Пожиратели тьмы
Посвящается маме и папе
Старики, тайком посещающие дом «спящих красавиц», не только горюют об ушедшей молодости, но и хотели бы предать забвению зло, совершенное ими в течение жизни… Некоторые добились успеха, совершая зло, и оберегали свой успех, нагромождая одно зло на другое. Такие не знают мира в душе, напротив, живут в вечном страхе и фактически потерпели духовное крушение. Когда они лежат здесь, прикасаясь к обнаженному телу спящей молодой женщины, из глубины их души поднимается не только страх перед надвигающейся смертью, не только печаль об утраченной молодости. Бывает, что охватывает раскаяние о содеянном зле. Другие были несчастливы в семейной жизни, что часто случается у удачливых людей. Вряд ли у этих стариков есть свой Будда, перед которым они могли бы преклонить колени и помолиться. Крепко обняв обнаженных красавиц, старики обливаются холодными слезами, захлебываются в рыданиях, кричат, но девушки ничего этого не знают и ни за что не проснутся. Старики их не стыдятся и не чувствуют себя униженными. Свободно изливают свои жалобы и печали. Так не является ли для них «спящая красавица» чем-то вроде Будды? Живого Будды! Молодые тела и запах девушек обещают им всепрощение и несут успокоение в их души.
Ясунари Кавабата. Спящие красавицы[1]
Пролог
Жизнь до смерти
Разыскивается: Люси Блэкман Возраст: 21 год. Рост: 175 см, среднего телосложения.
Цвет волос: светлый. Цвет глаз: голубой.
В последний раз ее видели в Токио в субботу 1 июля.
С тех пор считается пропавшей без вести. Тел.03-3479-0110.
Если кто-нибудь ее видел или располагает информацией о ее местонахождении, обратитесь в полицейский участок Азабу.
Тел.03-3479-0110 или в ближайший к вам полицейский участок.
Люси Блэкман (англичанка)
Люси просыпается, как обычно, поздно. Яркие лучи дневного света пробиваются из-под шторы на окне и пронизывают темную комнату – с невысокими потолками, тесную, бесцветную. На стенах висят постеры и открытки, вешалки перегружены блузками и платьями. На полу, на футонах лежат две девушки. У одной светлые волосы, у другой каштановые. Одна спит в футболке, другая голышом под простыней, потому что даже ночью слишком жарко и влажно, чтобы укрываться одеялом. На улице, на натянутых между домами телеграфных проводах, с карканьем дерутся вороны. Девушки легли спать в четыре утра. Сейчас на пластмассовом будильнике почти полдень. Голова с каштановыми локонами продолжает покоиться на подушке, а Люси поднимается, надевает халат и идет в ванную.
Она называет свой дом в Токио «помойкой», и ванная комната – одна из главных причин. В квартире живет полдюжины человек, не считая их ночных гостей; и ванная, забитая чужими вещами и мусором, представляет собой отвратительное зрелище. На краю раковины извиваются полупустые тюбики зубной пасты, на полу в душе киснут размокшие обмылки, а сливное отверстие забито мерзким комком волос, обрезков кожи и ногтей. Свои многочисленные и дорогие туалетные принадлежности, а также расчески, щетки и косметику, Люси никогда здесь не оставляет. Моется она долго и тщательно. Всегда в определенном порядке: намылить голову шампунем, ополоснуть, дальше кондиционер для волос, мочалка с мылом, полотенце, легкий массаж, скраб, очищение, увлажнение, питательный крем, пинцет для бровей, чистка зубов щеткой и зубной нитью и, наконец, сушка волос феном. Люси – само воплощение разницы между обычным утренним душем и «уходом за собой». Если вам некогда, занимать за ней очередь в ванную точно не стоит.
Что видит Люси, когда смотрится в зеркало? Гладкое симпатичное лицо, обрамленное натуральными светлыми волосами длиной чуть ниже плеч. Волевой подбородок; крепкие, ровные и белые зубы. Когда она улыбается, на щеках видны ямочки. Нос с закругленным кончиком, прямые, тщательно выщипанные брови и небольшие темно-голубые глаза с вытянутыми книзу уголками. Люси не нравятся ее «азиатские» глаза, и она часами торчит перед зеркалом, пытаясь их подправить. Такой разрез глаз и впрямь выглядит довольно неожиданно и экзотично у голубоглазой белокожей девушки спортивного телосложения.
Люси довольно высокого роста, 175 сантиметров. У нее пышная грудь и широкие бедра. Она тщательно следит за своим весом. В мае, когда Люси только переехала в Японию, поселилась в «помойке» и искала работу, она выглядела стройнее, чем сейчас. Но несколько недель ночных смен в клубе – и она снова «нагуляла» все сброшенные килограммы. В неудачные дни Люси считает себя уродиной. Ей кажется, что она раздулась и обвисла. Она ненавидит родимое пятно на бедре и темную родинку между бровей. Беспристрастный наблюдатель, пожалуй, наделил бы ее старомодными и слегка пикантными эпитетами «пышненькая» и «пригожая». Девушка с каштановыми волосами на другом футоне – лучшая подруга Люси Луиза Филлипс – обладает более традиционной привлекательностью: стройная, невысокая, с живыми чертами лица. Впрочем, большую часть времени, по крайней мере в обществе посторонних, Люси держится уверенно и непринужденно. Ее смех, жесты во время разговора, привычка встряхивать волосами и бессознательно дотрагиваться до человека, с которым она беседует, – все это придает ей обаяния и притягивает как женщин, так и мужчин.
Люси выходит из ванной. Чем она занимается дальше? Мы знаем, что девушка не делает записи в дневнике – забросила его почти две недели назад. Также она не звонит Скотту, своему парню, который служит на авианосце в портовом городе Ёкосука. Позже в ее личных вещах семья найдет неотправленную открытку, адресованную старинной подруге Саманте Берман, оставшейся в Англии. Так что, возможно, сейчас Люси как раз подписывает эту открытку: «Дорогая Сэмми, шлю весточку из Токио, просто чтобы сказать, как приятно было на днях поболтать с тобой. Я очень рада, что ты нашла славного друга / парня / приятеля (кем бы он ни был). Знаю, мне легче, ведь у меня теперь совсем другая жизнь, и воскресенья я провожу совсем иначе. Но, поверь, мне очень тебя не хватает, и мы скоро, хотя я не знаю, когда именно, обязательно встретимся – здесь, где я сейчас, или когда я вернусь домой. Обожаю тебя, ужасно скучаю и всегда буду скучать. С любовью, Лулу».
В половине второго внизу звонит телефон. Кто-то из соседей по квартире поднимает трубку и зовет Люси. В отличие от Луизы, у которой есть собственный мобильный телефон, подарок одного из клиентов, Люси приходится пользоваться установленным на кухне общественным таксофоном – громоздким розовым пластмассовым ящиком, в который забрасывают иены. Разговоры по нему слышны всем обитателям первого этажа. Но Люси недолго придется мириться с этой неприятной ситуацией – всего через несколько часов у нее появится собственный мобильник.
Луиза тоже проснулась и сидит в общей гостиной, пока подруга говорит по телефону. Разговор совсем недолгий. Это он, сообщает Люси Луизе, повесив розовую трубку. Перенес свидание с трех на час позже. Он еще позвонит, и они встретятся у станции. Потом пойдут пообедать, хотя обедом это уже не назовешь, но она вернется вовремя, до восьми, чтобы успеть на танцы с Луизой и еще одной девушкой из клуба. Люси снимает халат и выбирает наряд: черное платье, серебряная цепочка с хрустальной подвеской в форме сердца и часы от Армани. Солнечные очки лежат в черной сумочке. На часах уже больше трех. В 15:20 розовый телефон звонит снова. Он едет и будет на станции через десять минут.
Люси выходит на улицу; вороны хлопают крыльями и громко возмущаются. Девушка в очередной раз испытывает легкий шок, который знаком каждому иностранцу, живущему в Токио. Внезапное осознание, от которого сердце колотится чаще: я в Японии. Это чувство каждое утро застает Люси врасплох. То ли дело в том, под каким углом падает свет, то ли в звуках, которые витают в летнем воздухе. А может, в поведении людей на улице, в автомобилях и поездах, – все скромные и одновременно целеустремленные, аккуратные, вежливые, сдержанные, но сосредоточенные, будто на секретной службе.
Ни через годы, ни даже через десятилетия иностранцу не избавиться от нервного возбуждения, от каждодневного изумления, в которое приводит сам факт жизни в Японии.
«Помойка» – или официально Сасаки-хаус – представляет собой грязное оштукатуренное здание в конце глухой узкой улочки. Люси выходит из подъезда, поворачивает налево, минует еще более жалкий с виду жилой дом, детскую площадку с деревянными лесенками и старомодный ресторан, где подают рисовый омлет и карри. Затем среди окружающей серости вдруг вспыхивает драгоценный камень – классический театр Но с гладкими модернистскими бетонными стенами, окруженный лепной оградой и садом камней.
Люси поворачивает направо – и все вокруг резко меняется. Только что пейзаж напоминал обшарпанный пригород, но уже через пять минут Люси идет по одной из главных улиц большого города. Над головой по высокой эстакаде бегут рельсы электрички и скоростная автомагистраль. Еще 450 метров – и будет станция «Сэндагая», где маршруты автобусов пересекаются с линиями метро и пригородных поездов. В субботний день здесь шумно и оживленно от наплыва транспорта и людского потока. Перед зданием станции черед дорогу от Олимпийского стадиона мельтешат пешеходы в рубашках с короткими рукавами и летних платьях. Он ждет Люси здесь, напротив полицейского участка; его машина стоит неподалеку.
Незадолго до ухода Люси Луиза тоже отправляется по своим делам: обменять туфли в Сибуе, самом большом торговом районе на юго-западе Токио. Она садится в поезд до станции «Сибуя», где девять разных линий ежедневно перевозят 2,5 миллиона пассажиров и где Луиза сразу же теряется. Она растерянно бродит в субботней толпе мимо магазинов и ресторанов, которые, несмотря на головокружительное разнообразие, все же умудряются быть похожими один на другой. Девушка теряет немало времени, но наконец находит нужный универмаг и затем устало возвращается на станцию.
В несколько минут шестого у нее звонит телефон. На экране высвечивается: «Неизвестный абонент». Но это Люси, которая должна бы уже торопиться домой, чтобы успеть привести себя в порядок перед танцами. Однако она звонит из автомобиля. Говорит, что едет «к морю», где они пообедают (хотя для обеда уже слишком поздно). Но планы на вечер остаются прежними, говорит Люси подруге; она вернется домой вовремя, через час-другой она снова позвонит и уточнит время. Судя по голосу, она довольна и весела, хоть и сдерживает эмоции, по привычке опасаясь, что разговор подслушают. Она объясняет Луизе, что звонит с его мобильного телефона, так что не может долго болтать.
Позже Луиза скажет, что такой поворот ее немало удивил: совсем не в характере Люси садиться в машину к чужому мужчине и выезжать с ним за пределы Токио. А вот звонок как раз в ее духе. Люси и Луиза знакомы с детства и очень крепко дружат. Они созваниваются просто ради того, чтобы услышать друг друга, убедиться во взаимной близости и доверии, даже когда сказать особенно нечего.
Стоит безумно жаркий и влажный летний день. Луиза заходит в их любимый с Люси универмаг «Лафорет» и покупает яркие наклейки и блестки для лица, чтобы прихорошиться для дискотеки. Садится солнце и наступает вечер, сумерки обволакивают мрачные обшарпанные жилые дома и зажигают неоновые огни ресторанов, баров и клубов, которые сулят всевозможные удовольствия.
Проходит два часа.
В шесть минут восьмого, когда Луиза уже дома, у нее снова звонит мобильный. Это Люси. Она возбуждена и в приподнятом настроении. Он такой милый, уверяет она. Как и обещал, подарил ей новый мобильный телефон и бутылку шампанского «Дом Периньон», которую они с Луизой потом выпьют вместе. Где она, непонятно, а подруга не догадывается спросить. Но Люси обещает вернуться в течение часа.
В семнадцать минут восьмого Люси звонит по мобильному своему парню Скотту Фразеру, но попадает на автоответчик. Она оставляет короткое радостное сообщение, обещая встретиться с ним завтра.
А потом Люси исчезает.
В Токио начинается субботний вечер, но не будет ни дискотеки с подругами, ни свидания со Скоттом. Не будет больше ничего. То сообщение, сохраненное в банке данных телефонной корпорации и автоматически удаленное через несколько дней, – последний живой след Люси.
Когда Люси не вернулась, как обещала, Луиза сразу же забила тревогу. Позже это вызвало подозрения: почему Луиза так рано и так активно запаниковала? Соседи по квартире, которые курили марихуану в гостиной, не могли понять ее беспокойства. Всего через час с небольшим после предполагаемого времени возвращения Люси Луиза уже звонила своей матери Моурин Филлипс в Британию.
– С Люси что-то случилось, – заявила девушка.
После этого она поехала в ночной клуб «Касабланка» в злачный район Роппонги, где они обе работали.
– Я помню тот день, первое июля, очень хорошо, – рассказывал мужчина, который был клубе в тот момент. – Дело происходило в субботу вечером, у Люси и Луизы был выходной. Их обеих не ждали на работе. Еще было довольно рано, когда вдруг приехала Луиза и сообщила: «Люси пропала. Поехала на встречу с клиентом и не вернулась». Вообще-то ничего удивительного, ведь было всего восемь-девять вечера. Я сказал: «Все нормально, чего тут странного, Луиза? Почему ты так волнуешься?» – «Люси всегда возвращается вовремя, а иначе обязательно мне звонит», – объяснила она. И это правда. Что бы ни произошло, они знали друг о друге все.
Девушек связывали действительно близкие отношения.
Луиза сразу же почуяла неладное.
Луиза названивала в клуб всю ночь в надежде услышать новости о Люси, но никто ничего не знал. Она обошла все бары и клубы Роппонги, где они обычно бывали с Люси: «Пропаганда», «Дип блю», «Токио спорте кафе», «Джеронимо». Девушка расспрашивала о своей подруге людей, которые раздавали листовки на перекрестках. Затем она взяла такси до района Сибуя и зашла в клуб «Фура», куда они собирались вместе той ночью. Она знала, что подруги там нет, – с чего бы Люси идти туда одной раньше времени, не заглянув домой или хотя бы не позвонив? Но Луиза не знала, что еще предпринять.
Почти всю ночь шел дождь – теплый токийский летний ливень, от которого становится только жарче. Когда рано утром в воскресенье Луиза вернулась в Сасаки-хаус, уже рассвело. Девушка обошла все бары, какие только смогла вспомнить. Дома она не нашла ни самой Люси, ни сообщений от нее.
Луиза позвонила Кацу – японцу, который работал в «Касабланке» официантом, – и они стали вместе думать, как быть. Кац обзвонил несколько крупнейших больниц, но нигде о Люси не слышали. Может, предположил он, Люси решила провести ночь со щедрым клиентом и просто забыла предупредить? Луиза с ходу отмела эту вероятность: лучшие подруги так не поступают.
Следующим разумным шагом было обращение в полицию. Но у такого шага имелись и свои подводные камни. Люси и Луиза приехали в Японию по туристической девяностодневной визе, которая однозначно не предполагала разрешения на работу. Вообще-то, в такой же ситуации были большинство девушек-иностранок из клубов Роппонги: и сами хостес, и их наниматели нарушали закон.
Утром в понедельник Кац с Луизой все-таки отправились в полицейский участок Азабу в Роппонги и сообщили об исчезновении человека. Они заявили, что Люси просто туристка, прилетела в Токио в отпуск, поехала за город с местным мужчиной, с которым недавно познакомилась, и до сих пор не вернулась. Они не упомянули ни работу в качестве хостес, ни клуб «Касабланка», ни его клиентов.
Полиция не проявила особого интереса к их заявлению.
В три часа дня Луиза отправилась в британское посольство в Токио. Там она встретилась с вице-консулом, шотландцем Йеном Фергюсоном, которому изложила уже полную версию событий. Фергюсон стал первым из тех, кому обстоятельства, при которых Люси уехала в тот день из города, показались странными.
«Я поинтересовался, что известно о клиенте, и очень удивился, не получив никаких сведений, – записал он на следующий день. – По словам Луизы, с разрешения начальства работающие в клубе девушки раздают всем свои визитки, и клиенты часто назначают личные встречи. Мне с трудом верилось, что клуб позволяет сотрудницам встречаться с клиентами, о которых ничего не известно. Но Луиза продолжала настаивать. И разумеется, Люси не сказала подруге ни имя клиента, ни мраку автомобиля, ни даже куда они поехали, только упомянула, что на море…»
Фергюсон расспросил Луизу о том, какой Люси человек. Капризна, непредсказуема, ненадежна? Наивна, легко поддается чужому влиянию?
«Луиза нарисовала четкий портрет, – писал он, – уверенной в себе, видавшей виды и вполне разумной девушки, которая отличалась здравыми представлениями о жизни и никогда по глупости не ввязалась в опасную авантюру. Почему же тогда она села в машину совершенно незнакомого человека? Луиза не могла объяснить поведения подруги, повторяя, что оно совершенно не характерно для Люси».
По части глупостей, совершаемых британцами за границей, нет никого опытнее сотрудника консульства. И кому, как не ему, знать, что обычно причина «исчезновения» молодых людей вполне предсказуема и прозаична: ссора друзей или любовников, наркотики, алкоголь или секс. Но в тот день Люси дважды звонила Луизе, чтобы сообщить о своем местонахождении. Она даже предупредила, что вернется в течение часа, поэтому трудно понять, почему она не позвонила еще раз, если планы вдруг изменились. Йен Фергюсон связался с полицейским участком Азабу и заявил, что консульство чрезвычайно обеспокоено судьбой Люси. Он потребовал рассматривать ее случай не просто как исчезновение человека, но как вероятное похищение.
Луиза вышла из консульства. Прошло два дня с тех пор, как подруга пропала, и девушка почти не спала. Ее терзали неизвестность и беспокойство. Ей было невыносимо оставаться одной в комнате, где они жили с Люси, и она отправилась в гости к их общему другу, где собирались и остальные знакомые Люси.
Около половины шестого мобильный телефон зазвонил снова, и Луиза судорожно схватила трубку:
– Да?
– Луиза Филлипс? – послышался голос.
– Да, это Луиза. С кем я говорю?
– Меня зовут Акира Такаги. Вообще-то, я звоню по просьбе Люси Блэкман.
– Люси! Боже мой, где она?! Я так волновалась. Она с вами?
– Да, она здесь, со мной. У нее все в порядке.
– О господи, слава богу! Дайте ей трубку. Мне необходимо с ней поговорить.
Голос принадлежал мужчине. Человек изъяснялся на хорошем английском, но с ярко выраженным японским акцентом. Спокойный и сдержанный, он говорил только по существу и был почти дружелюбен, даже когда Луиза запаниковала и расстроилась.
– Ее нельзя сейчас беспокоить, – пояснил собеседник. – Вообще-то она в нашей спальне. Она изучает и практикует новый образ жизни. На этой неделе ей нужно еще очень многому научиться. Не стоит ее отвлекать.
Ужасно волнуясь, Луиза беззвучно шепнула друзьям: «Это он» – и замахала руками, требуя жестом бумагу и карандаш.
– Кто вы? – спросила она. – Это с вами Люси уехала в субботу за город?
– Я познакомился с Люси в воскресенье. В субботу она встречалась с моим учителем, лидером нашей группы.
– Вашим учителем?
– Да, учителем. Они познакомились в поезде.
– Но ведь она… Когда я говорила с ней, она ехала в машине.
– Были такие ужасные пробки, а она не хотела опаздывать на встречу с вами. Поэтому предпочла ехать поездом. Как раз перед тем, как сесть в вагон, она встретила моего учителя и приняла судьбоносное решение. Так или иначе, в тот вечер она согласилась вступить в его секту.
– В секту?
– Да.
– О чем вы говорите, какую секту? Что… Где Люси? Где находится секта?
– Это в Тибе.
– Как? Повторите. Можете произнести по буквам?
– В Тибе. Т-И-Б-А.
– Тиба, Тиба. А… как называется секта?
– Новое воскрешение.
– Как? Что за…
– Новое воскрешение. – Мужчина спокойно произнес по буквам и это название.
Луиза была в смятении.
– Я должна поговорить с Люси, – заявила она. – Позовите ее к телефону.
– Она сейчас не очень хорошо себя чувствует, – возразил мужчина. – Да и вообще не хочет сейчас ни с кем разговаривать. Возможно, она свяжется с вами в конце недели.
– Пожалуйста, – взмолилась Луиза, – я вас очень прошу, дайте мне с ней поговорить.
Но в трубке стало тихо.
– Алло! Алло! – кричала Луиза, но ответа не было.
Она уставилась на маленький серебристый телефон, который держала в руке.
Через несколько мгновений он вдруг снова зазвонил.
Трясущимися пальцами девушка нажала кнопку приема вызова.
– Прошу прощения, – произнес тот же голос, – должно быть, связь пропала. Люси не может сейчас говорить. Ей нехорошо. Возможно, она пообщается с вами в конце недели. Но она начала новую жизнь и не вернется к вам. Я знаю, что у нее много долгов, шесть или семь тысяч фунтов. Но она выплачивает их наилучшим образом. Короче, она просто хотела сообщить вам и Скотто, что у нее все в порядке. Она начинает новую жизнь. – Собеседник отчетливо сказал «Скотто»: так японцы произносят непривычное английское имя «Скотт». – Она написала письмо в «Касабланку», что не вернется на работу.
Последовала пауза. Луиза начала всхлипывать.
– Какой у вас адрес? – поинтересовался мужчина.
– Мой адрес…
– Адрес вашей квартиры в Сэндагае.
– Зачем… зачем вам мой адрес?
– Я хочу отправить вам кое-что из вещей Люси.
Луизе стало страшно: если раньше она волновалась только за подругу, но тут ее охватил страх и за себя.
«Выпытывает, где я живу, – подумала она. – Он придет за мной».
Вслух она сказала:
– Но ведь Люси знает адрес. Ей известно, где мы живем.
– Она сейчас плохо себя чувствует и не может вспомнить.
– Тогда и я не могу.
– Понятно… Может, в таком случае скажете, что находится рядом с вашим домом?
– Нет-нет, не помню.
– А какая улица? Название улицы?
– Нет, я…
– Но мне надо вернуть ее вещи.
– Я забыла адрес…
– Если это так сложно, не стоит беспокоиться.
– У меня вылетело из головы…
– Ничего. Не волнуйтесь.
Луизу охватила паника. Она больше не могла сдерживать эмоции. Рыдая, она передала трубку своему другу-австралийцу, который жил в Токио уже много лет.
– Алло, – сказал тот по-японски. – Где Люси?
Но через несколько секунд он вернул телефон:
– Он будет говорить только по-английски и только с тобой.
Луиза собралась с мыслями. Она понимала: чтобы выяснить местонахождение Люси, надо поддержать разговор.
– Алло, – произнесла она. – Это снова Луиза. А я могу вступить в вашу секту?
Голос ответил не сразу:
– Какой религии вы придерживаетесь?
Луиза ответила:
– Я католичка, но Люси тоже католичка. Я не прочь сменить вероисповедание и тоже хочу начать новую жизнь.
– Вообще-то, это зависит от Люси. От ее мнения. Но я подумаю.
– Пожалуйста, позвольте мне поговорить с Люси, – сделала Луиза еще одну отчаянную попытку.
– Я поговорю с учителем и спрошу у него разрешения.
– Пожалуйста, дайте мне с ней поговорить! – закричала Луиза. – Я умоляю вас, пожалуйста, передайте ей трубку.
– Так или иначе, мне пора, – заявил мужчина. – Простите. Я просто должен был сообщить, что вы больше ее не увидите. До свидания.
И связь снова оборвалась.
Люси пропала в субботу, 1 июля 2000 года, в середине первого года XXI века. Весть об ее исчезновении распространилась только через неделю. В следующее воскресенье, 9 июля, одна британская газета дала короткую заметку об исчезновении туристки Люси Блэкман (причем даже имя напечатали с ошибкой). На следующий день в других британских и японских изданиях появились более подробные сообщения. Там упоминались Луиза Филлипс и сестра Люси, Софи Блэкман, которая вылетела в Токио на ее поиски, а также отец девушки Тим, тоже собиравшийся приехать. В статьях говорилось о пугающем телефонном звонке и высказывались смутные предположения, что жертву похитили участники секты. Авторы пары статьей опасались, что ее насильно вовлекли в проституцию. Поначалу Люси называли стюардессой авиакомпании «Бритиш эйруэйз», но в более поздних статьях уже упоминали как «работницу бара» или «хостес» в «токийском квартале красных фонарей». Тут за сюжет ухватилось японское телевидение, и съемочные бригады стали рыскать по всему Роппонги в поисках светловолосых иностранок. Сочетание молодого возраста пропавшей, ее национальности, цвета волос и характера занятий привело к тому, что достаточно обычное происшествие переросло в сенсацию. Теперь обойти его вниманием было просто невозможно. За сутки в Токио вылетели двадцать британских репортеров и фотографов, а также пять бригад разных телеканалов. Они приступили к расследованию вместе с десятком корреспондентов и внештатных журналистов, постоянно проживающих в Японии.
В тот же день распечатали и распространили по всей стране – главным образом в Токио и Тибе, префектуре к востоку от столицы, – тридцать тысяч объявлений.
Крупный заголовок гласил: «Разыскивается», сбоку шел двуязычный текст (на японском и английском), а внизу значилось: «Люси Блэкман (англичанка)».
Дополняла объявление фотография пропавшей крупным планом: Люси сидит на диване в коротком черном платье, у нее светлые волосы, застенчивая улыбка открывает белые зубы. Камера смотрит на нее сверху вниз, отчего лицо кажется по-детски округлым. Благодаря крупной голове, длинным волосам и острому подбородку девушка из объявления очень напоминает Алису в Стране чудес.
К тому времени Люси Блэкман уже была мертва. Она умерла еще до того, как я узнал, что такая девушка вообще жила на свете. Впрочем, именно из-за ее гибели – или исчезновения, потому что в тот момент других сведений не было, – я и заинтересовался ею. Я работал корреспондентом британской газеты и жил в Токио. А Люси Блэкман, молодая англичанка, пропала в этом городе – так что поначалу я счел ее историю всего лишь отличным материалом.
С самых первых дней сюжет оказался запутанным, а потом и вовсе превратился в настоящую головоломку. Вокруг трагической фигуры Люси, жертвы преступления, позднее развернулось бурное и ожесточенное судебное разбирательство. История привлекла немало внимания в Японии и Британии, но смущала своей противоречивостью и непоследовательностью. Иногда по нескольку месяцев никто не проявлял к делу Люси никакого интереса, но затем появлялись новые подробности, которые немедленно требовали освещения в новостях и разъяснений. В общих чертах историю знали все: пропала девушка, тело найдено, мужчина осужден. Однако, если копать глубже, дело представлялось настолько сложным и запутанным, чреватым неожиданными поворотами и мистическими событиями, что обычных репортажей уже не хватало. Они лишь вызывали новые вопросы, на которые не было ответов.
Именно неоднозначность, выходящая далеко за рамки привычных новостных материалов, и сделала историю Люси такой захватывающей. Она терзала сердце – и четыре газетные колонки или трехминутный телевизионный сюжет не могли его успокоить. Эта трагедия поразила меня, и даже спустя много месяцев я не смог забыть Люси Блэкман. И я решил расследовать ее дело с самого начала, этап за этапом, чтобы попытаться отыскать какую-то логику и ясность в его поворотах, узлах и нестыковках. Это заняло у меня десять лет.
Я прожил в Токио большую часть своей взрослой жизни, путешествовал по всей Азии и за ее пределами. Освещая в репортажах стихийные бедствия и войны, я повидал на своем веку немало бед и горестей. Но в деле Люси я столкнулся с той сферой жизни, о существовании которой даже не подозревал. Исчезновение Люси словно дало мне ключ к потайной двери в знакомой комнате – двери, за которой прячется пугающая, жестокая, чудовищная реальность. Увидев ее своими глазами, я смутился и растерялся. Получалось, что я, опытный репортер, упустил из виду важный аспект жизни города, о котором знал почти все. Вернее, только думал, что знал.
Только когда общественность стала забывать о Люси, я разглядел в ней не только героиню репортажа, но и человека. Я встречался с ее родственниками, когда они прилетали в Японию. Будучи криминальным репортером, поначалу я столкнулся с их предусмотрительным недоверием, позже переросшим в сдержанное дружелюбие. Затем я вернулся в Британию и навестил семью Блэкманов на родине. Я разыскал друзей и знакомых из разных периодов жизни Люси. Одна ниточка тянула за собой другую, а те, кто при первой встрече не горел желанием общаться, со временем разговорились. К родителям, сестре и брату Люси на протяжении многих лет я заходил неоднократно. Суммарная продолжительность наших бесед составила бы несколько суток.
Мне казалось, что собрать основные факты о человеке, жизнь которого оборвалась на двадцать первом году, будет нетрудно. На первый взгляд, Люси Блэкман ничем не отличалась от миллионов других девушек: молодых представительниц среднего класса с юго-востока Англии со средним достатком и образованием. Биографию Люси вообще можно охарактеризовать как «среднюю», «обычную». Пока что самым необычным фактом ее жизни выглядел трагический финал. Но чем больше я узнавал, тем запутаннее становилась картина.
Каждый по собственному опыту может заключить, что в двадцать один год Люси уже обладала слишком многогранным характером, чтобы кто-нибудь, пусть даже самый близкий человек, мог понять эту девушку целиком и полностью. Каждый видел ее чуть по-своему. К моменту окончания детства ее личность превратилась в сложное переплетение убеждений, эмоций и желаний, зачастую противоречивых. Люси была преданной, честной – и способной на обман. Она была уверенной в себе, надежной – и ранимой. Она была простой и загадочной, открытой и замкнутой. Как биограф я чувствовал себя беспомощным, просеивая факты и увязывая одно с другим в попытке сложить из деталей целую жизнь. Я с большим интересом изучал человека, которого никогда не знал и, возможно, не узнал бы, даже не заметил, если бы не вмешалась смерть.
Всего за несколько недель после исчезновения тысячи и тысячи людей узнали имя Люси Блэкман и ее лицо – или хотя бы портрет, который появился в газетах и на телевидении, Алису с плаката, пропавшую без вести. Для них она была жертвой, почти бесплотным символом трагического сюжета: молодая женщина находит жуткую смерть в экзотической стране. Но я надеюсь, что мне удастся воздать должное Люси Блэкман и почтить ее память, показав ее нормальным человеком, девушкой с непростым, но славным характером, у которой была своя полноценная жизнь.
Часть I
Люси
Мир под правильным углом
Даже позже, когда Джейн, матери Люси, было трудно найти что-нибудь хорошее в собственном муже, она признавала, что однажды Тим Блэкман спас жизнь их дочери.
Тогда Люси был год и девять месяцев, и они всей семьей жили в арендованном доме в маленькой деревне в графстве Суссекс. С младенчества девочка страдала от жестоких приступов тонзиллита, из-за которого поднималась температура и воспалялось горло. Родители обтирали ее водой, чтобы охладить, но жар не проходил, а когда болезнь все-таки отступала, через несколько недель все начиналось заново. Однажды Тим пришел пораньше с работы, чтобы помочь Джейн ухаживать за больным ребенком. Ночью он проснулся от крика жены, которая встала, чтобы проверить, как там дочка.
Когда Тим вошел в детскую, Джейн уже бежала вниз по лестнице.
– Люси лежала в кроватке и не шевелилась, вся холодная, – рассказывал Тим. – Я схватил ее и положил на пол, и она синела прямо на глазах, приобретая жуткий иссиня-серый оттенок. Видимо, кровь перестала циркулировать по телу. Я не знал, что делать. Я обнимал ее на полу, а Джейн вызывала по телефону скорую помощь. Люси не издавала ни звука, не дышала. Я попытался открыть ей рот. Челюсти были плотно стиснуты, но двумя руками я все-таки разжал их и держал рот открытым, придерживая большим пальцем челюсть, а остальными достал запавший язык. Я не знал, правильно поступаю или нет, но пытался хоть что-то сделать, поэтому наклонил голову дочери набок, вдохнул ей в ротик воздух и надавил на грудную клетку, чтобы он вышел, снова вдохнул и надавил, и тут она начала дышать самостоятельно. Мне было худо от страха и волнения, но скоро я увидел, как у нее розовеет кожа, а к тому времени уже приехала скорая помощь и бригада спешила по маленькой узкой лестнице, прекрасные крепкие парни с массивным грохочущим оборудованием, мне они показались огромными, размером с наш дом. Они разобрали носилки, уложили на них Люси, спустили вниз и занесли в машину. И все обошлось.
У Люси случились фебрильные судороги и мышечный спазм из-за высокой температуры и обезвоживания, в результате у нее запал язык, не давая свободно дышать. Еще несколько минут, и она умерла бы.
– В тот момент я понял, что хочу еще детей, – признался Тим. – Осознал со всей ясностью. Я думал об этом и раньше, когда Люси только родилась. Но в те минуты я понял, что не переживу потери единственного ребенка.
Люси родилась 1 сентября 1978 года. В переводе с латыни ее имя означает «свет», и, даже когда малышка подросла, по словам ее матери, она стремилась к яркому свету, а в темноте чувствовала себя плохо, поэтому даже на ночь включала в своей комнате все лампы.
Роды у Джейн длились шестнадцать часов, и их пришлось стимулировать. Плод располагался поперек, и из-за тазового предлежания процесс родов был очень болезненным. Однако малышка весом три килограмма шестьсот граммов родилась здоровой, и молодые родители испытали невероятное, хоть и трудно доставшееся, счастье появления на свет первенца.
– Я была счастлива, абсолютно счастлива, – признавалась Джейн. – Впрочем, думаю, когда становишься матерью… Мне только хотелось, чтобы моя мама была рядом, ведь я так гордилась тем, что у меня появился ребенок. Но ее не было, поэтому к радости примешивалась грусть.
Детство у Джейн вообще выдалось грустным. Да и взрослая жизнь была отмечена сокрушительными потерями, привившими женщине склонность к горькому и мрачному черному юмору, направленному то на самобичевание, то на яростную самозащиту. Джейн было далеко за сорок, когда я с ней познакомился. Я увидел стройную привлекательную женщину с короткими русыми волосами и резкими строгими чертами лица. Одевалась она аккуратно и скромно, глаза обрамляли длинные пушистые ресницы, но вместо девичьей мягкости в ее взгляде отчетливо сквозили уверенность в собственной правоте и абсолютная нетерпимость к дуракам и снобам. В душе Джейн шла беспрерывная борьба между гордыней и жалостью к себе. Она напоминала лису, упрямую изящную лису в темно-синей юбке и жакете.
Ее отец руководил киностудией, и Джейн с младшими братом и сестрой росла в дальнем предместье Лондона. Жизнь среднего класса была строгой и довольно унылой: работа по дому, обучение хорошим манерам за столом и ежегодные летние каникулы на ветреном английском побережье. Когда Джейн исполнилось двенадцать, семья переехала в Южный Лондон. Утром первого дня в новой школе девочка вошла в спальню матери, чтобы поцеловать ее на прощание, и застала ее спящей после бессонной ночи от головной боли.
– Я сразу поняла, что произойдет нечто ужасное, – рассказывала Джейн. – И спросила отца: «Она же не умрет?» Он ответил: «Нет, что за глупости, конечно же нет». Когда я пришла домой из школы, мама уже умерла. У нее обнаружилась опухоль мозга. С тех пор отец так и не оправился. Он был сломлен, полностью разбит, и мне пришлось стать сильной. Тогда и закончилось мое детство.
Матери Джейн на момент смерти было сорок.
– По будням о нас заботилась бабушка, по выходным папа, – рассказывала она. – Помню, как он все время плакал.
Однако через год и три месяца после смерти супруги он женился на молодой женщине, которой не исполнилось и тридцати. Джейн пришла в ужас.
– Ведь у него было трое детей, и он даже с ними не справлялся. Настоящий кошмар. На самом деле я мало что помню из детства. Когда испытываешь шок и претерпеваешь такую боль, мозг стирает все из памяти.
В пятнадцать лет Джейн бросила школу. Она окончила курсы секретарей и нашла работу в большом рекламном агентстве. В девятнадцать она отправилась с подругой на Майорку и прожила там полгода, работая на автомойке. Тогда в Испанию приезжало не так много туристов из Британии, и Балеарские острова считались редким экзотическим направлением. Там отдыхал известный футболист из клуба «Манчестер юнайтед» Джордж Бест.
– Я с ним не встречалась, но видела его в барах в окружении красавиц, – рассказывает Джейн. – Сама я держалась слишком благоразумно и осторожно. У меня прямо-таки на лбу было написано: «Целомудрие». Пусть все вокруг веселились, но только не я. В общем, скукота.
Однажды на Майорке целомудрие Джейн подверглось испытанию в лице едва знакомого парня, который появился у ее входной двери и попытался поцеловать.
– Я оскорбилась до глубины, потому что почти не знала его, вдобавок дело происходило средь бела дня. Думаю, паренек был из Швеции. И хотя я не давала ему никакого повода, впредь стала вести себя еще осторожнее. Я наслаждалась солнцем и морем, много гуляла, но не могу сказать, что отрывалась на Майорке, потому что я сохраняла благоразумие. До свадьбы у меня вообще никого не было.
С Тимом Джейн познакомилась в двадцать один год. Тогда она жила с отцом и мачехой в городке Чизлхерст в Бромли, одном из пригородов Лондона. Тим Блэкман был старшим братом приятеля Джейн, и ей о нем все уши прожужжали.
– Мне говорили: «Вот отличный парень, – вспоминала она. – Идеальная пара».
Тим только что вернулся с юга Франции, где жил со своей девушкой-француженкой.
– Когда он все-таки начал со мной флиртовать, я бросила на него свой ледяной взгляд, – рассказывала Джейн. – Наверное, он впервые получил отказ от девушки и счел меня недотрогой. Но, если честно, мне просто не хватало опыта. Вокруг множества моих очень красивых подруг постоянно крутились мужчины, а я на дискотеках обычно сторожила сумочки. Тим не мог понять, почему я не попалась к нему на крючок, а мне не верилось, что мной кто-то заинтересовался. Видимо, поэтому все и закончилось женитьбой.
Свадьба состоялась через полтора года, 17 июля 1976 года, когда Тиму исполнилось двадцать три.
Блэкман заправлял обувным магазином в соседнем городке Орпингтон, последним из сети, которую когда-то развернул его отец по всему юго-востоку. Но магазин обанкротился, и Тиму пришлось полгода жить на пособие по безработице. Он содержал молодую семью благодаря случайным заработкам, помогал друзьям в качестве внештатного художника и декоратора.
– Мы жили от зарплаты до зарплаты, – признавался он. – Начало восьмидесятых стало очень трудным, тяжелейшим периодом. Мы не знали, где взять очередные пятьдесят фунтов. Но мы вместе с малышкой обитали в чудесном доме в стиле Лоры Эшли[2], и жизнь была прекрасна. Приятно вспоминать детство Люси.
В мае 1980 года, меньше чем через два года после рождения первого ребенка, на свет появилась Софи, а еще через три года – Руперт. Тим нашел партнера по бизнесу и, оставив стезю декоратора, занялся строительством. В 1982 году семья переехала на несколько километров севернее, в симпатичный спальный район городка Севеноукс. Здесь их мытарствам пришел конец, и Джейн смогла создать для собственной семьи атмосферу, о которой всегда мечтала сама: цветы, красивые платья и детский смех.
Коттедж, в котором они жили, – Джейн окрестила его «Маргариткой», – смотрел прямо на частную среднюю школу Грэнвилл, очень престижное учебное заведение. Оно воплощало все мечты Джейн: идеальное место даже для самых застенчивых детей, о котором каждый выпускник вспоминает с улыбкой. Девочки начиная с трехлетнего возраста носили форму, платья в голубую клетку и серые шерстяные шапочки с помпоном, а на весенние праздники украшали голову венками из цветов. В школьное расписание входило обучение реверансам и танцам вокруг Майского дерева[3].
– Окна нашей спальни выходили прямо на детскую площадку, – вспоминала Джейн. – Просто идеальное расположение: Люси играла, а потом подходила к окну и махала мне рукой, а я махала ей в ответ.
Школа словно сошла со страниц старинной детской книжки с картинками.
– Мы как будто очутились в стране грез, а не в реальном мире, – объясняла Джейн.
Люси с самого раннего детства отличалась сознательностью и серьезностью, вызывающей улыбки у взрослых. Однажды Джейн попросила ее почистить горох, и девочка, внимательно изучая каждую горошину, отбраковывала все, которые, по ее мнению, страдали изъянами. Она любила играть в куклы и, устроившись рядом с матерью, прикладывала к груди пластмассового пупса, когда Джейн кормила Софи.
– Она была такой щепетильной во всем, такой чистенькой и аккуратной, – говорила Джейн. – Как и я с самого детства.
Софи, напротив, отличалась капризным характером и склонностью к хандре, которую старшая сестра умела мягко развеять. Сестры спали на большой старомодной кровати; как-то в Пасхальное воскресенье они целый день провели под ней: ели, читали книжки с картинками, играли в куклы.
Школьные тетрадки Люси доказывают, что Джейн удалось создать для своих детей невинный и счастливый мир. Вот одно из первых ее сочинений:
Имя: Люси Блэкман
Тема: Новости
20 мая, понедельник
Сегодня папа заберет меня из школы, и мы поедем домой, и я надену платье от Лоры Эшли, оно серое и галубое с мелкими цветочками, а потом я собираюсь в гости к Теско и принесу Джемме падарок, но не знаю, что ей падарить на день рождения, у нее четыре подруги: я, Селия, Шарлотт и еще одна девочка из ее школы, а из школы Грэнвилл буду только я.
Друзья, друзья, друзья, друзья.
И еще из одной тетради:
Имя: Люси Блэкман
Тема: Эксперименты
Свет
Я взяла большое зеркало.
Смотрела на себя.
Видела свое отражение.
Я закрыла один глаз.
Видела себя с одним закрытым глазом.
Я дотронулась до носа.
Видела себя с правой рукой на носу.
Я хлопнула в ладоши.
Увидела, как я хлопаю.
зеркало
εǝdʞɐvо
Я взяла большое зеркало.
Поставила зеркало сбоку.
Увидела мир под правильным углом.
– У меня было печальное детство, поэтому мне всегда хотелось прекрасной счастливой семейной жизни, – поясняла Джейн. – Я подогревала тапочки детей возле печи, чтобы они были теплыми, когда дети придут из школы. Когда Руперт играл в регби, я встречала его из школы с грелкой и термосом с горячим чаем. Больше всего на свете я боялась потерять детей. Даже когда они были совсем маленькими. Купила специальные кожаные помочи с нарисованными маленькими кроликами и заставляла Руперта их надевать. Сына водила на помочах, а девочек всегда держала за руку. Стоило мне в супермаркете потерять детей из виду, я просто… Потерять их – вот чего я больше всего боялась из-за того, что произошло со мной в детстве. Поскольку я потеряла маму, меня ужасала даже сама мысль, что я могу потерять детей. Поэтому я всегда была очень заботливой матерью, даже слишком.
Но в сказочный мир Джейн вмешалась суровая реальность.
Строительный бизнес Тима пошел на спад, и Люси с Софи пришлось забрать из Грэнвилла. Девочек перевели в местную государственную школу, шумное неприглядное заведение с туалетами на улице; никаких венков, реверансов и шапочек с помпонами.
– Шокирующая разница между прелестной частной гимназией и государственной школой разбила мне сердце, – признавалась Джейн. – Я снова пережила огромную потерю и очень расстраивалась. Пусть Грэнвилл – всего лишь гимназия, но в ней царила… настоящая идиллия. Я знала, что там моих детей никогда не обидят. Мне хотелось, чтобы они всю жизнь распевали песенки и плели венки из маргариток, не ведая жестокой реальности.
Проблема оплаты учебы в школе разрешилась, когда Люси выиграла стипендию в Уолтемстоу-холле, серьезном заведении в особняке из красного кирпича, основанном в XIX веке для дочерей христианских миссионеров. Она усердно училась и, возможно, могла бы стать успешной выпускницей Уолли-холла, где гордились высоким процентом поступивших в университеты. И все же Люси не до конца вписалась в новую школу.
– Уолтемстоу-холл довольно претенциозен, – рассказывала Джейн. – Многие девочки на день рождения получали в подарок ключи от автомобиля. А мы совсем не входили в эту лигу.
Однако мрачной тенью на подростковую жизнь Люси легли не деньги, а болезнь.
В возрасте двенадцати лет она подхватила микоплазменную пневмонию, редкое заболевание, которое свалило ее с ног на несколько недель.
– Девочка ужасно себя чувствовала, и никто не знал, что с ней, – вспоминала Джейн. – Она сидела в постели, опираясь на гору подушек, и мне приходилось стучать ей по спине, чтобы отходила мокрота. Даже во время дыхания в легких слышались хрипы.
Люси чувствовала сильную слабость, а ноги так болели, что она почти не могла ходить, и два года усердной учебы пошли насмарку. Иногда в течение нескольких недель у девочки совсем не было сил. Попытка спуститься на один пролет лестницы приводила к полному изнеможению. И ни один доктор не мог точно сказать, когда она выздоровеет и выздоровеет ли вообще.
Надо заметить, Джейн Блэкман свято верила в скрытые силы разума и собственную интуицию. Она работала рефлексологом и массажистом, лечила боль в ступнях и часто, по ее словам, предвидела ближайшие события – смерть пожилой родственницы или беременность пациентки, когда та сама еще ничего не знала.
– Во время работы у меня просто появляются предчувствия, – объясняла она. – В голове звучит голос, он мне что-то говорит, и скоро все сбывается. Думаю, дело в сопричастности. Я чувствую чужую боль. Говорят, я слишком эмоциональна, но, если бы вы сами прошли через столько бед, у вас тоже появились бы такие способности.
Сверхъестественный дар у дочери впервые проявился, по наблюдениям матери, именно во время болезни.
Оба родителя независимо друг от друга начали замечать легкий, но отчетливый запах в большой спальне, где лежала Люси, – сигарный дым. Но никто в семье не курил. Тим даже звонил соседям, чтобы убедиться, что дым не просачивается от них сквозь смежную стену. Через несколько дней Джейн спросила о запахе Люси. Девочка тогда была очень слаба и почти все время спала. Но ее ответ потряс мать:
– Это от мужчины, который сидит на краю кровати.
– Какого мужчины? – спросила Джейн.
– Иногда ночью приходит старик и садится на край кровати, и он курит сигары.
– Ох, – качал головой Тим, рассказывая мне эту историю. – Мы все решили, что Люси совсем плоха.
Много позже, когда к ней вернулись силы, Люси приехала в дом деда и сводной бабки. Увидев на серванте фотографию какого-то старика, девушка спросила, кто он такой. В тот день дома была бабушка Джейн, прабабушка Люси, и человек на снимке оказался ее мужем. Его звали Холлис Этеридж, и он умер много лет назад.
– Это он, – заявила Люси. – Тот человек, который сидел у меня на краю кровати.
Всю жизнь Холлис был заядлым курильщиком сигар.
Люси наконец выздоровела и вернулась в школу. Но в последующие годы семью Джейн снова постигла ужасная потеря.
Дети обожали сестру своей матери Кейт Этеридж, молодую (на 11 лет моложе Джейн) гламурную городскую тетушку, которая работала в Лондоне редактором журнала. По выходным Люси, Софи и Руперт ездили в Лондон и ходили с тетушкой по музеям и художественным галереям, а затем она угощала их бургерами и пиццей на Кингз-роуд. Летом 1994 года семья начала замечать в Кейт перемены – не свойственную ей медлительность и трудности в подборе слов. Женщину терзали сильные головные боли и приступы тошноты, и вскоре у нее обнаружили огромную опухоль в мозге. Не прошло и двух месяцев, как Кейт умерла под анестезией во время операции, которая даже при удачном исходе навсегда сделала бы ее инвалидом.
Тем временем отец Джейн, который всю жизнь много курил, страдал от закупорки сосудов, препятствующей нормальной циркуляции крови. В правой ноге у него началась гангрена, и пришлось ампутировать сначала ступню, а потом и всю конечность. Изможденного, на инвалидном кресле его привезли в церковь на похороны дочери.
Через год после смерти Кейт Этеридж Джейн и Тим развелись после девятнадцати лет брака.
Исчезновение Люси Блэкман, долгие месяцы неопределенности и известие о ее трагической судьбе только усилили враждебность между родителями, хотя ладить они перестали задолго до смерти дочери. Громкие споры о том, кто из них прав, сопровождали последние пять лет жизни Люси.
По версии Джейн, разрыв грянул внезапно, в ноябре 1995 года, в их последнем общем доме – большом эдвардианском особняке с шестью спальнями в Севеноукс, там, где наконец осуществились все мечты Джейн о семейной жизни.
– Я собиралась установить там плиту «Ага»[4], – рассказывала она с горькой насмешкой над собственной наивностью. – Хотела свить семейное гнездо. Я бы крутилась на кухне, готовила еду на плите, а рядом бегали бы дети, а потом и внуки. Но вышло совсем по-другому.
Воскресным днем семья из пяти человек сидела в гостиной. В камине горел огонь. Джейн приготовила обожаемые детьми «цветные тосты» с прослойкой из джема трех разных оттенков.
– Мы смотрели сериал «Чудесные годы»[5], который мне очень нравился, – вспоминала Джейн. – Нам всем он очень нравился. Руперт устроился у Тима на коленях, остальные сидели рядом, и я никогда не забуду слов мужа. Он сказал: «Как хорошо, что у нас семья». До сих пор помню. «Как хорошо, что у нас семья». Так и сказал. А на следующий день семья распалась.
В понедельник утром Джейн позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что Тим спит с его женой. В тот вечер, когда жена встретила его обвинениями, Тим вначале все отрицал, но потом признался. Джейн потребовала, чтобы он немедленно ушел из дома. Разгорелся скандал, и в тот же вечер в окно полетели пакеты для мусора, набитые вещами Тима.
– Я считала Тима заботливым и верным мужем, – жаловалась Джейн. – Но после девятнадцати лет брака вдруг обнаружила, что жила с тем, кого на самом деле никогда не существовало.
Тим признал, что обманывал жену. Но он говорил не о внезапном крахе счастливого брака, а о долгом мучительном движении ко все большей неприязни и отчуждению.
– Когда Джейн что-то не нравилось, она просто меня игнорировала, – вспоминал он. – Целые выходные могла ходить с каменным лицом и молчать. Иногда это длилось неделями, а потом и месяцами – по нескольку месяцев кряду. Конечно, с юридической точки зрения вина лежит на мне, и я был виновной стороной при разводе, но никто даже не поинтересовался, что предшествовало разрыву. Уверен, в глазах детей именно я разрушил семью. Но в жизни не бывает черного и белого, и те, кто оказывался в похожей ситуации, меня поймут.
Джейн с тремя детьми отметила невеселое Рождество в большом эдвардианском доме среди призраков неродившихся внуков. Денег от Тима практически не поступало, его компания к тому времени была ликвидирована, и Джейн пришлось продать особняк и снять дом поскромнее, мрачную кирпичную клетушку в гораздо менее респектабельном районе Севеноукс. У здания была своя история: его последняя владелица Диана Голдсмит, сорокачетырехлетняя алкоголичка, отвезла детей в школу и исчезла при невыясненных обстоятельствах. Когда туда въехала Джейн с детьми, на окнах все еще оставались следы порошка, которым пользовались детективы для снятия отпечатков пальцев.
– Мы с детьми часто шутили: «Надеюсь, она не под ванной», – рассказывала Джейн. – Но в этой шутке была доля правды.
В следующем году тело Дианы Голдсмит нашли закопанным в саду в районе Бромли. Бывшего любовника Дианы арестовали, но позже оправдали.
– Этот дом ненавидели все, – признавалась Джейн. – Грязный до неприличия, да еще такое ужасное прошлое. Я не такая уж меркантильная, но мне нравятся красивые вещи, которые радуют глаз. А этот дом прямо-таки оскорблял мои эстетические чувства. Дочка его ненавидела.
Это был последний родной дом для Люси.
Правила
– Развод порождает множество вопросов, – поясняла Софи Блэкман. – Когда растешь в семье, все ясно: вот мама, вот папа, вот брат и сестра. У тебя есть свой мир. Когда он рушится, встает вопрос: кто ты такой и зачем существуешь. Руперту тогда было тринадцать, он пролил немало слез, но все-таки смирился. Мне исполнилось пятнадцать, и я как раз переживала такой период, когда и без того все вокруг наперекосяк, и я даже не знала, куда кинуться. Люси в свои семнадцать была чуть старше. Не то чтобы она заняла сторону мамы – об этом речь не шла. Но Люси ей сочувствовала. Потому что сама была нам с Рупертом вроде второй матери.
Софи Блэкман внешне очень похожа на Люси. Разница в возрасте у них меньше двух лет, и почти всю жизнь провели вместе. Все, кто их знал, говорил о поразительном сходстве сестер – отчасти в чертах лица, но главным образом благодаря одинаковым жестам и манере говорить, что характерно для большинства братьев и сестер.
Софи отличалась холодностью, колючим характером и безграничной преданностью сестре. Многие близкие друзья Люси нуждались в ней куда больше Софи, но сестра понимала ее лучше всех.
Однако темперамент у них очень различался. Люси с самого детства была настоящей маминой дочкой, послушной и прилежной. А Софи росла упрямой агрессивной пацанкой. В юности она без конца скандалила и раздражалась, высказываясь по любому поводу с убийственным сарказмом и без сантиментов. Как и Джейн, она не выносила идиотов, однако не менее едко отзывалась об «ахинее», которой увлекалась мать, – суевериях и сверхъестественных явлениях. По характеру она скорее походила на отца, а с Джейн яростно спорила. После развода родителей стычки между матерью и дочерью только ужесточились и участились.
Вместе с браком рухнула мечта Джейн об эдвардианском уюте, и крушение надежд привело к неожиданным переменам в семье. Мать, всегда строгая и требовательная к детям, вдруг стала поразительно либеральной и терпимой. Друзьям и подружкам стало можно и даже нужно оставаться на ночь, а юный Руперт едва не сгорел от стыда, когда мать вручила ему пачку презервативов. Друзья отмечали, что Люси с Джейн близки не как мать и дочь, а скорее как подруги.
– Они и разговаривали как подружки, Люси вечно хихикала, когда звонила матери, – рассказывала Кэролайн Лоуренс, которая училась с Люси в одной школе. – Они часто обменивались одеждой и даже ходили вместе куда-нибудь по вечерам. Я все понимаю, потому что мы с мамой тоже очень близки, но в клуб я бы с ней не пошла.
С подростками не избежать конфликтов, но чаще всего ссорились Джейн и Софи, а миротворцем в битвах выступала Люси. Некоторые даже считали, что для Джейн она не просто дочь.
– На самом деле Люси заняла место матери в доме, – рассказывала Вэл Берман, подруга Джейн. – Когда Софи кричала и ругалась с Джейн, Люси успокаивала их обеих. После ухода Тима она очень быстро повзрослела. Словно она была матерью, а Джейн – ребенком.
Люси не могла похвастать ни стройной фигурой, ни тонкими чертами лица настоящей красавицы, и все-таки ее внешность многих привлекала. Тщательный уход за собой имел для Люси огромное значение. Друзья даже иронизировали над тем, что она обязательно делает прическу и красится перед походом в магазин или утренней пробежкой. Когда Люси смеялась, она встряхивала длинными волосами, которые рассыпались по плечам. Благодаря высокому росту и прекрасным светлым волосам Люси очень выделялась среди ровесников. По словам Джейн, она «освещала все вокруг».
– Когда мы только познакомились, она меня просто заворожила, – призналась мне Вэл Берман. – Я слушала ее с раскрытым ртом. Язык у Люси был отлично подвешен. О чем бы она ни говорила, и ее хотелось слушать. Она могла рассказать целую историю про кусок сахара.
Поток слов сопровождался изящными движениями пальцев с отполированными до блеска ногтями.
– Все замечали ее маникюр – она будто разговаривала руками, – рассказывала Кэролайн Лоуренс. – А какие волосы… Я помню, как однажды ждала ее в «Дорсет армз». В пабе было огромное окно, а Люси как раз переходила дорогу, и вот клянусь, буквально весь паб застыл и уставился на нее. Даже девушки. Еще бы, такое зрелище: высокая блондинка, настоящая секс-бомба, уверенно плывет через дорогу.
Люси любила обновки и обожала ходить за покупками. Как и Джейн, ей нравилось поддерживать уют в доме и содержать вещи в строгом порядке. Именно из-за стремления к роскоши и комфорту, помимо прочих причин, студенческая жизнь совсем не привлекала Люси. Она, как и положено, сдала экзамен на аттестат, но осталась в старших классах, чтобы получить полное среднее образование. Однако, в отличие от большинства отличниц Уолтемстоу-холла, не стала подавать документы в университет. После экзаменов девушка какое-то время работала в пиццерии, позже стала помощником учителя в местной частной школе. Затем через друга семьи Люси получила должность в «Сосьете женераль», или «Сосжен» – французском инвестиционном банке в лондонском Сити, деловом центре города.
Люси работала ассистентом дилеров: вводила в систему заявки, выкрикиваемые в операционном зале. Трейдеры – обычно молодые амбициозные мужчины с высоким уровнем доходов. Темп работы у них бешеный, атмосфера на бирже агрессивная. Люси, молодая блондинка-новичок, тут же стала объектом мужского внимания. За пышную грудь ее прозвали Пампушкой. Девушке исполнилось всего восемнадцать, но она уже умела привлекать к себе внимание и флиртовать. Она любила наряды и украшения, а после работы распивала шампанское в барах Сити.
– Все, кроме нас, учились в университете, а мы работали, – рассказывала Кэролайн Лоуренс, которая окончила Уолтемстоу-холл и тоже нашла работу в Лондоне. – Деньги не ахти какие, но в собственных глазах – семнадцати-восемнадцатилетних девчонок – мы были богачками. Люси нравилось работать в «Сосжен» – для нее это был первый глоток свежего воздуха после Севеноукса, и особенно ей нравилось работать со всеми этими парнями в Сити. Мы казались себе такими взрослыми, каждый день отправляясь в город на поезде. Я видела, как она в час пик делает себе французский маникюр. Стоя. А ведь французский маникюр – штука сложная. Сначала надо покрыть ногти лаком телесного цвета, а потом покрасить кончики белым. Это непросто даже в удобном положении, а она ухитрялась справиться стоя. В движущемся поезде.
В Сити все занимались тем, что покупали и продавали валюту, и Люси очень привлекала такая деятельность. Она приобрела автомобиль, черный «рено клио», и каждое утро еще до восхода солнца выезжала из Севеноукса в Лондон, чтобы успеть к открытию финансовых рынков. По выходным она каталась за покупками в торговый центр «Лэйксайд» в Тарроке к востоку от Большого Лондона. Однажды Люси с подругой зашла в магазин нижнего белья «Ригби-энд-Пэллер», который изготавливает корсеты для королевы, и в мимолетном порыве приобрела десять знаменитых бюстгальтеров по индивидуальным меркам.
Однако получала Люси около шестнадцати тысяч фунтов стерлингов в год, крупицу оттого, сколько зарабатывали ее коллеги мужчины. И именно в «Сосжен» девушка впервые влезла в долги. Кредитные банковские карты, карты магазинов, дорогие покупки в рассрочку – так жили многие обитатели Сити, но Люси не спешила разделять их философию.
– У меня было гораздо больше долгов, чем у нее, – признавалась Кэролайн Райан, ее коллега по Сити. – Но Люси очень переживала. Стоило ей потратить на несколько фунтов больше заработанного, она просто места себе не находила.
Люси провела в «Сосжен» год, но в конце концов поняла, что такая жизнь не для нее. Сама должность не сулила никаких перспектив. Любовная история с младшим трейдером в фирме закончилась несчастливо и со слезами. Люси привлекали путешествия, но с определенным уровнем комфорта и стиля.
– В этом вся Люси, – соглашалась Софи. – Турпоходы ее не интересовали: в палатке фен и макияж не имеют смысла. Люси нравилось делать маникюр и ухаживать за волосами, она носила туфли на каблуке, заботилась о собственной внешности, и ее образ жизни не сочетался с рюкзаками и грязными хостелами. Вот уж нет. Но она очень хотела увидеть другую культуру, новых людей, попробовать экзотическую еду, но обязательно с комфортом.
Спустя год работы в Сити Люси придумала, как осуществить свою мечту. Она обратилась в авиакомпанию «Бритиш эйруэйз» и стала стюардессой.
На первый взгляд, работа идеально подходила Люси: престижная должность, нарядная форма, возможность попрактиковаться во французском языке. В мае 1998 года девушка прошла трехнедельный курс обучения, где, помимо прочего, узнала, как принимать роды, управляться с наручниками и обезвредить бомбу на борту (надо перенести ее в самый дальний угол салона рядом с выходом и обложить влажными подушками, чтобы они поглотили взрывную волну). Первые полтора года в авиакомпании Люси работала на коротких рейсах в британские и европейские города. Самым первым стал сорокаминутный перелет на остров Джерси.
– Я твердила себе, что летать намного безопаснее, чем переходить улицу. Что дорога в аэропорт куда страшнее самого полета, – рассказывала Джейн Блэкман. – Но во время первого рейса дочери у меня внутри все переворачивалось.
По требованию матери Люси звонила ей после каждого рейса. Все время, что дочь работала в «Бритиш эйру-эйз», Джейн следила за отправлением и прибытием воздушных судов через сервис «Сифакс»[6] и успокаивалась только после того, как убеждалась, что самолет дочери благополучно приземлился и находится в аэропорту.
Возможно, из-за перенесенной в юности болезни и долгих месяцев в постели Люси, повзрослев, став молодой женщиной, прямо-таки зациклилась на разных методиках и приемах упорядочивания собственной жизни и самодисциплины. Она писала списки будущих дел и достижений, которые служили ей своего рода заклинаниями против лени. Она собирала книги о самопомощи и самосовершенствовании – как управлять долгами, добиться плоского живота или повысить самооценку – и делилась ими с друзьями. Страница из дневника Люси от начала 1999 года демонстрирует ее приоритеты: фитнес, красота, здоровье и деньги.
Новогодние решения!
1. Ходить в спортзал 3–4 раза в неделю.
2. Освоить два новых вида спорта.
3. Перестать пользоваться двумя телефонами.
4. С марта начать откладывать деньги.
5. Придерживаться «Правил».
6. Проводить больше времени с У. + Г./Х. + Дж.
7. Больше спать.
8. Выучить итальянский.
9. Не тратить премиальные.
10. Пользоваться скрабом и загорать через день.
11. В остальные дни пользоваться лосьоном.
12. Пить больше воды.
Решение под номером 5 относится не к правилам в общем, а к «Правилам» – популярному американскому руководству по свиданиям и романтическим отношениям, которому Люси старалась следовать. «Правила» представляют собой радикальную эмоциональную «диету», возвращение к традиционным способам ухаживания, царившим до эпохи феминизма, когда от мужчины требовалось долго и упорно ухаживать за девушкой, чтобы получить хоть какое-то вознаграждение за свои старания. В другой тетради дневника Люси сделала собственные выводы из «Правил».
1. Сохранять хладнокровие.
2. Пусть сам суетится, звонит и все остальное.
3. Не раскрывать карты: если захочет знать о моих чувствах, сам спросит.
4. Только легкая беседа.
НЕ ЗАПАДАТЬ НА НЕГО!
Люси привлекала мужчин и лет с пятнадцати редко оставалась без бойфренда. Вот только решение больше копить, чем тратить, и меньше болтать по телефону, а также диктуемые «Правилами» сдержанность и хладнокровие шли вразрез с характером Люси.
– Когда Люси с кем-нибудь встречалась, она отдавалась отношениям целиком, и не раз ей разбивали сердце, – отмечала Софи. – Она совершенно не скрывала своих чувств: мол, я такая, какая есть, бери или проваливай. И кавалеры брали ненадолго, а потом проваливали.
Друзья Люси давно вычислили схему развития ее романов: найдя нового «друга», девушка быстро теряла голову, а парень терял к ней интерес.
– Она безумно влюблялась, – рассказывала Софи, – а через пару месяцев ее уже трясло от одного упоминания имени парня. Люси очень хотелось найти своего принца, остепениться, завести детей и поселиться за городом. А это означало, что сначала придется перецеловать кучу жаб.
Вот, например, Джим[7], которого возненавидели все подруги Люси, нагло бросил ее в день ее восемнадцатилетия. Или Роберт, который жил над местной пиццерией и променял Люси на одну из ее лучших подруг. Или Грэг, ее коллега по «Сосжен», разрыв с которым и ускорил переход девушки в «Бритиш эйруэйз». А потом появился самый привлекательный и опасный из ее приятелей Марко – красивый и дикий итальянец с криминальным прошлым.
Первой Марко заметила Софи, когда работала барменом в отеле «Ройал оук» в Севеноуксе. Она сразу же поняла: парень подходит сестре по всем параметрам – высокий, сильный, шикарный.
– Марко действительно был хорош собой, – признавала Софи. – Раньше он работал моделью. Ему было тридцать; у сестры всегда были парни старше ее. На первый взгляд Марко казался настоящей находкой, и Люси сильно им увлеклась. А потом выяснилось, что он врал напропалую.
В «Бритиш эйруэйз» Люси предоставляли десять выходных дней в месяц, и почти все из них она проводила с Марко. Он пользовался ее автомобилем, пока девушки не было в городе, и забирал ее в аэропорту Хитроу после рейсов. Они посещали клубы «Министри оф саунд» и «Клаб 9» в Лондоне, выпивали в пабах Севеноукса «Вайн», «Чимниз» и «Блэк бой». Люси часто оставалась в квартире Марко, он тоже ночевал в доме Блэкманов. Марко постоянно простужался и много часов проводил в постели. Вечерами, выходя куда-нибудь с Люси, он периодически ненадолго исчезал с друзьями. Однажды, когда Марко особенно плохо себя чувствовал, Люси поставила у его кровати целую коробку медикаментов: леденцы «Стрепсилз» от боли в горле, мазь для растирания «Вике», носовые платки «Клинекс», пастилки от кашля, журналы.
– Мы вообще не понимали, что на самом деле происходит, – жаловалась Софи. – До чего же глупо и наивно с нашей стороны.
Друзья девушки считали итальянца высокомерным и грубым, но чувства Люси к Марко все росли. Как-то на выходных он забросил ее в Хитроу и укатил на ее «рено», пообещав встретить возлюбленную на следующий день. Но когда она прилетела, Марко не было.
– Он не встретил ее, он вообще не явился, и Люси очень расстроилась, – рассказывала Софи. – Сестра не могла с ним связаться, не знала, где ее машина и где сам Марко, – вообще ничего не знала. Наконец Люси позвонила кому-то из его родственников, двоюродному брату или еще кому. И тот сказал: «Я надеялся, что этого больше не повторится. Но у Марко вечно так. Что он тебе наплел?»
Как выяснилось, Марко никогда не был моделью. Более того, страдал сильной зависимостью от кокаина. Исчезновения в пабах, склонность к «простудам» и медленное выздоровление – все вдруг встало на свои места. Софи в гневе поехала к Марко домой. Тот лежал в постели, оглушенный долгой попойкой и наркотиками. Он даже не мог ответить на вопросы разъяренной Софи все объяснить. Ключи от «рено клио» Люси лежали рядом на столе. Софи схватила их, хорошенько врезала Марко на прощание и выскочила на улицу, чтобы забрать машину. Дверь и задняя часть кузова оказались поцарапаны и помяты в результате аварии.
Люси очень следила за своей машиной и ухаживала за ней столь же тщательно, как за волосами и ногтями. Разумеется, теперь между ней и Марко все было кончено. Она очень страдала, но недолго. Через несколько месяцев ее отрезвила новость: Марко покончил с собой или, по другой версии, умер от случайной передозировки наркотиков. Что бы ни произошло на самом деле, бывший бойфренд Люси скончался.
Люси нравилась не всем, особенно это касалось молодых девушек, которые иногда испытывали к ней враждебность. Некоторым она казалась не симпатичной болтушкой, а наглой пустомелей; их раздражала ее привычка жестикулировать и встряхивать светлыми волосами.
– Просто наивная паинька из младших классов не вписывалась в среднюю школу, – комментировала Софи. – Ребята постарше не в восторге от «ботаников», умников и подхалимов. То, что казалось милым в маленьком ребенке, в подростке выглядит по-другому.
Софи всегда яростно защищала свою семью. Однажды, спасая сестру, она даже ввязалась в потасовку. Они сидели вместе в одном из баров Севеноукса. Был выходной, и в зале собралось много народу. За столом, где сидела Софи со своими друзьями, расположилась еще одна незнакомая им компания. Люси стояла у бара и разговаривала с каким-то мужчиной.
– Она выпивала и болтала со знакомым парнем, – рассказывала Софи. – Они дружили с ним уже некоторое время, к тому же он был геем, так что о приставаниях и речь не шла. Они разговаривали, гремела музыка, они немного потанцевали. Вдруг девушка, которая сидела за нашим столиком, начала на нее наезжать. Не в глаза, а с места: «Что за девка там ошивается? Что она о себе возомнила? Пришла в паб, да еще и танцы устроила. Да она такая, она сякая», – ну и прочее в том же духе. Она совсем не знала Люси, просто та ей сразу же не понравилась. Девушка вела себя очень грубо. И она не знала, что Люси моя сестра. Я подумала: «И что же тебе не нравится в Люси? Что она потрясающе выглядит, пришла в паб и не стесняется потанцевать с другом, хотя публика может посчитать это странным?» Да, сама я так себя не вела бы, потому что мне не хватает уверенности в себе, но Люси другая. А девица за столиком все не успокаивалась и продолжала ворчать. Тогда я сказала: «Это моя сестра, так что хватит». Она, конечно же, не послушалась и даже швырнула в меня чем-то. Я встала и говорю: «Ты что творишь?» И, конечно, тоже чем-то в нее кинула. И села на свое место. Тут она подскочила, схватила меня за волосы – и понеслось.
Драка закончилась тем, что подбежала Люси и оттащила Софи от соперницы.
– Что ты устроила? – спросила она сестру.
– Я тебя защищала!
– Простите, пожалуйста, – извинилась Люси перед той девушкой и вывела Софи из паба.
Дальние рейсы
Люси легко заводила друзей везде: в Сити, в «Бритиш эйруэйз», в пабах Севеноукса. Но самыми близкими для нее людьми оставались мама, Софи и несколько друзей, в основном из школы. Сознательно или нет, Люси не давала подругам пересекаться. Некоторые едва знали друг друга и практически не встречались. И большинство девушек росли без отца.
Среди них была Кэролайн Лоуренс, которая училась с Люси в школе Грэнвилл, а позже в Уолтемстоу-холле. Кэс, как все ее звали, обладала шапкой рыжих пушистых волос и бунтарским характером. Ее родители развелись, и как раз у Лоуренсов, когда матери не было дома, устраивались вечеринки с танцами и распитием сидра до поздней ночи. Еще одна девушка, Гейл Блэкман, познакомилась с Люси в Уолтемстоу-холле, когда обеим было по четырнадцать (несмотря на совпадение не самой распространенной фамилии, кровного родства между ними нет). Отец Гейл тоже «загулял». Кроме того, в свое время она тоже много болела, страдая астмой и сильной экземой. Как и Люси с Кэс, в Уолтемстоу-холле Гейл считалась изгоем, а после окончания школы не планировала поступать в университет.
– Наши амбиции отличались от тех, которых ждали преподаватели, – рассказывала Гейл. – Люси хотела найти стабильную работу, а потом завести семью; у нее не было планов по завоеванию мира. Но наши учителя относились к таким мечтам с презрением. Для них имел значение только рейтинг университета, и еще, как мне показалось, им не нравились девочки из неполных семей. На тех, кто не собирался поступать в университет, чтобы стать инженером или доктором, они не обращали никакого внимания.
Одной из самых недавних подруг Люси стала Саманта Берман. Их младшие братья вместе ходили в школу, и Вэл, мать Сэм, подружилась с Джейн Блэкман. Обеим было под сорок, обе только что развелись и воспитывали детей-подростков. Время от времени Вэл и Джейн брали дочерей и все вместе отправлялись в Лондон в ночной клуб. Эти походы вызывали в Софи скрытую, но яростную неприязнь.
– Две разведенки со старшими дочерьми. Не знаю, как по мне, просто отвратительно, – говорила она. – Разве это нормально? Хотелось прикрикнуть на них: «Вспомни, сколько тебе лет! Гуляй со своими ровесниками, зачем зависать с молодыми девчонками?» Так фальшиво, демонстративно, пошло. Не знаю, о чем они только думали… Меня бесили их вылазки.
В 1999 году за несколько дней до Рождества Сэм и Люси пошли в клуб со старым другом Сэм Джейми Гаскойном. Он был наслышан о Люси. Последние несколько недель и Саманта, и ее мама Вэл обещали свести парня с подругой. Когда вечеринка уже была в разгаре, Люси отправилась за напитками, и незнакомец у барной стойки начал довольно агрессивно к ней приставать. Джейми тут же подошел к нему и полушутя-полусерьезно заявил, что Люси его жена.
– Тогда она развернулась и поцеловала меня, – рассказывал Гаскойн. – Меня будто… током ударило.
Троица вернулась в дом Сэм, и Люси с Джейми проболтали всю ночь.
– Не знаю, она была зажигательной, возбуждающей, веселой, прямо идеальная девчонка, вот честно, – признался Джейми. – Любой в ее присутствии чувствовал себя по-настоящему живым. Вот какой она была. Подобные девушки притягивают к себе, к ним сразу привязываешься.
Никто из парней Люси не обожал ее сильнее Джейми Гаскойна. И только Джейми пытался ее удержать. Люси изменила его жизнь. Он считал, что их свела сама судьба.
Они познакомились за несколько дней до конца двадцатого века. Для Джейми эти дни превратились в сказку. На два года старше Люси, крупный и мускулистый, но впечатлительный парень тогда работал в Сити в инвестиционном банке «Леман бразерз». В то Рождество, через несколько дней после знакомства с Люси, он задарил ее украшениями. Парочка сразу же стала проводить вместе все свободное время. В канун нового тысячелетия они отправились на новогодний бал. Джейми сильно простудился и был не в форме. На следующее утро ему позвонили и сообщили, что умерла его бабушка.
– Люси держалась как скала, – рассказывал он. – Бабушка была очень близким мне человеком, но Люси повела себя бесподобно и помогла мне пережить потерю.
Отношения развивались очень бурно. У нас была песня, наша песня – трек «Сэведж гарден», его тогда постоянно крутили: «Я полюбил тебя еще до нашей встречи». Мы встречались чуть больше месяца, а Джейн с Вэл уже спрашивали: «Когда свадьба? Когда же свадьба?» Джейн в шутку называла меня своим зятем. Мы с Люси практически всегда были вместе.
Джейми жил с родителями в Ислингтоне на севере Лондона, в двух часах езды от Севеноукса. Каждые выходные и те будни, которые Люси проводила дома, он приезжал к ней и оставался на ночь в доме Блэкманов. А затем вставал до рассвета и ехал на работу в Лондон.
– Мы украшали ее спальню в Севеноуксе, ходили ужинать вдвоем. Всё, буквально всё делали вместе, – вспоминал Джейми. – Мы были безумно счастливы. Казалось, все идет как надо и люди вокруг тоже рады за нас. Никогда не забуду те времена. Этот опыт изменил всю мою жизнь, потому что Люси была такой милой, что я, естественно, влюбился в нее по уши. В такую девушку грех не влюбиться. Правда. Она просто чудесная.
Вскоре стало ясно, что профессия стюардессы Люси не подходит. К началу 2000 года работа превратилась в капкан, из которого надо срочно выбираться. Коллеги не понимали девушку. Ведь она только что добилась того, к чему стремился любой член экипажа «Бритиш эйру-эйз», – ее перевели с местных воздушных линий в Хитроу на межконтинентальные рейсы из аэропорта Гэтвик. Перелеты на дальние расстояния влекли экзотикой и шиком и к тому же лучше оплачивались. Как начинающей бортпроводнице оклад Люси назначили мизерный – 8336 фунтов стерлингов в год без вычета налогов. Еще столько же она получала в качестве премиальных, которые начислялись в зависимости от направления и класса самолета, на борту которого она работала. Очень ранние, слишком долгие, ночные или срочные перелеты приносили дополнительные бонусы. Выделялись также деньги на питание, причем компенсация рассчитывалась исходя из стоимости трех блюд на каждый прием пищи в пятизвездочном отеле в местной валюте. Естественно, большинство служащих выбирали еду подешевле, а разницу клали в карман. Так что самыми невыгодными в этом плане были короткие рейсы между городами Великобритании. Выше всего ценились перелеты в дорогие города Азии и Америки: Майами, Сан-Паулу и – самый выгодный – Токио.
В дальних рейсах Люси получала бы около 1300 фунтов в месяц после вычета налогов. Однако, как она ни беспокоилась о деньгах, долги лишь множились. В кратком отчете о доходах и расходах к концу 1998 года значились ежемесячные выплаты в размере 764 фунтов 87 пенсов (больше половины доходов) только на «Дайнерз клаб», одну из ее кредитных карт. Кроме того, Люси платила ежемесячные взносы за «рено клио» в размере 200 фунтов, а еще – 47 фунтов за банковский кредит, 89 фунтов 96 пенсов за карту «Виза», 10 фунтов за кредитку «Маркс-энд-Спенсер», 70 фунтов матери за аренду дома, 32 фунта за членство в спортивном клубе и 140 фунтов за мобильную связь. Каждый месяц, покупая декоративную косметику, шампуни и одежду, необходимые для работы, Люси превышала бюджет на несколько сотен фунтов, а из-за процентов выплачивать долги становилось с каждым днем все труднее.
Она уставала и болела. Длинные ночные перелеты истощали, вся романтика прошла. В «Бритиш эйруэйз» числилось 14 тысяч сотрудников, в большинстве случаев Люси обслуживала рейс с коллегами, которых видела в первый и последний раз. Редкое удовольствие работать с подругой все равно не спасало от утомительного однообразия: знай себе разливай томатный сок по пластиковым стаканчикам и предлагай выбрать между курицей и говядиной.
– Гостиничные номера во всех странах похожи один на другой, – сетовала Софи. – Она могла оказаться утром в Париже, после обеда в Эдинбурге, а на следующий день в Зимбабве. Но везде просто сидела в номере и страдала от смены часовых поясов, не в силах выйти и наслаждаться жизнью, культурой и едой. Ближе к концу сестра совсем вымоталась – вечно усталая, несчастная, постоянно среди чужих людей.
Глубина нервного истощения Люси даже пугала.
– Под конец она спала по пятнадцать часов в день, – вспоминала Софи. – Сестра чувствовала себя ужасно и начала серьезно болеть.
Девушка словно вернулась в тот тревожный период восемь лет назад, когда долгие месяцы после болезни не могла подняться с постели. Тогда измученная Люси заговорила о поездке в Японию.
Идея появилась еще в конце 1999-го или начале 2000 года. Никто точно не помнил, как она возникла, но мысль определенно подала Луиза Филлипс.
Луиза была ближайшей подругой Люси. Они познакомились еще в тринадцать лет. Внешне они представляли полную противоположность друг друга: стройная, невысокая, изящная брюнетка Луиза и рослая Люси. Филлипс тоже росла без отца: он скоропостижно умер от рака, когда ей было двенадцать. Роднили подруг и схожие жесты, и манера говорить, и любовь к макияжу и маникюру, даже имена у них начинались одинаково. Джейн считала двух подруг родственными душами. Тим смотрел на дело проще:
– Луиза могла болтать дни и ночи напролет, прямо как Люси. Так они и болтали без конца и считали друг дружку безумно веселыми.
Степень их близости можно оценить по карьере обеих девушек. На каждом жизненном этапе Люси следовала по пути, уже проторенному подругой. Луиза окончила в школу в шестнадцать лет и пошла работать в инвестиционный банк в Сити, как и Люси через два года после нее. Луиза первой стала стюардессой в «Бритиш эйру-эйз», Люси потянулась за ней. И инициатива поехать вместе в Токио, чтобы расплатиться наконец с долгами, которые стали для Люси тяжким бременем, исходила именно от Луизы.
Более поздние события бросили тень на репутацию Филлипс, особенно в кругу друзей и семьи Люси. Впрочем, к Луизе относились с подозрением и до поездки в Японию. Саманте Берман, к примеру, она никогда не нравилась.
– Люси дружила с ней намного дольше, чем со мной, поэтому я помалкивала. Но Люси считала Луизу красивой и уверенной в себе, а себя – дурнушкой, которая живет в ее тени. И вряд ли Луиза пыталась ее разубедить.
Обе девушка работали с самого окончания школы и часто мечтали устроить себе каникулы и вместе одолеть маршрут, знакомый всем любителям «дикого» отдыха: Таиланд, Бали, а потом Австралия. Но Люси не питала любви к бюджетным путешествиям, да и финансы не позволяли. Старшая сестра Луизы Эмма Филлипс предложила им отправиться в Токио, где она сама жила два года назад. По ее словам, там можно было познакомиться с потрясающим и необычным городом, а заодно заработать хорошие деньги. Чем именно занималась Эмма в Токио, остальные друзья Люси не очень разобрали, поскольку история каждый раз менялась в зависимости от того, кому ее рассказывали.
Как поняла Сэм Берман, Эмма работала в барах. У парня Люси Джейми Гаскойна создалось впечатление, что Эмма выступала с танцевальной труппой. Софи помнила разговоры о должности официантки. Гейл Блэкман утверждала, что Люси и сама не представляла, чем займется. Когда Гейл задала вопрос в лоб, Люси ушла от ответа. Это озадачило подругу.
– Я терялась в догадках, – призналась Гейл. – Похоже, место выбрали наугад, даже не подумав. Я хочу сказать, что в Азии жизнь совсем другая. Ладно бы Австралия или Новая Зеландия, но Япония…
В прощальном письме к друзьям из «Бритиш эйру-эйз» Люси рассказала о поездке в Японию, но почти ничего не говорила о себе: «Туда едет моя лучшая подруга Луиза, она остановится у родственников, и у меня есть возможность присоединиться к ней. У меня нет никаких планов: наверное, познакомлюсь с культурой, буду учить язык или стану высококлассной и хорошо оплачиваемой гейшей! (шутка) Просто несколько месяцев передышки, смена обстановки; говорят, это лучший отдых».
Девушки объяснили знакомым, что в Токио у Луизы живет тетя, у которой они могут остановиться, чтобы не платить за жилье. Благодаря этому поездка казалась безопасной, понятной и домашней.
– Когда Люси решила уйти из «Бритиш эйруэйз», то еще точно не знала, чем будет заниматься, – отметила Сэм Берман. – И идея заработать денег за границей, а потом вернуться, расплатиться с долгами и начать все заново, ей понравилась. К тому же у нее появилось бы время подумать, чего она хочет от жизни.
Чем на самом деле занималась Эмма Филлипс в Токио и какая карьера ждет их с Луизой, Люси рассказала только своей матери.
– Она заявила, что подумывает съездить с Луизой в Японию поработать хостес, чтобы выплатить долги, и уверяла, что все будет отлично, – вспоминала Джейн. – О сути профессии она знала только по рассказам сестры Луизы. Та утверждала, что надо просто подавать посетителям напитки и разговаривать с ними, и еще хостес часто поют под караоке. Люси любила петь, так что для нее такая должность означала легкие деньги.
Но Джейн не интересовали подробности. Единственное, чего она хотела, – любой ценой не пускать дочь в Токио.
– Она постоянно твердила, что никогда не наделает глупостей и будет очень осторожна. Но я знала, что с ней произойдет нечто ужасное. Никак не могла выбросить страхи из головы. Япония вообще представлялась мне нереальной, но, как только Люси заговорила о ней, у меня в голове зазвучал голос: «Случится нечто страшное». Возможно, это была просто мысль, а никакой не голос, – мысль, которая сама пришла ко мне. И я потеряла покой. При дочери я не плакала, но наедине с собой – постоянно.
Джейми Гаскойн был в таком же смятении, что и Джейн. За несколько месяцев отношений он горячо полюбил Люси, и мысль о расставании, пусть даже на время, была невыносима для него.
– Не мне указывать другим, как им следует жить и чем заниматься, – рассказывал он мне. – Но я не хотел отпускать Люси. Однако она говорила о будущей поездке как об интересном жизненном опыте: сменить страну, сменить род деятельности. Поначалу речь шла о трех месяцах, это еще терпимо. Я подумал: «Ладно, езжай и наслаждайся новизной. Веселись. Избавься от долгов и возвращайся. Очень надеюсь, что наши отношения перейдут на новый уровень». Мы ведь уже говорили о помолвке. Всерьез ее обсуждали. И знаете, наша любовь словно была предначертана судьбой, если вспомнить, как упорно все хотели нас познакомить.
Однажды вечером Джейми и Люси решили пойти на фильм «Красота по-американски». Когда они стояли в очереди за билетами, девушка сказала Джейми, что на время отъезда в Японию не хочет связывать себя никакими обязательствами.
– Я был потрясен до глубины души. Просто сполз по стене, не зная, что ответить. Как гром среди ясного неба. У нас были замечательные отношения. Я постоянно мотался из Севеноукса в Лондон и обратно. Мы никогда не ругались и даже не спорили. Я сказал: «Мы же вместе идем в кино. Ты шутишь». Она ответила: «Нет-нет, думаю, нам надо разойтись». Мне не верилось в реальность происходящего. Совершенно не похоже на Люси. Моей Люси и правда больше не было. За неделю до нашего разрыва она совершенно изменилась. Стала совсем другой. Вам знакома ситуация, когда близкий человек начинает что-то скрывать от вас, темнить? Ей будто кто-то приказал: «Ты должна вести себя вот так». Я ничего не понимал. Полное безумие. Будто кто-то ею управлял. Луиза, ее подруга, была вполне славная, мы с ней ладили. Но она очень влияла на Люси. Вот чего я не понимаю. Все, что говорила Луиза, становилось прописной истиной. И не только из-за того, что Люси равнялась на нее. Такое ощущение, что она считала Луизу абсолютным идеалом во всем.
Как оказалось, Луиза тоже собиралась порвать со своим парнем Джеем, с которым уже давно встречалась.
– Вот что было на уме у Луизы, – пояснял Джейми. – Она разбежится с Джеем, и Люси тоже должна лететь с ней в Японию как свободная одинокая девушка. Не знаю, зачем такие сложности. Во всей этой истории с поездкой было множество недомолвок. Их поведение и дальнейшие планы оставались тайной за семью печатями. Вернее, у них и плана-то не было. Просто Луизе захотелось в Японию, вот они и собрались в Японию – конец истории. А потом они улетели. Я был просто раздавлен. Сидел и думал: «Вот и все, теперь надо строить жизнь заново».
Поведение Люси за несколько недель до отъезда в Японию удивляло всех, и чем ближе был день отъезда, тем больше девушка менялась.
– Она закрылась ото всех, по крайней мере от меня, – рассказывала Гейл Блэкман. – Под конец я почти ее не видела. Она совершенно переменилась, замкнулась в себе.
Дома Люси устроила генеральную весеннюю уборку, чересчур тщательную даже по ее высоким стандартам чистоты.
– Она прошлась везде, выносила на помойку огромные мусорные пакеты со старыми письмами, личными вещами, – рассказывала Джейн. – Выбросила много одежды. И не сказать, что Люси избавлялась от хлама, потому что в комнате у нее и без того царил порядок. Казалось, она уезжает не просто на несколько месяцев. Дочь вычистила комнату так, будто не собиралась возвращаться.
Если со старыми друзьями Люси теперь виделась реже, то родственников, с которыми раньше общалась довольно мало, – двоюродных братьев и сестер, тетушек и дядюшек, живущих в провинции, – стала навещать куда чаще.
– Она постоянно с кем-то встречалась, что меня удивляло, потому что раньше Люси так не делала, – призналась Софи. – Она очень старалась повидать до отъезда как можно больше родни. Если бы сестра вернулась, мы бы не усмотрели тут ничего такого. Но поскольку она пропала навсегда, теперь ее поведение кажется странным.
Среди тех, с кем Люси особенно искала встречи, был и ее отец. После развода с Джейн в 1995 году Тим Блэкман сошелся с Джозефиной Берр и переехал к ней. Джозефина, мать четверых подростков, тоже была в разводе и родилась там же, где и отец Люси, – в Райде на острове Уайт. В семью Тим больше не возвращался, но сохранял близкие отношения с младшей дочерью и сыном. В период особенно острых конфликтов с матерью Софи на некоторое время даже уехала к нему в Райд. И Тим регулярно наведывался в Кент, чтобы отвезти Руперта на регби или пообедать с ним в пабе. А вот с Люси он почти не встречался. Ответ на вопрос, почему так получилось, связан с негласным соперничеством Джейн и Тима за детей.
Джейн не сомневалась, что Люси сама решила выбрать ее сторону.
– Дочка очень разочаровалась в отце, – уверяла она. – Но я бы и не подумала препятствовать встречам бывшего мужа с детьми. Никогда. Ведь они и его дети. Люси решила не общаться с ним, но я никогда ей не запрещала его навещать. Да и как запретишь что-нибудь взрослой дочери – родителей слушаются только малыши. Люси не видела Тима несколько лет – потому что сама не хотела его видеть и злилась на него. Думаю, дело в том, что мы с ней были очень близки, она всегда меня поддерживала.
Люси, несомненно, осуждала отца, причинившего боль Джейн, – она так и говорила некоторым друзьям. Но Тим замечал и другие веяния.
– Нет смысла оправдываться или просить прощения у детей за свой поступок, – говорил он. – Они все равно не поймут, но скажу в свою защиту, что под конец был очень несчастлив с Джейн. Я надеялся, что время лечит и что в конце концов дети смягчаться и захотят общаться со мной. С Люси именно так и произошло. Пару раз она приезжала на рождественские каникулы и чтобы летом покататься на водных лыжах. Иногда я виделся с ней в Севеноуксе, так что о полном разрыве речь не шла. Но развод дался мне нелегко. В течение двух-трех лет увидеться с ней было очень трудно. Здесь вопрос сложный. Я прекрасно понимаю Джейн и знаю, как она умеет манипулировать людьми. И я на сто процентов уверен, что она резко отзывалась обо мне. В такой ситуации бывшая жена просто никак не могла обойтись без манипулирования. Например, Люси собиралась приехать ко мне на остров на выходные. Но подходил четверг – и вдруг она говорила, что приехать не получится. Я искренне верю, что чаще всего причиной служила семейная ситуация, из которой сложно вырваться. Люси играла непростую роль старшего ребенка, который поддерживает несчастную мать. И мной было легче пожертвовать. Дочь оказалась в тупике. И я могу ее понять, но от этого не менее больно.
Какое бы давление ни испытывала Люси со стороны родителей, неминуемый отъезд его ослабил. Джейн намекнула дочери, что стоит увидеться с отцом, и в середине апреля, в свой последний день в «Бритиш эйруэйз», Люси вернула форму стюардессы, а потом договорилась поужинать с отцом в пабе под Севеноуксом. За несколько дней до этого она послала ему текстовое сообщение. Тим долго хранил его после исчезновения Люси. Много позже, когда о Люси осталась только память, он переписал текст слово в слово на бумагу: «14.04.00 00:38 хххххххххххх доброе утро! мой замечательный папочка. Я тебя так люблю и никак не дождусь вторника, когда же увижу твое улыбающееся лицо, с любовью и обнимашками…лула хх».
Джейн всегда очень беспокоилась о детях, но ее тревога по поводу поездки Люси в Японию переросла в целую кампанию по срыву планов дочери, граничащую с безумием. В ход шли любые средства. Главной целью поездки Люси в Японию было выплатить долги – поэтому Джейн начала собирать вырезки из газет о проблемах японской экономики и «случайно» оставлять их на кровати Люси. Когда маневр не сработал, Джейн записала Люси на прием к медиуму, в надежде, что мудрость потустороннего мира поможет там, где не помогли материнские мольбы. (Люси отменила встречу.) Наконец, за несколько часов до рейса в Токио Джейн пошла на крайность – спрятала паспорт Люси. Руперт Блэкман вспоминал, как мать стояла на лестнице, размахивала паспортом и что-то кричала его сестре. Правда, вскоре она одумалась:
– Мне стало ясно: если я спрячу паспорт, дочь получит новый, но настроится против меня. А мне не хотелось, чтобы она ехала в Японию мне наперекор.
Вэл Берман раздражала суета Джейн.
– Не понимаю, почему ты так себя ведешь, – говорила она подруге. – Можно подумать, у тебя кто-то умер.
И Джейн ответила:
– У меня как раз такое чувство.
Конечно, Люси не перестала быть собой. В марте она воспользовалась возможностью полететь в качестве стюардессы в Сан-Паулу и провела там недельный отпуск с Сэм. Правда, она подхватила грипп и большую часть времени провалялась в гостиничном номере, но шопинг стал для девушки утешением. Когда лимит кредитки подошел к концу, Люси оплатила покупки картой «Американ экспресс», которую дал ей Джейми. Вскоре ее долг вырос еще на одну тысячу фунтов из-за покупки огромной железной кровати в «Маркс-энд-Спенсере». Впрочем, этот поступок, очень в духе Люси, убедил друзей, что девушка все-таки планирует вернуться из Токио.
– Она называла ее «ложем принцессы», – вспоминала Сэм. – Большая двуспальная кровать с металлическим каркасом, довольно старомодная, с чудесным толстым матрасом и красивым постельным бельем, которое отлично смотрелось. Когда Люси возвращалась домой, ей хотелось именно этого: нежиться в собственной кровати. Она все время твердила, что мечтает об уюте.
А вот о еще одном новом «приобретении», которое отчасти объясняло ее непривычное поведение, девушка предпочитала молчать. Алекс, молодой австралиец, работал барменом в пабе «Блэкбой». Ему было восемнадцать – на три года младше Люси. Она познакомилась с ним всего за месяц до поездки в Японию.
– Со своими курчавыми каштановыми волосами он напоминал серфингиста, – вспоминала Софи. – Такой привлекательный. Он очень нравился сестре, на самом деле нравился.
Даже через много лет после смерти Люси Джейми Гаскойн понятия не имел, что она бросила его ради нового парня; не знала об этом и их общая близкая подруга Сэм Берман.
Последняя ночь Люси в Британии – вторник, 2 мая, – тоже полна загадок. У близких друзей и членов семьи остались самые разные воспоминания о том, как и с кем она провела тот день. Тим Блэкман уверен, что тем вечером дочь была с ним: они ужинали в ресторане в Севеноуксе с Софи и Рупертом. Гейл Блэкман считает, что они с сестрой и Люси выпивали в пабе. Софи точно знает, что Люси провела большую часть вечера со своим новым парнем Алексом. Воспоминания Джейн о последних нескольких часах с дочерью смазались из-за сильного волнения, но в них точно нет ни Тима, ни Алекса. Лучше всех последнюю ночь запомнили Сэм Берман и ее мать Вэл. Обе ни капли не сомневались, что Люси была с ними.
– Она забежала в гости к моей матери, – рассказывала Сэм. – И больше всего нас поразило, что Люси не составила список дел, которые надо успеть сделать. Кое-какие вещички она сложила, но в остальном почти не подготовилась, хотя обычно собиралась заранее. А еще она немного грустила из-за отъезда, словно вообще не хотела никуда ехать. Вспоминала возможные минусы, а потом сама себе возражала и настраивалась на поездку. Будто до сих пор сомневалась, хотя идти на попятную уже было поздно. Думаю, беда в том, что она пообещала Луизе и не хотела ее подводить.
Вэл вспомнила, как Люси рассказывала о Джейн и атмосфере в доме.
– У них все постоянно кричали, – сокрушалась Вэл. – Кричали Джейн и Софи, Софи и Люси. Если бы она набралась терпения, через несколько лет все наладилось бы само собой и стало немного легче. Но в тот момент Люси исполняла роль взрослой при матери. Люси говорила мне, что Джейн очень давит на нее. Они спорили об отъезде, и, думаю, скандалы только добавили Люси решительности. Возможно, ей казалось, что у нее нет выхода, и Япония как раз представлялась хорошим решением… Ей нужно было передохнуть, пожить без Джейн.
По воспоминаниям Софи о том дне, вечером к ним заехал Алекс, и она оставила его с сестрой наедине.
– Оправившись спать, – рассказывала она, – я стала думать о том, что хочу сказать Люси до отъезда, и решила записать свои мысли. Начала составлять короткое прощальное письмо, а в итоге получилось серьезное послание. Я начала с того, как здорово расти под присмотром старшей сестры, которая всегда защитит и поможет в трудные периоды жизни. Записка превратилась в письмо на восемнадцати листах. Помню, я плакала, когда писала его, – не просто прослезилась, а прямо-таки рыдала. Страшно говорить, что я обращалась к ней будто в последний раз, но такова горькая правда. Сестра уезжала всего на три месяца, так бывало и раньше. Но когда я думаю о том письме, у меня перехватывает дыхание. Мне видится в нем что-то роковое. Когда Люси улетала по работе, мы тоже прощались, но строили дальнейшие планы. А вот когда она говорила о Японии, я не могла даже думать о будущем. Мне было трудно представить ее возвращение.
Рейс в Токио отправлялся в полдень. Еще до рассвета за Люси заехала мама Луизы Морин Филлипс, чтобы отвезти подруг в аэропорт Хитроу. Люси зашла в комнату Софи и в темноте поцеловала ее на прощание.
– Сестра вручила мне открытку, – вспоминала она, – а я дала ей свое письмо и попросила: «Не вскрывай, пока не сядешь в самолет». Она прилегла ко мне на кровать и обняла меня. Мы обе чуть не плакали. Потом настало время расставаться. Я сказала: «Люблю тебя», и сестра ушла.
Люси был двадцать один год, когда она навсегда покинула родной дом. Ее любили и друзья, и семья, пусть и распавшаяся. Она была другом, а то и матерью и для собственной матери, и для брата с сестрой. Она много раз летала на самолете, но впервые отправлялась так далеко от дома и ото всех, кто был ей близок, – в настоящее Зазеркалье, настолько далекое и незнакомое, насколько вообще можно представить. Те, кому было не все равно, очень тревожились за Люси. За последние недели вокруг девушки, чье сердце раньше казалось открытым и чистым, множились тайны и недомолвки. Не считая Луизы, никто, наверное, не знал всей правды о том, что ждет их в Японии и как сложится их жизнь. Многие задавали вопросы, но ответы ничего не разъясняли. Правда о Люси Блэкман растаяла во мраке неизвестности.
Последним с Люси говорил Джейми Гаскойн – за несколько минут до того, как она села в самолет. Он рассказывал:
– Я ей позвонил, но линия была занята: видимо, Люси с кем-то говорила. Тогда я продолжил звонить, набирал ее номер снова и снова через каждые пять минут, и наконец она ответила. Я спросил: «Все в порядке, малыш? У тебя все хорошо?» Совершенно естественный вопрос, ведь мне казалось, что мы по-прежнему вместе. Я сказал: «Я очень тебя люблю, пожалуйста, не уезжай. Никто не хочет, чтобы ты уезжала». Она ответила: «Да, я знаю. Сама не понимаю, правильно ли поступаю. – А потом: – Мне пора на борт». Она поднималась по трапу, и по голосу было заметно, что она идет против воли. Я верю в судьбу. Всему есть причина. Знаете, иногда прямо чувствуешь, что совершаешь ошибку. Думаю, под конец Люси и сама поняла, что зря решилась на такой шаг. Но она уже зашла слишком далеко, и пути назад не было. Нельзя же повернуться к Луизе и сказать: «Слушай, я не могу поехать». Я слышал в трубке свист ветра и рев моторов на заднем фоне. Люси сказала: «Я на трапе, уже поднимаюсь». Ая подумал: «Сойди с него, сойди – и просто не уезжай». Но она не сошла, вот и все. Люси села в самолет – и больше ее нет.
Часть II
Токио
Город с человеческим лицом
Перелет из Хитроу в аэропорт Нарита занимает меньше двенадцати часов, но немного найдется перелетов, которые вызывают ощущение столь резких перемен. Поднявшись в небо, Люси и Луиза видели крыши Лондона, поля Восточной Англии и Северное море. Когда подали ланч и закончился первый фильм, который показывали на борту, они были над Сибирью. Ее просторы лайнер пересекал еще семь часов. Со всех сторон расстилалось поражающее воображение огромное пустое пространство тундры: в двенадцати тысячах метров под ними проплывали занесенные снегом извилистые горные гряды и необычайно широкие темные реки, сверкающие в лучах солнца. Подруги путешествовали сквозь пространство и время. Они вылетели в полдень, провели в воздухе весь день и приземлились только к ночи, когда по их внутренним часам уже пора было спать, – а встретило их яркое утреннее японское солнце.
«Сейчас в Токио 9:13, а в Англии – 00:10, – писала Люси в дневнике сразу после приезда. – Я сижу в метро на чемодане, и меня переполняют чувства. Я очень устала… а еще волнуюсь, чувствую себя потерянной, мне страшно и оч. жарко! Надеюсь, что скоро сумею оглянуться на эти минуты и посмеяться над собственной наивностью и нынешними тревогами перед неизвестностью».
За все месяцы работы бортпроводницами ни Люси, ни Луиза еще не бывали в столь радикально и волнующе чужой стране. За обнесенными колючей проволокой постовыми вышками аэропорта Нарита зеленели затопленные рисовые поля, а на черепичных крышах домов развевались красные, желтые и черные флажки со стилизованным изображением карпа. Но приметы Востока тут же уступали место Большому Токио, который выползал за края административных границ, поглощая города-спутники, как голодная амеба. Железная дорога бежала над застывшим пейзажем: над серебристо-серыми офисными зданиями, малоэтажными многоквартирными домами с металлическими пожарными лестницами и над «отелями любви» без окон, но с сияющими неоновыми вывесками «Мария Целеста» или «Страна чудес». Затем появились мосты, переброшенные через широкие неподвижные реки, и наконец открылся вид на южную часть Токийского залива с его островами, плотно застроенными конструкциями из стекла и алюминия. В пасмурную погоду вода казалась темной и смолянистой, а здания – матовыми и мертвыми. Но на солнце все сверкало серебром: переливающиеся алмазными гранями башни и огромные выпуклые сферы, ощетинившиеся вышками линии электропередач и приземистые корпуса электростанций и нефтеперерабатывающих заводов, изящные арки Рейнбоу-Бридж[8].
В столичном мегаполисе проживают тридцать миллионов человек. Не считая редких островков зелени парков, храмов, монастырей и Императорского дворца, город простирается сплошным полотном вплоть до гор Окутама в 64 километрах к западу. Если выглянуть из самого высокого небоскреба, больше ничего и не разглядеть – за исключением разве что самых ясных дней, – только Токио, а за ним еще больше Токио, серого, коричневого и серебристого, бесформенно растекающегося во всех направлениях. И все же впечатление, создаваемое титаническим размахом и плотностью застройки, прямо противоположно хаосу. Токио выглядит чистым и четко очерченным; никакого шума, никакой грязи, как во многих азиатских городах. Окутанный пеленой безразличного спокойствия, он сочетает в себе мощь двигателя и точность часов.
Большинство тех, кто попал сюда впервые, прежде всего отмечали совершенно особую атмосферу Токио, вызывающую не столько открытую радость, сколько потаенное возбуждение от близости неведомых возможностей. «Уже здесь все совсем другое, – писала Люси на платформе станции метро „Аэропорт Нарита“, пройдя по японской столице всего несколько сот метров. – Только что отъехал самый современный на свете поезд. Внутри стоял крошечный человечек в синем костюме и безупречно белых перчатках. Я совершила первую покупку: бутылку питьевой воды, всю сверху донизу в надписях на японском… Я сижу, и в лицо откуда-то дует теплый ветер. Мысленно я молюсь, чтобы это был ветер перемен, который осуществит все мои мечты».
Приезжая в Токио, меняешься. Это ощущается буквально на физическом уровне. Во-первых, травмирует разница во времени, когда оказывается, что сейчас не середина ночи, а день, и наоборот. Еще сильнее выводит из строя внезапная потеря родного языка; иностранец моментально превращается в безграмотного, не способен не только общаться, но даже что-либо понимать. Небольшой рост местных жителей, низкие двери и потолки, узкие стулья, даже маленькие порции блюд создают у человека иллюзию, будто он подрос, как Алиса в кроличьей норе. В двадцать первом веке мало кто из жителей Токио открыто глазеет на иностранцев, однако все равно ощущается подспудное любопытство толпы – никто вроде бы не смотрит, не проявляет излишнего внимания или негатива, однако европейца не покидает глубокое внутреннее осознание непохожести на других. В Японии приезжий обретает новую национальность – «гайдзин», иностранец. Столь чуждая реальность будоражит и зачастую изматывает.
«Здесь жизнь никогда не воспринимается как должное, не становится рутиной, – писал журналист Дональд Ричи, переехавший в Токио из Америки. – Такие чувства переживает тут любой наблюдательный иностранец. Каждую секунду бодрствования по нему словно пробегают электрические разряды, он постоянно подмечает, узнает, оценивают новое и делает выводы… Мне нравится, когда жизнь требует усилий, а не течет сама собой».
Однако такое не случилось с Люси и Луизой. Даже не осознав, что совершают важный выбор, они отвернулись от всего японского в Японии. Люси оставалось жить пятьдесят девять дней, и она провела их на нескольких сотнях квадратных метров площади Токио, существующих для удовольствия и выгоды гайдзинов, – в квартале Роппонги.
В дневное время можно миновать Роппонги и даже его не заметить. Когда едешь в автомобиле, видишь лишь участок восьмиполосной дороги между станцией «Сибуя» и рвами Императорского дворца, где чуть оживленнее, чем в других районах. Скоростная автострада Шуто, проходящая над Роппонги-авеню, образует над головой бетонный купол с темной расщелиной в автомагистрали. Высоко на углу перекрестка на гигантском экране мерцает реклама; взгляд натыкается на «Макдоналдс», кофейню, банк, суши-бар. Пешеход, у которого есть время осмотреться, заметит восьми- и десятиэтажные здания, выстроившиеся в ряд вдоль Аутэмоут-Ист-авеню, перпендикулярной Роппонги-авеню. На каждом из домов от крыши до тротуара вертикально установлены узкие вывески с названиями десятков баров, клубов и кафе, которые можно найти внутри. По фасадам бетонных или облицованных бежевой плиткой зданий бегут перегоревшие неоновые трубки, покрытые пылью и копотью от выхлопных газов. Здесь множество пешеходных переходов и спусков в метро, а под автострадой с севера на юг растянулся над перекрестком загадочный девиз Роппонги на английском языке: «Хайтач-Таун» – «Город с человеческим лицом».
В рабочее время Роппонги оккупируют горожане, ведущие дневной образ жизни: служащие ходят по магазинам и обедают в ресторанах, по улицам бегают крошечные школьники в крошечных форменных костюмчиках, а по собственной огороженной территории к северу от перекрестка двигаются чиновники Министерства обороны Японии. Все меняется, когда день плавно переходит в вечер, и люди в деловых костюмах покидают кабинеты и набиваются в пригородные поезда. С наступлением темноты на домах загораются пока еще редки неоновые огни, и молодые иностранки стекаются в фитнес-клуб за полицейским участком Азабу. Через два часа, когда они выходят оттуда, Роппонги просыпается от своего вампирского сна. В разгар вечера все в этом районе становится другим: звуки, запахи, взгляды и прикосновения.
Начало мая, когда сюда приехали Люси и Луиза, знаменуется переходом от месяцев прохлады к жаре; за несколько недель весенний воздух наполняется зноем и влагой. Ночью лишь не намного прохладнее, чем днем, а в июне начинается сезон дождей, когда влажность так высока, что капли воды оседают на коже. Лето приносит с собой запах неглубокой токийской канализации – неожиданное здесь зловоние третьего мира, к которому примешиваются запахи пиццы, жареной курицы, рыбы и духов. (Единственное, чем никогда не пахнет в Японии, это потом.) Над перекрестком светится гигантский рекламный щит, заливая улицу беспрестанно меняющимися изображениями автомобилей, одежды, алкоголя, еды и девушек. Неон вывесок оживляет окружающее пространство, скрывая убогость бетонных зданий. Гул автострады, вызывающий головную боль, перекрывается гвалтом текущего по тротуару людского потока, который и придает Роппонги своеобразие.
Здесь на площади радиусом в несколько сотен метров спрессовано пестрое человеческое и этническое разнообразие, которого не найдешь в остальной Японии. Роппонги не особенно модный квартал; в Токио есть множество более интересных развлекательных районов в плане качества, разнообразия или цен. Элегантный Гинза со старомодными универмагами и обходительными людьми среднего возраста, авангардная уличная жизнь Синдзюку с колоритными гангстерами и секс-шоу, а также Сибуя – владения лощеной ультрамодной молодежи. Конечно, иностранцев можно встретить по всему Токио, но только в Роппонги их присутствие составляет саму суть района. Даже если большинство людей на улицах японцы, именно иностранцы выделяются среди них, именно они являются уникальной чертой и особенностью Роппонги.
Здесь есть иностранцы, которые пришли сюда с другими иностранцами; есть японцы, которые пришли с иностранцами; есть иностранцы (обычно мужчины), которые желают провести время с местными (обычно женщинами), которым нравятся иностранцы. В Роппонги можно встретить людей, которых больше нигде не увидишь; это единственное место в Японии, где вызывающее трепет, хоть и давящее ощущение непохожести, ощущение себя гайдзином, исходит даже от храмов и монастырей.
В разинутой пасти метро и в толпе на перекрестке попадаются лица со всех концов света: бразильские бармены, иранские каменщики, русские модели, немецкие банкиры, ирландские студенты. Каждой этнической группе соответствует определенное ремесло. Например, иностранец, который попытается продать тебе фотографию в рамке или картину (заката, улыбающегося ребенка, красивой женщины, выгуливающей пуделя), почти всегда окажется израильтянином. Китайские и корейские девушки в длинных платьях, разгуливающие у «массажных» салонов, хватают за рукава проходящих мимо мужчин и шепчут: «Массаж, массаж, массаж…» Когда в порту Йокосука стоял авианосец ВМС США «Китти Хок»[9], все злачные места были забиты американскими матросами и морскими пехотинцами, и в Роппонги наблюдалось еще одно явление, которое почти не увидишь в других районах, – пьяные драки.
Среди прочих здесь выделяются еще три категории людей.
Во-первых, африканцы. Чернокожие обособлены в особую категорию гайдзинов. Даже в центре Токио они до сих пор притягивают взгляды, и нигде в стране их не встретишь в таком количестве, как на отрезке Аутэмоут-Ист-авеню длиной в четыреста метров к югу от перекрестка. Как и у других этнических групп, у них своя функция в механизме Роппонги: работа зазывал в стрип-клубах, хостес-барах и салонах приватного танца. Небольшой клан ухоженных мальчиков-японцев с аккуратной стрижкой ежиком ищут клиентов среди местных, но заправляют на улице африканцы – жители Ганы, Нигерии и Гамбии. Многие из них обитают здесь уже много лет и даже говорят на приличном японском. В их внешнем виде нет ничего угрожающего, они тепло улыбаются, обращаясь к проходящему мимо мужчине; одну руку дружески кладут ему на плечо, а другой протягивают рекламный листок кричащего цвета. Их скороговорка преследует гайдзина сотню метров, тихим баритоном передаваясь от одного зазывалы к другому:
– Добрый вечер, сэр! Клуб для джентльменов в Роппонги. Топлесс-бар, сэр, красивые леди. Сексуальные девочки, сэр, голые сверху, снизу. Сиськи и задницы, сэр. Сиськи, задницы, сиськизадницысиськи, сиськизадницысиськизадницысиськи. Всего лишь загляните. Послушайте, семь тысяч иен. Слушайте, можно за три тысячи иен полчаса. Просто зайдите и посмотрите.
Полиция была бы не против арестовать и депортировать этих людей, но почти у всех чернокожих имеются жены-японки. Иногда браки фиктивные, продлеваемые каждый год за определенную сумму наличных. Однако они дают мужьям право жить и свободно работать в Японии на любом поприще, какое они себе изберут. И тут полиция ничего поделать не может.
Вторую заметную группу местных обитателей обожает большинство мужчин, проводящих ночи в Роппонги, – это девушки Роппонги, те самые японки, которым нравятся иностранцы. Периодически их откровенные наряды и раскрепощенность вызывают осуждение японской прессы; их внешний вид меняется с каждой новой волной уличной токийской моды. В начале 1990-х танцевальный клуб «Джулианаз Токио», который давно уже закрылся, породил новый стиль, известный под названием «боди-кон»: тесная, практически ничего не скрывающая и подчеркивающая все изгибы тела одежда, которая встречалась на самых известных танцполах. К тому времени, когда в Токио приехали Люси и Луиза, «боди-кон» уступил место радикальному образу «гангуро»: ярко-оранжевый искусственный загар, пепельные волосы, белые тени и губная помада. По четвергам, пятницам и субботам такие девушки, похожие на галлюцинацию или пугало ярких люминесцентных цветов, парами разгуливали по Роппонги, покачиваясь в сапогах на платформе высотой с ходули. Они приезжали из пригородов и дальних префектур, проводя вечер, а потом и всю ночь в клубах и барах «Мотаун», «Гэспаник» и «Лексингтон-Куин». На рассвете по пятницам, субботам и воскресеньям чуть менее плотный поток гангуро, которым не повезло, печально возвращался домой в провинцию на первом пригородном поезде.
И наконец, среди уличных масс Роппонги выделялась третья группа: молодые девушки европейской внешности, которые работали танцовщицами, стриптизершами и хостес. Они появлялись на улицах к середине вечера, одетые в джинсы и футболки, с блестящими после душевой в фитнес-центре волосами. Прежде чем зайти в свой клуб или бар, чтобы переодеться и накраситься, они заправлялись в «Макдоналдсе», «Кей Эф Си» или суши-ресторане на углу. От туристок они отличались целенаправленностью движения, и, несмотря на самое разнообразное происхождение – а приезжали они из Австралии, Новой Зеландии, Франции, Британии, Украины, – у них было что-то общее, не считая молодости и красоты: трудноуловимое выражение рта или манера держаться, выражающие презрение, раздражение и даже неприязнь. В отличие от дружелюбных японок Роппонги, европейки казались неприступными. Их ряды и пополнили Люси и Луиза.
У Луизы действительно была японская тетя, жена младшего брата ее матери. Но Масако жила в Южном Лондоне, а не в Токио. Рассказы о том, что она приютит девушек в Японии, были выдумкой, чтобы успокоить Джейн Блэкман. У сестры Луизы, Эммы, все еще оставались друзья в Токио, и через одну из ее подруг, шотландку по имени Кристабель, девушки забронировали ту самую комнату в Сасаки-хаус. Путешествие на поезде из аэропорта оказалось трудным и утомительным, приходилось постоянно делать пересадки и идти по крутым лестницам. Тяжелые чемоданы оттягивали руку, высокие каблуки превращали ходьбу в мучение, и девушки раскраснелись и взмокли от пота, когда вытаскивали свои вещи из ужасающе дорогого такси, которое довезло их до конечной остановки – их нового дома.
Подруги думали, что поселятся в обычном хостеле с чистым хрустящим бельем и услужливой девушкой-администратором. Вместо этого их ждало жилье особой японской категории, известной как «дом гайдзинов»: гостевой дом с отдельными комнатами, которые снимали приезжающие ненадолго в Токио бюджетные визитеры – учителя английского, уличные продавцы и те, кто работал по ночам. Снаружи под окнами теснились велосипеды и горшки с засохшими цветами; в корзинке для кошки сидели огромные черные вороны, а над головой висели провода.
– Отвратительное место, – вспоминала Луиза. – Мы были просто в шоке. Мы заглянули в гостиную, там на диване неподвижно сидели два человека. А в комнате мы нашли Кристу, которая делала себе прическу. Она намазывала волосы толстым слоем липкого масла, похожего на жир. Все постояльцы курили марихуану, и в комнате ужасно воняло. Сквозь дым почти ничего не было видно.
Занавески на окне крошечной комнатки отсутствовали, и Люси и Луизе пришлось завесить его саронгами, чтобы спрятаться от утреннего солнца. Впрочем, не сказать, что там было так уж светло; единственное, что виднелось из окна, – бетонная стена соседнего дома. На дешевых матрасах не было простыней, зеркало треснуло, а напольный унитаз в ванной просто не поддавался описанию. На превращение «помойки» в пригодное для жизни место с помощью постеров, открыток, свечей, занавесок, ушла вся первая неделя жизни девушек в Токио. В более убогом месте им еще не приходилось жить.
Большую часть следующего дня они проспали, сраженные жарой и сменой часовых поясов. А вечером в пятницу поехали в Роппонги на арендованных велосипедах, почти не сомневаясь, что найдут работу. Криста, которая сама работала хостес, дала им названия нескольких клубов, но подруги никак не могли их найти. Тут к ним подошел симпатичный молодой японец и спросил, может ли он им помочь.
– Вы ищете работу? – уточнил он.
Не интересует ли их профессия хостес? Если они пойдут с ним, пообещал японец, он познакомит их с нужными людьми.
Люси и Луиза с опаской пошли за новым знакомым по Аутэмоут-Ист-авеню и завернули в одно из зданий с неоновыми вывесками. В первом клубе вакансий не оказалось, но во втором подруг встретили радушно. Молодой провожатый явно хорошо знал менеджера, хмурого мужчину по имени мистер Ниши. Управляющий оглядел девушек с ног до головы, задал несколько элементарных вопросов – возраст, национальность, где остановились, – и тут же предложил им работу. Через несколько дней после приезда в Японию Люси и Луиза уже трудились в качестве хостес в маленьком ночном клубе Роппонги под названием «Касабланка».
«Гейша! (шутка)»
Если не знать, что именно ищешь, то можно тысячу раз пройти мимо и даже не заметить клуб «Касабланка». Он расположился в коричневом неприметном здании. С улицы единственным признаком его существования служила длинная вертикальная вывеска, где встречались и более экзотичные и интригующие названия: «Раки-раки», «Гей артс стейдж» и «Севенс хэвен» – один из самых больших стрип-клубов, пылающий неон которого выделялся среди прочих на фасаде. Заведение «Касабланка» находилось на шестом этаже. Лифт поднимал гостей к массивной, обитой кожей двери с медной дощечкой с названием клуба.
За дверью открывалась тускло освещенная комната примерно 6 на 18 метров. Слева за невысокой барной стойкой поблескивали ряды бутылок. Справа на возвышении стояли синтезатор и экран с колонками для караоке. Вдоль стен располагались бледно-голубого цвета диваны с креслами и двенадцать низких столиков. На стенах с трудом угадывались фотографии и картины в рамах.
Мужчина азиатской внешности и неопределенного возраста усаживал клиента за один из столиков, на котором стоял замысловатый стеклянный сифон с водой. Приносили ведерко со льдом, пару металлических щипцов и широкий графин с виски – приспособления и ингредиенты для приготовления мидзувари, смеси виски с водой, традиционного напитка «белых воротничков». Несмотря на признаки роскоши – кожаная дверь, официанты и бармен в черных галстуках-бабочках, – настоящим шиком здесь и не пахло. Виски в графине был дешевым и отвратным, синтезатор – примитивным и работающим через раз, сифон, которым владельцы силились впечатлить гостей, с трудом выдавливал каплю воды. Клуб пытался создать обстановку томной роскоши, однако выглядел скорее простецким, чем изысканным, с унылой претенциозностью лаунжа второго класса на недорогом круизном лайнере, убыточного казино в Лас-Вегасе или английского сельского клуба 1970-х. Казалось, вот-вот появится официант с блюдом кубиков ананаса и чеддера, проткнутых шпажками.
Но заведение находилось в Японии, и для местных обладало магической привлекательностью. А причина этой привлекательности размещалась за двумя столиками у бара: иностранные хостес, причем большинство, хоть и не все, европейской внешности.
– Место было довольно мрачное и вызывало странные чувства, – рассказывал Хадзимэ Имура[10], издатель, который пару раз заходил в «Касабланку», когда там работала Люси. – Там царила атмосфера тайны и недосказанности. Зал темный, в черных и синих тонах, темные столы со стульями. Слишком горластый певец с Филиппин. Хозяин среднего возраста, несколько официанток, возможно, филиппинок или азиаток. Около десяти девушек-хостес разного цвета кожи – европейки, израильтянки или вроде того.
Когда клиент принимал свою дозу мидзувари, менеджер подавал сигнал сотрудницам-иностранкам за столиком. Две из них поднимались и подходили к клиенту, и начиналось обслуживание.
Что именно подразумевала должность хостес? Для западных ушей определение звучит неестественно и почти неприлично, едва ли лучше «эскорта», – оно наводит на мысли о дешевых духах и грязных подвалах в Сохо или на Таймс-сквер.
– Мы просто в осадок выпали, когда услышали, – призналась Сэм Берман, которой Люси позвонила через несколько дней после прилета в Токио. – Что значит «хостес»? Мне показалось, Люси немного нервничала во время нашего разговора. Думаю, ей было неловко, потому что раньше она говорила нам одно, а на деле оказалось совсем другое, и мы забеспокоились. А она меньше всего хотела тревожить родных.
Софи полагала, что в обязанности сестры входило «улыбаться гостям и смеяться над их глупыми шутками. Никаких: „Покажи сиськи“ и „Сколько берешь за час?“. Это совсем другое». Впоследствии, когда вопрос о сути профессии хостес стали обсуждать в британских бульварных газетах, Софи придумала объяснение для скептически настроенных журналистов: «Единственное отличие между обслуживанием в „Бритиш эйруэйз“ и в „Касабланке“ – это высота».
Месяцы спустя Тим Блэкман получил длинное душевное письмо от одного милого пожилого джентльмена по имени Ихиро Ватанабэ[11], постоянного клиента «Касабланки». Он выражал свою обеспокоенность исчезновением Люси и пояснял: «Этот клуб совсем не такой, каким его описывает недобросовестная пресса, которая питается вульгарными сплетнями и опирается только на беспочвенные домыслы. Работа вашей дочери заключалась лишь в том, чтобы зажечь клиенту сигарету, смешать для него виски с водой, спеть вместе в караоке и поддерживать беседу. Вот и все и ничего больше, именно так, как она говорила матери: „Что-то вроде официантки“. – И дальше японец добавлял аккуратным почерком: – Я пишу не для того, чтобы самому покрасоваться, я действительно хочу защитить честь вашей дочери!»
И Ватанабэ в общем и целом говорил правду.
Клуб открывался в девять. Перед открытием в узкой раздевалке красились, снимали джинсы и футболки и переодевались в платья по двенадцать, а то и по пятнадцать девушек. Они приезжали со всех уголков мира, хотя летом 2000 года преобладали британки: Люси с Луизой и Мэнди из Ланкашира с Хелен из Лондона, а также Саманта из Австралии, Ханна из Швеции, американка Шэннон и румынка Оливия. В клубе работали трое мужчин: Тэцуо Ниши, менеджер, пятидесятилетний мужчина с оспинами на лице, Кац, японец-бармен, и филиппинский певец, чье имя никто не мог вспомнить. Кац и Ниши решали, каких девушек отправить к клиенту, стратегически распределяя хостес между столиками. Они же кратко инструктировали их насчет обязанностей. В основном речь шла о запретах: не допускать, чтобы клиент сам наливал себе виски или прикуривал сигарету. А главная задача сводилась к беседам.
Однако все было не так просто, как кажется. Мало кто из хостес мог сказать по-японски что-нибудь кроме «да, спасибо» и «простите», и, хотя не говорящий по-английски клиент вряд ли зачастил бы в «Касабланку», уровень языка у гостей был очень разным. Для кого-то несколько часов с хостес-иностранкой служили чем-то вроде урока английского. Некоторые даже делали заметки, и о непринужденной беседе, какую обычно завязывают с незнакомым человеком, не шло и речи. Но спорить с клиентом, возражать ему или оставлять его одного не дозволялось. Журналистка Мо Хайдер, тоже подвизавшаяся хостес, сравнивала работу с тем, когда «приходится любезничать с коллегой, который тебе не очень-то интересен. Я спрашивала, где они работают, что делают в Токио. Я льстила им, мол: „Какой у вас красивый галстук“. И многие галстуки мне действительно очень нравились!»
– Просто несешь всякую чушь, – объясняла Хелен Дав[12], которая работала в «Касабланке» одновременно с Люси и Луизой. – «Как прошел ваш день?» Или стараешься наговорить комплиментов: «Вы такой симпатичный мужчина, спойте мне что-нибудь». Они говорят, какая ты красивая. Ты рассказываешь об Англии, он – о командировке в Лондон. Через несколько недель я все это возненавидела. Невероятно скучно и утомительно. Одни и те же разговоры каждый вечер, глупые разговоры с людьми, на которых тебе плевать. Некоторые девушки отлично справлялись и держались дружелюбно. Мне же было очень трудно поддерживать беседу. Чистой воды надувательство. И не важно, что я не умела петь, потому что караоке стояло повсюду и неизбежно приходилось петь дуэтом.
Конечно, не обходилось и без откровенного разврата.
– Думаю, многие говорили о сексе, – признавала Хелен. – Я изо всех сил старалась избегать этой темы.
Впрочем, за четыре недели ее работы в «Касабланке» единственным, с кем она действительно опасалась встречаться, был мужчина, помешанный на Одри Хэпберн.
– Он искал похожих на нее брюнеток – белокожих и с большими глазами, – объясняла Хелен. – Одна девушка ушла с работы через две недели, потому что он вел себя очень мерзко. Постоянно напоминал: «Теперь ты моя!» и «Я заплатил за тебя, теперь ты принадлежишь мне!» и лез обниматься. Она уволилась, и тогда он переметнулся ко мне. Но я сопротивлялась, не позволяла ему дотрагиваться до себя.
Еще хуже подонков были зануды. Девушкам-хостес приходилось вести настолько нелепые и бессмысленные разговоры, что сторонний наблюдатель не удержался бы от смеха. Хадзимэ Имура, издатель, вспоминал, как пытался развлечь Люси историями о своих подвигах на рыбалке, когда ловил кальмаров.
– Я тогда поймал очень много кальмаров и рассказал ей об этом, – поведал он мне. – И больше я о ней не слышал.
Один клиент подробно обсуждал с Люси, как работают вулканы. Лекция закончилась созданием модели кратера активного вулкана из того, что нашлось на столе: ведро со льдом стало горой, вода в кувшине – лавой, а сигарета – источником дыма.
Пожилой мистер Ватанабэ без труда находил темы для разговоров, о чем и сообщил в своем письме к Тиму Блэкману. Он нравился всем девушкам в «Касабланке» благодаря возрасту, необыкновенной вежливости и частым посещениям. Они прозвали его «фотографом» за привычку делать бесчисленные фотоснимки, а потом приносить в клуб распечатанные кадры, аккуратно разложенные по альбомам, и показывать их девушкам. Люси оправдала его старания.
– Мы вели интересную и содержательную беседу, которая длились три часа, – вспоминал он об одном вечере с ней. – Мы говорили об истории Англии, литературе, искусстве, писателях, художниках, взаимоотношениях Британии с Японией с незапамятных времен, сходстве и различиях нравов и менталитета обеих национальностей, об английском чувстве юмора, которое я очень ценю, и так далее.
Как повлиял столь взвешенный и серьезный разговор на простую двадцатиоднолетнюю девушку-хостес, можно только догадываться.
Так или иначе, вечера в «Касабланке», пусть скучные и порой нелепые, каким-то образом успокаивали. В тусклом голубом коконе, под присмотром Каца и вечно хмурого Ниши, девушки, которые там работали, чувствовали себя в безопасности.
В Японии, где все всегда на своих местах, хостес-клубы тоже вписаны в определенную структуру. Весь спектр ночных заведений, которые можно найти в Роппонги, – дешевых и дорогих, честных и скандальных – объединялся под красивым и загадочным термином «мидзу сёбай», что буквально означает «торговля водой». Шла ли речь о выпивке, служившей неотъемлемым атрибутом ночной жизни? Или о мимолетных удовольствиях, утекающих, как вода в ручье? Помимо того, образ воды наводит на мысли о сексе, родах, утоплении. С одной стороны, термин «мидзу сёбай» подразумевал общество гейш – женщин, которые с исключительным мастерством и изяществом развлекают гостей и которых можно найти только в самых старомодных кварталах Киото и Токио. С другой – жестокие садомазохистские клубы, где за деньги можно опуститься на самое дно. Между этими крайними точками простиралось целое море заведений – убогих и элегантных, дешевых и дорогих, общедоступных и эксклюзивных.
Некоторые японцы включат в понятие «мидзу сёбай» и обычные бары, пабы и караоке-кафе, но в большинстве случаев подразумевается присутствие красивых женщин для развлечения мужчин, по крайней мере в теории. В роли хостес может выступать и обычная «мама-сан» из крошечной закусочной по соседству (по-японски – сунакку) – стойка с четырьмя стульями, обслуживаемая хозяйкой-барменшей средних лет, чье искусство соблазнения давно сошло на нет. В некоторых сунакку работают официантки-хостес помоложе, которые болтают с клиентами и разливают напитки по указанию мамы-сан. Более качественный сервис можно получить в хостес-барах и клубах крупных городов, где беседы с женщинами и караоке предоставляются за деньги, наряду с выпивкой и закусками. В «клубах для джентльменов» женщины подсаживаются за столик, а также раздеваются догола во время публичного стриптиза или наедине с клиентом в ходе приватных танцев в отдельной кабинке. Танцовщица изгибается и скачет верхом на клиенте, которому разрешено трогать ее грудь, а в некоторых заведениях можно зайти и дальше. Так что барменша может стать хостес, хостес – стриптизершей, а стриптиз превращается в проституцию.
Ни одна нация не сравнится с японцами в умении маскировать платный секс за другими услугами в обход и без того уклончивых и не действующих на практике законов против проституции. Единственное, что строго воспрещается, – взимание платы за традиционный секс мужчины с женщиной. Минет и мастурбация во всех вариациях разрешены, но отследить, каким образом достигнут оргазм, – посредством рук, что законно, или вагинально, что незаконно, – все равно невозможно. Помимо того, чтобы скрыть очевидное, компании дают своим многочисленным секс-услугам такие запутанные названия и так быстро их меняют, что даже специалист не разберется.
В Роппонги есть «массажные» салоны, где небрежное растирание тела – лишь прелюдия к доведению прикосновениями до оргазма. Есть места «фасшон херусу» («модное здоровье»), которые предлагают широкий спектр услуг – за исключением традиционного секса. Например, «сопу рандо» («мыльная страна» – когда работницы моют клиента, используя вместо губки собственное тело), или «дэри-херу» («доставка здоровья») – сексуальные услуги на дому или в отеле клиента; «эсс-тэй» (название происходит от английского выражения «эстетический салон») – сексуальный массаж, подразделяемый на разные категории; «Корейский эстетический салон» (массаж и ласки руками) и «Эстетический салон по-корейски» (то же самое, но массажистка будет обнаженной). Существуют и прочие изощрения, похожие друг на друга: «Китайские эстетические салоны», «Тайваньские эстетические салоны», «Сингапурские эстетические салоны», «секси-паб», «паб неглиже», «паб для вуайеристов», «кабаре на ощупь» и «массаж по-корейски в исполнении японской домохозяйки». В «кофешопах без трусов» почти голые официантки помогут достичь оргазма за определенный размер чаевых. В «кофешопе без трусов с караоке» обнаженные женщины поют дуэтом с клиентом до, после или во время достижения оргазма. В «шабу-шабу без трусов» вместо кофе подается горячий горшочек шабу-шабу.
Чем дороже, эксклюзивнее и респектабельнее заведение «мидзу сёбай», тем больше вероятность встретить среди обслуги японок. В самых захудалых местах в основном работают тайки, филиппинки, девушки из Китая и Кореи. «Западные женщины», то есть европейки, русские, американки и австралийки, обычно попадаются в середине спектра от хостес до стриптизерш – в той зоне, где разговаривают и смотрят, но не трогают. Я упомянул спектр, однако будет правильнее говорить об оттенках серого, а не каких-нибудь ярких цветов.
В Японии практика платы за женское общество имеет долгую и благородную историю. Первые упоминания о гейшах – прекрасно обученных женщинах, которые развлекали мужчин, умели хорошо танцевать, играть на музыкальных инструментах, носить традиционный костюм и макияж, вести беседу, – датируются восемнадцатым веком. Прекрасные манеры и благопристойность отличали их от «ойран», или куртизанок, и обычных проституток, которые часто трудились при гостиницах и чайных домах. В 1920-х годах пошла мода на все западное, именно тогда и появились первые хостес – платные партнерши для танцев в популярных дэнс-холлах и «девушки из кафе», чье общество и кое-что еще можно было купить наряду с чашкой кофе. В тот же период недолго, в качестве эксперимента, существовали своего рода светские гейши, которые вместо кимоно носили платья-чарльстон[13] и играли не на сямисэне, а на пианино и гитаре.
«До сих пор расходятся мнения о том, являются ли современные девушки, развлекающие публику в ночном клубе или баре, такими же образованными, как гейши в старину. И тем не менее гейша постепенно им уступает», – писал великий американский историк Токио Эдвард Сейденстикер.
Самыми первыми иностранными участницами «торговли водой» были проститутки из Кореи и Китая, жительницы колоний довоенной Японской империи. В 1945 году во время семилетней оккупации Японии США прибыло и людей с Запада, но они были скорее покупателями, чем продавцами. Тогда же Роппонги и превратился в место развлечений. Название переводится как «шесть деревьев». До войны здесь был ничем не примечательный жилой район, в котором располагались казармы Императорской армии Японии. После капитуляции помещения казарм заняли американские военные. Вокруг них появились маленькие бары с названиями наподобие «Силк хэд», «Грин спот» и «Черри», обслуживающие солдат не при исполнении. Как раз в тот период сложился необычный девиз Роппонги. Местные заметили, что американские рядовые здороваются, хлопая друг друга по ладони высоко над головой. Возможно, как-то поздней ночью любопытный бармен-японец поинтересовался странным обычаем у своих клиентов, и они на пьяную голову долго пытались объяснить ему теорию и практику фразы «High five» – «Дай пять». Фразу коряво транслитерировали на японский и получилось «Хай таччи», или «Хай-тач»; отсюда и девиз под автострадой в Роппонги: «Хай-тач-таун»[14].
В 1956 году в Роппонги открылся первый в Токио итальянский ресторан, положивший начало повальному увлечению экзотикой вроде пиццы и кьянти. Через два года на юге Роппонги открылась Токио-Тауэр, огромная красная телебашня, похожая на Эйфелеву. Неподалеку построила штаб-квартиру частная телекомпания «Ти Ви-Асахи», а в 1964 году в Роппонги появилась станция метро. Это был год Олимпийских игр в Токио, символизирующих переход страны из послевоенной нищеты к богатству и международному влиянию. К тому времени в городе уже функционировало множество хостес-баров, правда, с японским персоналом. В 1969 году, знаменуя рост финансового благополучия, в Роппонги открылся «Казанова» – первый токийский хостес-клуб с иностранками.
Японцев, которые были готовы платить за общение с хостес, всегда хватало. Обычно раскошеливалась компания: клубы считались вполне приличным местом, где подписывали договоры, отмечали успешные переговоры и награждали сотрудников за старания и труд. Открытие «Казановы» знаменовало собой появление новых клиентов «мидзу сёбай» – «белых воротничков» с иностранными партнерами, приличными доходами, высоким уровнем образования и достаточным знанием языка, чтобы общаться с иностранными хостес на английском.
«Казанова» считался невероятно дорогим местом, однако за дальнейшие тридцать лет за ним последовало множество более дешевых «кимпатсу» – «клубов с блондинками». Час в «Казанове» стоил 60 тысяч иен, а в заведении «Кай», открывшемся в 1992 году, и его преемнике «Кадо» – около 10 тысяч иен. Первые клубы нанимали девушек-туристок прямо с улицы. Вскоре владельцы баров стали размещать объявления в иностранных газетах и журналах и даже посылать агентов за границу, чтобы нанимать и импортировать подходящих молодых женщин. Но все же в Роппонги хостес-клубов с иностранными работницами, не считая стриптиз-бары, было не так уж много. При Люси в список входили «Казанова», «Кадо», «Винсент», «Джей коллекшн», «Уан айд Джек» (самый большой из всех, дочернее заведение «клуба для джентльменов» «Севенс хэвен») и «Касабланка».
Энни Эллисон в 2000 году преподавала культурную антропологию в университете Дьюка в Северной Каролине, где работал и Роберт О. Кеохейн[15]. В 1981 году, будучи аспиранткой, она четыре месяца прослужила в японском хостес-клубе в Роппонги, где оказалась единственной иностранкой. Исследование, проведенное там, стало основой ее докторской диссертации, позднее опубликованной без сокращений отдельной книгой «Ночная работа: сексуальность, удовольствие и корпоративная маскулинность в токийском хостес-клубе». Большая часть текста представляла собой тщательно аргументированную и основанную на теории научную работу, насыщенную фразами вроде «фаллическое самовосприятие» и толкованиями японских понятий, например «дзи-кокендзиёку» («желание показать себя и заслужить одобрение»). Однако там встречались и весьма комические моменты, такие как описание встречи невозмутимого и доброжелательного культурного антрополога-аналитика с невротически подавленными завсегдатаями «Плавучего мира».
«Я сидела за столиком с четырьмя мужчинами, всем было около сорока, – пишет профессор Эллисон в „Ночной жизни“. – Они спокойно и взвешенно рассуждали об отношениях между Соединенными Штатами и Японией, об университетах, путешествиях и так далее. В какой-то момент подошла мама-сан. Она спросила, как у них дела, и сказала одному из клиентов, что с каждым визитом в клуб он выглядит все привлекательнее. Хозяйка доверительно улыбнулась, пожелала приятно вечера и направилась к другому столику.
Один из мужчин заговорил о пении под караоке в клубах и признался, что это отнюдь не удовольствие, а скорее обязанность. „Это неизбежно (шо-га-най)“, – заявил он. Кто-то спросил, какой у меня рост, и мужчины по очереди стали хвастать, какие большие у них пенисы. Один уверял, что его орган длиной 50 сантиметров. Другой развел руки сантиметров на 60. Еще один сообщил, что у него такой большой, что он мог бы прыгать через него, как через скакалку, поэтому ходить с ним очень неудобно.
Потом подозвали другую девушку-хостес, а меня пригласили к следующему столику».
Профессор Эллисон описывает динамику появления в клубе новой группы «белых воротничков», как другой антрополог описывал бы обряд инициации в Микронезии. Вначале напряженная тишина, пока коллеги – начальство и подчиненные, молодые и средних лет, – рассаживаются в предвкушении ночи гарантированного «веселья». Затем облегчение, когда подают пиво и мидзувари, и тенденция к нетрезвому поведению еще до того, как осушен первый бокал. Наконец, сигнал, что вечер по-настоящему начался: навязчивое упоминание груди одной из присутствующих хостес под громкий хохот, а также, как выразилась профессор, «тычки» – легкие шлепки по груди под довольное фырканье других клиентов.
«Разговоры о груди стали сигналом о том, что настала пора поиграть, – пишет профессор Эллисон. – Замечания насчет груди неизменно вызывали одну и ту же реакцию: удивление, веселье и облегчение».
Впрочем, антрополог утверждает, что в целом атмосфера клуба не отличалась особенной грубостью. «Когда мы начинали, нас учили трем вещам, – писала она позднее в очерке. – Как зажигать сигареты клиенту, как разливать напитки и не класть локти на стол. Нам также советовали не есть в присутствии гостя – это признак неуважения. Не считая этих правил, работа заключалась в исполнении желаний клиента. Если ему нужна вульгарная девушка, будь вульгарной. Если интеллигентная – будь интеллигентной. Если он хочет пошлятины, он ее получит. Мерзко? Да. Унизительно? Да. Работа отличалась от торговли „белыми рабами“ только в одном: к сексу никого не принуждали».
Общественные таксофонные будки в Токио обклеены рекламными листовками, предлагающими обычных проституток. Услуги хостес-клубов специфичнее и дороже. Вопреки ожиданиям, чем дороже и элитнее клуб, тем меньше разрешается трогать и хватать.
«Некоторые заведения „мидзу сёбай“ допускают мастурбацию мужчины для достижения эякуляции, – продолжает профессор Эллисон. – В хостес-клубах, напротив, оргазм происходит исключительно за счет собственной фантазии.
Японский секс, как и японское общество, упорядочен и организован. Мужчины здесь предпочитают заранее точно знать, чего от них ждут и как они должны себя вести. И они в курсе: единственное, что предлагается в хостес-клубах, – это возбуждение… Мама-сан, владелица и управляющая моим клубом, очень четко давала понять: прикосновения клиента время от времени допустимы, а вот секс – грубое нарушение. Однако большинство клиентов – по крайней мере японцев – и не ждали секса. Они были настроены на флирт и лесть, и они их получали.
На таких условиях можно со многим мириться. Некоторые разговоры были оскорбительными, некоторые нет, но главное – продолжать беседу. Сегодня вечером ты можешь обсуждать Чайковского с очаровательным и вежливым джентльменом, а назавтра тот же человек поинтересуется, сколько раз за ночь ты кончаешь и когда потеряла девственность, или сравнит твою грудь с бюстом двух других девушек за столиком. Работа хостес – улыбаться и притворяться, что считаешь клиента веселым. Убедить его, что он самый чудесный, самый важный человек в мире, что ты мечтаешь с ним переспать. Японцу хочется верить, что высокая красивая женщина с европейской внешностью без ума от него, что она находит его удивительным и сегодня же станет его любовницей. Клиентам нравилось говорить о сексе, причем иногда разговоры становились совершенно недвусмысленными и перерастали в предложения, но к концу вечера вы просто расходились в разные стороны. Ни удивления, ни разочарования – потому что никто ничего и не ждал.
Ты говоришь ему, что мечтаешь стать его любовницей. Он приглашает тебя к себе. Ты уверяешь, что ты бы с радостью, вот только к тебе приехала сестра и надо показать ей достопримечательности. Именно такого ответа и ждет клиент. Возможно, он даже не на шутку испугается, если ответить по-другому.
Единственными людьми, кто нарушал правила, были иностранцы, мужчины с Запада, не способные понять тягу японцев к ритуалам и ролевым играм. Помню, как взбесился один француз, когда девушка-хостес отказалась идти с ним в отель. „Почему, черт ее дери, она весь вечер ко мне липла, если теперь не хочет со мной спать?“ – взорвался он».
Основная идея книги «Ночная работа» заключается в том, что профессия хостес – это труд, а не секс. Поощряя, а то и оплачивая развлечения офисных работников и деловых партнеров с девушками-хостес (а не дома с женой и детьми), японские корпорации помогают сотрудникам снять стресс и избавиться от хандры, что идет на благо руководства, поскольку помогает наладить отношения с коллегами и клиентами. Хостес-клуб является и отдыхом, и работой. Расписывая как служебные, так и внеслужебные часы сотрудника, компания призывает в первую очередь выказывать преданность работе, а не семье. «В начале вечера клерки выглядят уставшими, им меньше всего хочется напрягать мозги, чтобы развлечь партнера по бизнесу или женщину, – пишет профессор Эллисон. – Хостес решает эту проблему. Она обихаживает клиента, льстит тому, кто платит, и делает его в глазах других важным и влиятельным человеком… Если бы тот же самый клерк пришел на дискотеку, вряд ли ему удалось бы закадрить женщину, и он вернулся бы домой расстроенный и униженный. Хостес-клубы исключают подобный провал».
Как западные женщины вписываются в столь непривычную схему? Правда, по словам профессора, заключается в том, что для клиента они представляют собой экзотическую новинку.
«В своих фантазиях японские мужчины непременно хотят переспать с женщиной европейской внешности, однако их пугает таковая в качестве настоящей жены или любовницы, – пишет Энни Эллисон. – Вероятно, мы их интригуем, к тому же водить знакомство с западными женщинами весьма престижно. Но японцам известно, что у нас на все есть собственное мнение, мы не приучены подчиняться и прислуживать». Отсюда, по согласию всех сторон, и рождается фантазия, которая живет лишь один вечер и только в клубе. К тому же само заведение действует под внимательным присмотром менеджера, официантов или мамы-сан. «Не могу сказать, что мне очень нравилось быть хостес, – пишет профессор Эллисон. – Работа тяжелая и по большей части унизительная. Надо сидеть и вежливо улыбаться, в то время как мужчина спрашивает, пукаешь ли ты, когда писаешь. И даже когда он повторяет это в десятый раз, по-прежнему надо улыбаться. Не очень-то приятно. Но мне ни разу не было страшно, меня не оскорбляли, и с любой ситуацией я могла справиться. А если бы я оказалась в беде, ко мне на помощь пришла бы мама-сан. В Токио, даже в квартале Красных фонарей, я чувствовала себя куда спокойнее, чем в Нью-Йорке».
Если бы работа хостес действительно ограничивалась пространством клуба, Люси Блэкман была бы жива. Но все устроено намного сложнее. Как только девушка вступает на стезю «мидзу сёбай», она становится объектом давления и соблазнов, которые помимо ее воли отбрасывают тень на ее жизнь в Японии.
Хостес тесно связаны с тем, что по-японски называется «шисутему» («система»), – назначаемым в каждом клубе размером оплаты для клиентов и денежного поощрения для сотрудниц. В «Касабланке» клиент платил 11 700 иен в час (на тот момент – около 73 фунтов), куда входили пиво или мидзувари в неограниченном объеме и общество одной или более девушек. Кроме того, новой хостес, такой как Люси, доплачивали 2000 иен (около 12,5 фунтов) в час. За пять часов работы за вечер хостес зарабатывала 10 000 иен, при шестидевной неделе выходило около 250 000 иен в месяц (1600 фунтов). Но зарплата служила лишь частью распределения навязываемых бонусов, которые составляли ядро «системы».
Клиент мог «заказать» девушку, которая понравилась ему в предыдущий раз. За это он платил дополнительные деньги, а хостес получала 4000 иен в качестве бонуса за развитие бизнеса. Если гость брал в баре шампанское или «именную выпивку» – личную бутылку дорогого виски или бренди, которую хранили исключительно для него, – присутствующие хостес делили вознаграждение между собой. Девушек поощряли ходить на доханы – свидания. Хостес ужинали с японцами, которым понравились, а затем снова приводили их в клуб. Мужчина получал удовольствие от вечера в приятном месте с привлекательной молодой женщиной, хостес доставались освобождение от работы и бесплатный ужин, а клубу – дополнительный клиент.
Доханы считались обязательными. В некоторых заведениях двенадцать доханов в месяц приносили бонус в размере 100 000 иен, то есть больше 600 фунтов. В большинстве клубов, включая «Касабланку», любую девушку, у которой насчитывалось меньше пяти доханов в месяц и пятнадцати личных «заказов», попросту увольняли. Приглашение на дохан для многих хостес становилось навязчивой идеей и источником мучений. Девушки не только соглашались поужинать с мужчиной, который им не нравился; когда месяц подходил к концу, показавшая плохие результаты хостес шла на дохан с кем угодно. Чтобы добрать норму, хостес даже нанимали знакомых мужчин, а иногда перед угрозой неминуемого увольнения сами платили за дохан.
– В раздевалке у туалета висел график с именами всех девушек и количеством «заказов» и доханов за текущий месяц, – рассказывала Хелен Дав. – И если напротив имени стоял ноль, работницу активно стыдили. У меня дела шли не очень, я вечно оказывалась почти в самом низу списка. А потом мне стало наплевать. Энтузиазм совсем угас, и я с большим удовольствием болтала с другими девчонками. Всё лучше, чем притворяться, будто мне нравятся японцы. У меня набрались только один-два дохана и несколько «заказов». Под конец я даже попросила своего арендодателя притвориться моим доханом.
Хелен уволили за неделю до исчезновения Люси.
В атмосфере соревновательности в «Касабланке» девушки и дружили, и соперничали. Но Люси и Луиза ладили почти со всеми.
– Они были очень близкими подругами. Всё делали вместе, – вспоминала Хелен Дав. – Вместе жили, вместе ездили на работу на велосипедах, даже развлекались вместе. У них сохранялись прекрасные отношения. Мне они казались… не знаю, наивными и очень молоденькими, немножко глупыми, немножко изнеженными. Они обычно целовались при встрече, даже если провели порознь всего несколько часов. Так мило. Как и многих других, Хелен поражало внимание, которое Люси уделяла волосам, одежде и макияжу.
– Я бы не назвала ее сногсшибательной, но жизнерадостная натура делала ее привлекательной, – рассказывала девушка. – По-моему, неуверенностью в себе она не страдала. Прелестные волосы, прелестный характер, симпатичная, высокая.
Клиентам она тоже нравилась.
– Она отличалась от канадок или американок с их широкими улыбками, чересчур ярких и шумных, – признавался мистер Имура, издатель и любитель ловли кальмаров. – Во время разговора никогда не доходила до крайностей.
Люси сразу же произвела впечатление и на мистера Ватанабэ, «фотографа»:
– С первого взгляда я понял, что она из хорошей семьи. Она выглядела нежной, элегантной, очаровательной и ухоженной… Я увидел в ней хорошо воспитанную, образованную, культурную и чувствительную особу.
«Это, конечно, не работа моей мечты, но дается она легко, – писала Люси по электронной почте Сэм Берман. – Я прекрасно зарабатываю, и отношение к нам совсем не такое, как в Великобритании. Мужчины держатся уважительно. Ясное дело, попадаются и странные клиенты, но пока что я познакомилась с несколькими очень приятными людьми».
«Странным» она, возможно, сочла клиента, который предложил ей 10 000 фунтов за ночь. По той версии, которую Люси рассказала маме и сестре, она отшутилась. Однако Луиза говорила, что подруга пришла в бешенство и попросила менеджера выгнать наглеца.
Хостес должны были брать визитки у мужчин, которых они развлекали, звонить и писать им, чтобы тем захотелось вернуться в клуб. Сохранилось несколько писем Люси. В них она явно нашла верный подход – невинный флирт и уклончивое кокетство.
От:lucie.blackman@hotmaiLcom
Кому: Имура. Хадзимэ
Дата: 21 июня 2000 года, среда, 3:01
Дорогой Хадзимэ!
Я просто решила поздороваться. Это Люси из «Касабланки», девушка из Лондона, с длинными светлыми волосами, с которой Вы так мило беседовали…
Мне было очень приятно познакомиться с Вами той ночью в клубе. Мы и правда интересно поговорили, и я буду рада поужинать с Вами в ближайшее время, как и договорились.
…Я позвоню Вам в среду между 12:00 и 16:00, чтобы запланировать встречу. Может, у Вас найдется время на следующей неделе?
Что ж, мне пора, отправляю письмо. Надеюсь, утром у Вас найдется пара минут в Вашем очень плотном графике, чтобы прочесть мое послание. И я позвоню днем, чтобы наконец поговорить со своим новым милым другом.
Надеюсь, день у Вас пройдет хорошо. У меня точно все будет хорошо, ведь я скоро смогу с Вами пообщаться.
Берегите себя,
Люси х
От: Имура Дадзимэ
Кому: [email protected]
Дата: 21 июня 2000 года, среда, 17:30
Здравствуй!
Спасибо за письмо!
Как дела, Люси, красавица с длинными светлыми волосами?
Мне всегда нравились девушки со светлыми волосами и в коротких юбках.
Надеюсь, у тебя все хорошо.
Какую кухню ты предпочитаешь: французскую, японскую, китайскую или другую?
Выбери что-нибудь, и мы сходим в ресторан поужинать. Как насчет следующего вторника? Ты свободна?
Кстати, ты говоришь на американском английском? Я не очень хорошо говорю на языке Королевы, потому что каждый день ем рис и мисо-суп. Мне кажется, ты понимала далеко не все, что я говорил в тот вечер. Но тебя я понимал. Так что, пожалуйста, шепчи мне на ушко все, что тебе хочется сказать.
В общем, наслаждайся жизнью в Токио…
Хадзимэ Имура
Секрет успеха хостес заключается в том, чтобы обрасти постоянными клиентами, которых привлекает не столько бар, сколько сама девушка. Они поддерживают статистику «заказов», бонусов за выпивку и доханов. Без хотя бы нескольких постоянных клиентов выжить довольно трудно. Но у Люси с самого начала дела пошли отлично.
«У меня есть друг… который уже больше недели приходит каждый вечер, – писала она Сэм Берман. – Это отлично, потому что он очень хорошо говорит по-английски, достойно выглядит и вроде как аристократ, а значит, богач!.. Если мне вдруг будет не хватать „заказов“, он обещал прийти в любое время». «Друга» звали Кендзи Сузуки[16], и он стал самым постоянным из всех постоянных клиентов Люси, ее спасителем в служебных затруднениях, но и эмоциональным бременем.
За сорок, не женатый, в крупных очках в металлической оправе, с выразительными скулами и волнистой челкой, Кен, возможно (а возможно, и нет), был выходцем из старинного рода давно исчезнувших японских аристократов-феодалов, но он, без сомнений, владел изрядным состоянием. На пару со своим пожилым отцом он руководил компанией, занимающейся электроникой, однако к 2000 году у семейного бизнеса начались проблемы. В многочисленных письмах Кена к Люси сквозь показное оживление и веселье проскакивали тревога и одиночество. Он рассказывал о напряженных переговорах с клиентами, об изнурительных командировках в Осаку. Иногда Сузуки оставался в офисе до одиннадцати вечера, а в шесть утра снова возвращался туда на сверхскоростном экспрессе. Выпивка и Люси служили ему моральной поддержкой. «Я не объяснять для тебя трудности и обстановку на работе, – писал он девушке на своем бойком, но не всегда правильном английском. – Представь, это ерунда. Я пил сутки напролет, но я никогда не стал улыбаться, пока не встретил тебя! Ох, вот я бедолага, охохо».
Он познакомился с Люси, когда та работала в «Касабланке» вторую неделю. За исключением дней командировок Кендзи почти каждый день писал ей письма и приходил в клуб. Он увлекся Люси даже не как мужчина, а как ребенок, и его инфантильная жалкая страсть находила отражение в частых визитах. В электронных письмах она раскрывалась в избыточных подробностях.
«Спасибо тебе за терпение прошлой ночью, – писал Кен в первом послании. – Сейчас я могу только сказать, что уверенно буду завидовать твоему будущему бой-френду в безумном Токио».
Назавтра Сузуки извинялся: «Я был слишком пьян вчера и всегда, а я хочу говорить с тобой, когда я трезвый и нормальный. Тебе может стать очень скучно, ха-ха-ха-ха-ха».
Еще через три дня: «Ты мне нравишься, потому что ты настоящая. Я знаю, ты самая ПРРРРРРРРЕЛЕСТНАЯ девушка на свете сейчас… Скоро увидимся! Кеннннниииииииииииииии».
Люси как-то призналась, что скучает в Японии по черным оливкам. На первый дохан Сузуки повел ее в ресторан, где на столике по его просьбе их уже ждала целая чаша черных оливок. Затем Кен заметил, что на часах Люси треснуло стекло; он отремонтировал их, а вдобавок подарил новые часы с песиком Снуппи. «Кении такой милый, – писала Люси Сэм. – На прошлой неделе в пятницу вечером он снова пригласил меня на ужин, заехал за мной на своей маленькой спортивной „альфа-ромео“ черного цвета и повез в красивый ресторан в отеле на двенадцатом этаже с видом на Токио. Там шикарно. А потом он пошел со мной в клуб, и я получила бонус – 4000 иен».
«Завтра мне надо встать очень рано утром для важной встречи, – писал Кен объекту своей страсти 24 мая. – Но я забегу сегодня вечером в „КБ“, чтобы глянуть на твое лицо, хоть и не смогу поболтать».
А меньше чем через два часа: «Полагаю, для тебя еще рано говорить, что ты обещаешь поужинать со мной не только завтра вечером. Возможно, ужин со мной очень скучно и неприятно выдержать. Просто предупреждаю. Ха-ха-ха-ха-ха».
Через неделю: «По правде говоря, ты не оставляешь мои мысли ни на секунду… Конечно, я очень интересуюсь узнать тебя получше. Хотя я чувствую, что очень хорошо тебя знаю. Возможно, ты хочешь узнать меня много-много-много. Как тебе кажется? Как тебе? Верно? Я сильно рекомендую, чтобы ты делала осторожно с этим славным мужчиной. Он милый, умный и сексуальный, ха-ха-ха-ха-ха-ха…»
И 5 июня: «Дорогой мой милый друг Люси, ты спасла меня. Я только что пришел после тяжелых и дерьмовых (ооооой!) переговоров. Хотя сегодня понедельник, я почти чувствую, что сегодня уже четверг. Мой резервуар для шуток (другие люди говорят „мозг“) умирает. Сегодня он как бы очень возбужден, но устал. После обеда я взобрался на вершину Эвереста, а поздно вечером скатился на дно Марианской впадины в Тихом океане, слишком много вверх-вниз задень. Однако прямо сейчас я выплыл на поверхность, потому что твое милое письмо – как спасательный жилет… Прости, пожалуйста, мой письменный английский. Я уверен, что иногда тебе кажется, что ты общаешься с папуасом или семилетним мальчиком».
«Кен очень устал сегодня, поэтому работать было трудно», – записала Люси в своем дневнике. Через несколько дней: «Кен… абсолютно измотан – по-моему, самый худший вечер!» Однако такие отношения ее, видимо, не смущали. Мужчина более чем в два раза старше ее, одинокий, пьющий, без друзей и привязанностей, сходил по ней с ума. В тяжелый для его компании период Сузуки тратил тысячи фунтов, проводя с ней каждый вечер. Вместо того чтобы насторожиться, Люси охотно изображала радостную, трепетную и благодарную возлюбленную. И такое поведение хостес считалось нормальным. Более того: являлось ее обязанностью. Нерешительный, порядочный, потерявший голову и богатый, Кен был идеальным клиентом. Если бы она его не поощряла, лишилась бы работы.
Хостес в Роппонги, менеджеры и официанты баров, даже исследователи вроде той же Энни Эллисон, твердили одно и то же: профессия хостес является игрой по четким и строгим правилам, и все – не только девушки, но и клиенты – инстинктивно понимают, где проходят границы. Но вдруг под влиянием одиночества, алкоголя, любви или одержимости рассудок клиента помутнел? Вдруг одна из сторон забыла о правилах?
«Я не согласен с тем, что я безумный, хотя многие люди так говорят, – писал Люси Кендзи Сузуки. – Ладно. Даже если я безумный, я был совсем не безумный с тобой прошлым вечером и никогда не буду безумный с тобой в ближайшем будущем. Не волнуйся! Наверное, скоро ты сама будешь иногда безумная и злая на меня… Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха».
Токио-город контрастов
«С момента приезда в Токио до покупки дневника столько всего случилось, – писала Люси. – Прошло только 20 дней. Мы поселились в „помойке“, но постепенно превратили ее в свой дом. Мы пережили тотальное голодание и снова набрали лишние килограммы за счет алкоголя. Мы нашли работу хостес в клубе под названием „Касабланка“. За эти двадцать дней мы выпили столько, сколько не пили за всю свою жизнь…
Эти три недели стали безумно тяжелыми и в эмоциональном плане. Токио – город контрастов. Либо паришь воздушным змеем высоко в небе, либо падаешь ниже самого нижнего уровня… сплошные крайности».
Следующая страница дневника полностью исписана гигантскими, наезжающими друг на друга и по-разному раскрашенными буквами в стиле граффити, складывающимися во фразу: «ТОКИО РУЛИТ».
«Касабланка» работал до 2 ночи либо до последних клиентов. Девушки помогали гостям одеться, неверной походкой провожали их до обитой кожей двери и горячо благодарили в ожидании лифта:
– До свидания, Ямада-сан, до свидания, Имото-сан! Пожалуйста, приходите еще! До свидания, скоро увидимся!
После этого работницы вновь исчезали внутри, меняли платья на повседневную одежду и выпархивали во влажную темноту.
И когда иностранки-хостес выходили из клубов, ночь в Роппонги принимала новый оборот. Перед девушками стоял очевидный и неизбежный выбор. Если пойдешь домой, то успеешь выспаться и что-нибудь сделать: прибраться в комнате, сходить в магазин, пообедать с подругой. Если останешься – будешь пить до рассвета.
У иностранных банкиров есть поговорка: «В Роппонги не знают, что такое один бокал». И Люси испытала это на себе.
«Прошлая неделя была легким безумием, – писала она Сэм. – Почему-то я напиваюсь в стельку каждую ночь, начиная со среды. После работы нас много угощают, а поскольку работаем мы минимум до двух, то даже не замечаем, что уже семь утра, а мы все еще кружим по улицам Токио. Здесь такие классные бары, что просто не устоять».
На перекрестке Роппонги находился «Джеронимо» – тесный, шумный бар, украшенный отрезанными концами дорогих шелковых галстуков, которые пьяные банкиры оставляли там в подарок. Табличка в заведении «Кастильо» предупреждала, что иранцам вход воспрещен, а в качестве диджея там выступал знаменитый Аки с непревзойденной коллекцией записей 1980-х. В «Уолл-стрит» на висящим над баром экране показывали курс акций. Самым развратным клубом считался «Гэспаник», теснейшая дыра для любителей выпить и потанцевать. У хостес наибольшей популярностью пользовалось «Токио спорте кафе», принадлежащее тем же владельцам, что и стрип-клубы «Севенс хэвен» и «Прайвит айз», а также соседний хостес-бар «Уан айд Джек». Глубокой ночью девушкам редко приходилось долго дожидаться угощения выпивкой. В «Спорте кафе», как и в клубах, им платили процент от стоимости вина и шампанского, которыми их потчевали друзья мужского пола. Уволенная из «Касабланки» Хелен Дав некоторое время таким образом и зарабатывала себе на жизнь – зависая в «Спорте кафе» и получая каждую ночь по 50 фунтов вознаграждения за напитки, которыми ее угощали.
Люси любила шумные компании по ночам или ранним утром после работы. Но больше всех ими наслаждалась Луиза.
Однажды в субботу Кен Сузуки повел Люси ужинать. После этого она сидела в интернет-кафе и писала письма, а в полночь встретилась с Луизой. В «Джеронимо» оказалось полно знакомых лиц. Девушки пили шоты с чистой текилой. Луиза вскоре дошла до кондиции и завязала разговор с человеком по имени Карл. «Потом мы отправились в „Уолл-стрит“, – писала Люси в дневнике, – где ночь постепенно превратилась в тихий ужас».
Луиза познакомилась с еще одним мужчиной. Люси признала, что он «симпатяжка», но ей новый друг показался опасным. Как написала девушка, он напомнил ей двуличного бывшего бойфренда Марко, который доставил ей столько неприятностей. «Но Лу к тому времени уже слишком напилась, чтобы что-то соображать». Они втроем покинули «Уолл-стрит» и переместились в клуб под названием «Дип-блю», где Луиза решила, что хочет добавить. Люси продолжала: «Мы встретили там нескольких друзей, и я неплохо проводила время – а потом Лу пошла вразнос».
Появилась подружка нового знакомого Луизы, но та не замечала ее кипящей ревности. «Лу все больше теряла контроль над собой, ничего не соображала и с удовольствием целовалась с этим парнем прямо на глазах его девушки». Внезапно музыка оборвалась, зажегся свет, и весь клуб стал свидетелем драки пяти человек прямо на танцполе. «Та девица набросилась на Лу, – писала Люси. – Я на нее, парень на Лу, я на парня, парень на меня, вышибала на парня – в конце концов, я схватила сумки, вернулась за Лу, и мы побежали к лифту. По пути к нам привязался какой-то псих, но мы все-таки добрались наконец домой».
– Я ни разу не слышала от Люси, что ей там хорошо, – рассказывала Софи. – Уверена, что она гуляла и напивалась, веселилась на всю катушку, но вряд ли была счастлива. Я так говорю не из-за того, что с ней случилось, я правда считаю, что сестра страдала. Помню, я и сама мучилась из-за того, что она несчастна. Тут мы с ней похожи. Мы… по большей части тянемся за другими. Если вокруг меня все напиваются, я тоже напьюсь. Если все читают книги в библиотеке, я тоже пойду в библиотеку. Не то чтобы я каждый раз действую против собственной воли, но ведь стремление стать своей в компании вполне понятно. Люси умела добиться популярности, и ее все любили. Однако, став старше, она ввязалась в авантюру, которая совершенно ей не подходила. Мне кажется, в Японии Люси чувствовала себя лишней. У меня довольно быстро сложилось впечатление, что ей там грустно и приходится постоянно притворяться: она ходит по клубам, веселится, но чувствует себя не в своей тарелке.
Люси много думала о доме и тех, кто остался в Британии. Однажды ночью в «Джеронимо» диджей поставил песню Стинга «Золотые поля», которая напомнила ей об Алексе, молодом австралийском бармене из Севеноукса. «Даже не представляю, каково будет наконец снова его увидеть, – писала девушка в дневнике. – У меня внутри все переворачивается, когда я думаю об Алексе. Иногда кажется, что мы встретимся уже завтра, а иногда – будто ждать еще целую вечность. Все мои мысли только о нем… как мы возьмемся за руки, как его красивые глаза будут вглядываться в мои, как он прикусит нижнюю губу… Даже в баре, уставшая, окруженная мужчинами, я все время думаю о нем».
Как всегда, проблему представляли и деньги. В конце мая, через три недели после приезда в Токио, Люси составила привычный финансовый отчет. Ее долги – включая займы в двух банках, превышение кредитного лимита, задолженность перед отцом и матерью, счета за обслуживание кредитки и «кровать принцессы» – составляли 6250 фунтов. Минимальные выплаты по всем статьям плюс аренда комнаты в Сасаки-хаусе, прокат велосипеда и скромные 20 000 иен в неделю на повседневные расходы полностью съедали весь заработок. Стало очевидно: чтобы хоть частично расплатиться с долгами, уйдут месяцы, и от первоначального плана вернуться домой в начале августа придется отказаться. «Я ничего не могу поделать, только смириться, – писала Люси. – Меня душит чувство, что у нас с Алексом ничего не выйдет, и дом как будто удаляется от меня. Я очень остро ощущаю, что заблудилась, не понимаю, куда иду. Потому что каждый раз, когда я вроде бы принимаю решение, все тут же меняется».
Но у Люси были и другие переживания. И они терзали ее сильнее финансов или тоски по бойфренду. Девушка излила их в отчаянной, пронизанной одиночеством и сделанной, похоже, под хмельком записи в дневнике через три недели после приезда в Японию.
«Дата: 26.05,5:50 утра
Не знаю, в чем дело, но этот город, похоже, вытаскивает наружу мои самые темные стороны. У меня все время глаза на мокром месте и ужасно болит живот – физическое проявление глубокой подавленности. Я постоянно реву, и слезы не текут по одной, а прямо-таки ручьями.
Мне здесь плохо. Никак не могу выбраться из болота, в которое сама же и угодила.
Пришлось бросить Лу с Кинаном в „Спорте кафе“, насколько мне стало невыносимо. Жизнь превратилась в беспрерывный кошмар.
Я чувствую себя уродкой, жирдяйкой, невидимкой и постоянно ненавижу себя. Я такая посредственность. Каждая часть меня с головы до пят совершенно посредственная. Видимо, я тронулась умом, надеясь сбежать от себя. Ненавижу себя, ненавижу эти волосы, это лицо, этот нос, азиатские глаза, родинку на лице, зубы, подбородок, профиль, шею, сиськи, жирные бедра, толстый живот, отвислую задницу. Я НЕНАВИЖУ это родимое пятно, эти позорные ноги, я такая безобразная, уродливая и посредственная.
Я по уши в долгах и просто обязана работать как следует. У Лу выходит отлично, и я по-честному счастлива за нее – но из меня дерьмовая хостес. Всего один дохан, да и то благодаря Шэннон; еще с одним меня кинули. Каким же дерьмом надо быть, чтобы тебя продинамили с доханом? Сейчас у меня только Кен – но сколько он продержится? К Луизе мужики наперегонки бегут, чтобы „заказать“ ее, а мне достаются лицемерные отказы и кидалово.
Ниши намекнул Лу, как себя вести, и она прекрасно поняла намек. Она так легко влилась в процесс – заводит новых друзей пачками, а я, как обычно, как всегда и везде, одинока.
И проблема не в Севеноуксе, а во мне.
Я никому не могу описать это чувство собственной посредственности и абсолютного отвращения к себе. Сама не пойму, откуда оно. Я даже пыталась объяснить это маме и Лу – но они сочли меня глупенькой. А я чувствую себя так постоянно. Что я невидимка, никто, никому не нужна и никогда не буду, как все.
…Знаю, в последний год у Лу тоже не все гладко, но она никогда не чувствует себя пустым местом.
Ею увлекаются самые красивые мужчины. Она точно знает, что заслуживает лучшего, и сияет все ярче и становится все увереннее в себе. Вот честно, и пусть это звучит глупо, но я жутко устала от внутренних терзаний и чувства одиночества, хотя мы вместе с Лу каждый день. Я устала от похмелья и вечных долгов. Иногда мне уже наплевать на то, что будет. Хочется просто исчезнуть. Я будто стою на краю и не знаю, что делать.
Я чувствую себя ненужной.
В любой стране я просто никто».
Мужчина по имени Кай Миядзава[17] рассказал мне о работе хостес-клубов. Сам Кай где угодно привлек бы к себе внимание, но среди японцев среднего возраста особенно выделялся. Лет сорока пяти, красивое лицо с благородными морщинами, гладко зачесанные седеющие волосы завязаны в хвост. На встречу со мной он надел рубашку с цветочным рисунком, распахнутую на груди, ярко-оранжевые брюки, подпоясанные ремнем в бело-оранжевую полоску, и ковбойские сапоги. На шее – серебряная цепочка, на левом запястье – еще одна, а также массивные серебряные часы.
Кай мог бы служить живой историей хостес-баров с иностранками в Роппонги. В 1969 году, когда ему было восемнадцать, он зашел в первый кимпацу-клуб (заведение с блондинками) «Казанова», и его покорили работающие там красотки. Последующие двадцать лет большинство вечеров он проводил в Роппонги, потакая своей любви к светловолосым девушкам. Однажды друг заметил, что, раз Миядзаве так нравятся иностранки, ему надо открыть собственное заведение. Клуб «Кай»[18] открылся в 1992 году, через год наступил черед «Кадо». Дело продвигалось непросто, и хозяину пришлось потрудиться, чтобы получать доходы. Он постоянно был вынужден переезжать в помещения подешевле и улаживать проблемы с местными якудза, членами японской мафии.
– Бизнесмен из меня не ахти, – признался он мне. – Зато в девушках я разбираюсь.
Кай гордился клубом «Кадо». Как менеджер и владелец, он следил за хостес со страстью карточного игрока. Он знал все их слабые и сильные стороны и задействовал каждую девушку аккуратно и обдуманно, выбирая момент, сулящий наибольшую выгоду. Для невнимательного клиента, который неуклонно накачивается спиртным, смена хостес выглядит естественной, как приливы и отливы. Но Кай за барной стойкой контролировал весь процесс, точно Зевс, взирающий на землю с горы Олимп.
Сам он выходил в зал очень редко, разве что ненадолго подсаживался к лучшим клиентам, чтобы обменяться любезностями. Работа Кая заключалась в том, чтобы следить за залом, воспринимать невидимые частоты и вибрации, которые окружали каждую хостес и ее клиента, оценивать ауру посетителей и ее изменения в течение вечера. Он чутко улавливал, до какого уровня «кондиции» дошел гость и какими методами его можно задержать.
– Если клиент остается всего на час, я ничего не заработаю, – пояснил Кай. – Он платит десять тысяч иен. Три тысячи я отдаю девушкам, минус аренда и выпивка, и у меня остается примерно две тысячи. Когда гость приходит всего на час, я не особенно о нем беспокоюсь. А вот если он останется дольше, тогда совсем другое дело.
Каждого нового клиента сажают с одной из самых привлекательных девушек. Это как медовый месяц с хостес: почтительное приветствие работников клуба, красивая хостес, согревающий виски, полумрак окутывает безвкусный интерьер пеленой эротических обещаний. Начинается общение, за которым бдительно следит хозяин.
– Вначале я даю ему милую красивую девушку, – рассказывает Миядзаки. – А потом наблюдаю, как у них дела, нашли ли они общий язык.
Если нет, Кай шепнет пару слов на ухо официанту, а тот даст команду девушке номер один. Она вежливо извинится – и ее сразу же сменит хостес номер два, которой, возможно, удастся поладить с клиентом. Ей достаточно лишь задержать его до начала второго часа. Если она справится со своей задачей, значит, Кай все просчитал верно.
– Ровно через час и одну минуту я поднимаю эту девушку и перевожу ее к другому столику, а клиента оставляю с уродиной. Если он захочет снова пообщаться с хорошенькой, он может ее «заказать», это стоит три тысячи иен. Либо он говорит: «Я хочу снова ту». А вы отвечаете: «Простите, сейчас она занята, подождите полчаса». К тому времени пойдет уже третий час пребывания клиента в клубе, счет перевалит за тридцать тысяч и будет продолжать расти.
Надо просто наблюдать, – с улыбкой рассказывал Кай, точно опытный охотник, который делится воспоминаниями о подстреленном лосе. – Надо знать, о чем думает гость. Если он направляется в туалет и перед дверью смотрит на часы, то наверняка собирается уйти. И тогда пора задействовать лучшую сотрудницу клуба. Она встречает гостя прямо у двери, девушка его мечты. Не успеет он выйти из туалета, она протягивает ему горячее полотенце и за руку ведет его назад к столику. Клиент решит обойтись виски с водой, но его новая подружка захочет шампанского (тридцать тысяч за бутылку). Тик-так, тик-так: скоро пойдет четвертый час, как он здесь. За три часа и одну минуту гость потратит около пятисот фунтов. А потом девушка его мечты исчезает. Этих людей нужно понимать, читать их мозги изнутри. И тут я гений.
Один из его гениальных навыков состоял в подборе правильных девушек. Кай оценивал будущих хостес, как опытный торговец лошадьми.
– Девушки должны быть не старше двадцати двух, – делился он опытом. – Очень важно, чтобы они хорошо выглядели, имели цветущий вид. В клубе, где есть хоть одна красавица, остальные тоже кажутся симпатичнее. Роппонги – маленький район. Если хоть одна хостес хороша собой, молва о ней распространится по всему кварталу, люди начнут выстраиваться в очереди. В моем клубе в то время были самые красивые девушки, просто фантастические. В Токио они приезжали со списком клубов, где можно поработать, и первой строкой значился «Уан айд Джек», потому что он самый большой, а вторым шел мой «Кадр». А иногда он даже стоял на первом месте.
В период бурного развития бизнеса в начале 1990-х урожай девушек с улиц Роппонги уже не мог удовлетворить растущий спрос. Кай со своей женой-британкой, тоже бывшей хостес, размещали объявления за границей и ездили в Британию, Швецию, Чехословакию, Францию и Германию в поисках новых талантов.
Кай, как он сам упомянул, разбирался в девушках. Он любил иностранок, получал благодаря им хорошую прибыль. И презирал их. Свое неуважение к хостес он демонстрировал сплошь и рядом, хладнокровно и бесцеремонно. По сравнению с энтузиазмом, который он проявлял в рассказе о работе клуба, пренебрежение к собственным работницам шокировало. Но оно рождалось из неуважения хостес к самим себе, а также из личного отношения к ним Кая: снисходительного безразличия, граничащего с расизмом.
– Из них только десять процентов нормальных девушек, которые обладают индивидуальностью и знают, зачем приехали в Токио, – уверял он. – Всего десять процентов любят Японию, интересуются страной, культурой.
Большинство работниц, которых Миядзава нанимал в Токио, по его словам, были бюджетными туристками, которые застряли в Таиланде, на дурманящих южных островах с полуночными вечеринками и нескончаемыми потоками марихуаны, экстази и кокаина.
– У них просто заканчиваются деньги, а тут им говорят, что в Японии можно легко подзаработать. Вот они и приезжают, устраиваются в клуб месяца на три и, немного накопив, возвращаются в Таиланд. Здесь им не нравится. Они не уважают желтых людей и приезжают только за деньгами. Девяносто процентов из них не могут найти работу в собственной стране, и только у десяти процентов действительно есть причины находиться в Японии. У большинства же нет никаких планов – они просто любят веселиться. Они принимают наркотики, охотятся за парнями. Без наркотиков никто не обходится. По выходным обязательно экстази, а потом дикий угар. Здешняя культура потребления наркотиков построена на сплошном безумии. Чуть получше себя ведут только девушки из Восточной Европы, потому что они высылают деньги домой своим семьям. У двадцати-тридцати процентов хостес есть сексуальные проблемы. В чем они заключаются? В том, что отец постоянно их насиловал. Они сами мне часто рассказывали, потому что со мной можно говорить на любую тему. Они признавались: «Знаешь, Кай, я по-прежнему сплю с отцом». Из-за этого они всегда озлоблены. Семьдесят-восемьдесят процентов еще на родине пережили развод. Вот такая история – совсем невеселая. У них нет друзей. Они не умеют поддерживать отношения. А потом едут в Таиланд и там наконец заводят приятелей, потому что встречают себе подобных. Общение строится на наркотиках. По выходным они объединяют всех. Наверное, девяносто процентов хостес спят со своими клиентами. Да, думаю, так и есть. Почему бы и нет? Ничего страшного, даже приятно, еще и хорошие деньги платят – никаких проблем!
В откровениях Кая сквозило столько презрения, что мне было трудно воспринимать их всерьез. Не верилось, что девять из десяти хостес по собственному желанию занимаются проституцией. Да и другая статистика вызывала сомнение. Всеми этими рассуждениями он лишь прикрывал личную женоненавистническую концепцию: все хостес – шлюхи. С другой стороны, конечно, среди стриптизерок и работниц клубов Роппонги хватало и таких женщин, которых он описывал, – наркозависимых, переживших насилие, потерянных. Но отвращение Кая демонстрировало общую тенденцию. Миядзава в последнюю очередь имел право судить хостес, ведь он сам их нанимал. Однако, несмотря на лицемерие, в чем-то он выражал мнение большинства японцев.
Проведя немного времени в Роппонги, привыкаешь к его оттенкам и учишься отличать официантку от хостес, стриптизерку от «массажистки». Но для большинства различия неочевидны, да и непринципиальны.
– Некоторые хостес не считают себя частью «мидзу сёбай», потому что не предлагают секс, – рассказывала Мидзухо Фукусима, представительница японского парламента, борющаяся за права иностранок в Японии. – Но, по мнению обывателей, они все равно работают в секс-индустрии.
Энни Эллисон писала: «В профессии хостес есть нечто грязное, ведь она возбуждает клиентов и принадлежит миру „мидзу сёбай“. Грязь, связанная с сексом, в свою очередь, исключает работницу этой сферы из числа претенденток на законный брак, а позже и на материнство с законнорожденными детьми… В культуре, где материнство считается „естественным“ состоянием женщины, представительница „мидзу сёбай“ якобы идет против природы. За это ее презирают, но из-за этого же ее и хотят».
Люси хандрила с конца мая по начало июня. Ко второй неделе июня настроение у девушки поднялось, и она снова начала размышлять о будущем. «Я изо всех сил борюсь с этими ужасными ощущениями, – писала она. – Но сегодня чувствую себя нормально. Я вдруг поняла, что не хочу оставаться здесь до ноября или декабря. Мне нужен свежий воздух, больше простора. Я мечтаю об этом с самого приезда».
В пятницу девушки вышли из своего клуба и заглянули в «Уолл-стрит» встретиться с новым бойфрендом Луизы, французом по имени Ком («как окончание названия бренда „Ланком“», – объяснила Люси в письме Сэм), который обещал привести с собой друга для Люси. Бар был переполнен, мужчины опаздывали. «Их не оказалось, поэтому мы взяли напитки и сели за столик, – писала Люси Сэм. – А потом в бар ЗАШЕЛ СЕКС-БОГ ВЕКА! Луиза быстро его приманила, мы начали общаться, и он оказался просто милашкой. Его зовут Скотт, ему двадцать, он американец из Техаса, и у него такой акцент, что просто таешь. Голубые глаза, рост под два метра, широкие плечи, живот с „кубиками“, прямые русые волосы, классный зад, – он запросто мог бы стать моделью, но служит – ты не поверишь – в ВМС США!!! Ты представила его в форме?? Я тоже!» Девушка сразу придумала тактику поведения. «Я решила просто наслаждаться вечером, – писала она подруге. – Я не заискивала перед ним, как наверняка поступали многие, и не тащила его в постель, так что была в выигрышном положении. Держалась спокойно и уверенно – и он прилетел, как пчелка на мед».
Они отправились на старейшую дискотеку Роппонги «Лексингтон куин». Заказали шампанское, Люси и Скотт пошли танцевать. «Мы мгновенно поймали общий ритм. Он потрясающий танцор. Весь танцпол принадлежал нам, я была в восторге». Затем все четверо переместилась в третий бар под названием «Хайд аут». К тому времени уже начало светать. Ком безнадежно напился, и Луиза намеревалась проводить его домой. Скотт давно опоздал на электричку и не мог добраться до своего авианосца, поэтому Люси приняла непростое решение. Все еще помня о «Правилах», она выдала новому знакомому речь, которую про себя называла «отвальной», а потом пригласила к себе.
«Отвальную» речь она записала на отдельной странице дневника в разделе «Цитаты! Воспоминания о Токио»: «Слушай, ты красавчик, и наверняка сотни девушек мечтают затащить тебя в постель, но если ты ждешь того же от меня – ты ошибся адресом, так что отвали».
Добравшись до Сасаки-хауса, они поцеловались, но Люси не разрешила Скотту подняться в ее комнату. «Думаю, вначале он был немного разочарован, но ведь секса на одну ночь можно получить сколько угодно, тогда как каждому хочется любить и быть любимым. Так что благодаря сдержанности я определенно стала для него желаннее любой другой девушки. Я осыпала его нежными поцелуями, чтобы подразнить и удержать на крючке, подарила ему долгие теплые объятия… и это сработало!»
Люси познакомилась со Скоттом в пятницу 9 июня 2000 года. В последующие двадцать два дня ее ждали счастье и восторг. Влюбленные договорились встретиться снова в воскресенье вечером. Когда Люси собиралась на свидание, позвонил Алекс, бармен из Севеноукса. Всего пару дней назад его звонок стал бы лучшим событием недели, но теперь казался почти досадной помехой. «Как всегда, приятно с ним поболтать, – признавалась Люси в дневнике, – но я чувствую, что с каждым разом он все больше от меня отдаляется… Так что вернемся к Скотту».
На полчаса опоздав на свидание из-за Алекса, она вошла в «Элмонд», розовый кофешоп на перекрестке Роппонги: «Скотт был в джинсах и голубой футболке. Он сидел ко мне спиной и не видел, как я вошла. Я похлопала его по плечу, он обернулся – какой же он красивый! Его голубые глаза показались мне еще ярче, улыбка – еще теплее, а поцелуй – еще слаще».
Парочка поехала на поезде в Харадзюку, любимый район токийской молодежи, и прогулялась по Омотесандо, самой романтической улице Японии, – похожей на французский бульвар широкой зеленой аллее, которая мягко спускается ко входу в храм Мэйдзи. «Нам было очень хорошо вместе, – писала Люси. – Я совершенно его не стесняюсь и не стесняюсь самой себя, когда он рядом… Мы болтали обо всем на свете, но то и дело начинали смеяться от радости и теряли половину нитей разговора – просто чудесное ощущение. Я была как пьяная – все время хихикала. Но в то же время вела себя очень сдержанно».
Они поужинали в итальянском ресторане, потом пошли по длинному пешеходному мосту, который пересекал аллею над верхушками платанов. В июньском влажном зное шелестели сочно-зеленые листья. «На мосту мы начали целоваться, – писала Люси. – Уже стемнело, и повсюду, куда ни глянь, сияли огни Токио. На Омотесандо кипела жизнь, а мы целовались, и у меня перехватило дыхание и сердце чуть не выпрыгнуло из груди… Потом я отстранилась, и на меня нахлынуло небывалое умиротворение».
На последних страницах дневника Люси нарисовала картинку: поцелуй на мосту над красивой зеленой аллеей.
Девушка писала: «Наверное, сегодня я впервые, сколько себя помню, довольна жизнью – на все 100 %. Никогда еще такая малость не становилась для меня такой важной».
После знакомства со Скоттом часы полетели стремительно. «Обычный день и обычная ночь, – записала Люси в понедельник после первого свидания, – превратились в сплошную фантастику, я будто парю в воздухе». На следующее утро она поднялась рано, уставшая и с похмелья; она с Луизой и ее клиентом должна была ехать на восточную окраину города в токийский Диснейленд. «Шел препротивнейший дождь, и мы обе чувствовали себя препаршиво… Но когда мы доехали, я пришла в себя и мне стало по-настоящему радостно и весело». А вот утро среды не задалось: посмотревшись в зеркало, Люси обнаружила, что на губе высыпал герпес. В тот вечер она отменила свидание со Скоттом: «Я чувствовала себя ужасно и мерзко – не говоря уже о том, что мне было дико стыдно». Вместо этого она пошла на дохан с Кеном в «Джорджиан клаб»: «Красивее ресторана я в жизни не видела, сидела там, как настоящая принцесса».
По правилам хостес (некоторые клубы даже требуют от девушек подписать соответствующий документ), ни в коем случае нельзя рассказывать клиенту о бойфренде или любовнике на стороне. Но Кен и сам заметил, что интерес Люси к нему угас. Поддерживать иллюзию, за которую он платил с такой расточительностью, стало труднее. В письмах к Люси Кен начал проявлять нервозность, демонстрируя своего рода защитную реакцию.
«Тебе не нужно передо мной ни за что извиняться, – с показной легкостью писал он в середине июня. – Я понимаю, что работа хостес отнимает много сил, больше, чем ты могла себе представить… А еще я подумал, что твой бойфренд тоже приезжает в Японию, ха-ха-ха-ха-ха…»
Однако через несколько дней Кен снова преисполнился чувств и желания: «Я очень скучаю по тебе. Надеюсь, увидимся в воскресенье!» Выходные миновали, но ответа от Люси так и не последовало. В следующем письме слышится робкий укор: «Думаю, ты меня не совсем поняла. Я надеялся, что тебе захочется поуууууууужинать со мной. Что ж, буду признателен, если дашь мне знать, когда передумаешь».
Через два с половиной часа пришло еще одно сообщение с темой «Сайонара!»[19]: «Мое маленькое сердечко наверняка снова будет разбито. Но ничего, моя юная леди! Я только хочу пожелать тебе по-настоящему повеселиться в Токио. Au revoir![20]»
Люси, конечно же, провела выходные со Скоттом, все больше в него влюбляясь.
Накануне очередного свидания она проснулась еще до шести утра: «Внутри все переворачивается… и заснуть не удается, хотя глаза слипаются». Парочка встретилась после обеда, они сидели под деревом в парке Ёёги и «просто болтали, болтали, болтали». Пригревало солнце, люди валялись на траве или танцевали под музыку уличной группы. «Стало темнеть, и мы решили, что пора уходить, – писала Люси. – Скотт даже не догадывается, что дальше у нас состоялся один из самых потрясающих разговоров за все время наших отношений, который необыкновенно сблизил нас».
По выходным на площади между станцией «Харадзюку» и парком Ёёги собирались музыканты и уличные артисты. Люси со Скоттом заметили потрясающего жонглера и остановились на него посмотреть. Это привело к разговору о талантах и личных достоинствах, о тех, кто ими обладает или не обладает. Люси отмечала: «А потом он сказал, что больше всего его мучает собственная ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ и страх навсегда остаться никем. У меня подкосились ноги, и я еле удержалась от крика (иначе он счел бы меня слишком странной)».
Люси услышала из уст Скотта собственные мысли. «Мне даже не верилось, и я до сих пор (а прошла уже неделя) не в силах описать свои чувства. Пожалуй, главное – огромное облегчение и счастье, что человек, с которым у меня завязались отношения, чувствует то же самое, и теперь мне уже не страшно и не больно. Если бы он когда-нибудь увидел мой дневник, то наверняка подумал, что я чокнутая. Но, может быть, однажды я признаюсь, что меня мучают те же страхи, и его страдания тоже исчезнут».
Влюбленные поужинали в стейк-ресторане. Не удивительно, что Скотт «опоздал» на последний поезд домой и остался на ночь у Люси. «Прекрасный был день, – писала девушка. – Я счастлива, что устояла в ту самую первую ночь. Поразительно, как мельчайшие решения, которые мы принимаем каждый день, способны в одно мгновение изменить всю жизнь».
Лето 2000 года ознаменовалось политическим переполохом в Азии. В первый выходной день Люси в качестве хостес, 14 мая, умер японский премьер-министр Кейзо Обучи. Он скончался в больнице через шесть недель после внезапного инсульта. А 13 июня, когда подруги ездили в Диснейленд, лидеры Северной и Южной Кореи провели мирные переговоры – в первый раз со времен Корейской войны. По всей Японии к толпам взывали кандидаты на пост премьер-министра; в рамках всеобщей избирательной кампании из грузовиков с громкоговорителями раздавались партийные лозунги.
Однако ни одно из этих важных событий не затронуло Люси и ее мир.
Во вторник 2 июня она снова встретилась со Скоттом, чтобы вместе позавтракать и понежиться на солнце в парке Ёёги. «Мы подходим друг другу, как ключ к замку, – писала она. – Мои чувства крепнут с каждым днем, с каждым разом, когда я узнаю о его страхах, сомнениях, неуверенности».
В среду Люси пошла на дохан с инвестиционным банкиром по имени Сэйдзи. В следующий вечер – с сотрудником JVC по имени Шодзи. В пятницу вечером она сидела в «Касабланке» с мистером Кова, который говорил на превосходном английском, хотя слегка шепелявил. Луиза тоже провела с ними какое-то время. Клиент пил шампанское и коньяк, а перед уходом пообещал позвонить и договориться с Люси о дохане на следующей неделе.
В воскресенье состоялось голосование на всеобщих выборах Японии. Люси провела выходные со Скоттом, не замечая жалких писем от Кена.
Во вторник она пошла на тренировку в спортзал. В среду 28-го у нее был дохан с пожилым мистером Ватанабэ, «фотографом». Они договорились поужинать снова в следующий вторник.
В четверг Люси опять встречалась со Скоттом. К тому моменту она безнадежно не успевала делать записи в дневнике, но молодой человек позже вспомнил об их свидании.
– Она была безумно счастлива, – сообщил Скотт. – Я сказал ей, что люблю ее, и она обрадовалась, что я первым это сказал. Она призналась: «Я тоже люблю тебя. Просто обожаю». По словам Люси, от полноты чувств у нее бабочки порхают в животе и кружится голова. Она еле устояла на ногах, когда я рассказал ей о своих чувствах.
В пятницу 30 июня Люси отправила электронное письмо своей матери Джейн, которая не получала вестей от дочери несколько дней и с тревогой спрашивала, что случилось. Тема письма звучала так: «Я все еще жива!»
Часть III
Поиски
Случилась беда
Люси Блэкман и Луиза Филлипс родились в один год, ходили в одну и ту же школу, любили одинаковую музыку и одежду и жили в получасе езды друг от друга. Их отличало только одно: не имеющая значения для самих подруг, но заметная в суждениях и восприятии окружающих классовая разница.
Блэкманы, выходцы из среды предпринимателей и частных школ, жили в фешенебельном городке Севеноукс и говорили с аристократическим акцентом прилегающих к Лондону графств. Произношение Луизы выдавало в ней дитя рабочего класса юго-восточных окраин. Ее отец сделал карьеру строителя и поселился вместе с семьей в большом доме в поселке Кестон за пределами Бромли[21]. Он умер в пятьдесят один год, и его уход стал сокрушительным ударом по финансовому благополучию его жены и двух юных дочерей. В Уолтемстоу-холл Луиза попала только благодаря стипендии, что наряду с акцентом сразу отдалило ее от остальных учениц, обзывавших ее беспризорницей.
Любого другого такой снобизм попросту раздавил бы, но Луиза встречала его со стойким презрением. Она не боялась хулиганов и легко расправлялась как со своими обидчиками, так и с теми, кто задирал Люси. С юных лет Луиза обожала приключения. Другие одноклассники Люси, обманом прибавляя себе возраст, добывали выпивку в пабах Севеноукса, Луиза же водила подругу в потрясающе изысканные бары и клубы Камдена[22] и Южного Лондона. Блэкманы принимали Луизу с симпатией, хотя порой ей казалось, что они не одобряют ее и считают ее влияние на Люси пагубным. Если подруги слишком поздно возвращались с прогулок, именно Луизу, как ей самой представлялось, считали виновной в прегрешениях, в которых с радостью участвовала Люси.
Луиза знала о проблемах Люси и собственными глазами видела, как повлиял на нее развод родителей. Она сразу невзлюбила Тима, отчасти в ответ на его неодобрение, но и из-за его привычки подрывать уверенность Люси в себе постоянными критическими замечаниями о ее весе или внешности. Луиза знала, что Люси редко нравится самой себе и завидует тому, с какой легкостью подруга сражает мужчин наповал своей красотой. Однако у Луизы тоже были слабые места.
Смерть отца ее подкосила. Несколько лет девушка боролась с разрушительным отчаянием, приведшим к нервной анорексии. Люси как никто другой помогла Луизе пережить болезненный жизненный этап. Окружающие не замечали, насколько Луиза зависит от подруги, почти боготворит ее за способности к языкам, рисованию, кулинарии, за преданность и чувство юмора.
Вначале Луиза собиралась ехать в Японию одна. Она обрадовалась, когда Люси согласилась присоединиться к ней и даже оплатила половину ее билета. Но Луиза утверждает, что ни в коем случае не настаивала на поездке. Ее не заботили уверения Джейми, будто она вынудила Люси разорвать отношения с ним. Луиза знала, что первоначальная симпатия подруги к юноше переросла в скуку и неприязнь. Отказ Джейми признать очевидное только раздражал ее. С одной стороны, переезд в Токио снова доказал, что Люси копирует поведение Луизы, как повелось еще со школы. Но с другой – Люси сама хотела уехать, и ей было от чего сбегать.
– Она очень переживала из-за долгов, – рассказывала мне позже Луиза. – Она просыпалась среди ночи в тревоге. Ей требовалось быстрое решение. Но другого способа выплатить нужную сумму, не затягивая дело на долгие годы, Люси не видела. Она думала так: «Джейми меня преследует, а что касается мамы – скорее уж я сама чувствую себя мамой в этом доме». Думаю, она чувствовала себя виноватой в том, что покидает мать. На самом деле она не стремилась сбежать от Джейн. Она просто мечтала расслабиться, побыть нормальной двадцатиоднолетней девушкой. Джейн не хотела ее отпускать, но вовсе не из-за страхов, что с Люси что-нибудь случится. Понимаете, Джейн сама убедила себя в этом, но на самом деле ей просто не хотелось, чтобы ее бросали.
Первые недели в Токио обеим подругам дались нелегко, но Люси все же было труднее. В отличие от Луизы, ей не удалось преуспеть в качестве хостес, и между девушками возникло напряжение, которого раньше не случалось. Впрочем, обе предпочитали помалкивать. Но к июню кризис миновал.
«Нам обеим было тяжело в первый месяц, – написала однажды Люси Луизе. – Но со вчерашнего дня ты близка мне, как никогда прежде. Ты и вправду моя родственная душа, ты знаешь меня лучше всех на свете и видишь во мне то, чего другие не замечают. Стоит тебе войти в комнату, и у меня сразу поднимается настроение».
Когда подруги проснулись поздно утром в воскресенье 1 июня, обе были настроены оптимистично. У Люси наконец начали появляться постоянные клиенты. Луиза помирилась со своим французским бойфрендом Комом. Накануне ночью в «Касабланке» девушки познакомились с приятными молодыми клерками Ёшидой и Танакой, которые обещали устроить на следующей неделе двойной дохан.
Подруги вышли из клуба в половину третьего ночи, взяли такси до дома и засиделись до четырех утра, попивая на кухне чай и с тостами.
– Мы обе были в восторге, – рассказывала Луиза. – Думали: «Ну наконец-то!» За два месяца мы освоились в Токио, каждый понедельник нам выдавали зарплату, и дела шли великолепно. Нам казалось, что черная полоса миновала и теперь все будет замечательно.
В субботу днем Люси вышла из дома в последний раз. В понедельник утром Луиза обратилась в полицию. В понедельник днем раздался тот странный телефонный звонок. Но только в понедельник вечером, более чем через два дня после исчезновения подруги, Луиза решилась сообщить Блэкманам о случившемся. Когда она позвонила, в Британии день был в самом разгаре. Джейн как раз собиралась на почту, чтобы отправить в Токио посылку со сладостями. Даже когда Люси благополучно добралась до Японии, мать не переставала волноваться. Известие о пропаже дочери, подтвердившее худшие опасения Джейн, породило бурю паники и ужаса. В маленький дом в Севеноуксе примчались Руперт и Софи; вскоре подошли Вэл и Саманта Берман. Узнав тревожные новости, из Лондона приехал Джейми Гаскойн.
Никому не верилось в произошедшее. Не только в исчезновение Люси, но и в детали странного телефонного звонка, о котором со слезами рассказала Луиза: «Новое воскрешение», «секта», «Акира Такаги», «Тиба» – все это вызывало страшные подозрения.
– Там творился сумасшедший дом, – рассказывал Руперт Блэкман, которому в тот момент исполнилось шестнадцать. – Мама металась, точно курица с отрубленной головой. Что делать, когда пропадает человек в Японии? Никто не знал. Я полез в Интернет поискать «Новое воскрешение». Помню, что даже связался со своим старым инструктором по дзюдо, чтобы попросить у него совета, ведь вопрос касался Японии. Когда такое случается, будто отрываешься от земли и взмываешь в небо, глядя вниз, и пытаешься отыскать человека, как в пословице про иголку в стоге сена. Жуткое ощущение. Его не объяснишь. Когда что-то теряешь, тоже бывает достаточно неприятно. Но когда теряешь кого-то – это просто ужас. И ладно бы потерять человека в торговом центре, но на другом континенте… Совершенно непонятно, с чего начать. Мы никого не знаем в Японии. Там совершенно другая культура. Во всем мире не найдется хуже места для такого происшествия.
Когда Джейн немного пришла в себя, она позвонила бывшему мужу на остров Уайт. Тим сидел у себя саду, наслаждаясь теплым вечерним солнцем. Это был их первый разговор с момента развода. Существует две версии их беседы: ее и его.
Джейн: Тим, Тим, это Джейн. Случилось нечто ужасное – Люси пропала.
Тим: Ну а я-то что могу сделать?
Джейн: Наша дочь пропала в Японии. Может… Может, ты поедешь туда и вернешь ее домой?
Тим: Уверен, что Министерство иностранных дел и полиция уже занимаются ее поисками. Нам нет смысла соваться.
Джейн: Но, Тим…
Тим: Слушай, у меня тут мясо жарится. Пока.
Джейн: Тим, я тебя умоляю…
Тим: Отвали. (Бросил трубку.)
Джейн: Люси пропала! Сделай что-нибудь!
Тим: Эй, погоди-ка, помедленнее. Джейн, это ты? Объясни толком, Джейн, что случилось?
Джейн: Наша девочка пропала в Японии! Поезжай и верни ее домой!
Тим: Что значит «пропала»? Что именно произошло? Постарайся успокоиться…
Джейн: Ах ты, подлец! Говорю тебе: она пропала, урод ты этакой. Значит, ты никуда не поедешь?
Тим: Джейн… я… я не могу принять такое решение за пять секунд. Для начала надо во всем разобраться. Объясни мне еще раз, что случилось. Просто у меня тут мясо жа…
Джейн: Проклятый подонок! С твоей дочерью случилась беда! А тебе плевать на всех, кроме себя! (Бросила трубку.)
На следующий день Софи объявила, что летит в Токио, и Джейми Гаскойн отправится с ней.
– Мы знаем, что Люси в Тибе. Я поеду туда и найду ее, – сказала она матери. – Если ее похитили сектанты, я вызовусь пойти вместе нее. А Люси вернется домой.
Софи и Джейми в свои двадцать и двадцать три года ни разу не уезжали так далеко от дома. Семь дней они провели в Японии совсем одни. Даже когда Джейми был бойфрендом Люси, Софи он не слишком нравился. Это Джейн предложила парню ехать с дочерью. Целую неделю они тщетно метались от британского посольства, где все выражали беспокойство, но беспомощно разводили руками, к полицейскому участку Азабу в Роппонги, где молодых людей встретили с полным безразличием. Луиза уже подала заявление об исчезновении Люси, и маленький листок бумаги исчез в огромной картотеке. Однако удалось выяснить кое-что о Тибе. Так назывался не только большой город на 900 000 жителей, но и префектура с населением более 5 миллионов – район, сопоставимый по размерам с графством Кент и Большим Лондоном, вместе взятыми. Софи с Джейми также выяснили, что «Новое воскрешение» – дословный перевод японского термина, относящегося к сектам направления нью-эйдж, которые исчислялись тысячами.
Джейн в Севеноуксе совсем потеряла голову от переживаний, и Софи каждые несколько часов созванивалась с отцом. Они с Тимом обсуждали дилемму, которая часто возникает в подобных ситуациях: обращаться в средства массовой информации или нет? Кто-нибудь мог знать, что случилось с Люси, или видеть ее в день исчезновения, и единственный способ найти таких свидетелей – обратиться за помощью к населению. С другой стороны, если девушку похитили ради выкупа, то лучше дождаться переговоров с требованием денег. А если похититель преследовал иные цели, например, насилие, то вскоре и сам столкнется с дилеммой: что делать с живой пленницей. В любом случае шумиха в прессе может вызвать у преступника панику и привести к необратимым последствиям.
– Был риск, что в случае обращения к общественности Люси грозит гибель, – рассказывала Софи. – Но, если продолжать молчать, мы могли упустить последний шанс ее найти.
Полиция не хотела иметь дел с журналистами. В посольстве сказали, что выбор за семьей, хотя складывалось впечатление, что они согласны с полицией. Софи летела в Японию с намерением ворваться в дверь похитителя Люси и силой сестринской любви заставить злодея освободить девушку. Но дело с самого начала оказалось сложнее. Надо было собрать и расставить по местам, как в головоломке, множество деталей: полицию, посольство, прессу, даже грызущихся родителей Софи. К каждому требовался свой подход, даже если интересы сторон совпадали.
Из-за смены часовых поясов и волнения Софи мучилась бессонницей. Однажды ночью ей приснилось, что она застряла внутри голливудской экранизации видеоигры. Софи оказалась главной героиней остросюжетного фильма, наподобие Джеймса Бонда или Брюса Уиллиса, которые должны, пока не поздно, спасти мир. Но вместо того чтобы обезвреживать бомбы, вызволять заложников и убивать террористов, ей приходилось заставлять работать полицию, уговаривать дипломатов, подключать к делу журналистов и выступать посредником между родителями, пока неизвестный и безликий мерзавец не убил ее сестру.
– У нас был выбор, – поясняла Софи. – Довольствоваться действиями полиции и держаться подальше от журналистов либо привлечь всеобщее внимание и форсировать ход расследования, но рассориться с властями. И мы выбрали прессу.
На самом деле Блэкманов фактически заставили принять такое решение. В Лондоне, даже не посоветовавшись с семьей, сестра Луизы Эмма обратилась в «Дейли телеграф». Через несколько дней история появилась во всех британских СМИ. Однако было очевидно, что у репортеров нет никаких зацепок. Вот какую информацию приводили различные газеты: «С прошлой ночи растут опасения, что бывшую бортпроводницу „Бритиш эйруэйз“ Люси Блэкман удерживают как секс-рабыню в опасной японской секте»(«Сан»); «Полиция опасается, что Люси Блэкман, 21 год, принудили к проституции в качестве „приманки“ для вовлечения в подозрительную организацию» («Дейли миррор»); «Полиция выясняет, была ли Люси Блэкман похищена одним из клиентов ночных клуба „Касабланка“, где двадцатиоднолетней девушке платили за беседы с посетителями» («Индепендент»); «Возможно, судьба Люси Блэкман находится в руках японской мафии» («Севеноукс курьер»).
Токийским журналистам было непросто выяснить факты по этому делу. Японская полиция грубо отказывалась от комментариев, у британского посольства тоже не нашлось информации, хотя там держались вежливее. Менеджеры клуба и хостес-иностранки в Роппонги отнеслись к расспросам настороженно; те, кого удалось разговорить, выражали только недоумение и обеспокоенность. Софи Блэкман реагировала на настойчивость прессы оскорблениями и агрессией. Загадка исчезновения стюардессы возбуждала любопытство, но не стала сенсацией: во всем мире каждый день пропадают люди, зачастую по совершенно неинтересным причинам. О Люси очень скоро забыли бы, если бы не ее отец, Тим, который прилетел в Токио в следующий вторник, через десять дней после исчезновения Люси, и сразу же организовал мероприятие, с которого следовало начать, – пресс-конференцию.
В Британии, как и в Японии, в обществе действуют непреодолимые условности: от людей, оказавшихся в тяжелой стрессовой ситуации, ожидают определенного поведения. Мы привыкли, что несчастные жертвы пассивны, растеряны и сломлены. Если они держатся иначе, возникают подозрения.
Действия Блэкманов в Токио противоречили общепринятым нормам.
Японская семья, лишившаяся дочери при страшных обстоятельствах, всхлипывала бы и прятала глаза от камеры. Родители запинались бы и не находили слов. Они говорили бы о любви к ребенку и своих страданиях, умоляя похитителей проявить милость и вернуть дочь. Не обошлось бы без слез и даже неловких извинений за «причинение неудобств» своими проблемами. Вопросы журналистов тоже не отличались бы новизной. Какой была ваша дочь? Что вы хотели бы сказать похитителю? И снова рыдания родителей и маловразумительные ответы. Общение с прессой, расследование, раскрытие тайны – буквально всё однозначно доверили бы полиции.
В Британии выражать гнев и возмущение можно чуть свободнее, и все же соблюдаются определенные границы. Поведение Блэкманов регламентировалось негласными правилами, по-своему не менее строгими, чем древние традиции скорби. До встречи с Тимом и Софи в Токио я понятия не имел о существовании подобных правил. И только благодаря тому, что Блэкманы сразу же отвергли общепринятую мораль, она проявилась для меня со всей очевидностью.
Первая пресс-конференция Тима в британском посольстве прошла утром сразу после его приезда в Токио. Зал заполнился публикой, телекамерами и осветительными приборами; все места были заняты, репортеры толпились в проходах. За столом на возвышении рядом с Тимом и Софи Блэкман сидела пресс-секретарь посольства. Мягко, с горечью в голосе, приличествующей для рассказа о несчастье, постигшем совсем юную жертву, она произнесла краткую вступительную речь. Потом поднялся Тим – высокий крепкий мужчина далеко за сорок, с неизменно прямым взглядом голубых глаз и копной светло-рыжих волос. Он говорил уверенно, четко, почти бодро. «Оч. собран, – набросал я в своем блокноте. – Впечатляет: никакого комка в горле, никаких видимых эмоций. Длинные бакенбарды».
Да, сказал Тим, отвечая на первый вопрос, вчера он сразу по прилету встречался с полицией; по его мнению, они делают все возможное. Да, после отъезда в Токио Люси поддерживала с ним связь по телефону и казалась довольной. Расспросы о звонке «Акиры Такаги» и предположения насчет вступления девушки в секту Блэкман уверенно отверг.
– Люси католичка, – отметил он. – Она вообще мало интересовалась религией, и вряд ли в один субботний вечер она вдруг увлеклась какой-то религиозной сектой.
У Люси были долги, признал Тим, но ничего сверхъестественного: превышение кредита, с которым вполне можно справиться, и задолженность по счету в несколько тысяч фунтов.
Они с Софи прилетели в Токио, подчеркнул Тим, чтобы помочь полиции и СМИ:
– На Люси обязательно обратили бы внимание, если встретили ее на японской дороге или в японской машине. Она заметная девушка. Вдруг кто-нибудь видел ее на улице или в автомобиле и сообщит сведения, в которых мы так нуждаемся.
Блэкман отвечал кратко и рационально; как источник информации его не в чем было упрекнуть. Однако – с точки зрения фотографов, репортеров и операторов – он справился далеко не на пятерку. Время от времени на пресс-конференции и в ходе телефонных разговоров Тим слишком долго думал, перед тем как дать ответ. Молчание затягивалось и заставляло публику напрягаться; в такие моменты создавалось впечатление, что мужчина сдерживает сильные эмоции, которые не хочет никому показывать. Однако молчание нельзя процитировать или сфотографировать. А Тим после паузы отвечал ровным, деловым, почти ироничным тоном. Его реплики были четкими, но не выглядели заранее заготовленными. Никакими заметками он не пользовался. Время от времени он оглядывался на Софи, иногда они даже улыбались друг другу. Он чувствовал себя на трибуне как дома и вел себя совершенно свободно. На следующий день не самые добросовестные репортеры сдобрили статьи фразами, как «отчаявшийся отец» и «убитая горем сестра» «боролись со слезами». Ничего подобного. Трудно себе представить более спокойную и собранную пару.
Один британский репортер поднял руку, чтобы спросить о новом бойфренде Люси. Тим заявил, что не знаком с ним, но ему известно, что он иностранец и его допрашивала полиция. Тот же вопрос задали Софи, которой было нечего добавить. Ранее пресс-секретарь посольства советовал сестре жертвы не участвовать в пресс-конференции, опасаясь, что СМИ попытаются спровоцировать ее на истерику. Если такие попытки и были, то они провалились.
– Конечно, Люси упоминала о новом друге, мы же сестры, – добавила Софи, презрительно скривившись. – Она сказала, что встретила здесь парня и они начали встречаться, а большего вам знать и не следует. Что она говорила о нем – не ваше дело.
У трибуны, скорчившись, сидели фотографы, нацелив вверх объективы камер. Они ждали кадра, который следующим утром можно тиснуть на первую полосу газеты: утирающая слезу ладонь, искаженное тревогой и отчаянием лицо, хотя бы сомкнутые руки отца и дочери. Но их ожидания не оправдались. Когда пресс-конференция подошла к концу, я сообразил, что замешательство вызывает не только поведение Тима, но и его внешний вид. В целом он был одет вполне подходящим образом: пиджак, черные брюки, кожаные мокасины с кисточками… а потом я заметил эту деталь.
Когда выключали камеры и световое оборудование, ко мне подошел знакомый японский репортер.
– Ну как тебе мистер Блэкман? – мрачно поинтересовался он. – И почему он был без носков?
– Я яхтсмен, – объяснил мне Тим через несколько лет. – И редко надеваю носки, если можно обойтись без них. К тому же в Токио было очень жарко. – А по поводу отсутствия эмоций на пресс-конференции добавил: – Мы заранее решили, что обойдемся без истерик и слез. Ничего такого.
Тим родился в Кенте в 1953 году и ходил в школу на острове Уайт. Его отец, который тоже любил море, был суровым человеком. Тим, младший из трех детей, в семье считался, по его словам, «занозой в заднице».
– Я был самым младшим и самым мелким, но очень дерзким, а отец в то время отличался жестким нравом, – рассказывал он. – Он частенько злился и ругался, а я только отшучивался. Я вечно шумел и, надо думать, очень всех раздражал. Ни в чем не знал меры. Сегодня меня назвали бы гиперактивным.
В школе Тим играл на четырехструнном банджо в успешной блюграсс-группе. Они выступали на музыкальных фестивалях и даже на стадионе «Уэмбли», а также записали пластинку, которая, по словами Тима, «канула в небытие». Он не горел желанием поступать в университет и несколько лет наслаждался жизнью, продавая обувь и завоевывая репутацию нахального волокиты, каким его поначалу и увидела Джейн.
По мнению Тима, их брак не задался с самого начала и со временем все больше тяготил обоих. Последние годы супружества и первое время после развода ознаменовались проблемами не только на личном фронте, но и на работе. Семейные обувные магазины постепенно стали закрываться, а потом последовало катастрофическое банкротство строительной компании Тима. К 2000 году он снова вернулся в строй, с удовольствием связал свою жизнь с Джозефиной Берр и стал отчимом четырех ее детей-подростков, а затем наладил отношения и с собственными отпрысками, включая Люси.
Идея поехать в Японию не раз всплывала в разговорах с дочерью. Тим знал, что ей не нравится в «Бритиш эйруэйз» и что из-за длительных перелетов она опять начала болеть. Он также знал, что у нее долги: Люси напрямую спрашивала, сможет ли отец их выплатить.
– Я помогал ей с ними разобраться, – рассказывал Блэкман. – Подкидывал ей немного денег, но, честно говоря, я не в том положении, чтобы разбрасываться чеками на пять тысяч фунтов, да и не хочу заводить такую привычку. Естественно, теперь я живу с мыслью, что, оплати я долги, Люси не поехала быв Токио. Но наверняка тут не скажешь, и я не собираюсь терзаться всю оставшуюся жизнь и загонять себя в ловушку, из которой нет выхода. Все равно ничего не изменишь.
До отъезда Люси даже не упоминала о работе хостес.
– Я подозреваю, Люси опасалась моего неодобрения. И не ошиблась. Потому что такое занятие ей не подобает. Она достойна большего. Я мужчина, и я знаю: каким бы безопасным ни считался этот бизнес, мужчины смотрят на женщин с вожделением. Но Люси далеко не сразу открыла мне всю правду. Сейчас я понимаю, что вел себя как типичный наивный папаша.
После отъезда начались постоянные телефонные разговоры, а однажды пришла странная открытка. Поначалу девушка тосковала по дому. Из-за дороговизны она еле сводила концы с концами. Тим уговаривал ее вернуться, но Люси не хотела бросать Луизу. Через несколько недель дочь описала ему род своих занятий.
– По ее словам, работа немного странная, но довольно веселая: западные девушки, включая трех-четырех англичанок, разливают напитки забавным японцам, которые знай себе чирикают на своем непонятном языке. После смены девушки пропускают несколько стаканчиков пива и едут на велосипедах домой. А вскоре Люси призналась, что познакомилась с чудесным парнем, американским морпехом по имени Скотт. Она радостно щебетала, перескакивая с одного на другое. К тому времени, насколько я понял, ей уже начала нравиться токийская жизнь.
А потом раздался звонок Джейн. Какую версию их разговора ни выбери, ясно, что Тим воспринял новость об исчезновении дочери намного спокойнее и хладнокровнее, чем бывшая жена.
– Меня столько раз спрашивали, что я почувствовал в тот момент, – признался он, – а я даже не могу ответить. Все было как во сне. Джейн кричала в трубку, ругая меня на чем свет стоит. А я сидел в саду и слушал щебет птиц на деревьях.
Через несколько часов, не дожидаясь прояснения ситуации, Софи уже летела в Токио, намереваясь пожертвовать собой ради Люси. Тим ничего не знал о Японии. Как и его сын, Руперт, он обзвонил всех знакомых, у кого могли найтись хоть какие-то связи в Токио: деловые контакты, друзья, родственники. Японец, знакомый его брата, заявил Тиму, что исчезновение обычной британской девушки вряд ли привлечет особое внимание японской полиции.
– Я слышал подобное не только от него, – рассказывал Блэкман. – И тогда я запаниковал. Поскольку осознал, что целиком и полностью завишу от иностранных служб на другом конце света, и решение вопроса жизни и смерти находится исключительно в их руках. И меня уверяли, что они вряд ли его решат.
Примерно в то же время стали поступать звонки от журналистов.
– Джейн обычно отвечала на телефонные звонки в два ночи одинаково, посылая репортеров подальше, – говорил Тим. – Я вел себя по-другому. Когда мне начали названивать, я рассказывал все, что знал. Внезапно я понял, что складывается сюжет. И подумал: если мы хотим повлиять на происходящее, публика должна знать об исчезновении девушки. Потом из Токио позвонила Софи и пожаловалась: «Я в тупике. Полиция почти не общается со мной». Тут меня озарило: если удастся разжечь интерес к этому делу в Великобритании, дело сдвинется с мертвой точки. Я объявил, что еду в Японию, – и репортеры зашевелились.
Тим на личном опыте познал влияние, которое отдельный человек в правильно выбранный момент может оказать на СМИ, на заголовки газет. Его ждало и еще одно важное открытие.
В конце июля на острове Окинава японское правительство проводило саммит лидеров «Большой восьмерки». Владимир Путин, Жак Ширак и Билл Клинтон по пути на Окинаву посетят Токио. Там будет и премьер-министр Великобритании Тони Блэр, а неделей раньше японскую столицу посетит министр иностранных дел Робин Кук.
– Я знал о встрече «Большой восьмерки», – рассказывал Тим. – И подумал: раз уж там проходит саммит, весь мир обратит взоры к Японии, что нам только на руку. Если удастся заинтересовать английскую публику, заставить электорат обеспокоиться судьбой Люси, то любой политик, включая премьер-министра, сочтет своим долгом вмешаться – иначе его сочтут полным дерьмом.
Достичь цели, которую Тим себе поставил еще до отлета в Японию, оказалось непросто. Он намеревался превратить исчезновение дочери в громкое дело, в важную политическую проблему, которую обязаны решить самые могущественные люди обеих стран.
– Шла гонка на время, – пояснил Тим. – С одной стороны, шумиха обернулась бы мощной рекламной кампанией, вывела Люси на телеэкраны всей Японии. С другой – подстегнула бы токийскую полицию, раз уж это дело обсуждают премьер-министры Англии и Японии. Я все просчитал. Я словно превратился в гигантский экскаватор, которому необходимо докопаться до определенной точки – найти Люси. Но я находился в Англии. При необходимости я прочесал бы все дома, переулки и тропинки, однако искать надо было в другом месте, поэтому я решил: отправлюсь туда, прямиком из точки А в точку Б. И любую преграду, которая встанет у меня на пути, я попросту перееду.
Эта решимость, порой доходящая до одержимости, сыграет против Тима, однако она же придаст ему сил. Когда самолет начал заходить на посадку в аэропорту Нарита, открывающийся внизу пейзаж поразил и встревожил Блэкмана.
– Меня охватило полное отчаяние: я решил, что мне никогда не найти там Люси. При первом знакомстве город впечатляет, это просто другой мир, настолько он огромный, многолюдный и чужой. Я только смотрел и думал: «Господи Иисусе, что же будет? Что же будет?» Но у меня было неотложное дело: приковать внимание британских СМИ.
Тим поселился в отеле «Даймонд», где остановилась и Софи. Там осели и съемочные бригады, толпы репортеров и фотографов, прилетевшие в Токио тем же рейсом. Большинство британских представителей прессы мало что знали о Японии и не особенно ею интересовались, и к моменту появления Тима никто не представлял, куда приведет история об исчезновении Люси. Репортеров волновал только один вопрос: чем именно занимаются хостес? Если они, по сути, являются девочками по вызову, то могла получиться яркая, но короткая история о молодой женщине, по собственной воле погрязшей в порочном мире и заслужившей печальный, но предсказуемый финал. Семье будут сочувствовать, но в определенных границах. Ни один премьер-министр не встретится с отцом пропавшей проститутки. Тим должен был постараться показать Люси невинной девушкой, пусть даже слишком наивной, которая не сумела разобраться в ситуации, чтобы простые британцы вполне могли представить на ее месте своих дочерей.
Правильно подать историю Люси могли только Тим и Софи, и – благодаря цинизму британских СМИ – у них это великолепно получилось.
О квартале Красных фонарей, Роппонги, выходило немало скандальных репортажей («Опасности японских порочных ловушек» – под таким заголовком в «Пипл» напечатали пояснение: «Розы английского среднего класса, которые спустились в сумеречный мир греха»). Было много и нелепых расистских обобщений насчет японских мужчин и их страстного влечения к блондинкам с Запада («Мужчины могут стать извращенцами из-за строгого воспитания», – объяснял «свой человек в Токио» изданию «Дейли рекорд»). Но к Люси и ее семье отнеслись с деликатностью и уважением. Девушку чаще называли «бывшей стюардессой „Бритиш эйруэйз“», чем «девушкой из бара». Никто не расспрашивал родственников о том, что за долги были у Люси, никто не привлекал внимание к тому, что она приехала в Японию по туристической визе и работала нелегально. Несмотря на расхожесть пикантных баек о «шикарных британках, торгующих своим телом», с Люси их не связывали. «Ее работа в качестве хостес заключалась в беседах с выпивающими мужчинами, – аккуратно, по-джентльменски объяснялось в „Сан“, самой скандальной из всех бульварных газет. – Нет никакого повода думать, что она занималась чем-то еще».
Вместо мрачной поучительной «страшилки» о том, к чему приводит порочное поведение, заголовки живописали более убедительную человеческую историю о любящей и страдающей семье и обожаемом ребенке, потерявшемся за границей, – историю, которую многие читатели газет могли принять близко к сердцу: «Я никуда не уеду без моей Люси, я молюсь, чтобы с ней все было в порядке» («Экспресс»); «Я обязательно найду сестру» («Сан»); «Семья молится о девушке-сектантке» («Дейли телеграф»); «„За что?“ Поиски Люси, пропавшей без вести „рабыни культа“, продолжаются» («Сан»).
– Я предупредил Софи: если мы не предоставим им материал, они его выдумают, – объяснял мне Тим. – Мы хотели, чтобы наше дело обсуждалось на высоком уровне, и добились внимания благодаря нашей с Софи откровенности. Нам так сопереживали, что пытаться осквернить эти чувства уже не имело смысла. Мы играли по правилам: предоставляли подробную информацию, были сдержаны, не злоупотребляли вниманием, по вечерам ужинали с репортерами.
Сотрудников бульварных газет, привыкших к неприязни и враждебности своих героев, расслабленное обаяние Тима обезоруживало и даже почти пугало. Он всегда отвечал на звонки, письма, позировал перед фотографами. Он держался более чем услужливо, что иногда настораживало. У самых циничных репортеров его готовность помочь вызывала подозрения: возможно, в этой семье что-то скрывали от посторонних глаз? Но все домыслы отступали перед легкостью и настоящим удовольствием работать с Тимом.
За все время, что я знал Блэкмана, он всего один раз открыто дал волю боли и отчаянию.
Это случилось в конце июля во время пресс-конференции в британском посольстве, шестой за последние три недели. О Люси не было ни весточки; у полиции не нашлось ни зацепок, ни свежей информации для отчета. Прибывшие из Британии журналисты улетели назад в Лондон, да и местных репортеров собралось намного меньше, чем две недели назад.
Тим и Софи выглядели уставшими и печальными. Они больше не обменивались взглядами или улыбками. И Тим надел носки.
– Нас охватывает отчаяние и горе, что Люси держат где-то в ужасных условиях, и ей тоже безумно плохо, – произнес Тим. – И потому я, ее отец, слезно прошу: пожалуйста, просто отпустите ее к нам.
Голос у него дрогнул, он опустил взгляд, сдерживая слезы. Глаза Софи тоже блестели от слез.
Мгновенно защелкали затворы фотоаппаратов. Некоторые корреспонденты снимали крупным планом опущенную голову Тима – именно такого кадра они ждали с самого начала.
Годы спустя я спросил Тима о том моменте. Что спустя столько недель нарушило его показное неунывающее спокойствие?
– Возможно, не стоит говорить, – ответил он, помедлив, – но те слезы мы вообще-то спланировали заранее.
За несколько дней отец с дочерью составили распорядок дня, жестко привязанный к японским и британским выпускам новостей. Время в Лондоне отставало от токийского на восемь часов, поэтому Блэкманы не спали почти до утра: звонили друзьям и семье, давали телефонные интервью вечерним радио— и телепрограммам. Несколько часов отводилось на отдых, а потом ранним токийским утром начинались телефонные звонки, запрашивающие информацию для вечерних и ночных новостей. За завтраком Тим и Софи на ходу общались с британскими журналистами, которые жили в том же отеле, – те просили новые фотографии Люси и договаривались об интервью в более позднее время. Когда утро подходило к концу, Блэкманы заглядывали в посольство, которое размещалось в десяти минутах ходьбы от отеля вдоль зеленого рва и серых стен Императорского дворца. В обед они обычно носились по городу между студиями «ТВ Асахи» и Токийской системы радиовещания, выступая на дневных ток-шоу. Остаток дня посвящался городской полиции.
Софи служители закона показались ленивыми и безразличными, но на первой встрече с Тимом они постарались создать хорошее впечатление. Кортеж из черных микроавтобусов с затемненными стеклами в окружении мотоциклистов забрал Блэкманов из посольства. Команда японских телерепортеров гналась за ними в собственном минивэне.
– Они махали нам руками из окон, выписывали немыслимые повороты, газовали, пытаясь прорваться сквозь токийский трафик, – вспоминал Тим. – Смысла в их маневрах я, правда, не видел.
Пунктом назначения был полицейский участок Азабу в 140 метрах от перекрестка Роппонги. Как и все связанное с японской полицией, штаб-квартира расследования одновременно источала уют, лень и ужас.
Здание полицейского участка представляло собой ничем не примечательное бетонное сооружение в девять этажей. У входа на страже стоял скромный молодой полицейский с кобурой на ремне и неким оружием в руках, напоминающим ручку от метлы. На фасаде здания красовался Пипо – улыбающийся эльф, талисман токийской городской полиции. Над ним висел двуязычный рекламный плакат; английская версия звучала так: «Еще раз убедись, что все двери и окна закрыты». Ниже размещались объявления с портретами разыскиваемых преступников, гангстеров, подозреваемых в убийствах, а также три фигуры в полный рост – ухмыляющиеся беглые участники секты «Аум синрикё», которые пять лет назад выпустили в японском метро самодельный нервно-паралитический газ.
– Некоторые вещи нас поразили, – вспоминал Тим. – Я думал, нас привезут в гораздо более серьезное заведение. Интерьер напоминал пятидесятые: совершенно обычная, старая и грязноватая каталажка.
Больше всего удивляло полное отсутствие технологий. Сотрудники пользовались рациями, но вместо жужжащих ноутбуков высились старомодные стеллажи с картотекой и тонны бумаг.
– Мы ожидали увидеть нормальные компьютеры и все в таком роде, – печально усмехался Тим. – Нас отвели в некое подобие оперативного отдела, загроможденного маленькими серыми письменными столами, вокруг бродили похожие друг на друга люди в одинаковых белых рубашках, все с закатанными рукавами, и ни одного компьютера в поле зрения.
Послеобеденное время в полицейском участке всегда проходило одинаково. Тима и Софи отводили в крошечную переговорную, где по одну сторону низкого стола стояли два стула, а по другую – диван. Молодая секретарша приносила зеленый чай, чуть теплый напиток желтоватого цвета, который напоминал Тиму «телесные соки»:
– Его вкус внушал отвращение, но я из вежливости пил.
Вскоре входили старшие должностные лица, все принимались суетливо кланяться и пожимать друг другу руки.
Новичку непросто запомнить японские имена. Софи различала старших сотрудников по прическам. С Блэкманами работали инспектор Мицузанэ – улыбчивый сдержанный мужчина в очках с седыми волосами, расчесанными на пробор, и Наоки Маруяма – парень помоложе со стрижкой «ежик», быстро продвинувшийся по карьерной лестнице Национального полицейского агентства и бегло говоривший по-английски. На первой встрече с Тимом и Софи они дружно протянули свои визитки, исписанные с двух сторон на японском и английском языках. На карточке инспектора Мицузанэ значилось:
Акира Мицузанэ
Инспектор полиции
Начальник следственного управления
Первый следственный отдел
Уголовный розыск
Управление городской полиции Токио
2-1-1 Касумигасэки
Тиёда-ку, Токио 100-8929
Инспектор Мицузанэ по-английски говорил плохо, и необходимость перевода затягивала встречи. Хотя они в любом случае были бы продолжительными, потому что детективы все время пережевывали одно и то же, повторяясь, точно склеротики.
Они спрашивали об образовании Люси, ее карьере до приезда в Японию, причинах визита в Токио. Темой, которая больше всего их интересовала и к которой они возвращались снова и снова, были ее долги. С паспортов Тима и Софи без конца снимали копии, приходилось заполнять бланки и подписывать официальные заявления. Какой, спрашивали японцы, характер у Люси? Почему отец считает, что речь идет об уголовном преступлении? Тим отвечал:
– Просто Люси не такой человек, чтобы все бросить и исчезнуть. Она никогда этого не делала, и я не вижу причин для такого поступка. Она пошла на встречу с неким человеком. Затем позвонила подруге и сказала, что скоро будет дома, но так и не вернулась. Поэтому разумно сделать вывод, что мою дочь удерживают против воли.
Инспектор Мицузанэ кивал и отстраненно улыбался, однако объяснение его вроде удовлетворило. Присутствие старшего должностного лица говорило о том, что дело переведено из разряда обычного заявления об исчезновении человека в отдел криминальных расследований.
– Теперь полицейские вели себя совершенно по-другому, не так, как неделю назад, когда Софи откровенно выпроваживали из полицейского участка, – подчеркнул Тим.
Он не сомневался, что перемены в настроении служителей закона вызваны активным интересом СМИ и постоянными интервью ранним утром и поздней ночью.
На выходе из полицейского участка Тим и Софи часто видели Луизу Филлипс, которая тоже шла на допрос. Казалось, девушка там днюет и ночует. Но их встречи не отличались дружелюбием, напротив: между Блэкманами и подругой Люси росло напряжение. Софи вспоминала, какое отвращение внушала ей Луиза, всегда накрашенная и с маникюром, даже во время визита в полицейский участок по поводу исчезновения лучшей подруги. Похоже, Луиза чувствовала неловкость и даже смущение в присутствии Тима и Софи. По ее словам, детективы просили ее не разговаривать с ними.
К тому времени, когда Блэкманы снова выходили на Роппонги-авеню, уже темнело. Из фитнес-центра «Типнесс» прямо за полицейским участком выскальзывали хостес, готовясь к вечерней работе. Тим и Софи брали такси назад до отеля «Даймонд» и устраивались с пивом в ресторане на первом этаже. Примерно в это же время в холле собирались британские журналисты: они весело разбредались группами по двое-трое, чтобы провести очередное ночное «расследование» – обойти бары с девушками за счет работодателя. По телевизору, который висел в углу, показывали дублированное на японском интервью с Тимом и Софи, которое они дали утром.
В баре отеля стояло механическое пианино, которое весь вечер фальшиво наигрывало популярные песенки. За пианино сидел аниматронный белый кролик размером с человека, одетый в жилет и галстук-бабочку[23]. Морда у кролика была грустной и смиренной; от звуков пианино у него подрагивали усы. Но, похоже, остальная публика в баре не считала его странным или нелепым и не обращала на него никакого внимания. Тим и Софи потягивали пиво и таращились на белого кролика. Ощущение бессмысленности происходящего и отчаяния к концу дня идеально сочеталось с этой картинкой из Зазеркалья.
Невнятное бормотание
Тони Блэр встретился с Тимом и Софи в токийском отеле «Нью-Отани» в июле 2000 года. В тот момент премьер-министр находился на пике карьеры и всеобщего уважения как на родине, так и за рубежом. В тот день на встрече с японским премьером Ёсиро Мори в рамках саммита Блэр поблагодарил токийскую полицию за старания и попросил сделать все возможное для поисков Люси. Господину Мори изложили последние новости по этому делу.
– Полиция Токио прикладывает все усилия, чтобы отыскать Люси-сан, – сообщил он. – Надеюсь, они продолжат в том же духе.
Интуиция не подвела Тима Блэкмана. Блэр с его имиджем порядочного, честного и заботливого семьянина не имел права проигнорировать такое дело; речь, которую он произнес перед телекамерами, могла быть написана Тимом.
– Невероятно шокирующая история и кошмар любого родителя. Ребенок работает за границей, а потом исчезает, – заявил британский премьер, стоя рядом с отцом и сестрой Люси. – Это трагедия, и несчастная семья вне себя от горя, но они здесь и готовы бороться за то, чтобы их дочь нашли и ее судьба прояснилась.
– Давить нужно сверху, – подчеркивал Тим. – Если я начну топать ногами, то лишь вызову раздражение, но если то же самое сделает японский премьер-министр, самый главный начальник, это подействует куда лучше.
Разговоры на высоком уровне, похоже, и правда принесли плоды, и токийская полиция развернула бурную деятельность. Утверждалось, что над делом работают сорок детективов. По всей стране распечатали и распространили 30 000 объявлений о пропавшей без вести. Полиция предоставляла точные цифры о количестве звонков от населения: в один день – двадцать три, через двое суток – девятнадцать. Однако о качестве информации или о продвижении расследования в целом детективы не распространялись.
– Пожалуйста, будьте уверены, – говорил инспектор Мицузанэ, вежливо улыбаясь Тиму, – мы принимаем все необходимые меры.
Но Блэкманы сделали свой выбор – привлекли к поискам средства массовой информации, навсегда утратив доверие полиции.
Однажды отец с дочерью зашли в полицейский участок за вещами Люси, которые детективы забрали в Сасаки-хаусе. К тому времени Софи уже пришлось носить одежду сестры, потому что она привезла с собой слишком мало вещей. По телосложению и чертам лица девушки были очень похожи, а когда Софи начала еще и одеваться, как Люси, то вовсе стала казаться призраком сестры.
Все вещи, изъятые из Сасаки-хауса, были тщательно отсортированы и отмечены; за каждый предмет требовалось расписаться. Косметика Люси и маникюрный набор, книги по самосовершенствованию, ожерелье от Тиффани, подаренное Джейми, сентиментальное прощальное письмо от Софи и открытка для Сэм Берман – все запечатали в отдельные пластиковые пакеты и учли в регистрационном журнале. Дневник девушки как улику и возможный ключ к разгадке полиция оставила у себя.
Перебирая вещи Люси при секретаре полиции, Тим и Софи плакали.
Мучительнее всего было видеть игрушку, с которой Люси не расставалась с самого раннего детства. Это был потрепанный плюшевый пес по имени Повер (детский вариант клички «Ровер», которую малышке не удавалось правильно произнести). Его длинные мягкие уши девочка частенько грызла и зарывалась в них носом. И даже повзрослев, Люси не бросила Повера; он всегда путешествовал с ней на рейсах «Бритиш эйруэйз» и с годами становился все более облезлым и помятым. Он улетел с Люси и в Токио – и теперь лежал перед отцом.
– Это был очень дурной знак, – признался Тим. – Кошмарный момент. Мы воочию увидели, с чем имеем дело. Если бы дочка сбежала по собственному желанию, игрушка оказалась бы у нее в сумочке. Но Повер был здесь. Что говорило только об одном: она собиралась вернуться. И не вернулась.
– Общение с прессой, – рассказывал мне позже Тим, – напоминало игру. И, честно говоря, мне она нравилась, даже очень. Я не говорю, что мне нравилась ситуация, в которой я оказался. Но я понимал: если мы будем сильными, люди откликнутся, поверят, что мы не сдадимся. От разговора с Тони Блэром я ждал не похлопывания по плечу и утешений: «Ох, бедняжка. Как ужасно. Держись». Я старался держаться уверенно, чтобы и ему пришлось вести себя решительнее. Вот чем важна сила духа. Однако никто не понимал, что в глубине души я просто в ужасе. Я плохо воспринимал происходящее, будто потерял память. Я не слышал, что мне говорят; не соображал, что я вообще здесь делаю. Вспоминая сейчас о тех днях, могу сказать, что пережил настоящий шок и действовал на «автопилоте». Главная задача состояла в том, чтобы заставить СМИ как можно больше говорить о Люси, и в этом направлении я мыслил вполне здраво, но за сценой абсолютно ничего не соображал.
Как и отец, Софи Блэкман заставляла себя быть сильной, но, в отличие от Тима, «сила» чаще проявлялась у нее в виде злости или раздражения. Софи выглядела не грустной и отчаявшейся, а вечно сердитой на полицию и особенно на журналистов, к которым она демонстрировала открытую неприязнь. Ни вежливость, ни чувство юмора, ни обаяние не помогали скрыть ярость Софи. Она держалась так резко, что жалеть ее совсем не хотелось. А Софи – гордая молодая женщина, занявшая оборонительную позицию, – вероятно, того и добивалась. Начался самый ужасный период в ее жизни, который отравит ей долгие годы и даже едва не убьет.
В Японии Софи постоянно преследовала легкая дурнота. Из-за разницы во времени у девушки никак не проходило ощущение нереальности происходящего, и с момента приземления она ни разу не сумела нормально выспаться.
– Спишь около часа, потом звонит телефон, – рассказывала она. – И я целую минуту соображала, где я и зачем, и что поставлено на карту. И еще тошнота. Помню долгие месяцы тошноты. Я просыпалась на свежем гостиничном белье, в прохладном кондиционированном воздухе, в темной зашторенной комнате. И на долю секунду задумывалась: «А здесь мило – где это я?» Мгновение я радовалась, а потом приходила в себя, телефон продолжал звонить, и появлялись мысли: «Плохие новости? Сестра мертва?» Это продолжалось почти весь год: волны тошноты, тревоги и страха. Когда выяснилось, что случилось с Люси, известие о ее судьбе стало самым трагическим и ужасным испытанием в моей жизни. И все же оно воспринималось облегчением по сравнению с предыдущими девятью месяцами.
К середине июля сотрудничество со СМИ начало приносить результат: появились добровольцы, незнакомые люди, которые хотели помочь в поисках Люси.
Через неделю после приезда Тима в Японию прилетела его подруга Джозефина Берр. В тот вечер они вместе с Софи ужинали в ресторане «Беллини» в Роппонги, на той самой улице, где мужчины из Ганы зазывали прохожих в стрип-клубы. За соседним столиком сидела иностранная пара – красивая молодая женщина и высокий грузный мужчина под сорок с растрепанной шевелюрой, которые узнали Тима и Софи по теленовостям. Мужчина представился как Хью Шейкшафт, финансовый консультант из Британии; у него был небольшой собственный бизнес в Токио. Хью переехал в Японию четыре года назад и до сих пор не удалялся от перекрестка Роппонги больше чем на километр. Его офис размещался напротив Министерства обороны, жил он по другую сторону от автострады. Рестораны и бары Роппонги служили англичанину столовой, иностранные банкиры и биржевые брокеры, которые здесь околачивались, – клиентами, а хостес в клубах – подружками. Шейкшафта называли сэр Хью из Роппонги, и он гордился тем, что знал буквально всех. Он отлично прижился в этом районе, чувствовал себя здесь как рыба в воде.
Хью не был знаком с Люси, но слышал о случившемся и очень хотел помочь.
– Если хочешь найти дочь, забудь обо всех этих дипломатах, от них никакой пользы, – заверил он Тима. – Тебе нужен офис и выделенные телефонные линии. Все это я могу для тебя устроить.
Хью сопроводил Тима из ресторана к банкомату за углом, снял 200 000 иен (около 1250 фунтов) и вручил их Блэкману. Потом отвел его в бар через дорогу, где другой британец, приятель Хью, дал Тиму еще 100 000 иен.
Тим был потрясен. Работы в строительной компании приостановились на две недели, за ночь за номера в отеле «Даймонд» брали более 200 фунтов, плюс расходы на еду, такси и телефонные звонки.
– Я взял ссуду в банке, занимал деньги у шурина, по этому такой подарок пришелся как нельзя кстати, – признался Тим. – Просто фантастика, до чего щедрые люди.
На прощание Хью дал Тиму свою визитку и пригласил к себе в офис на следующее утро.
Офис находился в идеальном месте: на третьем этаже здания в пятидесяти метрах от «Касабланки». Там нашелся свободный телефон с автоответчиком, который новые друзья сразу решили использовать в качестве «горячей линии» для сбора информации от тех, кто не горит желанием общаться с полицией, – например, хостес-нелегалок, приехавших по туристической визе. За ночь Хью успел разослать электронные письма друзьям и коллегам с просьбой помочь Блэкманам. Один инвестиционный банкир предложил свои услуги в качестве водителя по вечерам и выходным. Другой эмигрант, который сотрудничал с производителем бытовой химии, предложил разместить фотографию Люси на бутылках с жидким моющим средством. Крошечный штат Хью поможет с переводом, а его подруга Таня[24], модель и хостес из России, с которой он ужинал прошлой ночью и которая говорила на нескольких языках, будет гидом.
В тот вечер они все снова собрались в «Беллини» и подняли бокалы за новый план. Хью предупредил менеджера ресторана, что Тим и его семья могут всегда ужинать там за его счет.
Офис и «горячая линия» помогли Блэкману снова поверить в свои силы. Помощь предлагали и из Британии, и скоро в Роппонги собралась целая команда волонтеров.
– Люди звонили постоянно, – рассказывал Тим. – У большинства были добрые намерения, но встречались и аферисты. А мы не умели их отличать.
Один самозванец, «частный детектив», приехал на неделю из Британии, опросил кучу хостес, а потом выставил счет на 12 000 фунтов (его, как и многие другие статьи расходов, оплатил Брайан Малькольм, успешный бизнесмен, муж сестры Тима). Весьма полезным оказался Адам Уиттингтон, молодой австралиец, бармен и бывший военный, который учился на телохранителя и дружил с Самантой Берман. Невысокий, рыжеволосый, скромный парень несколько недель провел в Токио, устроив собственное тайное расследование. Он скооперировался с двумя японскими репортерами, которые хорошо говорили по-английски и тоже посвятили немало личного времени поискам Люси, – Тоши Маэдой из «Джапан тайме» и Кентаро Катаямой из частной телекомпании Ти-би-эс.
Тим провел еще одну пресс-конференцию в посольстве и рассказал о «горячей линии» по делу Люси Блэкман. Британская авиакомпания «Вирджин Атлантик» оплатила печать листовок и объявлений, на которых был указан нужный телефонный номер. Теперь, когда у Блэкманов появилась штаб-квартира и набралась команда, можно было наконец перевести дух и подумать над самым главным вопросом: что же все-таки случилось с Люси?
– В те дни я даже не допускал мысли, что Люси уже нет в живых, – вспоминал Тим. – Не имел права. Иначе у всех просто опустились бы руки.
Однако, невзирая на упорную надежду на лучшее, факты не радовали. Люси уехала на встречу с мужчиной; в тот день она говорила с Луизой и была счастлива и спокойна. Телефонный звонок от Акиры Такаги, по всей вероятности, был «уткой», фальшивкой, которую подбросил тот, кто хотел запутать следы. Но это доказывало, что кто-то знает, где Люси, и подкрепляло версию об удержании девушки против ее воли. Но кем? И где?
Первым человеком, с которого имело смысл начать, был бойфренд Люси, морпех США Скотт Фрейзер. Все, кто с ним встречался, сочли его открытым и честным. К тому же у парня имелось безупречное алиби: в день исчезновения Люси он нес службу на борту авианосца «Китти Хок». Следующими в списке шли еще двое: лучшая подруга Люси Луиза Филлипс и Кендзи Сузуки, ее самый страстный клиент и дохан номер один.
Софи знала пароль к электронной почте сестры. Она оперативно распечатала все письма и передала их полиции. Общение с Кеном привлекало особое внимание служителей закона. Было ясно, что клиент испытывал к Люси сильные чувства, не укрылись от полицейских его скрытая ревность и раздражение в последних нескольких посланиях. Но детективы заверили Тима, что допросили Кена и исключили его из списка подозреваемых. Тогда как Луиза продолжала появляться в полицейском участке и вела себя с Блэкманами холодно, чем вызывала у них враждебность и подозрения.
В ключевые моменты этой истории Луиза оставалась единственной свидетельницей. Причин считать ее лгуньей не было, однако некоторые подробности ее рассказа были подозрительно туманными. Телефонный звонок Акиры Такаги выглядел слишком странным, такое нарочно не придумаешь, а то, что Луиза не сразу сообщила в полицию и не сразу позвонила семье, объяснялось обычной паникой и растерянностью. Но почему она ничего не знала о человеке, с которым в тот день уехала девушка?
Десять лет Луиза и Люси были лучшими подругами, она вместе работали, вместе ели и пили, делили одну комнату размером со шкаф. И все знали, что Люси болтушка.
– Она не умела уложиться даже в восемьдесят тысяч слов, такое было ей не под силу, – уверяла Софи. – Просто ужас, сколько подробностей она выкладывала.
На следующий день Люси ждал дохан; новый богатый клиент обещал подарить ей мобильный телефон. И в предвкушении девушка неизбежно болтала бы о человеке, с которым собирается встретиться. И все же Луиза утверждала, что понятия не имеет, кто он.
Тим и Софи умоляли ее напрячься и вспомнить человека, которого Люси развлекала до исчезновения. Кен Сузуки? Нет; по словам Луизы, Кен «милашка» и никогда не причинит зла. А как насчет пожилого «фотографа» Ватанабэ? Еще более немыслимо. Может, мистер Кова, который приглашал Люси на дохан за неделю до ее исчезновения?
– Не Кова, – отвечала Луиза. – Точно не он.
На «горячую линию» дела Люси начали поступать десятки звонков. Многие были от журналистов, которые просили дать интервью; остальные не несли никакой полезной информации, однако сотрудники Хью Шейкшафта аккуратно переводили и записывали каждый разговор: «В аэропорту Кагосима видели девушку, похожую на Люси. У нее была маленькая сумка, девушка села в серебристый „мерседес“»; «Невнятное бормотание и смех», «Некий японец видел несколько девушек европейской внешности в машине. Одна из них, похожая на Люси, показала на пальцах номер, вероятно, с просьбой позвонить. Номер оказался несуществующим»; «Люси видели 1 июля в 12:30 на горе Фудзи. На ней было белое платье»; «Никакой информации, звонивший просто тронут стараниями семьи спасти Люси»; «Невнятное бормотание и смех»; «Молодой мужчина, судя по голосу, смущен. Хочет пригласить Софи на свидание. Сказал, что она крутая».
Звонки шли со всех уголков страны. На каждый отвечали и проверяли любую информацию, не считаясь с трудностями. Один источник дал адрес квартиры на северном острове Хоккайдо, где якобы видели Люси. Адам с Таней пролетели 800 км, чтобы проверить сведения, но место оказалось заброшенным и совершенно пустым. Даже если было много подробностей, это мало чем помогало. Снова и снова на всех японских островах люди из лучших побуждений, стремясь помочь, обращали внимание на высоких иностранок со светлыми волосами и сравнивали их с той девушкой из объявления о пропавшей без вести. Учитывая, что больше никаких зацепок не было, поисковая команда проверяла каждое сообщение.
Через некоторое время Тим и его помощники стали подозревать, что для большинства японцев все светловолосые иностранки на одно лицо. Однажды Софи и Адам показывали фотографии Люси прохожим на главной улице Роппонги. Все относились к расспросам вежливо и с сочувствием, некоторые владельцы магазинов соглашались наклеить объявления на свои витрины. И вдруг две молодые японки очень оживились. Да, сказали они, они видели девушку на фотографии – всего несколько мгновений назад в магазине через дорогу. С колотящимся сердцем Софи и Адам побежали через улицу с одной из девушек, которая указала на нужную витрину. У холодильника с напитками стояла высокая светловолосая женщина европейской внешности.
– Это она! Это она! – кричала японка.
Женщина обернулась – это была Джозефина Берр, подруга Тима, на двадцать лет старше Люси; ни о чем не подозревая, она спокойно покупала еду.
Джейн Блэкман в Японию не рвалась. С одной стороны, надо было присматривать за шестнадцатилетним сыном Рупертом; с другой – мысль о камерах, пресс-конференциях и расспросах ее ужасала. Когда к ней пробивались репортеры, она бросала трубку телефона или закрывала дверь у них перед носом.
– Родители, которые очень близки со своим ребенком, могут представить чувства, которые я испытываю, – сказала она в одном из своих публичных заявлений. – У меня нет ни малейшего желания раскрывать душу перед прессой.
Джейн не спала и почти не ела, хотя и продолжала принимать пациентов на сеансах рефлексологии. Бренди она начинала пить еще за завтраком, чтобы пережить утро. Мать поддерживала связь с Софи по телефону и электронной почте, но с Тимом со дня последней неудачной беседы они больше не пытались общаться напрямую. В Севеноуксе Джейн мало чем могла помочь с практической точки зрения, но бездействие казалось невыносимым.
Возможно, из-за собственного интереса к духовным практикам Джейн больше других верила, что дочь действительно могла принять «Новое воскрешение», и тратила массу времени на изучение японских сект. Кое-кто из пациентов предложил ей обратиться к медиуму, и вскоре ясновидцы, целители и телепаты начали названивать ей сами.
– Они говорили: «Если вы заплатите, я поеду в Японию и найду Люси», – рассказывала Джейн. – И помню, я думала: «Разве ясновидцу так уж необходимо туда ехать?»
Но больше она ничем не могла помочь, и в итоге без толку тратила время на тех, кто якобы обладал сверхъестественными способностями: мужчину по имени Кит, который «тесно сотрудничал» с городской полицией по нескольким делам об исчезновении людей; Бетти – медиума, целительницу, поэтессу и «витаминно-минерального терапевта», и прочих подобных персонажей. Джейн ездила даже в Озерный край[25], чтобы встретиться с еще одной женщиной-спиритом. Позже она получила аудиозаписи ее сеансов со стонами, плачем и звуками труб, которые издавали невидимые духи. Один ясновидец связывался с потусторонним миром через кольцо Люси; другой искал пропавшую, водя ивовым прутиком по карте Японии. Джейн писала Софи длинные письма, делясь с ней информацией, полученной от «контактеров». Ее было много, она изобиловала удивительными подробностями и совершенно не имела смысла: «Люси удерживают в старом заброшенном доме близ сточных вод»; «Она на маленьком острове, принадлежащем якудза»; «Она в георгианском доме со слугами и игорными столами»; «Ее отвезли туда в ржавом зеленом фургоне»; «Ее похититель – мужчина с плохой кожей и шрамом на правой щеке», «Ее украла японка с длинной косой»; «Луиза знает больше, чем говорит. Не верь ей!»; «Один из японских полицейских лжет. Не верь ему!»; «Виновата японская мафия»; «Виноваты арабские экстремисты»; «Люси обрезали волосы»; «Люси окрасили волосы»; «Ее пичкают наркотиками»; «Ей не причиняют никакого физического вреда»; «Я вижу имя Кириаши»; «Где находится Окенхова?»; «Вам знакомо название Тисумо, Тосимо или Тусима?»; «Ищи перекресток с фонтаном и храмом»; «Проверь телефонный счет»; «Найми второго частного детектива»; «Похититель держит змей»; «Вижу татуировку в виде розы на плече».
Тим тоже не устоял перед привлечением подобных людей. Из Квинсленда прилетел пожилой австралийский «лозоходец» Махогэни Боб, услуги которого оплатил один британский таблоид. Австралиец держал в руках две ивовые ветки, которые должны были крутиться и скрещиваться, если он нападет на след. Несколько дней Тим, Софи, Адам и Таня ездили с Бобом по городу и стучались во все двери, возле которых раскачивались прутики. Группа штурмовала частные дома, офисы и даже борт сухогруза в Токийском заливе, но безрезультатно. Махогани Боб постепенно уставал и через несколько дней объявил, что Люси, видимо, мертва и он больше ничего не может сделать, после чего улетел домой.
У Джейн появилась идея отправить в Токио гипнотизера. Предполагалось, что тот введет Луизу Филлипс в транс и выяснит спрятанную в ее подсознании информацию, но в итоге ничего не вышло. «Похоже, я совершенно теряю ощущение реальности происходящего, – писала мать Софи по электронной почте. – Пожалуйста, держите меня в курсе, мне очень одиноко». Но даже к концу июля рассказывать было не о чем.
В Британии внимание таблоидов переключилось на еще более ужасную историю – смерть Сары Пейн, восьмилетней девочки из Сассекса, которая пропала в один день с Люси и через две недели была найдена изнасилованной и убитой. Журналисты один за другим начали покидать отель «Даймонд». Первыми улетели домой съемочные группы, пребывание которых в Японии обходилось работодателям дороже всего, за ними потянулись репортеры газет и фотографы. Интерес японских СМИ тоже угасал. Еженедельные пресс-конференции Тима и Софи привлекали все меньше народу. Даже намеренная демонстрация Блэкманом отцовских чувств не вызвала большого интереса.
Тим просил полицию Токио принять участие в совместной пресс-конференции, но детективы отказались. Он написал Тони Блэру с просьбой прислать сотрудников секретной разведывательной службы МИ-6 или Скотленд-Ярда для розыска Люси, и тоже без толку.
– Вам случалось видеть во сне кошмар, где с вами происходит что-то ужасное? – спросил у меня Тим. – Проснувшись, с облегчением вытираешь пот со лба и думаешь: «Как хорошо, что это лишь сон!» В моем случае все было наоборот.
Прошел почти месяц с момента исчезновения Люси. Девушка будто сквозь землю провалилась. А потом наступил август, самый жаркий и апатичный месяц в Японии, и вдруг все изменилось.
Искра надежды
Предполагаемая стоимость услуг по возвращению Вашей дочери из Японии – 50 000 долларов. Условия следующие: 25 000 долларов вперед, остальное выплачивается на месте. Вся предоставляемая Вам информация строго конфиденциальна и не должна разглашаться, если я не попрошу об этом. В случае утечки информации в третьи руки договор будет расторгнут.
Я жду половину запрашиваемого японским источником аванса, ее можно заплатить наличными. Я отчитаюсь за полученные в качестве посредника деньги и предоставлю Вам копию своего паспорта и документа, подтверждающего адрес. Сумму моего вознаграждения я напишу от руки:
12 500$ = 8500 Ј
Когда дело будет раскрыто, я сообщу Вам номер счета для денежного перевода, а также передам счета за телефонные звонки и прочие расходы с первого дня, когда я связывался с британским консульством; надеюсь, Вы останетесь довольны.
Уж простите, мистер Блэкман, но я не собираюсь выкладывать деньги из собственного кармана. Я считаю, что расходы следует оплачивать Вам, – если не все, то хотя бы частично. Думаю, на моем месте Вы поступили бы также, поскольку я действительно хочу сделать все возможное, чтобы Вам помочь. И раз уж я доверяю Вам и не требую сразу всю сумму, то Вы должны подкрепить мое доверие, выплатив хотя бы часть. Единственное, что я могу гарантировать: если Вы согласитесь на все условия, работа будет сделана. Если каждый выполнит свою часть сделки, мы покончим с этой историей за несколько недель. Если после получения этого факса Вы все еще готовы сотрудничать, позвоните мне, чтобы договориться о месте и времени, когда мы увидимся в Остенде. Во вторник у меня назначена встреча, я смогу найти время до или после нее.
С благодарностью, Майк Хилл
P.S.
Не забудьте Ваш номер мобильного в Японии и фотографию.
1. Время-четыре недели?
2.
Однажды днем, когда Тим и Софи сидели в полицейском участке Азабу, в кабинет ворвался младший инспектор и начал что-то горячо говорить инспектору Мицузанэ. Появилась папка с документами, которую оба принялись внимательно изучать. Что-то шепотом обсудив с коллегой, инспектор положил один из листов бумаги перед Блэкманами. Он прикрыл верхнюю часть, и можно было увидеть лишь самый низ страницы.
Там стояла подпись Люси. И все же она была сделана не ее рукой. Почерк явно пытались подделать по оригиналу, поскольку получилось вполне удачно, хоть и недостаточно, чтобы обмануть отца и сестру.
Был конец июля, письмо только что принесли; на нем стояли штамп почтового отделения и дата отправки – Тиба, один день назад. Составленное в текстовом редакторе послание на английском языке якобы было от Люси и адресовалось ее семье. «Я исчезла по собственному желанию и не хочу, чтобы меня нашли, – говорилось в нем. – Не беспокойтесь обо мне. У меня все хорошо. Я хочу, чтобы вы вернулись в Англию, и я позвоню вам туда». Тим и Софи, пробежав взглядом несколько строк, быстро поняли, что чопорное и неестественное послание сочинила не Люси. Оно было фальшивкой, как и подпись. Еще одним доказательством обмана служила дата на первой странице – 17 июля 2000 года, когда Тиму исполнилось 47 лет. Люси никогда не забывала о днях рождения близких, однако в тексте об этом не говорилось ни слова.
Письмо представляло собой очередную «утку». Но что оно означало? Полиция заявила, что там есть «подробности, которые могли быть известны только Люси», – вероятно, речь шла о ее многочисленных долгах. Значит, она не погибла? Или письмо лишь подтверждает, что она была жива с момента исчезновения и до написания этого странного послания и что ее удерживает человек, который его отправил?
Изначально Тим и Софи поклялись, что не уедут из Японии без Люси. Однако сидеть в Токио становилось невыносимо. И не только потому, что они забросили работу и разлучились с друзьями и родными, но также из-за цен в самом дорогом городе мира. Кроме того, сказывалось психологическое давление. У Тима появилось ощущение, что незаметно для окружающих он тихо сходит с ума. Поэтому они с дочерью договорились работать по очереди, меняясь каждые две недели, чтобы кто-то из семьи все же оставался в Токио.
Тим вместе с Джозефиной Берр улетел в Британию 4 августа. Прошло три с половиной недели с момента его приезда в Токио и тридцать четыре дня с тех пор, как пропала Люси. Из аэропорта Хитроу они на поезде добрались до Портсмута, а затем на пароме вернулись домой, в городок Райд на острове Уайт. Большой старинный дом священника, где жили Тим и Джо, стоял на холме, возвышающемся над морем; его наполняла необузданная энергия четырех юных отпрысков Берр. Но тревога за Люси не позволяла радоваться возвращению домой.
На следующий день, в субботу, Блэкману позвонил человек, который представился как Майк Хиллз.
Тим смутно вспомнил, что две недели назад уже говорил с неким Хиллзом. В тот момент он был для Блэкманов всего лишь очередным незнакомцем, который предлагал свои услуги, хотя его условия интриговали больше остальных. По голосу легко угадывался выходец из Лондона, однако жил Хиллз в Нидерландах. Он объяснил, что у него есть «контакты» в Японии, в том числе в преступном мире, которые способны помочь Тиму найти Люси. Одурев от бесконечной череды ясновидцев, «лозоходцев», частных детективов и прочих «помощников», Тим вежливо выслушал мужчину, но не придал разговору большого значения.
Но теперь Майк Хиллз позвонил снова и рассказал более подробную и невероятную историю. Он пояснил, что работал в сфере «импорта – экспорта» и проворачивал в Японии множество дел. В частности, он продавал оружие, которое посредники в Токио сбывали якудза. Торговля, невозмутимо заявил Хиллз, велась с молчаливого согласия токийских чиновников, однако недавно начались трудности. Активное полномасштабное следствие по делу Люси вредило бизнесу. Детективы задавали вопросы и совали свой нос в деятельность, которую полиция прежде игнорировала. Их вмешательство не нравилось обитателям преступного мира Токио.
К примеру, партии стрелкового оружия, отправленные Майком Хиллзом, застряли на складе, поскольку таможенники боялись брать привычные взятки. Загадка исчезновения Люси портила жизнь всем; приятели Хиллза по оружейному бизнесу мечтали о том, чтобы девушку нашли и поскорее отправили домой, чтобы они спокойно вернулись к своим делам. И, по словам звонившего, у якудза имелись все ресурсы, чтобы отыскать девушку. Услуги мафии потребуют денег, предупредил он Тима по телефону, но Хиллз не сомневался, что сумеет помочь вернуть Люси.
– Я не сразу понял, о чем речь, – вспоминал Тим. – Едва вернувшись домой после ужасных недель в Токио, я страдал от разницы во времени, был измотан и совершенно несчастен. И тут откуда-то из Голландии звонит этот кокни[26] со своей дикой историей. Он попросил: «Слушайте, не принимайте решение сразу. Давайте встретимся и все обсудим».
Они договорились увидеться через три дня, в следующий вторник по ту сторону Ла-Манша в бельгийском порту Остенде.
На следующий день Майк Хиллз позвонил опять с невероятными новостями. Он навел справки через своего японского информатора Накани, который выяснил, что Люси якобы жива и здорова. Неизвестные похитили ее и продали в рамках торговли иностранными женщинами, которую вели люди, связанные с якудза, но не сами якудза. Похоже, Накани знал тех, кто знал похитителей Люси, и не сомневался, что с их помощью девушку можно выкупить. Вся операция обошлась бы в 50 000 долларов, часть которых требовали вперед. В понедельник Майк Хиллз переведет 12 500 долларов из собственных средств – поэтому во вторник Тим должен взять на их встречу деньги, чтобы возместить расходы.
– Она по-прежнему в Токио, – уверял Майк. – Мои люди вернут ее, Тим. Ваша дочь очень скоро будет дома.
Хиллз также прислал по факсу свою фотографию. Снимок выглядел нечетким, но все же можно было разглядеть хитроватое, не заслуживающее доверия лицо, нездоровую морщинистую кожу и грустную улыбку, обнажающую кривые зубы.
Для Тима информации оказалось даже слишком много. Но игнорировать ее он ни в коем случае не мог.
– У нас не было ни малейшей зацепки для поисков Люси, – признался он мне. – И тут появляется этот парень и уверяет, будто у него есть данные о том, где ее держат. Не каждый отважится ответить: «Извините, я отказываюсь».
Помимо волнения и сдерживаемого облегчения, Тима охватил страх. Он позвонил Адаму Уиттингтону – молодому телохранителю-австралийцу, который сам только что вернулся в Лондон, – и пригласил съездить в Остенде вместе. В Дувре они сели на скоростной паром. Согласно договору, Тим вез с собой 12 500 долларов наличными, которые накануне снял в банке.
– Ситуация настолько необычная, – рассказывал он, – что я просто не знал, чего ждать. Возможно, нас заманивали в тщательно продуманную ловушку. Или хотели меня укокошить за то, чем я занимался в Японии. Могло быть что угодно. Мы словно попали в телебоевик, только по телевизору все благополучно заканчивается к вечерним новостям, а в реальной жизни понятия не имеешь, что может приключиться дальше.
Майк Хиллз ждал их в паромном терминале.
– Мужчина в темном костюме, редеющие волосы зачесаны назад, – вспоминал Адам. – Ему было около пятидесяти пяти, и выглядел он так, будто жизнь его порядком потрепала. Зубы все черные, полусгнившие, как у заядлого курильщика или очень больного человека. Тим представил меня как друга или родственника, и Хиллз предложил пойти в кафе прямо за углом.
Когда они шли мимо яхтенного причала, Майк заговорил о большой страсти Тима – яхтах.
– Он был в поношенном костюме и стоптанных башмаках, однако о лодках говорил со знанием дела, – признал Тим. – Сообщил, что у него когда-то была яхта «Свои – сорок два»[27] и он менял на ней палубу. Я спросил, какой материал использовали, и он рассказал, что укладывал тиковую древесину на фанеру, тик поперечного распила. Все подробно и верно с технической точки зрения – никакой лажи. Насколько я понял, раньше он служил в торговом флоте и при довольно жалкой внешности обладал живыми глазами и ясным умом.
В какой-то момент Тим заметил Майку, что тот не похож на богатого международного торговца оружием и он ожидал увидеть совсем другое.
Майк улыбнулся:
– Мне бы и не хотелось быть похожим на оружейного барона.
Владелец маленького полутемного кафе с тяжелыми кожаными креслами тепло поприветствовал Майка. Не успели заказать кофе, как Хиллз уже говорил о делах. Выяснилось, что с момента их последней беседы ситуация в Японии изменилась куда быстрее и радикальнее, чем ожидал Тим.
Люди Майка в Токио знали, у кого и где находится Люси. Они заплатят за нее 50 000 долларов, а после передачи заложницы устроят похитителям хорошую взбучку, чтобы впредь такого не повторялось. И все это намечено на ближайшие несколько дней.
Майк сказал, что Тиму с Адамом надо срочно вернуться в Японию и подготовить второй взнос в размере 25 000 долларов, чтобы заплатить за освобождение Люси. Главное – абсолютная секретность. Тим слишком активно работал со СМИ, поэтому контактным лицом выступит Адам, которому надлежит завести отдельный мобильный телефон для общения с Майком и его посредниками. Как только Люси окажется на свободе и благополучно вернется домой, нужно выплатить последнюю сумму – 12 500 долларов.
Майк говорил так, будто дело уже сделано и девушка вот-вот окажется в Англии. Всего несколько дней и пара денежных переводов – и Блэкманы оставят в прошлом боль и страдания последнего месяца. Но Тим все еще сомневался и был немного растерян. Кто их новый знакомый на самом деле? Где доказательства, что он говорит правду? Из внутреннего кармана потрепанного пиджака Майк выудил копию своего паспорта и квитанцию за водоснабжение по адресу в голландском городе Брескенс, а также имя и телефон друга по имени Билли, который, по утверждению Хиллза, работал с ним в сфере импорта – экспорта и мог поручиться за Майка.
В паспорте указывались следующие сведения:
Фамилия: Хиллз
Имя: Майкл Джозеф
Дата рождения: 26 июня 1943 года
Место рождения: Лондон
Тим вслух заметил, что документы не особо подтверждают добропорядочность Майка.
– Я понимаю ваши сомнения, но какие еще гарантии я могу предоставить? – возразил Майк. – Я живу в Голландии, поэтому единственный контакт, который я способен дать, находится здесь – либо в Южной Африке или Испании… Черт подери, будто на работу пытаюсь устроиться!
Перед тем как передать деньги, Блэкман от руки составил контракт с условиями договоренности, который оба подписали.
– А что, если что-то пойдет не так? – спросил Тим.
– Если мои указания не будут выполнены, – ответил Майк, – я лично оторву кое-кому голову.
Тим рассказывал мне:
– Нелепая ситуация. Я уже рисовал в воображении картину: угол темной улицы, тормозит автомобиль, Люси выталкивают под локти в нашу сторону, рука забирает чемодан с деньгами… Очень правдоподобно. Я так и представлял пустые глаза и ничего не выражающее лицо Люси, одурманенной наркотиками, которыми ее пичкали…
Он открыл портфель и передал Майку Хиллзу пачку денег – сто двадцать пять купюр по 100 долларов.
Молодой Адам Уиттингтон очень подходил для подобной встречи: тихий, спокойный, практичный, наблюдательный. Бывший солдат, телохранитель и бармен, он стал полицейским в Центральном Лондоне. На такого можно положиться. На пароме по дороге назад в Дувр Тим спросил Адама, правильно ли он поступил.
– Майк говорил очень разумные вещи, – рассказал мне позже Адам. – Он точно знал, о чем Тим спросит, и ни разу не замешкался с ответом. Все время, пока они разговаривали, я просто слушал его, пытаясь заметить брешь в его истории. Обманщик? Аферист? Но никаких причин усомниться в нем не было. Будь я на месте Тима, ради своей дочери я сделал бы абсолютно то же самое.
На следующий день Тим и Адам снова вылетели в Токио. Не прошло и недели с их отъезда; в отеле «Даймонд» на пианино по-прежнему играл белый кролик. Тим пошел в британское посольство и в общих чертах передал им историю Майка Хиллза: что его посредник связался с похитителями Люси и что ее очень скоро отпустят. Дипломаты отнеслись к информации без скепсиса и с пониманием; в резиденции посольства приготовили комнату, где о Люси могли позаботиться, пригласили врача. Адам взял напрокат мобильный телефон, и Тим отправил по факсу его номер Майку Хиллзу. «Этот номер мы больше никому не дадим, – написал он. – Когда начнется операция, у меня, наверное, будет сердечный приступ. Мы в полной боевой готовности, Майк, так что надеюсь, у вас все получится. Я буду перед вами в долгу до конца жизни».
Оставалось только ждать.
Труднее всего было убить время. Мероприятия, которые обычно отвлекали Блэкманов от раздумий, – интервью с журналистами и пресс-конференции – Майк строго запретил. Тим отправился в офис Хью Шейкшафта, где все еще работали добровольцы, принимая звонки по «горячей линии» Люси. Сообщения все так же оказывались бесполезными, не относящимися к делу и нелепыми: «Видели девушку, похожую на Люси, 28 июля в 18:00 в магазине „Джаст Ко“ в Нагое. Она была с завитыми волосами и держала за руку мужчину ростом около 177 см. Они сели в старую серебристую машину на четвертом этаже автомобильной парковки»; «Ребенок со словами моральной поддержки»; «Анонимный звонивший выразил мнение, что остров Матакадо в префектуре Эхиме – подозрительное место»; «Видели девушку, похожую на Люси, в палатке на пляже Фудзисава в компании мексиканцев, у них была вечеринка».
Японская полиция практически не общалась с Блэкманами. На их предложение отправить в Токио агентов МИ-6 секретарь премьер-министра от лица Тони Блэра ответил отказом. Но Майк Хиллз обнадеживал. Тим разговаривал с ним каждый день.
– Это вселяло надежду на его честность, – рассказывал мне Блэкман. – Он всегда был на связи. У него был такой телефон, которым можно пользоваться в любой точке мира, межгалактическая хреновина с суперроумингом, которая в то время казалась невероятной штуковиной. Он сам звонил и сообщал последние новости, я без проблем мог с ним связаться. Все под контролем, говорил Майк; нужно лишь терпение. Но все мои мысли вертелись вокруг простенького мобильного телефона, который Адам носил в кармане.
Тим и Адам убивали время в Роппонги, выпивая в «Спорте кафе» и обедая в «Беллини». Именно там однажды вечером арендованный телефон вдруг зазвонил.
Друзья переглянулись, и Адам лихорадочно выхватил аппарат из кармана.
– Я взял трубку и сказал «алло», – вспоминал Адам. – Ответил какой-то японец, он начал что-то говорить, но через секунду связь прервалась. Я кричал: «Алло! Алло!», но он уже не слышал меня. Мы с Тимом уставились друг на друга с безумным блеском в глазах: наверное, люди Майка наконец связались с нами. Но телефон так и не зазвонил снова.
Через несколько дней, не получив никаких вестей от похитителей, Тим начал терять терпение. Майк извинялся и объяснял, что встреча, где собирались передавать вторую часть денег, не состоялась. Посредники тех, кто удерживает Люси, просто не объявились. Но переговоры продолжаются, и Майк посоветовал попросить свежую фотографию Люси и ее локон, чтобы убедиться в правдивости истории.
Через неделю пребывания Тима в Токио Хиллз снова позвонил с плохими новостями: Люси больше не в Японии.
Он все разъяснил. Встревоженные бурным интересом к делу, похитители решили, что безопаснее всего поскорее сбыть девушку с рук. Они нашли трех мужчин покупателей. Сделка состоялась в местечке под названием Тенкай. Вскоре Люси тайно погрузили на контейнеровоз «Лео Джей». С ней были еще четыре западные девушки, которых выставят на рынке секс-рабынь. Но Майк не собирался сдаваться. Его люди следили за происходящим: один из них даже сумел проникнуть на корабль и сообщал последние новости о самочувствии живого груза.
Тим положил трубку в смешанных чувствах, он был раздражен и растерян. Потом он позвонил своему другу, который связался с Регистром судоходства Ллойда и запросил информацию о торговом судне под названием «Лео Джей». К большому удивлению Тима, такой корабль действительно существовал. Вот какую информацию ему прислали:
Торговое судно «Лео Джей»
Валовая вместимость: 12 004 тонн
Флаг: Антигуа и Барбуда
Управляющий / владелец: Немецкое общество морского судоходства, Харен, Германия.
«Лео Джей» действительно вышел из Осаки 10 августа, заходил в японские порты Кобе, Модзи и Токуяма, затем в Гонконг. Теперь он направлялся в Манилу.
На следующее утро от Майка пришел факс с черно-белыми фотографиями. Различить что-либо на них почти не удавалось, но одна, похоже, была сделана в доме, на другой просматривались лица трех улыбающихся азиатов, сидевших в поезде с портфелем. «Это место – Тенкай», – написал Майк под первой фотографией, а под второй: «Сумка с деньгами. Они едут в Тенкай».
«Теперь видно, что мои люди не сидят без дела, – добавил он в записке. – Они заплатили, чтобы получить ответы на кое-какие вопросы, и теперь отслеживают ситуацию».
Между тем 24 августа некий британский бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным, связался с «Джапан тайме» и предложил 100 000 фунтов в качестве денежного вознаграждения за информацию, которая поможет вернуть Люси.
Через несколько дней источник Майка на «Лео Джей» сообщил очередную обескураживающую новость: пять секс-рабынь, включая Люси, переброшены на судно «Арамак», которое сейчас направляется в Австралию. План спасения спешно пересмотрели: корабль перехватят в городе Дарвин, и Майк сам полетит туда, после чего встретится с Адамом. Но прежде ему нужно еще 10 000 долларов на покрытие расходов его самого и команды.
Тим перевел деньги в банк Майка в Нидерландах.
Адам улетел в Дарвин и остановился в отеле, где они договорились встретиться с Майком.
Хиллз так и не появился.
В порту Дарвина никто ничего не знал о судне под названием «Арамак». Тим пытался дозвониться на четырехдиапазонный телефон, но ему не удалось связаться с Майком. Наконец от Хиллза пришло электронное письмо, где он сообщал, что находится не в Австралии, а в Гонконге.
Похоже, он серьезно злился. Проблемой стали 100 000 фунтов вознаграждения, которые выбили из колеи подручных Майка. «Дарвин теперь отпадает из-за злосчастных 100 000 фунтов. Люди должны понимать, какой вред они наносят такими предложениями, – ругался он в письме. – Планы моих помощников изменились, и теперь все обстоит по-другому… Будьте добры, прежде чем что-то кому-то говорить, спросите сначала меня, мы же не хотим, чтобы запахло жареным».
Прошло еще несколько дней. Майк позвонил из Гонконга и сказал, что собирается встретиться со своим информатором и забрать Люси.
Во время следующего звонка он сообщил, что тот человек был убит в собственном автомобиле.
Адам объявил Тиму:
– Он играет с нами. Сейчас он наверняка вешает нам лапшу на уши. Заставляет нас кататься по всему миру, а сам ничего не делает. И постоянно просит еще денег.
Майк с некоторым раздражением согласился послать Тиму доказательства того, что действительно находится в Гонконге. Тим поинтересовался, как дела с обещанной фотографией Люси и ее локоном. Все это лежит в Голландии, пояснил Майк, в его личном абонентском почтовом ящике, доступ к которому есть только у него.
Потянулись недели пустопорожних разговоров. Тем временем в Токио японская полиция медленно шла по следу; Тим и Софи по очереди приезжали и уезжали. Адам и самые близкие друзья, которые знали о Майке Хиллзе, уверяли Тима, что его дурачат. В конце августа он улетел домой на остров Уайт, снова без Люси. Как минимум раз в день он говорил с Майком Хиллзом, который рассказывал о своих стараниях наладить контакт с секс-рабынями. Но больше никаких денег Майку Блэкман не посылал.
Однажды вечером в середине сентября, спустя полтора месяца после первой и единственной встречи с Майком, Тим ехал домой. Весь день у него были совещания. Он навскидку позвонил не на спутниковый телефон Майка, а на домашний голландский. Ответила женщина. Тим решил выдать себя за японца, говорящего на английском.
– Дзравствуйте, – сказал он. – Могу я говорить с мистаром Хирзу?
– Мне ужасно жаль, – ответила миссис Хиллз. – Он только что вышел на улицу.
– Он не в Гонконг?
– Нет-нет, он здесь, в Голландии. Просто спустился в магазин. Вернется через минуту.
Тим дал отбой. Через несколько минут позвонил Майк.
– Я только что говорил со своей женой, которая осталась в Голландии, – сказал он. – Она получила странный звонок. Судя по всему, из Японии. Ты не… ты знаешь, кто это был?
– Понятия не имею, Майк, ни малейшего, – сказал Тим. – Кстати, где ты? Еще в Гонконге?
– Тим, – сказал с раздражением Майк. – Я уже говорил тебе и повторю снова: я в Гонконге.
Тим купил в аэропорту Нарита диктофон и начал записывать все их разговоры. Но связаться с Майком Хиллзом становилось все труднее. Наконец он совсем перестал звонить.
Конечно, Майк оказался мошенником: вся его история была сплошной ложью.
В октябре 2000 года Тиму позвонил еще один незнакомец. Он представился как Брайан Уиндер, отец двадцатичетырехлетнего инвестиционного банкира Пола. В марте Пол Уиндер с другом ботаником отправился в поход в колумбийские джунгли. Молодые люди искали редкие орхидеи, но в какой-то момент недалеко от границы с Панамой, в районе под названием Дарьенский пробел, пропали. Больше о них ничего не было известно; предполагалось, что их похитила какая-нибудь группа бандитов, революционеров или наркоторговцев, каких немало в районах беззакония. Родители почти смирились с гибелью Пола, но потом им позвонили на домашний телефон в Эссексе, и появилась надежда. Человек на другом конце провода рассказал вполне правдоподобную историю о том, что у него есть «контакты в преступном мире» Панамы и что гангстеры знают, где их сын. Брайан заплатил звонившему 5000 фунтов. У него были плохие зубы и акцент кокни. В итоге ничего не вышло, Пола Уиндера так и не нашли.
Майк Хиллз даже не удосужился изменить имя.
Уиндеры заявили в полицию Эссекса, теперь туда же обратился и Тим. Он составил длинное заявление, в котором описал историю мошенничества, предоставил пленки с записями, факсы и электронные письма от Хиллза. Было возбуждено уголовное дело и выдан ордер на арест, но найти Майка не удалось. Вероятно, он уехал из Голландии в Испанию, в Аликанте; ходили слухи о его экстрадиции, однако шли месяцы, а новостей не было.
К радости семьи Уиндеров, через девять месяцев плена боевики освободили Пола с другом, и молодые люди вернулись в Британию к Рождеству 2000 года.
Когда через два года Блэкману позвонили детективы из Эссекса, тот уже почти забыл о своем заявлении. В центре Лондона два автоинспектора задержали владельца машины, припаркованной в неположенном месте, и попросили предъявить водительское удостоверение. После проверки данных на компьютере выяснилось, что на имя Майкла Джозефа Хиллза выдан ордер на арест.
Майк предстал перед Королевским судом Челмсфорда в апреле 2003 года по двойному обвинению в присвоении чужого имущества обманным путем. Его адресом значилась мини-гостиница в Ватерлоо. Он признал себя виновным и заявил, что ему надо было оплачивать лечение супруги, умиравшей от рака. Однако суд не нашел никаких доказательств того, что он потратил деньги именно на врачей. Хиллза обвиняли в мошенничестве и воровстве еще в 1970-х и теперь приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения.
Перед вынесением приговора Майк произнес:
– Чего греха таить, да, именно я брал деньги, я и никто иной. Если бы я только мог вернуть их потерпевшим! Я был бы очень рад.
После приговора Тиму позвонили журналисты и получили ожидаемый в подобных обстоятельствах комментарий: Хиллз – жалкий, гнусный мошенник, наживающийся на несчастьях других. Тут не поспоришь.
– Но даже в тот момент, – признался мне позже Тим, – я понимал, что без этого проблеска надежды мне пришлось бы совсем худо. Эта ниточка, соломинка, за которую я схватился, удерживала меня на плаву. Меня спасала крошечная искра надежды, что Майк может вернуть Люси. Только благодаря ей я не захлебнулся.
По словам Тима, это не просто история о злодее и его невинной жертве; Майк Хиллз был ему необходим, и в каком-то смысле Тим сам его создал от горя и отчаяния. Майк сыграл для Блэкмана роль ясновидца, которым так верила Джейн. Только те обещали спасение благодаря своим сверхъестественным способностям, а Хиллз предлагал более грубый и осязаемый метод – сумки с деньгами, оружие, захват.
– Когда я понял, что он мошенник, – рассказывал Тим, – у меня словно отняли спасательный круг. Я не расстраивался из-за денег или самого факта надувательства. Меня совсем не беспокоило, что я стал жертвой преступления. Все это не имело для меня никакого значения. Я лишь чувствовал боль, потому что у меня из рук вырвали страховочный трос.
Тим восхищал меня и одновременно отталкивал тем, что даже в смятении и горе умел посмотреть на ситуацию со стороны и досконально изучить свое положение, каким бы психологически тяжелым оно ни было. Сколько найдется жертв мошенников, которые смело и открыто скажут: «Эти деньги я потратил не зря»?
– Я не злился, – уверял Тим. – Но почувствовал, как падаю в бездну: больше нет спасательного круга. Где теперь найти еще одну искру надежды?
Садомазохизм
Каким бы ни был ответ, искать его следовало в Роппонги.
Другая семья в подобной ситуации обходила бы стороной район, где с их близким человеком случилась беда. Но Блэкманы провели там немало ночей. Для них Роппонги представлял собой лабиринт, в котором заблудилась Люси. Кроме того, само место их просто заворожило.
Август, японское лето в разгаре. Даже в центре Токио с деревьев насмешливо стрекочут невидимые цикады. Внешние блоки кондиционеров изрыгают потоки горячего воздуха, отчего на улице душно, как никогда; неоновый свет плывет в мягком влажном воздухе.
После ужина в «Беллини» за счет Хью Шейкшафта Тим, Софи и их помощники ходили по барам и клубам в поисках следов Люси. Тим заходил в «Кадо» и «Уан айд Джек», а также в заведение, где девушки танцевали вокруг шеста и раздевались до трусиков-бикини. Однажды вечером он заглянул и в «Касабланку», где работала Люси.
– Странное зрелище, – рассказывал он. – Тесное помещение, обычные западные девушки и очень оживленные японцы, которые прикидываются, будто говорят по-английски. Выглядит непристойно и отвратительно. Но Люси у меня не ассоциировалась с профессией хостес, и я знал, что она сама не считала ее своим призванием. Если бы она сказала мне: «Просто классно! Я в восторге!» – я бы очень удивился. Но ей не нравилось это занятие, что меня, как ни странно, утешало.
Блэкманы столкнулись с неоднозначным отношением со стороны «торговцев водой». Тима и Софи узнавали благодаря телепередачам и часто выражали им сочувствие или по-человечески сопереживали. Но исчезновение Люси пролило слишком много света на бизнес, который привык работать в тени полулегальности. Дела, которые десятилетиями проворачивались без вопросов, например наем иностранных туристок, подверглись неприятным проверкам. Многие хостес, бармены и «мамочки» не разговаривали с семьей Люси, и похоже, что инспектор Мицузанэ и его детективы не особо на них давили. Это возмущало Тима; он убедил себя, что полицию и владельцев баров объединяет «заговор молчания».
– Если Люси ушла на встречу с клиентом, кто-то в клубе должен знать с кем, – сказал он. – Полицейские должны пересечь воображаемую границу между властями и участниками хостес-бизнеса.
Блэкман внес предложение, которое вряд ли добавило ему друзей в Роппонги:
– Собрать всех сотрудников клуба – менеджера, владельца, девушек, – подержать их в тюрьме месяц-полтора, и пусть решают, не пора ли заговорить, – заявил он. – А потом повторить, пока не появится результат.
Некоторых шокировали постоянные прогулки Тима по Роппонги. В глаза ему ничего не говорили, но японские журналисты и сотрудники британского посольства шептались, что Тим злоупотребляет визитами в увеселительный квартал. Даже те, кому он импонировал, порой бывали озадачены.
– Мне действительно нравится Тим, но иногда он ведет себя просто… странно, – признался один японец, который уделил много времени помощи Блэкманам. – Например, мы заходили в какой-нибудь хостес-клуб, чтобы расспросить менеджера или маму-сан о Люси и девушках, которые там работают. Но вместо того чтобы задавать серьезные вопросы о дочери, Тим, казалось, просто разглядывал девушек. Мы выпивали, и он шептал мне: «Глянь на нее!» или «Красотка!». А я просто не знал, что ответить.
За те ночи в Роппонги выяснились тревожные подробности.
Во-первых, общедоступность нелегальных наркотиков. В Японии применяют очень жесткие меры наказания даже за хранение небольших доз легких наркотиков; их присутствие в молодежной культуре гораздо меньше, чем в Европе и Америке. Но в Роппонги работали дилеры из Израиля и Ирана, торгующие гашишем, кокаином и даже героином.
– В трафике участвуют все, – уверял Хью Шейкшафт, подразумевая своих знакомых торговцев, барменов и хостес.
Порошок кокаина получил сленговое название «Барри» – в честь американского певца Барри Уайта. То же самое означало еще более загадочное имя «Джереми».
– Джереми – это Джереми Кларксон, ведущий программы «Топ гир», – объяснил Хью. – А на сленге «гир» означает наркотики. Или могут, например, спросить: «Есть длинная позиция?» – как биржевом жаргоне трейдеров. «Длинной позицией» называют кокаин.
Самым популярным наркотиком у хостес являлся шабу, известный в Европе как «лед» или кристаллический метамфетамин, который можно вдыхать, курить, колоть или даже вводить в задний проход. Эффект, который он вызывает, способен превратить нудный разговор с унылым клиентом в захватывающий и безумно веселый флирт. Некоторые хостес всю ночь употребляли только шабу. С Тимом и Софи обитатели Роппонги старались вести себя осторожнее, но однажды ночью Адам Уиттингтон со свойственной ему скромностью выпивал в баре с Луизой и ее знакомыми. Одна из девушек – не Луиза – пригласила его в туалет и предложила понюхать шабу; Адам отказался.
Принимала ли наркотики Люси? Мог ли мужчина, с которым она встретилась, предложить ей еще один «подарок», кроме мобильного телефона? Луиза отрицала это, но ее воспоминания тогда были очень размытыми. Семья Люси считала, что девушка не страдала настоящей наркозависимостью, однако когда-то у нее был бойфренд наркоман, который плохо кончил. К тому же она работала в Сити в середине 1990-х, когда все напропалую потребляли кокаин. В своем дневнике она беспечно упомянула о походах с Луизой по магазинам Токио и «вечную охоту на… музыку (что угодно, только не Крейг Дэвид), открытки и „колеса“». Друзья считали ее скорее любительницей выпить, чем нюхать, курить или принимать таблетки. Но возможностей достать наркотики было хоть отбавляй.
Второй неприятной новостью стало огромное множество историй, когда девушки-хостес европейской внешности пропадали без вести или подвергались нападениям клиентов.
Часть подобных баек основывалась лишь на сомнительных слухах и представляла собой обычные городские легенды, которые пересказывают обыватели. Однако нашлось и несколько подтвержденных случаев, когда в Роппонги иностранки попали в беду.
Тремя годами ранее двадцатисемилетняя хостес, канадка по имени Тиффани Фордхэм[28] вышла в Роппонги из бара после работы и пропала; дело официально оставалось открытым, но на самом деле полиция просто сдалась. Совсем недавно, весной 2000 года поступило сообщение, что три девушки из Новой Зеландии, имена которых не раскрываются, сбежали через окно второго этажа здания, где их удерживала и постоянно насиловала группировка якудза.
Однажды вечером Хью Шейкшафт представил Блэкману двух своих подруг, австралийку Изабель Паркер и Клару Мендес из Канады[29]. Тим тогда приехал в Японию в первый раз и находился в такой депрессии, что информация, которой поделились молодые женщины, совершенно не задержалась у него в голове.
Изабель и Клара олицетворяли мечту Роппонги: бывшие хостес, в итоге вышедших замуж за богатых западных банкиров, с которыми познакомились на работе. Обе рассказали похожие истории о дохане с богатым японским клиентом, который отвез их в свои апартаменты у моря и подсыпал наркотик в бокал вина, после чего они очнулись через несколько часов голые в его кровати. Когда Изабель Паркер проснулась, мужчина снимал ее обнаженную на видеокамеру. В порыве ярости девушка украла пленку, но вместо того чтобы отнести ее в полицию, стала шантажировать обидчика. В обмен на видео он заплатил ей несколько сотен тысяч иен.
Это было много лет назад, и ни одна из девушек не помнила, куда именно их отвезли. Но обе описывали одно и то же место: курортный отель у моря, бетонные корпуса со множеством номеров, шелест пальмовых листьев на ветру.
Однажды августовским днем по «горячей линии» позвонил японец по имени Макото Оно. Он был крайне возбужден и объяснил, что владеет очень важной информацией, которой поделится только при встрече. Тим и Адам отправились к нему по указанному адресу в Ёёги, недалеко от дома для гадзинов, где жила Люси. Таксист высадил друзей напротив неприметного многоквартирного здания, и они поднялись в лифте на верхний этаж. Их взору предстало не самое обычное жилище. Одна из комнат была заставлена осветительными приборами, камерами и кроватями. В другой размещалось оборудование для монтажа видеопленок. На столах лежали пошлые журналы на японском и английском языках, на стенах висели постеры с обнаженными женщинами.
Тим и Адам поняли, что находятся в небольшой порностудии.
Макото Оно, невысокий коренастый мужчина за сорок в футболке и спортивных штанах, выглядел достаточно прилично. Он объяснил, что раньше у него был маленький компьютерный бизнес, а теперь он продюсер фильмов для взрослых. Адам и Тим постарались отнестись к происходящему невозмутимо, как сам Макото, но не могли удержаться, чтобы не поглядывать на открытую дверь в комнату с кроватями и камерами. Впрочем, в остальной части студии было тихо. К облегчению и некоторому разочарованию гостей, съемок в настоящий момент не велось.
Как объяснил мистер Оно, помимо продюсирования, он увлекается садомазохизмом. Он назвал его своим «шуми» – хобби, излюбленным времяпрепровождением. Как и многие японцы, он разделял свой интерес с группой единомышленников, входящих в садомазосообщество, члены которого делились видео, журналами и фантазиями, а иногда устраивали и совместные оргии со специально приглашенными девушками.
Более десяти лет назад он входил в группу, которой руководил человек по имени Рюдзи Мацуда, богатый бизнесмен из соседнего портового города Иокогама[30]. Впервые Макото увидел его на собрании, где собирали деньги, чтобы нанять девушек (обычно студенток, которым нужно подработать), нарядить их в кожу, скрутить веревками и фотографировать в помещении, декорированном в стиле подземелья. Мацуда сразу же показался ему опасным; японцы называют таких заимствованным английским словом «маньяк». Мужчина отличался чрезмерным аппетитом к жестокому сексу, что отталкивало умеренного садиста Макото. Все члены сообщества хвастались своими подвигами, реальными или мнимыми, но рассказы Мацуды по-настоящему пугали.
– У меня у самого есть дочь, – признался Оно, обращаясь к Тиму. – Я увлекаюсь садомазохизмом, но все же есть граница, которую нельзя пересекать.
У Мацуды была любимая фантазия: замучить сексуальную партнершу насмерть. Он похитил бы женщину, говорил он, высокую иностранку со светлыми волосами и большой грудью, и снял на видео, как пытает ее до смерти в своем «подземелье». «Какой мужчина, – спрашивал он Макото, – не мечтает хотя бы раз в жизни совершить по-настоящему безумный поступок?»
В конце концов Оно перешел в другое общество, с более мягкими нравами, и порвал с группой Мацуды. Но продолжал общаться с одним из ее участников, мужчиной 52 лет по имени Акио Такамото. Как и большинство приятелей Мацуды, в реальной жизни он был крайне уважаемым господином, управленцем из компании «Фудзи филм», головной офис которой находился в нескольких сотнях метров от Роппонги. В середине июля, через неделю после новостей об исчезновении Люси, Такамото связался с Оно.
– Он пришел ко мне очень расстроенный, – вспоминал тот. – Нес всякий вздор, говорил: «Надо поговорить с Мацудой». И твердил: «Он решился. Он все-таки решился». А потом добавил: «Может, есть видеозапись. Мы обязаны пойти к нему выкрасть ее».
У Оно мороз пробежал по коже, он сразу все понял: его товарищ Такамото считает, что хвастун Мацуда наконец осуществил свою фантазию и похитил Люси Блэкман.
У Мацуды только что появилось новое «подземелье», поведал Такамото, секретное логово, где он мог удовлетворять свои желания. Однако он не показывал его приятелям-садомазохистам и никого туда не приглашал, что выглядело подозрительно. Такамото сразу вспомнил, как Мацуда, разрабатывая план похищения, придумал способ обмануть полицию: убедить ее, что пропавшая жертва вступила в религиозную секту. Звучало действительно правдоподобно.
– Мацуда точно в чем-то замешан, – уверял Макото Оно. – Такой не остановится перед убийством. Он обращался с женщинами как с куклами.
После ухода Такамото он немедленно отправился в полицейский участок Азабу и выложил им всю историю. Детективы с интересом его выслушали, записали имена и адреса упомянутых лиц и предупредили Оно, что ему придется дать показания еще раз.
Такамото опять навестил его на следующей неделе, он был в полном смятении и снова выразил уверенность, что Люси убил Мацуда. Прошло две недели, но ни от Такамото, ни от полиции ничего не было слышно. Однажды утром продюсеру позвонил еще один знакомый, с которым связалась жена Такамото: ее муж не вернулся домой после работы накануне вечером. Не знает ли Оно, где тот может быть?
И Оно знал кое-что, о чем не подозревали остальные, включая семью Такамото: что у уважаемого управляющего «Фудзи филм» тоже есть собственное «подземелье», маленькая съемная квартира в нескольких остановках на электричке от дома.
В тот день Оно вышел из своей порностудии пораньше и направился прямо туда.
Однокомнатная квартира располагалась на втором этаже старого гнилого деревянного здания с самым дешевым жильем. Продюсер постучал, но ему никто не ответил. Он потянул за ручку, дверь открылась, и Макото оказался в крошечном коридоре. Там стояли туфли Такамото – значит, он внутри. Продюсер отодвинул бумажную дверь, которая разделяла коридор и комнату. Первое, что он почувствовал, – сильный запах. Воняло бензином и отхожим местом. По комнате валялись груды книг, журналов и видеопленок; мерцал экран компьютера. И тут за комодом Оно заметил бледные ноги.
Это был Такамото, по всей вероятности, мертвый. Он висел на веревке, привязанной к настенному крюку. Тело не раскачивалось, прислоненное к стене, ноги касались пола; ниже пояса мужчина был голым. Запах бензина шел от перевернутой канистры, содержимое которой впиталось в татами на полу, а изо рта трупа вытекало нечто похожее на человеческие экскременты.
Продюсера затрясло, он выскочил на улицу и позвонил в полицию.
За несколько секунд, проведенных в комнате, Макото Оно заметил и еще кое-что. На стенах в синих рамках висело несколько объявлений с надписями на английском и японском языках. На фотографии была улыбающаяся Люси Блэкман.
Через пару часов на месте преступления собралось человек двадцать полицейских, как в форме, так и в штатском. Следующие несколько дней Оно подолгу общался с ними.
Как выяснилось, после его заявления Такамото вызвали на допрос. Он состоялся 5 августа, три дня назад, в субботу – полиция не хотела причинять свидетелю неудобства и вынуждать его прогуливать работу. Такамото рассказал о своих опасениях по поводу Мацуды. На следующий день он внес арендную плату – мизерные 20 000 иен (125 фунтов) в месяц – за свое секс-логово. В понедельник, как обычно, попрощался с семьей и ушел на работу. А в период между тем вечером и следующим днем Такамото умер.
Журналы и видео в его «подземелье» носили порнографический характер; в компьютере обнаружились файлы с жестким порно из Интернета. На большинстве фотографий фигурировали белокожие женщины в унизительных позах. Соседи подтвердили, что тихий управленец в очках почти каждый день приходил в квартиру ранним вечером, хотя они не имели ни малейшего понятия, кто он и чем там занимается. Полиция не стала глубоко копать и заключила, что случайная смерть произошла по причине аутоэротического удушения, когда временно перекрывается доступ кислорода в мозг, чтобы усилить ощущение оргазма. Опасная забава в последние годы стала причиной многих смертей, хотя семьи погибших зачастую предпочитали публично заявить о самоубийстве.
Но Оно не верил вердикту полиции.
Возможно, Такамото намеренно свел счеты с жизнью, опасаясь, что в результате допроса всплывут его садомазохистские наклонности? Но, если он так боялся осуждения и унижения, почему он покончил с собой таким несуразным способом? А объявления с фотографией Люси – почему Такамото не говорил о них своему другу Оно, с которым неоднократно обсуждал дело пропавшей девушки? А что, если их развесили уже после смерти Такамото, чтобы пустить полицию по ложному следу? Бензин на полу мог указывать, что незваный гость пытался сжечь квартиру, но ему помешали.
По словам Оно, главной уликой он считал самую отвратительную подробность – фекалии во рту и на лице Такамото. Полиция определила, что они принадлежали самому покойнику.
– Порнопродюсер объяснил, что, если человека вымажут чужим дерьмом, это просто извращение, – вспоминал позже Адам Уиттингтон. – Но если собственным, это знак презрения, страшное оскорбление.
Вот зачем Оно обратился к Тиму и Адаму: он хотел поделиться подозрением, что девушку похитил Мацуда, и он же убил Такамото, поскольку тот узнал правду.
– Мне тогда попадалось немало весьма странных людей, – рассказывал мне Тим. – Но это уже было просто из ряда вон. Я имею в виду его предположение… хуже не придумаешь, правда? Хотя как знать… В любом случае к тому времени я совсем ополоумел, что, пожалуй, меня и спасло. Если бы я поверил в такую судьбу дочери… Но я не мог воспринять всерьез столь безумную идею, и это только к лучшему.
Однако Адам отнесся к рассказу мистера Оно серьезно, включая информацию, которой тот поделился с ними перед уходом: адреса тайных «подземелий» покойного мистера Такамото и его предполагаемого убийцы мистера Мацуды.
Через несколько дней Адам и Ёши Курода[31], японский журналист, помогавший Блэкманам, отправились в логово Мацуды. Они припарковались в жилом районе Иокогамы с невысокими многоквартирными домами – в пыльном старомодном квартале, где по вечерам гуляют старушки с собачками и где не встретишь детей. Снаружи дом напоминал не камеру пыток, а обычный склад. Перебравшись через деревянный забор, Адам обошел вокруг скрытое от чужих глаз здание, пока Ёши караулил на улице. Окна были занавешены, но в щель между шторами виднелась часть комнаты. Адам заметил ковер на полу и разбросанные по нему видеокассеты.
Сильным ударом камня Уиттинтон разбил окно. Маленький и юркий, он дотянулся до шпингалета, пролез в открытое окно и впустил Ёши через входную дверь.
Они оказались в прямоугольной комнате; грязную раковину скрывала неряшливо прикрепленная за один угол простыня. Плотные шторы почти не пропускали свет, однако можно было разглядеть стулья, телевизор, видеомагнитофон и матрасы на полу, а также груды порнографических журналов и видеокассет. На этикетках красовались фотографии японских и западных женщин. Большинство кассет были фабричного производства, но попадались и самодельные.
– И еще по всей комнате валялись секс-игрушки, – с отвращением вспоминал Адам. – Фаллоимитаторы, зажимы для сосков – гадкие, нездоровые предметы. Пояса, ремни и какие-то приспособления, которых я никогда раньше не видел. Одно с трубками, которые вводят в женщину; нечто вроде фиксаторов, чтобы удерживать ноги раздвинутыми; цилиндр, размещаемый между ног.
Инструменты унижения и боли, придуманные для удовольствия.
Они с Ёши просмотрели наклейки на видеозаписях в поисках связи с Люси, но ничего не нашли. Стены оставались пустыми: никаких объявлений о пропавших без вести. У Адама колотилось сердце, ведь они находились в настоящей пыточной камере, храме сексуальной деградации, о которых многие слышали, но вряд ли захотели увидеть своими глазами. Ощущения не поддавались описанию словами. Место выглядело настолько дико и немыслимо, что почти логично было бы обнаружить здесь разгадку исчезновения Люси. Но, к своему огромному разочарованию, друзья ничего и никого не нашли. Они искали девушку повсюду и наконец добрались до самого темного уголка человеческой души, до мира наручников, экскрементов, жестокости и смерти – но Люси не оказалось и здесь. Они почти мечтали обнаружить банду садомазохистов в процессе оргии, шабаш ведьм, приносящих человеческие жертвы; раскрыть осязаемое, явное зло, связанное с насилием. Что угодно, лишь бы не полное отсутствие всяких следов Люси.
Комната выглядела безжизненной и грязной. Слой пыли покрывал блестящие вибраторы и глянцевые страницы журналов. Адам внимательно осмотрел пол, матрасы и раковину в поисках светлых волос. Ёши постучался к нескольким соседям, но ни один из них ничего не знал о квартире и о человеке, который ее снимал; никто не видел и не слышал ничего подозрительного.
Позже Ёши посетил квартиру, где умер Такамото. Там было пусто и чисто. Журналист даже отправился домой к повешенному, проехав три остановки на пригородном поезде, на котором тот каждый день ездил на работу. Дверь открыла вдова Такамото; Ёши поразили ее молодость и красота. Он представился репортером, но беседа не задалась.
– Я пытался с ней поговорить, но она только плакала, – рассказывал он. – Настоящая трагедия: у человека прекрасная жена, красивые дети и красивый дом, а его ждал такой конец. К его вдове уже приходили репортеры, и она была в отчаянии. Умоляла меня: «Пожалуйста, уходите, просто уходите». Мне стало так паршиво, что я сбежал.
Наконец Ёши поехал домой к Рюдзи Мацуде в более респектабельный пригород Иокогамы. Он уже собирался позвонить в дверь, но решил спрятаться на другой стороне улицы. Через некоторое время показался Мацуда – коренастый, энергичный на вид мужчина среднего возраста, с полным круглым лицом и короткой стрижкой. Журналист хотел подойти и представиться, но передумал. Прежде чем Мацуда уехал, Ёши сфотографировал его с сильным приближением возле дверей дома.
Но что делать с этими снимками и полученной информацией? Несколько недель Макото Оно досаждал Тиму и Адаму звонками и визитами, твердя, что убежден в причастности Мацуды к исчезновению Люси. Адам задумался о причине такой активности. С одной стороны, история выглядела убедительно, но кто знает, какие споры и вражда могли возникнуть между рассорившимися садистами?
– Макото вел себя как ребенок в собственном остросюжетном фильме, – вспоминал Адам. – Ему хотелось везде успеть. По правде говоря, он просто наслаждался происходящим. Под конец он уже всех достал, пытался контролировать расследование, указывал нам, что делать. Я бы и сделал, будь у нас достоверная информация. Но она ограничивалась россказнями японца, оседлавшего любимого конька. Мы с Тимом пересказали полицейским слова Оно. Но у них уже были имена участников общества и адрес Мацуды. О расследовании я знаю не больше вашего. Когда мы говорили с детективами, реакции не было никакой. Они выслушали нас, сделали несколько заметок, а потом выпроводили за дверь.
Силуэт человека
Первого сентября Люси исполнилось бы двадцать два года. Не желая предаваться отчаянию, Блэкманы воспользовались возможностью провести ряд мероприятий, чтобы снова разжечь угасающий интерес СМИ. Джейн и Руперт Блэкманы выпустили тысячу розовых и желтых воздушных шаров над знаменитым городским крикетным полем в загородном клубе «Вайн» в Севеноуксе. Софи хотела сделать то же самое в Токио, но полиция запретила акцию на том основании, что летящие воздушные шары будут отвлекать внимание водителей от дороги. Тогда Софи стала раздавать листовки на перекрестке Роппонги; на гигантском экране за ее спиной транслировали фотографию Люси и номер «горячей линии». Накануне Софи надела черное платье и сняла на видео свой путь из Сасаки-хауса к станции «Сэндагая», которым в ту июльскую субботу шла ее сестра. Поисковая группа надеялись, что удастся уговорить телекомпании показать запись, и она воскресит воспоминания очевидцев. Но одной реконструкции было недостаточно, без свежих новостей история блекла.
Чем еще могли помочь родные исчезнувшей дочери? Разве что предложить деньги. В конце лета и начале осени они раз за разом увеличивали вознаграждение, мгновенно появлялись свидетели, но так же быстро исчезали. Как доза наркотика, вызывающего зависимость, растущая сумма премии оказывала все более слабый эффект.
Наконец семья Тима назначила вознаграждение в размере 1,5 миллионов иен (почти десять тысяч фунтов стерлингов) за информацию, которая поможет найти Люси. Один австралийский турист связался с Би-би-си и сообщил, что видел Люси в Гонконге, она снимала деньги в банкомате, «кричала что-то невразумительное и несла всякую тарабарщину». Тим поговорил со свидетелем, но девушка, которую он описал, была слишком маленького роста. В полицию Токио позвонили из Катара, страны Персидского залива, где видели, как Люси шла по улице. Британское посольство в Дохе провело расследование, но зацепка ни к чему не привела.
Тим и Софи мотались туда и обратно. Даже дома в Британии они не успевали сосредоточиться на работе или привыкнуть к распорядку дня. Бизнес Тима замер, поиски Люси обходились отцу в десятки тысяч фунтов. В середине октября он выступил с обращением к упомянутой в телефонном звонке «Акиры Такаги» секте «Новое воскрешение», которая якобы удерживала Люси. Долгие недели деталь считалась нелепой «уткой», но Тим был в отчаянии.
– Возможно, нужно уделить больше внимания версии о секте, в которую вступила Люси, – заявил Тим на девятой пресс-конференции журналистам, которых собралось совсем немного. – Я допускаю, что внимания прессы недостаточно для возвращения Люси. Но шанс есть, и я буду рад получить любую информацию или предложение встретиться в сугубо конфиденциальной обстановке. Если дочь на самом деле вступила в секту, ее руководство вправе ждать возмещения расходов. Если дело только в деньгах, я знаю, что семья их найдет.
Всех волновал вопрос, что случилось с Люси. Но Тима это не интересовало. Какая разница, что там произошло, если дочь вернется домой?
– Я слышал ужасные истории о пропавших девушках, – признался он. – Их пичкали наркотиками, держали взаперти, фотографировали, насиловали, а потом выкидывали на улицу. Я буду счастлив, если с Люси выйдет то же самое. Мы всё преодолеем, как только я заберу ее домой. Но сначала надо ее найти.
Тем временем анонимный британский бизнесмен поднял размер вознаграждения до 500 тысяч фунтов.
Однажды Тим ходил по Роппонги с пачкой листовок о пропавшей без вести дочери, расклеивая их по телеграфным столбам на главной улице. Оказавшийся рядом полицейский строго сообщил, что так делать нельзя. Если Тим немедленно не снимет объявления, заявил офицер, ему придется пройти в участок.
– Пожалуйста, послушайте меня, – сказал полицейский.
Тим покачал головой и вытянул руки, готовый к аресту.
Его блеф сработал: полицейский отошел, и Блэкман двинулся к следующему столбу. Но тот уже был заклеен маленькими бумажными листовками с фотографиями полуголых женщин, рекламой местных «модных салонов», «купален» и «кабинетов эстетики». Тим снял парочку, чтобы получше рассмотреть; в другой руке он держал объявления о пропаже Люси. Он посмотрел на фотографию дочери и перевел взгляд на рекламу секс-клубов, потом снова посмотрел на дочь. И с недоумением обернулся к полицейскому:
– А такие, значит, расклеивать можно?
На публике Тим обычно предпочитал сдержанно хвалить полицию за «тщательное» расследование. Но в отсутствие свидетелей негодование отца росло. Главную проблему представлял телефонный звонок Луизе от «Акиры Такаги» через два дня после исчезновения Люси. Звонивший однозначно знал, где Люси, если не сам ее похитил. Достаточно отследить телефонный номер и его владельца – и готов главный свидетель. Однако, к ярости Тима, полиция утверждала, что ничего не выйдет. Сначала детективы свели вопрос к техническим сложностям. В следующий раз объяснили, что для проверки звонков с мобильного телефона требуется судебное предписание. В суд уже обратились с ходатайством, заверили они Тима, но потребуется время.
– Пожалуйста, проявите терпение, – твердил инспектор Мицузанэ.
Однако к сентябрю терпение лопнуло не только у Блэкманов, но и у дипломатов в британском посольстве. Тогда в Токио с визитом как раз приехал лорд-канцлер Великобритании Дерри Ирвин. Он снова поднял вопрос в беседе с японским премьер-министром, и тот попросил министра юстиции посодействовать в отслеживании телефонных записей. Вскоре Тим отправился в полицейский участок с Аланом Саттоном, строгим белобородым генконсулом. Разговор, как обычно, вертелся по замкнутому кругу, и оказалось, что получить внятный ответ невозможно.
– Инспектор Мицузанэ, – начал Саттон. – Вы уверяли, что записи телефонных звонков не хранятся. По нашим данным, эта информация доступна. Почему телефонная компания не исполняет судебное предписание?
– Проблема в японских законах, – заявил Мицузанэ. – Другой вопрос, действительно ли записи сохраняются. Мы продолжаем проверку и принимаем все необходимые меры. Надо получить судебное предписание.
Вмешался Тим:
– Но вы мне дважды говорили, что с ходатайством в суд уже обращались.
– К сожалению, информацию мы не получили, так как она не сохранилась.
Саттон процитировал письмо японской телефонной корпорации Эн-ти-ти, где говорилось совершенно обратное: несмотря на сложности, отслеживать звонки по мобильным телефонам через компьютеры компании вполне возможно.
Мицузанэ улыбнулся:
– Мы не получали никаких сведений от Эн-ти-ти.
Алан Саттон взорвался:
– Возможно, вы не понимаете, на каком высоком уровне обсуждается дело. Дерри Ирвин, лорд-канцлер Великобритании, заручился поддержкой вашего министра юстиции. От полиции Токио ждут исполнения своих обязанностей. Мое руководство обязательно спросит меня, как продвигается расследование. И что я отвечу? Полиция должна получить нужную информацию. На кону жизнь девушки.
Тим поддержал его:
– Прошло десять недель, и я хочу знать хоть что-нибудь, а вы будто издеваетесь надо мной. Если вы не доверяете родному отцу, то кому вы доверяете?
Инспектор Мицузанэ снова улыбнулся:
– Телефонная компания сообщает, что отследить звонок невозможно. Мы должны соблюдать закон.
Безуспешные поиски не давали покоя и близким Люси в Британии, которые, впрочем, ничем не могли помочь расследованию в далеком Токио. Пока отец и сестра Руперта проводили пресс-конференции и «воевали» с детективами, шестнадцатилетнему подростку пришлось вернуться в школу, так как начинался новый учебный год. О его сестре знали все; за летние каникулы и сам Руперт негласно превратился в знаменитость. Бывшие конкуренты и враги держались с уважением и сочувствием, но легче Руперту не становилось.
– Ужасный период, – вспоминал он. – Каждый вечер перед сном я открывал окно, садился на подоконник, смотрел на звезды и думал о Люси. Я не знал, где она, но представлял, что сестра тоже в эту минуту смотрит на звезды. Точно ли она в Японии? Или ее увезли на корабле? Или Люси угодила в секту? Неизвестность хуже всего. Я не знал, что мне выбрать: скорбь, терпеливое ожидание или… ничего.
Любое упоминание о расследовании заставляло его нервничать.
– Бесит, когда заходишь к приятелю, а там по телику идет передача про Люси. Все равно что с родителями порнуху смотреть. То же самое ощущение неправильности происходящего.
Школьная подруга и однофамилица Люси Гейл Блэкман убедила себя, что девушка жива. Гейл вела дневник, адресованный подруге, чтобы показать ей записи после возвращения.
– Я представляла, как мы сидим на проклятой дорогушей кровати, которую она купила прямо перед отъездом, читаем дневник и смеемся, – рассказывала Гейл. – А потом одергивала себя: «Ты идиотка. Люси не вернется. Ты ее больше не увидишь».
В августе Джейн Блэкман ненадолго съездила в Токио, а в сентябре поборола неприязнь к журналистам и впервые провела пресс-конференцию. В отличие от официозных речей Тима, ее слова звучали естественно и душераздирающе искренне.
– Завтра будет три месяца с тех пор, как пропала Люси, – сказала Джейн. – Я здесь, чтобы обратиться к женщинам Японии – матерям, дочерям, сестрам, тетям и бабушкам, всем, кто может дать нам или полиции важные ключи к этой ужасной загадке. Мы надеемся, что кто-то знает о случившемся с Люси, и отчаянно просим свидетеля откликнуться. Высокая, светловолосая, стройная, симпатичная девушка не может просто исчезнуть – кто-то должен был ее заметить. Умоляю свидетелей отозваться. Родные хотят вернуть Люси. Брат, сестра, отец и я хотим ее вернуть. Кто бы ее ни похитил, она достаточно долго оставалась пленницей. Я обращаюсь к тем, кто удерживает мою дочь: умоляю вас от всего сердца, пожалуйста, отпустите ее. Если это один мужчина, она уже достаточно долго принадлежала вам. Я не верю, что жители Японии не могут помочь. Мы знаем, что вам не все равно. Мы знаем, как вы цените семью.
Дочь была мне как сестра, и ее исчезновение худший кошмар для матери, вечный кошмар. Я не сплю. Моя жизнь просто замерла, я будто и не живу вовсе. У меня словно вырвали сердце из груди. Неизвестность мучит меня. Моя любимая дочка, полная жизни, освещала все вокруг… – Джейн умолкла, а потом добавила: – Наша семья никогда не сдастся, мы будем искать Люси и не примем ответ «нет».
Но еще ужаснее мысли о гибели Люси была вероятность, что никто никогда не узнает о ее судьбе, что она навсегда останется пропавшей без вести.
– Больше всего на свете я боюсь, что через десять, двадцать или двадцать пять летя все еще буду здесь, буду искать сестру, – призналась Софи японскому журналисту в Токио. – Такой исход меня пугает. Я не готова отказаться от собственной жизни из-за похищения Люси. И не собираюсь сдаваться. Я надеюсь, скоро все закончится. Она не могла просто исчезнуть.
В рядах армии волонтеров, ведущей неофициальное расследование по делу Люси Блэкман, появилось пополнение. Джейн сопровождал знакомый ее брата, главный инспектор в отставке Дэвид Сиборн Дэйвис, улыбчивый уроженец Уэльса, которого все звали просто Дэй. В начале службы в лондонской полиции Дэй Дэйвис несколько лет проработал в отделе нравов, а под конец дорос до главы подразделения по охране королевской семьи и стал главным телохранителем королевы Елизаветы II. Три года назад он побывал в Японии по обмену опытом с Императорской гвардией, и его очень тепло приняли. Через год он подал в отставку и стал консультантом по международной безопасности в сотрудничестве с компанией «ЭдженСи». Благодаря своему многолетнему опыту и связями с японской полицией Дэй надеялся навести порядок в рассогласованных действиях семьи и расколоть защитную скорлупу инспектора Мицузанэ. Брайан Малькольм, богатый деверь Тима, согласился платить ему 800 фунтов в день плюс издержки (на 400 фунтов ниже обычной ставки сотрудника «ЭдженСи»).
Дэй носил тонкие усики, серый костюм и галстук с узором «пейсли». Мягкий, дружелюбный, убедительный и самокритичный, он всем внушал симпатию. Но проблемы, с которыми он столкнулся в Токио, оказались гораздо сложнее, чем он ожидал.
Когда Дэй прилетел в Японию в конце лета 2000 года, большинство его знакомых из Императорской гвардии вышли на пенсию либо перевелись на другую службу. Остальные не могли или не хотели давать никаких наводок – оказалось, что телохранители императора Акихито жили совсем в другом мире, нежели детективы Роппонги. Когда ему сообщили, что в Японии за работу частным детективом без лицензии его вполне могут арестовать, Дэй даже растерялся. Если же он представится «заинтересованным другом семьи», у него будет не больше шансов на успех, чем у Тима и Адама. Полиция Токио разговаривала с ним высокомерно; владельцы клубов и менеджеры баров держались настороженно и не горели желанием помочь. Фактически с ним были готовы общаться только хостес. Дэй назвал ситуацию «стеной молчания» и согласился, что зашел в тупик. Без знания японского языка и возможности нанять переводчика ему пришлось полагаться на добрую волю местных журналистов и волонтеров, как и всем остальным членам неофициальной команды Люси.
– Никто не хотел со мной встречаться, – рассказывал он через шесть лет. – Я все думал: стою ли я своего гонорара? Или просто играю в детектива? Далеко ли я продвинусь при таком раскладе?.. Одно дело, когда ты полицейский и у тебя в распоряжении все средства. Информацию выясняют, задания выполняют. Но когда работаешь на себя, в большинстве случаев приходится платить… Мне кажется, я себе льстил, надеясь в одиночку переломить ход расследования. Обманывал сам себя.
Зато Дэй Дэйвис нашел общий язык с журналистами. Ту же роль он играл в других громких делах об исчезновении жителей Британии. Газеты и телевидение постоянно цитировали бывшего сотрудника Скотленд-Ярда, прозванного «суперищейкой». К примеру, он разнес в пух и прах действия португальской полиции в деле об исчезновении британской девочки Мэделин Маккен, комментировал немецкое расследование о пропаже еще одной девушки из Кента, Луизы Кертон[32]. Журналисты в очередных репортажах часто упоминали его «ведущую роль» в расследовании по делу исчезновения Люси, что заставляло Тима иронизировать.
– Дэй Дэйвис, великий Дэй Дэйвис, – усмехался он. – Однажды он меня просто взбесил, заявив по телевидению: «О да, я был в Токио, помогал расследованию». Мы заплатили ему сорок восемь кусков, чтобы он «помогал». Почти пятьдесят тысяч фунтов! Чтобы он болтался по стрип-клубам и трепался с менеджерами.
Но Дэй нашел как минимум еще одну зацепку, не считая той информации, которую по крупицам насобирали Блэкманы.
В сентябре Дэйвис разыскал женщину по имени Мэнди Уоллис[33], бывшую хостес, которая проработала в «Касабланке» несколько недель и вернулась домой в Блэкпул. Она устроилась в клуб одновременно с Люси и описала человека, который однажды ночью в конце июня приходил туда и сидел с Люси. Он пил бренди и сорил деньгами, но Мэнди сочла его странноватым. Чутье детектива подсказало Дэю хвататься за эту ниточку. Он уговорил своего друга из Скотленд-Ярда, специалиста по фотороботам, съездить в Блэкпул. Там по описаниям Мэнди составили приблизительный портрет, который тут же выслали в Токио и показали всем, кто мог узнать клиента «Касабланки».
Образ получился пугающим: широкое мясистое лицо с крупным носом, пухлые похотливые губы и копна густых волос, торчащих в разные стороны. Широкая шея выдавала плотное телосложение, а пустые невыразительные глаза частично скрывались за большими очками. Это был портрет безжалостного и беспощадного чужака, не знакомого с сочувствием и сопереживанием. Ни одному художнику не удалось бы создать более яркий символ мучительных поисков длиной в два месяца и отчаяния поисковой команды.
К октябрю надежд почти не оставалось: Майк Хиллз признался в мошенничестве; следы от общества садомазохистов увели в никуда, а попытки Блэкманов самостоятельно найти Люси по информации «горячей линии» из офиса Хью Шейкшафта в Роппонги разбивались вдребезги.
Отчасти виноваты были усталость, отчаяние, а также стоимость пребывания в Японии. Но существовала еще одна причина: растущая враждебность к Тиму волонтеров поисковой команды, перерастающая порой в нескрываемую ненависть.
И больше всех Тим раздражал самого Хью Шейкшафта. Хозяину помещения очень скоро перестало нравиться присутствие Блэкмана. Хью злился, что тот не воспринимает офис как место, где работают. Шейкшафту надоели объявления о без вести пропавшей, развешенные по стенам, и «грубое и фамильярное» обращение Тима с персоналом. Его выводило из себя, что Тим проводит интервью в его отсутствие и развлекает журналистов в «Беллини» за счет фирмы. Но причины озлобленности лежали глубже. На самом деле ее вызывало поведение Тима – не такое, какого обычно ждут от человека в подобной ситуации. Неприемлемое, по мнению Хью.
Разумеется, если бы не эффектные высказывания и самообладание Тима, история об исчезновении Люси очень скоро естественным образом растворилась бы в небытии. Однако он отказался играть традиционную роль жертвы, из-за чего на него долгое время смотрели с подозрением. Обыватели рассуждали так: раз он не выглядит обезумевшим от горя, значит, не горюет: отсутствие душевного смятения у человека, потерявшего дочь, выглядело аморальным.
«К тому времени я все чаще приходил к выводу, что Тим проявляет полное безразличие к непростой ситуации с его дочерью. У него совсем не было тех реакций, которые появляются при столкновении с ужасной семейной трагедией, – писал Хью Шейкшафт в десятистраничном документе, объясняя свою неприязнь к Блэкману. – Казалось, его больше интересует, сколько денег мы можем для него собрать и когда следующее интервью по телевидению».
Другие тоже жаловались на финансовую сторону вопроса и подозревали, что Тима заботят только деньги. Дружба Адама Уиттингтона с Блэкманами закончилась неприятным спором о том, сколько ему причитается. Один из волонтеров поисковой команды, пожелавший остаться неназванным, вспомнил телефонный разговор Тима с его подругой Джо Берр: они обсуждали, «как можно еще на этом заработать».
«Я думал, Тим отчаянно нуждается в поддержке, – писал Хью, столь свободно и щедро помогавший Блэкману в первое время. – К сожалению, теперь я считаю (и это доказывает дальнейшее поведение Тима Блэкмана), что дело обстоит совсем по-другому и он наслаждается популярностью».
Через несколько лет я встретился с Хью. Два вечера мы толковали о деле Люси. Большую часть времени Шейкшафт ругал Тима. В какой-то момент я спросил, действительно ли он полагает, что Тим «наслаждался» своим положением.
– Когда он напивался в четыре-пять утра, было похоже на то, – ответил он. – Ведь можно заниматься расследованием, делать все необходимое и возвращаться домой одному и трезвым… Насколько я знаю, он видел Люси всего два-три раза за пять лет или сколько там прошло после их развода. То есть у человека не нашлось времени увидеться с собственной дочерью. Что я думаю о таком человеке? Он очень зациклен на себе. Посмотреть хотя бы на то, как он пережил расставание с женой и детьми и чем в реальности им помогал. Я считаю его очень холодным… Думаю, можно с уверенностью назвать его эгоистом.
Довольно странно было слышать обвинения в эгоизме и невоздержанности из уст Хью, который в разговоре постоянно сыпал именами знакомых голливудских актеров и без стеснения рассказывал о собственных сердечных приступах из-за разгульной жизни в Роппонги; к тому же он и сам развелся и жил в разлуке с маленьким сыном. Но Шейкшафт был не одинок в своих суждениях о Тиме. Во второй половине 2000 года подобные разговоры в Токио слышались везде: на званых ужинах в квартирах экспатов, на воскресных завтраках в пятизвездочных отелях, на посольских приемах с коктейлями. Вполголоса, нахмурив брови и осуждающе качая головой, народ судачил: Тим Блэкман, отец исчезнувшей девушки, «наслаждается жизнью».
На семьях без вести пропавших лежит двойное бремя: боль собственной трагедии и ожидания публики. И публика рассчитывает, что родственники жертв будут вести себя как положено.
Все мы люди и естественным образом стремимся помочь собратьям, оказавшимся в беде. Но большинство из нас, осознанно или нет, ждет в ответ, чтобы человек открыто заявил о своей беспомощности. Тим скрывал боль и панику за ширмой здравого смысла и бурной деятельности, лишив людей ожидаемого ответа. А вот Джейн Блэкман как раз демонстрировала нужную реакцию. Ее страдание было искренним и всепоглощающим. Она нуждалась в помощи, ценила ее, и те, кто шел ей навстречу, сразу ощущали себя благодетелями.
Похоже, враждебность к Тиму начала расти именно после приезда в Японию матери Люси – и это не совпадение. Тим почти не говорил о бывшей жене с токийскими волонтерами, тогда как Джейн часто рассказывала доверенным лицам о неудавшемся браке и ее мнении о прежнем супруге. Хью, Адам и Дэй постепенно уверились, что перед ними обманутая жена и распутный муж, который, уйдя из семьи, попросту о ней забыл. Помощники отвернулись от Тима, перейдя в лагерь Джейн. Блэкманам пришлось делить доверие команды, словно его не хватало для двоих.
Видимо, почувствовав перемены, Тим дал интервью одной из британских воскресных газет, однако оно не помогло ему вернуть расположение волонтеров. Блэкман говорил о страданиях, которые причиняет ему исчезновение Люси, и сравнил их с разлукой с дочерью после развода.
– Джейн морально опустошена, и я могу ее понять, – заявил он газете «Сандэй пипл». – Но сочувствовать ей я не могу. Вот так и мне не давали видеться с Люси. Естественно, сейчас все гораздо страшнее, но Джейн проходит через те же муки, на которые в свое время обрекла меня. Поэтому к ее чувствам я отношусь холодно.
После того короткого страшного разговора по телефону Джейн и Тим больше не общались. Даже свои визиты в Токио они планировали так, чтобы случайно не встретиться. Когда в начале октября Джейн и Дэй Дэйвис уехали из Японии, Тим остался дома на острове Уайт. Софи тоже улетела домой; Адам Уиттингтон выбыл еще в конце августа. Автоответчик «горячей линии» проверяли и протоколировали сотрудники британского посольства: «Звонивший видел девушку, похожую на Люси, 2 октября около 13 ч. дня у магазина оптики возле железнодорожной станции „Кинситё“. Девушка шла по улице с мужчиной. Информатор добавил, что там много сомнительных клубов и баров с работницами из Азии и Европы»; «Звонивший уверяет, что у него есть информация об одной религиозной организации. Попросил связаться с ним британца, владеющего японским»; «Звонивший видел девушку, похожую на Люси, в Интернете»; «Ничего не слышно, кроме музыки на заднем фоне».
Впервые за три месяца с момента исчезновения Люси все члены ее семьи уехали из Токио и оставили поиски.
Все то время, когда гремело дело Люси Блэкман, я жил в Токио, внимательно следил за событиями и описывал их для своей газеты. Я старался дать ответы на очевидные вопросы редакторов – вопросы, которые появились бы и у обычного британского читателя, мало что знающего о Японии. Некоторые ответы появлялись довольно легко: о жизни девушки в Токио и об особенностях работы иностранных хостес. Но по главному вопросу – что же произошло с Люси Блэкман – мне нечего было сказать. И публика, не получив ответа, начала задавать другие вопросы: «Она была наркоманкой?», «Что известно ее лучшей подруге?» или «Почему ее отец так себя ведет?».
Будучи репортером, я общался с жителями всей Японии. Днем я встречался с чиновниками, политиками, научными работниками и прочими специалистами, а свободное время проводил с теми, кто, как и я, любил Японию и хорошо ее знал, даже если не стремился назвать своим домом. В Роппонги можно время от времени провести веселую бурную ночь; мои приятели определенных нравов часто устраивали мальчишники в стриптиз-барах. Теперь в качестве репортера, освещающего поиски Люси Блэкман, мне тоже пришлось посещать подобные мероприятия и платить за разговоры с привлекательными и умными девушками. Поначалу к журналистам в клубах относились с опаской и враждебностью, не раз случались потасовки между вышибалами и слишком любопытными «клиентами» с записной книжкой и фотокамерой. Но «торговцы водой» в очередной раз приспособились к новым условиям. Даже клуб Люси «Касабланка», который закрыл двери через несколько дней после исчезновения девушки, в конце августа заработал под новым названием «Гринграсс».
Долгие ночи я сидел в «Гринграссе», в «Уан айд Джеке» или в «Токио спорте кафе», один или с приятелями, угощая алкоголем девушек-хостес, которые знали о Люси Блэкман меньше моего, но слышали кучу сплетен: о сектах, бандах похитителей или садомазосообществе. Квартал Роппонги, вечером сияющий неоновыми огнями, на исходе ночи тонул в загадочной темной дымке, в которой прятались живые существа. Я приходил домой в 4 утра, пьяный, пропахший сигаретным дымом, с полными карманами исписанных салфеток. А затем меня посещал самый древний мужской сон: я рыцарь, который скачет к темной башне, сражает дракона, освобождает похищенную благородную девицу и навеки блаженствует в ореоле славы.
В полицейском участке Азабу меня упорно выставляли за дверь. В британском посольстве терпеливо излагали очевидное. Пришлось наладить сотрудничество с японскими репортерами: они делились со мной тем малым, что удалось выяснить у полиции, а я пересказывал подробности, выуженные у Блэкманов. Я даже приклеил фотографию Люси на картонку и носил в сумке, чтобы при случае показывать жителям Токио. Девушку на фотографии узнавали все, но никто ее не видел.
Даже когда не было новостей, мне не удавалось забыть о деле. Люди не исчезают бесследно, не распадаются на молекулы. Что-то случилось. Собрано столько информации: о Люси, о Роппонги, о хостес и о событиях той субботы. Но в самом центре зияла дыра, пустое пространство. Публика не терпит пустоты и жаждет ее заполнить. Народ хотел, чтобы ее заполнил Тим – болью и яростью, естественными эмоциями, которые легко понять. Но когда он отказался соответствовать ожиданиям, публика, в свою очередь, отказалась от него.
Никто не знал, чем заполнить пустоту. Хотя все понимали: очертаниями дыра в центре дела повторяет силуэт человека – человека, который забрал Люси и причинил ей зло. В глубине души все знали, что именно так и было. И знали, что этот человек – мужчина.
Я терпеть не могу занятие, известное любому репортеру, – беседы с обездоленными и напуганными жертвами, пережившими потерю. Боюсь выбрать неверный тон – слишком бойкий и оживленный или полный фальшивого сочувствия. Мне пришлось собраться с духом, чтобы впервые позвонить Блэкманам, – Джейн в ее горе, Софи с защитным механизмом в виде агрессии и Тиму, полному невыносимой услужливости и обаяния. Но к октябрю родные девушки в унынии вернулись домой, и оказалось, что вполне можно жить, не думая о Люси. И вдруг однажды вечером мне позвонил приятель, японский репортер, и сообщил: полиция Токио собирается произвести арест, и похоже, что это именно тот человек, который наконец заполнит дыру посреди истории об исчезновении Люси Блэкман.
Репутация полиции
Кристабель Маккензи[34] искала в Токио убежища, однако не сумела избежать обычных для такого поступка последствий. Она родилась в семье известного шотландского адвоката и преподавательницы Эдинбургского университета. Умная симпатичная девушка росла в очень культурной среде; ее ждала жизнь в верхушке среднего класса. Но богатый Эдинбург казался ей надменным и душным: Кристе хотелось независимости и впечатлений. Она бросила школу и пошла работать секретаршей, затем ненадолго вернулась в старшие классы, сдала пару экзаменов для поступления в университет и переехала в Лондон, где устроилась на работу в большой магазин.
Но Лондон не слишком отличался от родного Эдинбурга. Одна знакомая Кристы жила в Японии и рассказала девушке о впечатлениях и возможностях, которые можно там найти. И в январе 1995 года Маккензи прилетела в Токио – одна, в возрасте девятнадцати лет. Она прожила там почти семь лет.
Криста быстро поняла одну из главных особенностей жизни иностранца в Японии, стране, влекущей стольких неудачников всякого рода: одиночество, неизбежное ощущение непохожести на других здесь уравновешивалось более универсальным одиночеством гайдзина среди японцев.
– Я действительно любила Японию, – рассказывала мне Криста. – И до сих пор люблю, хотя это любовь пополам с ненавистью. Кое-что меня приводит в ужас, а некоторые вещи я просто обожаю. Но главное – свобода. Чем бы там ни занимался иностранец, он все равно чужак, своего рода пугало. В любом случае на него все пялятся, так что можно перестать переживать и расслабиться. А еще там платят нехилые деньги, так что уж точно можно оторваться на всю катушку. Когда находишься так далеко от дома, появляется ощущение выпадения из реальности.
Высокая бойкая блондинка быстро нашла работу учителя английского языка, но вскоре заскучала и через несколько недель уже устроилась хостес в маленький клуб под названием «Фреш». Он находился в Акасаке, соседнем с Роппонги и более престижном районе, куда любили захаживать скорее японские клерки, чем молодые гайдзины. В традиционных чайных домиках Акасаки еще попадались настоящие гейши, которым покровительствовали японские политики и главы крупнейших компаний. Но во «Фреше» такая публика встречалась очень редко. Большинство клиентов Кристы составляли одинокие непривлекательные мужчины, для которых пара часов беседы на английском с хорошенькой молодой иностранкой была экзотикой и огромным удовольствием, недостижимым иными средствами.
– Там были маленький бар, автомат караоке и шесть-восемь девушек, – рассказывала она. – Довольно скучное место. Иногда попадались агрессивные клиенты, или жадные, или у них воняло изо рта, но по-настоящему мерзких были единицы. Большинство вели себя вполне нормально, и единственное, что напрягало, это скука. Доханы меня тоже не пугали – просто ужинаешь где-нибудь в Акасаке, а потом назад в клуб. Самые успешные хостес изображали невинных простушек; похоже, клиентов успокаивали беседы с теми, кто глупее их. Но Христе не удавалось разыгрывать из себя дурочку, и она придумывала другие способы убить время: игры на выпивку (а она любила выпить), словесный флирт и наркотики.
Середина 1990-х годов – последний вздох японской «экономики мыльного пузыря», но в Токио все еще водились свободные деньги, и безумные доходы хостес, избравших правильную тактику, были не редкостью. Ходили байки о девушках, которым ослепленные страстью клиенты дарили «ролекс», золотые слитки и даже квартиры. Район Акасаки считался гораздо роскошнее Роппонги, что сказывалось и на гонорарах хостес. Если в Лондоне Кристе платили 120 фунтов в неделю, то здесь она получала 3000 иен (около 20 фунтов) в час, и это без бонусов за «заказы» и доханы.
Однажды ночью в клубе появился человек, которого Маккензи раньше не видела; по низким поклонам менеджера и подобострастному обращению с гостем она поняла, что клиент уважаемый и щедрый. Он представился как Юдзи Хонда, и с первых же фраз стало ясно, что он гораздо круче среднего посетителя клуба «Фреш».
Это был невысокий мужчина за сорок с невыразительным лицом, но манеры и поведение отличали его от типичного офисного работника. Он носил дорогой с виду пиджак и шелковую рубашку с распахнутым воротом, говорил на хорошем английском и, в отличие от многих клиентов, никогда не отпускал пошлых шуток, не паясничал и не выглядел несчастным.
– Он отличался высокомерием и уверенностью в себе, которая меня забавляла, потому что красотой или интеллектом он не блистал, – рассказывала Криста. – Но меня Юдзи интересовал больше прочих клиентов. Мне не удавалось его разгадать. Было в нем нечто странное. Ходил он размашисто, самоуверенно, а разговаривал по-особенному – сложно описать, будто шепелявил, и форма рта такая забавная. Как у маленького ребенка. Он часто высовывал язык, точно ящерица, а еще потел – даже в прохладном кондиционированном воздухе клуба то и дело доставал маленькое полотенце и вытирал щеки, шею и лоб.
Весь тот первый вечер Криста и Юдзи провели вместе; он обещал прийти снова. Наклевывался роскошный дохан.
В течение месяца они каждую неделю ужинали вместе. Вечером Хонда заезжал за девушкой на одной из новеньких машин: белом кабриолете «роллс-ройс» или трех разных «порше». Криста решила для себя, что не станет гоняться за деньгами, но признавала, что ей попался идеальный клиент, о котором может мечтать любая хостес. Однажды Юдзи взял ее с собой на шикарный китайский банкет с супом из медуз и акульих плавников; в другой раз они ужинали фугу – знаменитой рыбой, ядовитой при неправильном приготовлении и очень дорогой. Клиент не слишком распространялся о себе, но демонстрация финансового положения явно имела для него большое значение; сотрудник клуба шепнул Кристе, что его семья стоит в Японии на пятом месте по доходам.
– Он действительно постоянно ел фугу – говорил, что чуть ли не каждый день, – вспоминала Криста. – Вот только один пример, как он пытался произвести впечатление. Просто смешно, когда люди думают, что деньги обеспечат им всеобщую любовь.
Криста относилась к Юдзи как к странноватому, но забавному и безобидному человеку.
Однажды в мае 1995 года он забрал ее после работы и предложил прокатиться к морю. Было три часа ночи, но нормы приличия Кристу не беспокоили, если впереди ждали приключения. К тому же ей хотелось увидеть загородный дом, который описывал Юдзи. Они выехали в белом «роллс-ройсе»; Криста дрожала под мощным кондиционером, но Юдзи в своей тонкой шелковой рубашке потел.
– Это было очень заметно, – пояснила она. – Сначала я думала, что он на кокаине, амфетамине или другой наркоте, но он вроде не употреблял. И водил просто ужасно: вечно то вжимал педаль газа в пол, то резко тормозил.
Криста очень смутно понимала, куда они едут, но где-то через час они оказались у причала, где стояли пришвартованные яхты. Вокруг стояли загородные многоквартирные дома; ветер с моря раскачивал резные листья высоких пальм. По рассказам Юдзи Криста представляла себе пляжный особнячок в калифорнийском или австралийском стиле, небольшую виллу с собственными садом и бассейном. Поэтому, увидев большое жилое здание с десятками однотипных тесных квартирок, испытала разочарование.
– Как только я поняла, что к чему, задалась вопросом: «Что я здесь делаю?» – рассказывала Маккензи. – И подумала: «У парня на самом деле не так уж много денег, как он говорит».
Квартира находилась на третьем этаже в одном из домов: маленькая, немного запущенная холостяцкая берлога с единственной комнатой-гостиной, выходящей на узкий балкон, маленькой кухонькой и совсем крохотным закутком за перегородкой, который, по всей видимости, служил спальней. В обстановке ничто не говорило о роскоши и блеске. Диван был обит мерзкой плотной тканью с узором из ползучей растительности и напоминающих капусту розочек. У стены стоял сервант, полки которого прогнулись под тяжестью бутылок самых разных форм и оттенков.
– Квартирка просто отстой, – призналась Криста. – Такая безвкусица, будто отделку мама выбирала. Допотопная мебель из семидесятых, как у бабушки, всё в цветочек.
Они присели выпить пива и съесть фугу, которую Юдзи привез с собой. Потом он достал электрогитару и подключил ее к усилителю. Зазвучала фонограмма аккомпанемента, и хозяин тоже начал играть и петь. Он выбрал песню «Samba Pa Ti» Карл оса Сантаны – Юдзи был его страстным поклонником, у него даже имелась фотография из Соединенных Штатов, где он стоит рядом с музыкантом.
– Мне, в общем-то, нравится Сантана, но играть его под караоке – да уж, полный отстой, – смеялась Криста. – К тому времени уже начало светать, и я решила, что пора бы закругляться.
Она попросила Юдзи отвезти ее обратно в Токио, но он хотел напоследок угостить ее выпивкой – по его словам, редким вином с Филиппинских островов, хранившимся в серванте среди прочих бутылок. Хонда налил вино из хрустального графина в маленький бокал и протянул Кристи. Девушка выпила его залпом, стоя у окна.
Для других женщин в аналогичной ситуации это становилось последним воспоминанием: ощущение, как резкое, с химическим привкусом «вино» стекает по горлу в желудок. Но месяцы беспробудного пьянства сделали Кристу нечувствительной даже к самым крепким напиткам.
– Я совершенно не ожидала подвоха, – призналась она. – Мне показалось, что он считает меня любительницей выпить, отчаянной девчонкой, готовой принять любой вызов. Вот я и выпила, потому что в те дни так и поступала, я же крутая. Помню, стою у окна, и тут меня накрывает. Я сразу сообразила, что у меня, похоже, большие проблемы. Мне хватило времени понять, что происходит. Помню, подумала: «Вот зараза». А дальше будто общая анестезия. Даже не успела толком испугаться.
Маккензи проснулась в темноте, одна, в постели. Девушке не составило труда догадаться, что случилось и что с ней делали, пока она была без сознания.
– Первым делом я попыталась разобраться, как я себя чувствую и что именно со мной произошло. Вроде ничего не болит, и одежда на мне. Видимо, я спала очень долго, раз он не пожалел времени, чтобы меня одеть.
Они приехали в квартиру рано утром в субботу. Теперь уже наступил вечер – Криста оставалась без сознания дольше двенадцати часов. Юдзи был там и вел себя как ни в чем не бывало. Казалось, он даже ждет, что она набросится на него с обвинениями. Но Криста промолчала.
– Я просто хотела домой. И подумала: «Если он не отвезет меня назад, как я доберусь до Токио?» Я ведь понятия не имела, где нахожусь. Но он отвез меня домой.
В машине Кристу мучило похмелье, но в тот период она привыкла к такому состоянию. Так или иначе, она снова промолчала.
Девушка объяснила мне:
– Теперь я сама не верю, что так себя вела. Но профессия хостес – своего рода игра, в которой участвуют и девочки, и мальчики. Девочки хотят заработать, ничего не давая взамен. А мальчики стараются зайти как можно дальше и заплатить не больше обычной ставки в клубе. В тот день я чувствовала не только злость. Ведь отчасти я сама виновата, что угодила в переплет. Типичный случай; говорят, жертвы изнасилования часто винят себя.
Я считала, что усвоила правила игры, но нет. Осталась наивной дурочкой. И меня попросту обыграли. Обидно, конечно, но вообще-то я особо не заморачивалась. Не осознавала всю опасность ситуации. И прозрела только через много лет. Честно говоря, тогда мне не хотелось задумываться, ведь если бы я признала серьезность угрозы, пришлось бы менять образ жизни.
Юдзи отвез Кристу домой, и на следующей неделе она вернулась на работу в клуб. Хонда больше там не появлялся.
Криста осталась в Японии и продолжала работать хостес, меняя клубы и города. Обычно она трудилась несколько месяцев и копила деньги, а потом несколько недель путешествовала по Индии, Исландии или Канаде.
В 1999 году она осела в Саппоро, на самом севере Японии. Там она познакомилась с девушкой, слышавшей про богача, который охотился на токийских хостес, увозил их в квартиру на море и накачивал наркотиками. Это мог быть только Юдзи Хонда. Тогда Криста впервые всерьез задумалась о том, что произошло несколько лет назад.
Через несколько месяцев, когда Криста перебралась во второй по величине японский город Осаку, ей позвонила давняя подруга, бывшая хостес из Токио, которая вернулась в Лондон: «Моя младшая сестра едет в Японию с подругой. Не можешь ли ты встретиться с ними в Токио?»
Подругу Кристы звали Эмма Филлипс; девушками, которые собирались лететь в Японию, были Луиза Филлипс и Люси Блэкман.
Криста забронировала комнату в Сасаки-хаусе. Именно Маккензи встретила их по приезде; это она курила косячок и намазывала волосы маслом, что так не понравилось Луизе. Тот вечер три девушки провели вместе. Люси и Луизе новая знакомая показалась жутко самоуверенной, а вот Кристу они очаровали и даже тронули.
– Они так волновались и радовались – две девчонки, первое далекое путешествие, первый шаг в сторону независимости. Помню, еще подумала, что Люси напоминает меня в мои девятнадцать. Я имею в виду внешне – высокая блондинка и все такое. А Луиза с Эммой вообще были как двойняшки. В первую минуту мне показалось, что я перенеслась на пять лет назад и передо мной Эмма. И знаете, мне сразу же пришло в голову, что Люси в его вкусе – я про Юдзи Хонду. Если я была в его вкусе, то и она тоже. И мне стало страшно за девочек, ведь они совсем юные. Но прямо-таки светились от восторга, и я не хотела портить им настроение, нагнетая атмосферу, поэтому ничего не сказала. Но странно, что я подумала о Юдзи, ведь обычно я о нем даже не вспоминала.
Через два месяца Кристе в Осаку позвонила Эмма и сообщила, что пропала Люси.
– Она объяснила, что та уехала с каким-то клиентом на море и не вернулась. И я сразу решила, что это снова Юдзи. Даже не сомневалась.
Маккензи позвонила Луизе, которая пришла в ужас.
– Я надеялась, что он отпустит девочку, когда она придет в себя после наркотика, как отпустил меня. Я думала, она вернется, – призналась Криста.
Но через два дня Люси так и не появилась. Криста отправилась на скоростном поезде в Токио и прямо с вокзала пошла в полицейский участок Азабу.
В Японии самая «милая» полиция в мире. У многих японцев один лишь вид омавари-сан (буквально «глубокоуважаемые обходчик» – так называют полицейского на дежурстве) вызывает нежность и восторг, обычно адресуемые малышам или симпатичным зверушкам. И даже иностранцы умиляются и ностальгируют при виде аккуратной синей формы и громыхающих старомодных мотоциклов местных стражей порядка. Трудно поверить, что в револьверах на бедре настоящие пули, и невозможно представить, чтобы из такого оружия стреляли (его осмотрительно прикрепляют к форме шнурком, как детские варежки). А еще есть талисман токийской полиции, самой гордой и престижной структуры страны, – не суровый мастифф или зоркий ястреб, а веселый сказочный зверек оранжевого цвета по имени Пипо. Полиция придает Токио невинную притягательность в духе 1950-х: этакое племя честных бойскаутов, защищающих город от злодеев.
На первый взгляд, местные служители закона добились поразительных, почти небывалых успехов. В Японии, как и в большинстве государств, случаются приступы беспокойства из-за подростковой преступности и разрушения традиционной морали. Но все же факт остается фактом: Япония – самая безопасная и не криминальная страна на планете. Ограбления, кражи со взломом и факты торговли наркотиками, которые многие горожане научились принимать почти как должное, здесь отмечаются в четыре, а то и восемь раз реже, чем на Западе.
Правонарушения посерьезнее – еще большая редкость; и все это японская полиция гордо ставит себе в заслугу. Логика такова: раз в Японии самый низкий в мире уровень преступности, значит, местные полицейские – лучшие в мире борцы с преступностью. Долгие годы так считали и сами японцы. Среди жителей Токио очень редок грубый цинизм, который выражают по отношению к силам правопорядка в других городах. Однако в 2000 году, когда Криста Маккензи обратилась в участок Азабу, единодушная народная любовь к защитникам порядка начала угасать.
После череды скандалов японская полиция столкнулась с самой грубой критикой за последние десятилетия. По всей стране ее сотрудников изобличали в сексуальных домогательствах, взяточничестве, шантаже, употреблении наркотиков, оскорблениях и банальной профессиональной некомпетентности.
Самый неприятный скандал по части пропавших без вести был связан с убийством девятнадцатилетнего Масакадзу Судо в декабре 1999 года, чье тело нашли в лесу в префектуре Тотиги, к северу от Токио. Юноша считался пропавшим больше месяца, и его родители неоднократно обращалась в полицию, но там отказывались расследовать дело, намекая, что Масакадзу сам преступник и наркоман. Наконец парень по приказу похитителей позвонил на мобильный родителям, которые как раз сидели в полицейском участке. Они умоляли сержанта выдать себя за друга их сына и поговорить с преступниками. Тот взял трубку – и сразу представился полицейским. Вскоре Масакадзу Судо увезли в лес и задушили. Один из трех убийц, которых в конце концов привлекли к суду и обвинили в убийстве, оказался сыном местного полицейского.
Блэкманов пугало и еще одно дело: в 1990 году в городе Ниигата пропала десятилетняя девочка. Ни единой зацепки – и вдруг в феврале 2000 года она объявилась в местной больнице. Почти десять лет ее держали в плену в маленькой комнате дома, стоявшего в нескольких сотнях метров от полицейского участка. Ее похититель был известным педофилом; четырьмя годами ранее в полицию сообщали, что он мог похитить девочку. Адетективы даже не потрудились постучать к нему в дверь.
«Ёмиури симбун», одна из самых консервативных национальных газет, выступающая за правящую элиту, назвала ситуацию с полицией «позором, равного которому давно не случалось». В редакторской колонке той же газеты говорилось: «Единственный способ призвать к порядку окончательно утерявшую дисциплину организацию – это провести полноценную радикальную реформу». Опрос общественного мнения показал, что 60 процентов японцев (против 26 процентов всего два года назад) не доверяет полиции. В такой тревожной атмосфере и начались поиски Люси.
По мнению самих стражей порядка, они работали с космической скоростью.
– Я хочу, чтобы вы понимали, насколько быстро мы взаимодействовали друг с другом, – подчеркнул главный инспектор Фусанори Мацумото, глава полицейского участка Азабу, с первых дней возглавивший расследование дела Люси Блэкман. – Нас направляли инстинкты опытных солдат. И не забудьте, что пропавшая была из Британии и ранее работала стюардессой в такой известной компании, как «Бритиш эйруэйз», а ведь многие девушки мечтают о такой профессии.
Кстати говоря, одним из культурных различий, проявившихся благодаря делу Люси, можно назвать специфику отношения к стюардессам в каждой стране. В Британии на «куколок с тележкой» часто смотрят с насмешкой, но в Японии стюардессы – абсолютная элита, образец женского очарования и утонченности. На вершине своего престижа в годы экономического бума в конце 1980-х они становились невестами поп-звезд или борцов сумо. Для многих японцев совершенно непостижимо и весьма подозрительно, что женщина может бросить работу стюардессы в «Бритиш эйруэйз» и стать хостес в баре Роппонги.
Так или иначе, хотя инспектор никогда не сказал бы этого прямо, будь пропавшая без вести, к примеру, китаянкой или гражданкой Бангладеш, вкалывающей на рыбном заводе или в массажном салоне, дело интересовало бы его гораздо меньше.
– Поначалу они не принимали случай Люси всерьез, – сообщил мне человек, связанный с расследованием. – Просто очередная девушка, пропавшая в Роппонги. В Токио девушки исчезают довольно часто – филиппинки, тайки, китаянки. Тут никакой полиции не хватит.
От прочих дело Люси отличала не только национальность жертвы и ее прежняя работа, но и сильное внешнее давление, которое сразу же начали оказывать на полицию.
Вначале в участок за ответами ходила только Софи Блэкман. Но потом с ней явился Алан Саттон, серьезный британский генконсул, и его подчиненные начали названивать детективам каждый день. Потом приехал Тим Блэкман, и вскоре – во что сложно поверить – он уже общался с Тони Блэром. Детективов и японских репортеров потрясло такое развитие событий. В Японии подобное невозможно представить – чтобы премьер-министр вмешивался в поиски девушки «мидзу сёбай». Посреди нашего разговора главный инспектор Мацумото спросил меня:
– Этот мистер Блэкман – близкий друг премьер-министра Блэра? – словно не мог найти другого объяснения.
И вот Тони Блэр уже обсуждает проблему с премьер-министром Японии, которому ничего не остается, как выразить беспокойство и проявить настойчивость, – и все это на глазах у толпы репортеров.
– Мы представляли, что такое японские СМИ и как с ними обращаться, – признался главный инспектор Мацумото. – Однако понятия не имели, что делать с иностранными журналистами. Они очень назойливы.
Мацумото позвонил в Севеноукс Джейн Блэкман и услышал от нее ту же информацию, которую повторяли все знакомые Люси: немыслимо, чтобы дочь уехала одна безо всяких объяснений. И 11 июля на базе полицейского участка Азабу создали оперативный штаб расследования, который возглавил один из самых опытных токийских детективов Тошиаки Удо. Инспектор Удо был вторым по старшинству в первом следственном отделе японской столицы, а его команда – элитой местной полиции. Они работали над самыми громкими и сенсационными преступлениями в стране: убийствами, изнасилованиями, похищениями, вооруженными ограблениями. Первый отдел был знаменит и окутан романтическим ореолом, как «летучий отряд» Скотленд-Ярда, о нем снимали фильмы и сериалы, писали книги. Инспектор Удо участвовал и в самом крупном послевоенном расследовании – деле религиозной секты «Аум синрикё», члены которой в 1995 году пустили в токийском метро нервно-паралитический газ в утренний час пик. Довольно высокий, с овальным лицом и большими выразительными глазами, которые придавали ему постоянное выражение легкого удивления, Удо скорее напоминал добродушного завуча школы, чем крутого детектива, и не отличался бурным проявлением эмоций. Но поиски Люси буквально потрясли его.
– Я вел много крупных и громких дел, – поведал он мне. – Но когда ответственность за расследование дела Блэкман возложили на меня, не мог сдержать дрожь напряжения. Я инстинктивно чувствовал, что речь идет о серьезном преступлении. Прямо-таки нутром чуял. И понимал, что такой случай нельзя игнорировать.
Его непосредственным подчиненным был Акира Мицузанэ – человек, который лично общался с семейством Блэкманов. У полицейской системы ушло больше недели, чтобы раскачаться и приступить к работе, хотя сами служители закона полагали, что отлично справляются с задачей.
Чем же занимались детективы последующие несколько недель? Детально восстановить ход событий сложно, но полицейские явно не спешили. К тому времени, когда был создан оперативный штаб расследования под руководством Удо, команда инспектора Мацумото уже проверила основные факты истории Луизы: статус подруг в Японии, их пристанище в Сасаки-хаусе и работу в «Касабланке». На это ушло три дня. А в последующие полтора месяца, начиная с 3 июля, когда Луиза сообщила об исчезновении Люси, расследование топталось на месте.
Прошли проверки в религиозных сектах префектуры Тиба («Но их очень много, – жаловался один из детективов. – Нужно уточнить информацию»). А вот более очевидных ниточек будто не замечали. Почти две недели после исчезновения Люси полиция не говорила с ее парнем Скоттом Фрэзером и не предпринимала никаких попыток найти человека по имени Акира Такаги, которым представился таинственный звонивший.
– Скорее всего, имя вымышленное, – заявил пресс-секретарь, – и мы не хотим без необходимости беспокоить невиновных.
Полиция ходила в «Касабланку», опрашивала хостес и проверила записи клуба. Некоторые клиенты, хоть и не все, оставляли свои визитки; клеркам, развлекавшимся за счет компании, выдавали квитанции с названием фирмы, и копии хранились в клубе. Но эту информацию обрабатывали необъяснимо долго. Хадзимэ Имуре – издателю, который развлекал Люси байками о ловле кальмаров, – позвонили уже в середине августа.
Зато полиция целыми днями допрашивала Луизу Филлипс. Во вторник 4 июля, на следующий день после исчезновения Люси, она впервые провела в участке Азабу целый день и последующие пять недель с понедельника по субботу являлась туда как на службу.
Допросы проходили в комнатке три на три метра с единственным столом, где размещались Луиза, два детектива и переводчик. Сидели с утра и часто до самой ночи. Луизу сразу поразили доброта и мягкость офицеров, а также их способность напряженно работать много часов подряд.
Каждый день девушке приносили обед, несколько раз жена одного из полицейских приходила с бенто-ланчем – набором миниатюрных закусок собственного приготовления. Власти предоставили Луизе квартиру с оплаченной арендой в 5 тысяч иен (30 фунтов) в сутки (не растерявшись, Филлипс скопила денег и купила себе фотоаппарат).
Сами беседы давались Луизе непросто. Замешательство и волнение часто вызывали у нее слезы беспомощности; и она не раз замечала, что у переводчицы и даже допрашивающих ее офицеров-мужчин тоже глаза на мокром месте.
Однако содержание разговоров не внушало доверия. И без них было ясно, что Луиза – главный свидетель, давняя подруга Люси и последний человек, который ее видел. Столь продолжительные допросы имели бы смысл, появись в деле новые подробности. Но большую часть времени детективы просто задавали одни и те же вопросы, снова и снова. Их дотошность впечатляла, а иногда даже пугала. Но бесконечные повторы наводили Луизу на мысль, что полицейские понятия не имеют, с чего начать, и даже не собираются копнуть глубже.
– Они спрашивали о том, где мы были и что делали, выпытывали малейшие подробности о Люси, причем с тех времен, когда мы еще не приехали в Японию, – рассказывала Луиза. – Меня поражала их работоспособность. Офицеров интересовало буквально всё: родимое пятно у Люси на бедре, здоровье в юности, ее и мои бойфренды и друзья, наши соседи по дому, каждый посетитель клуба, татуировки клиентов. Вопросы повторялись снова и снова, день за днем.
Немного смущенно полицейские поинтересовались, связывали ли девушек лесбийские отношения (Луиза только посмеялась над их предположением). Из нее вытягивали подробности сексуальной жизни Люси: отношения со Скоттом, как часто они проводили ночь вместе и как предохранялись.
– Они почти неделю допытывались, был ли у Люси когда-нибудь хламидиоз, – жаловалась Луиза. – Я так и не поняла зачем. Некоторые вопросы выглядели случайными, и беседы растягивались на долгие часы.
– О Луизе у меня сложилось хорошее впечатление, – сообщил мне инспектор Мацумото. – И все равно приходилось учитывать все возможные сценарии. А что, если она участвовала в заговоре против подруги? Предположим, девушки влюбились в одного мужчину, и Луиза, желая его заполучить, избавилась от Люси. Или убила ее, чтобы украсть деньги.
Следователи выдвигали самые дикие версии.
– Сотрудники клубов поговаривали, что Люси могла бежать в Северную Корею либо шпионить для них, – объяснял Мацумото. – Однако мы не стали уделять этой линии большое внимание, потому что особых денег у пропавшей не водилось. – По его словам, вопрос о возможном участии наркотиков разрешился быстро. – Судя по цвету лица и состоянию здоровья, Филлипс не употребляла наркотики. Ведь она общалась с нами много часов подряд. Ни худобы, ни быстрого утомления, ни сыпи вокруг рта, которая встречается у наркоманов, – никаких подобных признаков.
Другими словами, наркоманы непременно тощие, мертвенно-бледные и слюнявые. Подобным образом о воздействии запрещенных препаратов могла бы рассуждать старая дева, но из уст уважаемого детектива это звучало до смешного наивно, как признак простодушия японской полиции и ее оторванности от жизни. Здесь настолько редко сталкивалась с серьезными преступлениями, что даже не умели их распознавать.
Детективы, которые пришли на смену Мацумото, не отличались таким простодушием. Однажды, придя в комнату для допросов, Луиза увидела на столе дневник Люси. Рядом лежал перевод текста на японский.
– Доброе утро, Луиза-сан, – начал детектив и взял документы со стола. – Вы или Люси принимали наркотики в Японии?
– Нет-нет, никогда! – Филлипс отрицательно затрясла головой.
– Вы уверены? – уточнил детектив, листая дневник.
– Конечно уверена. Никогда.
Большую часть времени полиция скрывала недоверие к Луизе; казалось, что долгие допросы связаны лишь с искренним старанием, а не с подозрениями. Но теперь атмосфера накалилась.
Детектив спросил Луизу:
– Почему Люси написала в своем дневнике про «вечную охоту на музыку, открытки и „колеса“»?
Луиза лихорадочно соображала.
– Я подумала: «Если они сочтут ее наркоманкой, будет еще хуже». Поэтому сказала: «Ну, она искала парацетамол или нурофен, что-нибудь в этом роде».
– Так вы не принимали нелегальные наркотики в Японии? – переспросил детектив.
– Нет-нет.
– Вы абсолютно уверены?
– Да.
– Луиза, у вас на лбу написано: «Я вру».
– Он не ошибся, – призналась мне Луиза. – И я рассказала им всю историю без прикрас.
По стандартам многих двадцатилетних британок, ничего особенного не происходило.
– Понимаете, вокруг было полно наркотиков, но мы и правда ими не увлекались, – уверяла Луиза. – Однажды соседи попробовали галлюциногенные грибы, но нам обеим идея не понравилась. Люси заявила: «Тер петь не могу всякие глюки и потерю контроля».
Девушки не хранили марихуану, но прикладывались к косякам, которые передавали по кругу в гостиной Сасаки-хауса. Филлипс также призналась, что они принимали экстази в клубах Роппонги: Луиза дважды (в частности, по случаю драки в «Дип блю»), Люси – всего один раз. Они собирались купить еще вечером первого июля, но вечеринка так и не состоялась.
В обычных обстоятельствах подобное признание от иностранки в Японии привело бы к изрядным проблемам: хранение экстази, даже в самых малых дозах для личного пользования, считалось серьезным правонарушением.
– Но я знала, что должна сказать правду, и все выложила, – говорила Луиза. – Когда, где и сколько. И в полиции отнеслись с пониманием. Найти Люси было важнее. Они так усердно работали, сутки напролет. Я сама уходила поздно, а детективы задерживались еще на пару часов. Двоим полицейских даже пришлось взять отгул из-за переутомления.
Пальмы у моря
Роппонги – по крайней мере, по части хостес и их клиентов – все равно что деревня. За два дня об исчезновении Люси услышал весь район. Через неделю о деле Блэкман кричали заголовки всех газет Британии и Японии. Еще через два дня появилось 30 тысяч объявлений о пропавшей без вести с ее портретом. По всему Токио – а также в Лондоне, Мельбурне, Тель-Авиве и Киеве – девушки, служившие хостес в Роппонги в настоящий момент или в прошлом, почувствовали то же, что и Кристабель Маккензи: они внезапно вспомнили о том, что пытались забыть. Клара из Канады, Изабель и Шармейн из Австралии, Роня из Израиля, американка Кэти, англичанка Лана и украинка Таня[35] – называли разные мужские имена: Юдзи, Кодзи, Сайто, Акира. Но пережили девушки одно и то же: хорошо одетый японец средних лет, говоривший на английском, вез их на дорогом автомобиле в квартиру на побережье среди пальм; глоток напитка, потом темнота, а спустя много часов они приходили в сознание с головокружением и тошнотой.
Некоторые девушки были знакомы между собой. Кое-кто по секрету даже поделился своей историей с подругами. И все как одна, услышав о пропаже Люси, реагировали одинаково: это сделал он.
Почти никто из пострадавших не обращался в полицию: девушки опасались за свой визовый статус и к тому же не знали наверняка, что с ними произошло после отключки, – либо знали слишком хорошо и не хотели вспоминать. Исключением стала молодая американка по имени Кэти Викерс. Но ее опыт лишь доказал, что остальные помалкивали не зря. История Кэти Викерс служит немым укором полиции Токио.
В 1997 году она работала в клубе «Кадо». В ее случае это был прилично одетый мужчина средних лет по имени Кодзи. Он предложил ей джин с тоником. Первый глоток стал последним, что она запомнила из того вечера.
Через пятнадцать часов она проснулась на диване в нижнем белье. Кодзи объяснил, что произошла утечка газа и у него тоже ужасная головная боль. Он провез ее полпути до Токио, а потом пересадил в такси. У себя в сумочке девушка обнаружила пачку наличных и ваучеров на такси.
И если Криста Маккензи отделалась похмельем, то Кэти тошнило несколько дней. Когда она неуверенной походкой, с посиневшими губами и невнятной речью явилась в клуб «Кадо», его владелец и менеджер Кай Миядзава – бизнесмен с прической «конский хвост», делившийся со мной секретами барного бизнеса, – тут же отправил ее к доктору, а на следующий день пошел с ней в полицейский участок Азабу.
Реакция дежурных полицейских их поразила. «Нас даже не отвели в отдельный кабинет, не предложили сесть, а оставили топтаться у стойки регистрации, – писала позже Кэти. – Полицейские даже пальцем не пошевелили, чтобы помочь нам или что-то предпринять. Не было даже официального заявления, дежурный просто сделал несколько заметок на клочке бумаги… Мне заявили, что расследовать дело нельзя из-за отсутствия доказательств… Я могла дать подробное описание человека, назвавшегося Кодзи, и описать место, куда он меня отвез. Я даже дала им номер мобильного телефона, который записал мне сам Кодзи. Мне казалось, что фактов вполне достаточно, чтобы по крайней мере выяснить его личность и наличие уголовного прошлого. Но мне дали понять, что я всем мешаю и понапрасну трачу время».
Миядзава даже позвонил знакомому полицейскому:
– В итоге я услышал только одно: «Кай, эти иностранки-хостес поголовно сидят на наркоте. Сами виноваты, а ты просто забудь». Я рассказал Кэти, и она очень разозлилась. Неделю она ходила сама не своя, поэтому я пытался снова поговорить с полицией. Но мне твердили:
«Забудь, просто забудь».
Спустя три года, когда пропала Люси, Кэти все еще жила в Токио. Едва услышав о деле Блэкман, она снова пошла в участок Азабу. На сей раз женщина-детектив сделала чуть больше записей, но не проявила особого интереса или тревоги. Кай еще раз позвонил своему другу детективу.
– Но тот сменил место работы и теперь трудился в другом отделе, – объяснил мне Миядзава. – И сразу сказал: «Меня это не касается». Но я прав, теперь я на сто процентов уверен: в обоих случаях действовал один и тот же парень.
В июле полиция рассматривала три возможных сценария исчезновения Люси: религиозная секта, связь с торговлей нелегальными наркотиками или вмешательство якудза (вот почему Луизу спрашивали о мужчинах с татуировками – это знак японских гангстеров). Очевидные и вполне разумные следственные версии, учитывая специфику Роппонги и статистику преступности в Японии. Однако напрашивалась еще одна версия – о преступнике, который уже много лет занимался похищениями прямо перед носом стражей закона. Может, они намеренно закрывали глаза на подобные преступления? Тогда хотя бы понятно, почему они отказывались о них слышать, по крайней мере поначалу.
Криста Маккензи преодолела путь из Осаки до Токио, чтобы рассказать в полиции о человеке по имени Юдзи. В истории Кэти Викерс фигурировал Кодзи. Подруги Хью Шейкшафта Изабель Паркер и Клара Мендес, которые поделились своим печальным опытом с потрясенным Тимом Блэкманом, называли в полиции другие имена, но сюжет оставался прежним. Всех четверых встретили с полным безразличием.
– Пока они начали всерьез воспринимать мои слова, прошел месяц, – возмущалась Криста. – Никак не желали сложить два и два. Частично виновата инерция: поначалу мне говорили, мол, хорошо-хорошо, но скорее всего Блэкман вступила в секту. И будто не слышали родственников, которые твердили, что Люси совсем не из таких. Похоже, полицейские искренне верили в собственную выдумку. Или им просто хотелось верить, потому что не было ни малейшего желания разбираться с новой версией.
Оперативный штаб только открылся, когда туда пришло первое из фальшивых писем от Люси. На нем стояла дата 17 июля – день рождения Тима – и штамп префектуры Тиба. Луиза Филлипс сразу же опознала подделку: подпись слишком аккуратно выведена, грамматика сильно хромает. Отрывки, которые показали Тиму и Софи, прошли тщательную цензуру, но в целом письмо изобиловало грубыми и злобными фразами.
Детективы запретили Луизе делать записи, но она, ненадолго оставшись в кабинете одна, набросала на клочке бумаги несколько предложений: «Луиза я люблю тебя как сестру но вообще-то делая из меня знаменитость ты срываешь нахрен все мои планы»; «он привел меня в отель и трахал меня – трахал всех хостес»; «я хочу быть тем кем хочу»; «смысл приезда в Японию – деньги да так и есть»; «хотела сбежать»; «я умоляла его тебе позвонить»; «скажи Скотту, что я его люблю, но больше не хочу с ним встречаться»; «не невинна, было несколько раз»; «трахалась с клиентами за деньги»; «Луиза ты думаешь что знаешь меня но ты ничего не знаешь».
– Омерзительный язык, – призналась Луиза. – Просто ужас.
Весь день Филлипс проводила в участке, а затем в одиночестве возвращалась в полицейскую квартиру. Спала Луиза отвратительно, ей снились кошмары. На несколько дней у нее остановилась Криста, но ее тоже терзало чувство вины – за то, что не пошла в полицию раньше, что при первой встрече подавила порыв предупредить Люси о возможных опасностях. И они с Луизой не столько утешали друг друга, сколько еще больше отчаивались.
– Я не могла избавиться от мыслей о том, где сейчас Люси, – рассказывала мне Луиза. – Ее, наверное, держат взаперти, но где? Каждую ночь я гадала: «Она голодает? Мерзнет? Дают ей хотя бы воды? А если начнутся месячные?» Меня мучили картины, как ее насилуют и пытают, как шестеро мужчин делают с ней ужасные вещи; мерещился целый ряд тюремных камер, одна за другой. В глубине души я не верила, что Люси погибла. Мне казалось, что я сердцем почую, если она умрет.
Для Кая Миядзавы, владельца клуба «Кадо», лето 2000 года тоже выдалось непростым.
– О Люси Блэкман каждый день говорили по телевизору, – рассказывал он. – Все просто с ума посходили. Журналисты ринулись в Роппонги как безумные, приставали ко всем подряд, и клиенты перестали ходить в клуб.
В августе Мияздаве вдруг позвонили из полицейского участка Азабу. С ним связались в первый раз: в неделю исчезновения Люси от Кая с Кэти только отмахивались. На проводе был один из детективов инспектора Удо.
– Он сказал: «Я слышал, что в июле вы беседовали с моим коллегой. Будьте добры явиться в полицейский участок Азабу». Я ответил: «Черта с два. Вокруг полно журналистов. Я владею клубом, пытаюсь вести дела, и мне не нужно такое дерьмо. Вредно для бизнеса. Я только хочу, чтобы все поскорее закончилось. Берите машину и приезжайте ко мне в офис. Мы поговорим, а потом прокатимся». Потом я позвонил Кэти.
Версии, связанные с наркотиками, гангстерами или гуру, никуда не привели, и следователям пришлось рассматривать другие варианты. Детективы Усами и Асано отправились с Каем и Кэти за город, чтобы найти место, куда ее увез Кодзи. Она очень смутно представляла направление – юго-запад Токио, вдоль полуострова Миура. Кай отчетливо запомнил ту поездку и считает успешный результат своей заслугой.
– Я почему-то велел полицейским: «Сверните здесь направо», – объяснял он мне. – Может, меня направляли высшие силы.
Проехав три километра вдоль побережья, они добрались до Дзуси-Марины. Основанный в 1970-х курорт считался популярным и роскошным, здесь жили богатые пары на пенсии, а столичные знаменитости покупали загородные квартиры с видом на гору Фудзи. Именно здесь писатель Ясунари Кавабата, получивший Нобелевскую премию, в 1972 году совершил самоубийство, отравившись газом. Яхты и волны, высокие многоквартирные дома с балконами и – редкое зрелище для севера – сотни высоких пальм. Кэти сразу же узнала пейзаж.
– У меня мурашки побежали по телу, – поведал мне Кай. – Меня и сейчас дрожь пробирает, когда я вспоминаю тот день. Потому что в итоге я оказался прав. Я на сто процентов был уверен в своей догадке и оказался прав. В тот момент мне подумалось, что я и вправду крут!
Изабель Паркер и Клара Мендес рассказали Тиму свою историю почти сразу после его приезда в Токио. И без того подавленный, он, по примеру полиции, не придал информации особого значения. В последующие недели от него тщательно скрывали новости о ходе расследования – вернее, полное отсутствие новостей.
– Ее отец постоянно приходил к нам с вопросами о продвижении поисков, – признался мне старший детектив в отставке. – Но мы только и могли сказать: «Расследование идет своим чередом». Если честно, нам не нравилось, что он устраивает бесконечные грандиозные пресс-конференции. Он злился, что в участке ему ничего не говорят, а мы объясняли: «Потому что здесь пресса. Если мы сообщим вам о своих версиях, вы можете проболтаться журналистам, что поставит под угрозу все наше расследование».
Впрочем, детективы лукавили по поводу настоящего положения дел. Вначале, видимо, не желая показывать, насколько мало им известно. Позже – чтобы не спугнуть подозреваемого. Отчасти именно по этой причине расследование казалось весьма запутанным.
К концу лета детективы наконец занялись и отслеживанием телефонных звонков. Они намеревались выяснить, кто звонил на розовый таксофон в Сасаки-хаусе и с кем должна была встретиться Люси в тот день, а также вычислить владельца номеров, которые Кэти и Кристе дали Кодзи и Юдзи. Сведения об этих номерах появились в участке еще в начале июля (а в случае с Кэти – в 1997 году), но, видимо, только в августе полицейские всерьез приступили к делу.
Процесс отнимал очень много времени и был невероятно сложным. Телефонные компании записывали только исходящие звонки с каждого конкретного номера, а не входящие, то есть по номеру розового таксофона отследить загадочного звонившего не удалось бы. Телефонный номер, который сообщила Криста, был зарегистрирован на имя Хадзимэ Танака – крайне распространенное в Японии имя. Счет открыли по карточке медицинского страхования, которая оказалась фальшивой. Адрес, указанный на ней, существовал, но жильца с такой фамилией не обнаружилось. Второй мобильный телефон, чей номер поступил от Кэти, оплачивали картами предоплаты, которые не требуют заключения договора или открытия счета, – популярный вариант у тех, кому есть что скрывать. Каждый раз, запрашивая телефонные записи, инспекторам приходилось получать судебное предписание; подготовка необходимых документов, передача их в суд и ожидание ответа занимали целую неделю.
Начать решили с розового таксофона. Детективы приблизительно знали, во сколько звонил клиент в день исчезновения Люси, и наметили временной интервал в плюс-минус шесть минут. Они попросили телефонные компании прошерстить номера всех своих абонентов, чтобы выяснить, кто звонил в Сасаки-хаус в указанный промежуток времени. Требовалось проверить миллионы пользователей, и компании согласились далеко не сразу.
– Такого никогда раньше не делали, – сообщил мне бывший старший детектив. – Проверка заняла несколько дней, к ней привлекли десятки сотрудников. А приступили к ней после визита премьер-министра Блэра и его просьбы к японскому правительству посодействовать полиции. Тут уж оставалось только выполнять указания, чтобы не ударить в грязь лицом.
Вычислили единственный одиннадцатизначный номер. Затем выяснилось, что он принадлежит еще одному анонимному клиенту, телефон которого подключен на условиях предоплаты. Но обстоятельства его приобретения оказались весьма любопытными. В июне 2000 года в токийском магазине электроники посетитель купил сразу семьдесят телефонов, среди которых был и указанный аппарат. Человек представился вымышленным именем; покупка состоялась всего за несколько дней до введения закона, согласно которому новые владельцы мобильных средств связи были обязаны предъявить удостоверение личности и назвать свой адрес. Зато теперь у детективов появились номера остальных телефонов из той же партии; все они, как предполагалось, принадлежали человеку, который звонил Люси и встретился с ней в тот день.
Лишь около десяти мобильных оказались активированы. Теперь, со свежими судебными предписаниями, можно было выяснить номера исходящих и входящих по этим аппаратам. Информацию вносили в сложные таблицы, похожие на генеалогическое древо. Наконец в дебрях цифр отыскался и номер мобильного телефона Луизы: звонок от Люси в субботу вечером, когда та обещала скоро приехать домой, – последний контакт с пропавшей.
Телефонная компания смогла определить станцию, передала звонок. Она находилась в городе Дзуси.
Кэти Викерс уже опознала жилой комплекс Дзуси-Марина как место, куда ее привозил Кодзи. Детективы свозили туда остальных девушек. Криста, Клара и Изабель единодушно узнали участок побережья – именно здесь их накачали наркотиками и раздели. Но никто не мог вспомнить конкретную квартиру или даже здание. Детективы получили список всех владельцев квартир и проверили уголовное прошлое каждого. Всплыло немало старых правонарушений, но насильник среди сотен имен нашелся только один.
Он владел квартирой номер 4314 и дважды фигурировал в судебных протоколах. В 1983 году он помял бампер другому автомобилю, но отделался небольшим штрафом. А в октябре 1998 года, всего два года назад, его поймали, когда он с камерой в руке подглядывал за женщиной в туалете приморского городка Сирахама на западе Японии. Как сообщали позже японские СМИ, он представился в полиции ненастоящим именем и назвал себя писателем-документалистом. Дисциплинарный суд признал мужчину виновным и выписал штраф, ответчику даже не пришлось присутствовать на заседании. Штраф составил 9 тысяч иен (56 фунтов) – меньше стоимости часа с хостес в «Касабланке» или «Кадо».
В уголовном деле остался снимок, сделанный во время ареста; полиция также нашла фотографию водительских прав, по которым вычислили автомобили, зарегистрированные на его имя, и несколько компаний, в которых он значился президентом, а также многочисленную недвижимость, которая принадлежала его фирмам по всей Японии.
Когда фотографию подозреваемого среди снимков других мужчин показали Кристе, Кэти, Кларе и Изабель, каждая опознала его как своего клиента и обидчика.
– На фото он выглядел ужасно, – вспоминала Клара. – Глаза полуприкрыты, будто его в канаве подобрали. Если не знать, то можно подумать, что он пьян или не в себе. Но мне кажется, он просто пытался усложнить полиции задачу и не дать себя сфотографировать, вот и отводил взгляд.
Через камеры наблюдения, установленные на токийских шоссе, отследили один из автомобилей подозреваемого, белый спортивный «мерседес-бенц». Записи подтвердили, что он ездил из Токио в Дзуси в день исчезновения Люси и в последующие дни несколько раз катался туда и обратно вдоль полуострова Миура.
Инспектор Удо приказал установить наблюдение за этим человеком. Чтобы он не заметил за собой «хвост», слежку вели разные офицеры, по рации передавая коллегам сведения о перемещениях подозреваемого. Каждый день его «вели» около десяти сотрудников – пешком, на мотоцикле или в автомобиле. Удо назвал такой стиль слежки «методом точечного попадания». Однако он не всегда оправдывал себя, и детективы часто теряли объект из виду. Как-то раз он уехал в направлении Тибы и исчез. А на следующий день в полицейский участок пришло фальшивое злобное письмо, подписанное именем Люси, со штампом почтового отделения Тибы.
К концу сентября инспектор Удо был уверен, что нашел нужного человека. Его перемещения в день исчезновения Люси и результаты опознания другими хостес не оставляли никаких сомнений. Не хватало только улик. При этом заявлением Кэти Викерс полиция интересовалась не больше, чем три года назад, когда от нее просто отмахнулись; вместе с остальными девушками она служила лишь винтиком в деле Блэкман.
– Важнее всего было выяснить, что произошло с Люси, как он ее убил и где спрятал тело, – подтвердил Удо. – В этом и состояла цель: найти Люси.
Детективы начали изучать историю подозреваемого и его перемещения за последние несколько недель. Его компаниям принадлежала недвижимость по всей Японии, начиная с острова Хоккайдо на севере до Кюсю на юге. Часть апартаментов сдавалась в аренду, но некоторые оставались в личном пользовании хозяина, включая три квартиры в центре Токио и огромный двухэтажный дом с бассейном в богатом пригороде Дэнъэнтёфу. Была также недвижимость в поселке Мороисо на западном побережье полуострова Миура, в 32 километрах к югу от Дзуси. В этом районе с каменистыми бухтами и пляжами попадались и загородные многоквартирные дома, и рыбацкие хижины. Подозреваемому принадлежала квартира в здании под названием Блю-Си-Абурацубо.
Детективы позвонили своим коллегам в город Мисаки-гути, в ближайший от Мороисо полицейский участок. И местным патрульным было что рассказать.
Шестого июля три офицера выехали на вызов госпожи Абэ, консьержки жилого комплекса Блю-Си-Абурацубо. В квартиру номер 401, которой не пользовались несколько лет, днем внезапно приехал какой-то человек. У него даже не оказалось ключей, и он, не известив консьержку, вызвал слесаря, вскрывшего дверь. Посетитель оставил свою спортивную машину, двухместный «мерседес», на парковке. Друг госпожи Абэ по имени Хирокава сообщил, что в салоне лежал объемистый предмет, прикрытый белыми полотенцами; свободным оставалось только водительское сиденье. Подозрительный мужчина теперь находился в квартире, и оттуда доносились странные звуки. Инспектор Наоки Харада с одним из подчиненных поднялись по лестнице и постучали в дверь. Из-за двери слышались громкие удары.
Вначале никто не открыл. Полицейские позвонили по домофону, представились и попросили впустить. Наконец дверь открыл невысокий мужчина среднего возраста с редеющими волосами.
– Он вышел в пижамных штанах и с голым торсом, – рассказывал позже инспектор Харада. – Обливался потом, но сильно дрожал, что меня удивило. И еще он тяжело дышал. Казалось, каждая пора его кожи выделяла пот, и он был весь в грязи. Я решил, что он занят тяжелой работой.
Мужчина пробормотал, что хочет переодеться, и закрыл дверь; опять послышались удары. Когда хозяин снова открыл, инспектор Харада наконец вошел в квартиру.
– В коридоре лежали какие-то инструменты, повсюду валялись осколки бетона, – поведал он. – В глубине комнаты лежал полотняный мешок с каким-то округлым предметом внутри диаметром около двадцати сантиметров.
Однако мужчина категорически запретил полиции осмотреть квартиру, уверяя, что просто меняет плитку в ванной.
– Показать свою комнату – все равно что раздеться перед вами догола, – злился он.
Инспектор Харада возразил:
– Раздеваться не надо, просто позвольте заглянуть внутрь, и я уйду.
Но без ордера или явных признаков преступления полицейские не имели права врываться и проводить обыск. Они связались по рации с участком и там подтвердили, что мужчина действительно является законным владельцем квартиры. И они отступили.
А дальше произошло нечто совсем дикое. Хозяин окликнул полицейских и предложил вернуться в квартиру.
– Он держал в руках бумажный сверток, – рассказывал инспектор Харада. – Затем развернул бумагу, словно ребенка распеленал, и я увидел голову собаки. Мужчина заявил: «У меня сегодня умерла любимая собака. Я решил, что собачье тело вам покажется подозрительным, вот и не хотел вас впускать».
Полицейский обратил внимание, что труп собаки заморожен и, судя по виду, давно окоченел.
– У меня мелькнула мысль, что мужчина, возможно, совершает нечто серьезное, например, избавляется от тела, – скажет инспектор Харада на суде через несколько лет. – Что бы ни было в свертке, оно умерло не в тот день и не накануне.
Но местная полиция так и не расследовала случай с собакой и не связала его с сообщениями об исчезновении девушки-иностранки, которую отвезли на побережье, появившимися пару дней спустя.
В период с июля по октябрь начальникам полицейского участка Азабу и Первого следственного отдела пришло шесть писем. Два были составлены на том же ломаном английском и подписаны поддельным автографом Люси Блэкман. Еще одно послание, якобы от анонимного «знакомого» Люси, который встретил ее «в некоем месте», занимало восемь страниц текста на японском. Там говорилось, что Люси страдала шизофренией и раздвоением личности, также влезла в огромные долги, которые выплачивает, занимаясь проституцией. «Это не похищение – она сама использовала мужчин», – злобно заявлял автор. У инспектора Удо имелись отпечатки пальцев подозреваемого, снятые в ходе ареста после инцидента в общественном туалете, но на письмах или конвертах никаких отпечатков не нашли.
В начале октября в полицейский участок Азабу пришел по почте довольно толстый конверт. Внутри лежала пачка банкнот по 10 000 иен – всего 1187 000 иен. К деньгам прилагалось послание, снова якобы подписанное Люси, где объяснялось, что таким образом она выплачивает долг в размере 7418 фунтов. Далее объяснялось, что из-за долгов Люси решила на время исчезнуть, а затем покинуть Японию. Присланные деньги передаст кредиторам Софи, поскольку повсюду висят объявления с фотографией Люси и она решила сбежать туда, где ее никто не знает.
За все время наблюдения за подозреваемым полиция ни разу не замечала, чтобы он снимал деньги в банке или отправлял письма. Дальнейшее развитие событий еще больше смутило следователей: 1 октября он купил яхту.
Шестиметровое рыболовное судно «Ямаха» из стеклопластика приобрели за 3,5 миллиона иен (21 900 фунтов) у дилера в Иокогаме и доставили к причалу Сиборния-Марина в нескольких сотнях метров от жилого комплекса Блю-Си-Абурацубо на другой стороне бухты. Через несколько дней подозреваемый побывал в магазине судовых принадлежностей у Сиборнии и купил компас и якорный трос. Управляющему магазина Хидэо Кавагучи он заявил, что хочет бросить якорь на глубоком месте, поэтому ему нужен трос длиной тысячу метров.
– В бухте Сагами есть участки в тысячу метров глубиной, – вспоминал Кавагучи, – но удержать там якорь непросто. Я объяснил, что нужен очень тяжелый якорь и придется связать два длинных троса вместе. Покупатель говорил, что у него большой опыт, но я ему не поверил, потому что опытный моряк не станет покупать такой длинный трос.
Большинство покупателей приходили в магазин в шортах и сандалиях, однако этот клиент был в костюме в тонкую полоску, при галстуке и в черных кожаных туфлях.
– Такой наряд мне показался слегка странным, – подчеркнул Кавагучи. – Да и сам мужчина вел себя необычно и сильно потел.
Наконец он ушел, а вскоре заявились детективы. Они интересовались содержанием разговора и предупредили сотрудников магазина, чтобы о странном покупателе никому не говорили.
У инспектора Удо сразу появилось множество вопросов. Зачем подозреваемый купил лодку? Навигационный сезон заканчивался. И раньше море его вроде бы не интересовало. Разговор о якорном тросе и бухте Сагами мог объясняться следующим образом: мужчина хотел от чего-то избавиться и планировал утопить это в глубинах океана.
Чтобы отплыть от причала Сиборния, необходимо заранее получить разрешение дежурного капитана, и полиция предусмотрительно навестила его. На следующей неделе он сообщил, что их подозреваемый планирует вывести судно в море в четверг 12 октября.
– Мы предполагали, что на борту находится тело Люси и он планирует избавиться от него, – объяснил Удо. – Так что тем утром мы надеялись арестовать виновного.
Прокуратура токийской полиции поспешно получила ордер на арест – не по делу об исчезновении Люси, а по факту изнасилования другой хостес.
Ночь 11 октября подозреваемый провел в одной из своих токийских квартир, однокомнатном жилище в десяти минутах пешком от перекрестка Роппонги. Арест наметили на раннее утро, и Удо отправился спать, уверенный в успехе.
В три часа утра инспектора разбудил телефонный звонок японского журналиста. «Ёмиури симбун» – газета с крупнейшим тиражом в Японии и в мире – в ближайшем номере собиралась опубликовать сенсационный материал об аресте человека, подозреваемого в похищении Люси Блэкман.
– Я знал, что новость подхватят и телевизионщики, – рассказывал Удо. – Нужно было действовать до того, как выйдет утренний выпуск новостей.
Вряд ли подозреваемому удалось бы сбежать, поскольку теперь за ним велась полномасштабная слежка. Однако полицейские опасались, что под угрозой ареста он покончит с собой.
В шесть утра офицеры, которые вели наблюдение за жилым комплексом, увидели, как подозреваемый вышел из дома и направился в киоск на углу, откуда появился с пачкой газет в руках. Тут его и арестовали по обвинению в похищении и изнасиловании Клары Мендес 31 марта 1996 года. В тот день газеты впервые обнародовали его имя: Ёдзи Обара, сорокавосьмилетний бизнесмен и президент нескольких компаний.
– Когда полицейские приблизились к нему, он задрожал, – рассказывал Удо, – а на лбу выступили капли пота.
Часть IV
Обара
Слабый и сильный
Лишь несколько фотографий Ёдзи Обары стали всеобщим достоянием, да и те были тридцатилетней давности.
Все, кроме одной, снимались еще в школьные годы. На фото представал юноша с нежным, почти женственным лицом и скромной неуверенной улыбкой в черной форме со стоячим воротничком в прусском стиле, как на всех японских школьниках. Короткие волосы с пробором справа, аккуратная стрижка. На одном снимке он смотрел мимо камеры, опустив взгляд с тревожным и задумчивым выражением лица. Он казался мягким, чувствительным, даже немного похожим на девочку. Особенно выделялись губы – резко очерченные, полные и чувственные.
На самой последней фотографии, размытой и зернистой, уже стоял двадцатилетний молодой человек в рубашке с широким воротом, расстегнутой на груди. Он стал худощавее, волосы отросли. Парень уверенно смотрел в объектив сквозь большие темные очки. Поза нарочито мужественная, а в решительном взгляде читаются самоуверенность и даже высокомерие. Большинство изображений преступника вырезали из групповых фото с официальных школьных мероприятий и увеличили. В безумные недели сразу после ареста Обары японские репортеры достали снимки через его старых знакомых по школе и университету. Но даже самая свежая фотография датировалась серединой 1970-х годов.
Ходили слухи, что у его пожилой матери есть пара снимков, но вообще-то Ёдзи Обара фотографировался только ради получения необходимых документов вроде водительских прав и паспорта. Он избегал фотокамер, и даже в Центральном отделении токийской полиции отворачивался от объектива и отказывался позировать для снимка в досье.
При этом Обара был настоящим барахольщиком, копил вещи и записи, вел дневник и постоянно делал заметки, не выбрасывая даже мелочи. Эта привычка его и разоблачила. Если бы не личный архив, пусть и весьма хаотичный, полиции не удалось бы предъявить ему обвинения. Зато во внешнем мире он старался не оставлять никаких следов. Видимо, так его воспитали в семье.
Его прошлое, даже самое недалекое, выглядело неясным и расплывчатым. Если долго и упорно всматриваться (а я всматривался долгие месяцы), появлялись слабые очертания: редкие вспышки и мерцающие всполохи на лице преступника, случайные обрывки разговоров. Но не удавалось различить, что же скрывается во тьме.
Ёдзи Обара не всегда был Ёдзи Обарой. Он родился в городе Осака 10 августа 1952 года в семье с корейскими корнями. Через месяц отец дал ребенку три имени, которые по отдельности означали «золото», «звезда» и «колокол». По-японски имя читалось как Сейсо Кин, однако, поскольку родители носили фамилию Ким, ребенка стали звать Сон Чон. При необходимости семья брала японскую фамилию Хошияма. Так и получилось, что во взрослую жизнь юноша вступил с тремя именами: Ким Сон Чон, Сейсо Кин и Сейсо Хошияма.
Этнических корейцев, таких как семейство Ким-Кин-Хошияма, в Японии называют дзаинити тё-сэндзин, или просто дзаинити. В 2000 году, когда в Токио приехала Люси Блэкман, их насчитывалось 900 тысяч, однако можно было много лет прожить в Японии и даже не узнать об их существовании. Появление нацменьшинства в стране единственной неделимой расы стало результатом трагедии, побочным эффектом спорной азиатской политики начала XX века.
Окруженная могущественными и агрессивными соседями, Корея на протяжении всей своей истории служила полем битвы. Еще в XVI веке армии самураев разграбили полуостров и вернулись через узкий Цусимский пролив с сокровищами, рабами и отрезанными ушами убитых корейских воинов. В очередной раз порабощение Кореи произошло в конце XIX века, и в 1910 году страну формально присоединила к себе молодая Японская империя. Колонизаторы строили дороги, порты, железные дороги, шахты и заводы, вводили современные сельскохозяйственные методы и посылали детей из элитных корейских семей учиться в Токио. Но какие бы блага не принесла японская власть в плане экономического развития, имперское господство омрачалось расизмом, насилием и жестокостью оккупантов.
Со временем политический курс Японии изменился. Но в конце 1930-х цель правительства состояла не только в контроле над корейцами и использовании их ресурсов, но и в уничтожении коренной культуры и духовном подавлении. Японский язык стал обязательным в школах; корейцев заставляли брать японские имена и посещать синтоистские храмы. Редкие восстания подавлялись и сопровождались арестами, пытками и убийствами. Происходила и всеобщая миграция: японских чиновников и поселенцев посылали осваивать новые территории, а бедные корейцы уплывали в противоположном направлении, надеясь найти работу в промышленных центрах – Токио, Осаке и Фукуоке.
Вначале миграции были добровольными, но, когда война в Азиатско-Тихоокеанском регионе докатилась до Японии, подданных колоний насильно мобилизовали в императорскую армию и военно-промышленный комплекс. К 1945 году сотни тысяч корейцев рассеялись по всей Азии в составе Японской армии в качестве солдат, санитаров, конвоиров и военных секс-рабынь («женщин для удовольствия», чье существование официально отрицали почти пятьдесят лет). В самой Японии насчитывалось два миллиона дзаинити; большинство обитали в трущобах неподалеку от шахт и заводов, где приходилось работать.
Правительство стремилось полностью ассимилировать корейцев, чтобы японская культура и язык попросту поглотили их. И пока Япония занималась уничтожением их самобытности, корейцам не спешили давать привилегии и статус полноценных граждан.
Они были подданными императора, но не равными японцам. Их лишили избирательного права и мест в парламенте. Стандарты медицинской помощи и образования для корейцев в трущобах Осаки и Кавасаки были ниже, чем для местных японцев. Они получали намного меньше за тот же труд, да еще и вызывали ненависть японских рабочих, зарплаты и места которых тоже сокращались. В повседневной жизни корейцы постоянно сталкивались с дискриминацией и неуважением, которые ограничивали им доступ к образованию, достойной работе и участию в политике.
Многие японцы их недолюбливали, а порой и просто презирали. Дзаинити считались вспыльчивыми, упрямыми, грязными и вонючими дикарями, предпочитающими отвратительную пищу. Мы вряд ли сумели бы отличить корейцев от японцев по внешним признакам, но они, несомненно, говорили и двигались по-другому и выделялись среди почтенного однородного населения Японии тысячей других мелких признаков. Кроме того, они не обладали инстинктивной сдержанностью и уважением к авторитетам, которыми до сих пор славятся японцы. Газеты охотно печатали статьи о злодеяниях «бунтовщиков»-корейцев, которые, даже будучи схвачены на месте преступления, никогда не признавали своей вины. В лучшем случае их считали дебоширами и вонючками; в худшем – жестокими уголовниками и провокаторами. Такие предрассудки не всегда заметны чужому глазу, но они лежат очень близко к поверхности и чреваты конфликтами.
В 1923 году Токио и соседний город Иокогама были разрушены сильным землетрясением. В пожарах, поглотивших деревянные города, погибли 140 тысяч человек. Впоследствии распространились ошеломляющие слухи, которые подхватили газеты: корейцы устраивают поджоги, отравляют воду, грабят магазины, насилуют женщин. Не было ни одной причины верить наветам, однако толпы простых японцев в спонтанном взрыве дикой жестокости ринулись убивать корейцев.
Вот как описывал те дни современник: «Они хватали человека и кричали: „Кореец!“ Жертву тут же окружали, привязывали к телефонному столбу, выкалывали глаза, отрезали нос, вспарывали живот и вытаскивали кишки. Иногда корейца цепляли за шею к автомобилю и ездили, пока несчастный не задохнется. Не жалели и женщин: их тянули за ноги в разные стороны, разрывая тело надвое. Корейцы сопротивлялись до последнего и настаивали на собственной невиновности. Но толпа их не слышала».
Через два-три года после этих событий недалеко от порта Пусан, который теперь принадлежит Южной Корее, появились на свет родители Ёдзи Обары.
В Японии преступление рассматривают не только как противоправные действия самого нарушителя; в более глубоком смысле все исходит от семьи. Морально, если не по закону, ближайшее окружение злодея тоже несет ответственность за его действия. Вот почему родители преступника (а иногда его сестры и братья, учителя и даже работодатели) сплошь и рядом низко кланяются перед камерами и со слезами на глазах просят прощения за деяния, в которых они не участвовали и на которые никак не могли повлиять. Вот почему в первые часы после ареста Обары японские репортеры наперегонки пытались разузнать, откуда он родом и кто его отец с матерью.
Основные факты выяснились сразу: имя, возраст, род занятий. Однако на этом все и заканчивалось. Через несколько летя долгими неделями пытался раскопать прошлое Обары. Я разговаривал с десятками японских журналистов, старожилами серьезных общественно-политических газет и скандальных еженедельников, месяцами занимавшихся делом Люси Блэкман. Это были опытные репортеры, занимающиеся расследованиями; у них имелись время, возможности и контакты. Но и мне, и им удалось насобирать лишь крохи.
– В большинстве уголовных дел, – сказал мне один репортер журнала, – даже если семья хранит молчание, всегда найдутся люди из ближнего окружения: друзья, соседи, коллеги. Но об Обаре практически ничего не удалось выяснить.
Его отца звали Ким Кё Хак, мать – Чхон Ок Су. Они приехали в Японию до войны – не по призыву, а добровольно. По словам одного из сыновей, Ким Кё Хак провел два с половиной года в тюрьме за сопротивление японцам, хотя где, когда и как это произошло, неясно. Но в 1945 году он находился в Японии и меньше чем за десять лет из бесправного иммигранта превратился в одного из самых богатых людей во втором по величине городе страны.
Сразу после войны в Японии царили нищета и хаос, однако у корейцев появился уникальный шанс преуспеть. Можно только представить их невероятный, даже дикий восторг: после тридцати пяти лет угнетения презренные неудачники дзаинити внезапно сравнялись с прежними хозяевами, стали свободными людьми в самом сердце страны, потерпевшей поражение. Осака, как почти все города, сильно пострадала от бомбардировок союзников. Документы, подтверждающие право собственности, затерялись; посреди всеобщей неразберихи достаточно было громко заявить о правах на землю, прежние владельцы которой, возможно, уже никогда не вернутся. В руинах появились подпольные рынки, руководимые как японскими якудза, так и людьми, называющими себя сангокудзинами, «жителями третьих стран», – освобожденными гражданами бывших колоний. За сферы влияния велись ожесточенные войны; полиция беспомощно наблюдала, как армии гангстеров сражаются с сотнями корейцев, тайваньцев и китайцев. Многие освобожденные дзаинити поспешили домой в Корею, но условия там оказались столь же скверными и безнадежными. Те же, кто остался в Японии, очнулись от победного ликования и посмотрели в лицо реальности. Нищета, отсутствие политических свобод и предвзятое отношение никуда не делись. С поражением империи и освобождением Кореи дзаинити превратились в иностранцев, лишенных даже элементарных прав японских подданных.
Дзаинити объединились в две организации: «Миндан» подчинялась корейскому Югу с его правой диктатурой, которую поддерживали американцы, «Чосен сорен» благоволила коммунистическому Северу. В 1950 году, при поддержке США и Китая соответственно, две Кореи развязали трехлетнюю войну, которая разрушила полуостров и снова пустила его по миру. Трагедия корейской войны стала японской удачей, так как американским военным требовались сталь, обмундирование и продовольствие. Их поставки помогли восстановить экономику Страны восходящего солнца.
К 1952 году, когда родился Ким Сон Чон, будущий Ёдзи Обара, его отец был уже богат. Трудно сказать, каким образом он нажил состояние, но у человека в его положении вариантов было немного. Никакая крупная уважаемая компания не взяла бы корейца на серьезную должность, ни один японский банк не одолжил бы ему денег. Не считая недвижимости, у Ким Кё Хака имелись по меньшей мере три источника дохода: автомобильные парковки, служба такси и залы патинко – уникальных японских игровых автоматов наподобие вертикального пинбола, – одно из немногих легальных азартных развлечений. Эти предприятия объединяло одно: они не требовали больших вложений. Для открытия магазина или ресторана необходимы помещение, персонал и товары. А если приобрести участок свободной земли, автомобиль или игровой автомат патинко, можно начать зарабатывать немедленно. Каждый день приносил наличную прибыль, которую можно было потратить или реинвестировать, купив еще один автомобиль или второй автомат. Впрочем, на таком простом бизнесе особенно не разбогатеешь.
Успешные игроки в патинко получали не наличные, а призы – сигареты или купоны, которые в маленьком окошке неподалеку обменивались на деньги. Таким образом, салоны патинко обходили запрет на азартные игры. В кассовых окошках работали якудза, снимая сливки – комиссионные. Банды якудза также поддерживали порядок на рынках, решали споры владельцев собственности, выселяли нежелательных жильцов, предоставляли займы и распределяли сферы влияния – разумеется, за соответствующую плату. Мафия неизменно служила приютом для тех, кому некуда идти, – бедняков, изгоев и беспризорников. Корейцы иногда становились крупными авторитетами в японских бандитских синдикатах – Ямагути-гуми в Осаке и Кобе и в токийском Сумиёси-кай; существовали и знаменитые своей жестокостью корейские банды Ямагава-гуми и Мэйю-кай, которые охраняли магазины и трущобы дзаинити.
Никаких доказательств, что Ким Кё Хак входил в якудза или имел отношение к организованной преступности, нет. Уголовного прошлого за ним не водилось. Но для многих его соплеменников, занятых подобной деятельностью, наличие договоренностей с криминальными синдикатами являлось обычным делом.
– Другого выхода не существовало, – объяснял Манабу Миядзаки, журналист и сын главы якудза. – Для корейцев-дзаинити налаживание отношений с якудза служило ключом к успешному бизнесу.
– Наиболее активно развивался его бизнес, связанный с такси, – рассказывал кореец из Осаки, вспоминая о Ким Кё Хаке. – И патинко. Ким был обаятельный, общительный, разговорчивый; довольно полный и невысокого роста. Пиджак вечно был ему великоват, зато Ким водил самые дорогие автомобили. А карьеру он начинал на рынке.
Мой собеседник, уважаемый госслужащий, которому перевалило за пятьдесят, отлично разбирался в своем деле. Образование он получил за рубежом и владел прекрасной коллекцией записей классической музыки. Его отец, как и отец Ёдзи Обары, был корейским иммигрантом и тоже содержал семью на доходы от не самого почетного бизнеса. Он покупал мертвых лошадей на живодерне американской оккупационной армии, выдавал мясо за говядину и продавал на рынке.
Те, кому удалось достигнуть успеха в трущобах дзаинити, воодушевляли других. Поколение, пережившее те послевоенные десять лет, помнит период жуткой нужды и нехватки продовольствия, когда даже взрослые люди временами умирали от голода. Но остались в памяти также дружба и добрые отношения, которые так редко встречаются в циничную эпоху благоденствия. Семья Ким жила в осакском районе Абено-ку, плотно застроенном деревянными домиками, с узкими улочками, где теснились магазинчики и рынки. Место было опасное, веселое и шумное; один из салонов патинко, принадлежащий семье, находился прямо за углом. Но к тому времени, когда будущий Ёдзи Обара научился ходить, семья переехала в другой район, всего двумя километрами южнее, но совершенно отличный по социальному статусу и уровню роскоши.
В Китабатакэ, чистом квартале с огромными безмолвными домами с садами, окруженными каменными заборами, обитали самые богатые и респектабельные жители Осаки. Народ тут был скромный и воспитанный; даже удивившись новым соседям, они бы, скорее всего, воздержались от проявлений открытого расизма. Впрочем, в 1950-х годах корейские иммигранты в столь фешенебельном месте сами осознавали свою непохожесть на окружающих.
Перебравшись в Китабатакэ, семья Ким изолировала себя и от корейского сообщества в целом. Впрочем, это произошло бы в любом случае. Ким Кё Хак стал одним из самых богатых людей в Осаке, однако теперь о нем почти никто не помнит. Как и его сын, он старался по жизни не оставлять следов.
Вынужденный, наряду с остальными дзаинити, выбирать после войны национальность, он предпочел стать южным корейцем. Враждующие сообщества «Миндан» и «Чосен сорен» играли в жизни многих корейцев в Японии ведущую роль. Они открывали свои клубы, школы и культурные центры, где заводили друзей или полезные знакомства; с ними были связаны кредитные организации, выдающие займы бизнесменам, которые не могли ничего получить от японских банков. Но удивительнее всего, что Ким не принадлежал ни к одной из мафиозных группировок.
На огромных воротах особняка в Китабатакэ значилось имя владельцев: Ким. Но они также пользовались фамилией Хошияма. Корейцы часто брали новые имена, поскольку было выгоднее, чтобы их принимали за японцев. Но попытки изгоев влиться в японское общество были обречены на провал, потому что даже сами псевдонимы выдавали в них корейцев. К примеру, фамилия Хошияма считалась типичной для дзаинити. Зная об этом, они все равно ее выбирали, что говорило об их попранной гордости и боли, которую причинял отказ от важных для каждого человека национальных корней.
– В то время между богатыми и бедными корейцами разверзлась пропасть, – рассказывал мне Манабу Миядзаки. – Общество раскололось на два лагеря. С одной стороны, семья Обары выглядит победителями. Они верили в будущее, в жизнь без дискриминации. Но предрассудки не так легко побороть. Японская раса всегда старалась держаться особняком, подальше от других народностей. И у корейцев, которые верили в равные права, эта обособленность вызывала ярость.
– Первое поколение корейцев с большим трепетом относилось к своей национальной принадлежности, – поведал мне госслужащий, чей отец торговал кониной. – Среди них попадались и те, кто преуспел в бизнесе, харизматичные личности, построившие собственные империи. Из-за дискриминации им не удавалось полноценно влиться в японское общество, и каждый раз, сталкиваясь с ущемлением прав, они задавались вопросом: как преодолеть неравенство. Ответом, к которому они пришли, стало образование. Сами они почти не учились. К примеру, мой отец окончил лишь начальную школу. И поэтому обеспеченные корейцы стремились дать своим детям достойное образование.
После ареста Ёдзи Обара отклонялся от ответов на любые вопросы, касающиеся его детства и семьи. Но странная книга, которую привлек к делу его адвокат через шесть лет (по некоторым признакам можно утверждать, что ее написал сам Обара), подробно описывает процесс «весьма специального образования для одаренных», которое он начал получать в раннем детстве. В отсутствие другой информации о его семье, именно книга показывает невероятное давление, которое с самого начала оказывали на своих детей супруги Ким.
– Отец два с половиной года провел в тюрьме, – сообщил мне младший брат Обары во время нашей довольно странной встречи, о которой я расскажу ниже. – Он сопротивлялся, боролся с японцами. Но единственное, в чем я могу его обвинять, так это в отсутствии времени на семью. Но отец очень настаивал на важности образования.
За два года до начальной школы Ким Сон Чона отдали в римско-католический детский сад; каждый день по возвращении домой мальчика ждали три частных репетитора. Уроки игры на скрипке и пианино, как утверждается в книге, начались «в возрасте трех лет и десяти месяцев». По субботам мальчик занимался с учителями музыкой с обеда до вечера, а потом час играл в оркестре. По воскресеньям репетиторов было еще больше. «Отсутствие свободного времени ужасно угнетало его, – говорится о герое книги в третьем лице. – Надеясь избежать страдания, Обара отчаянно притворялся, что не достоин того, чтобы с ним занимались». Он писал домашнее задание левой рукой, стараясь сделать почерк более корявым, и приступал к вопросам на экзамене только в тот момент, когда время почти истекало. Любопытная фраза описывает его положение: «Он освобождался, унижая себя».
В шесть лет мальчик поступил в знаменитую школу при университете Осаки, одну из лучших в стране. Элитное заведение строилось по образу и подобию британских частных учебных заведений. В 1950-х годах среди учителей было немало бывших офицеров расформированной императорской армии, и родители высших слоев среднего класса Осаки – доктора, юристы и бизнесмены – изо всех сил старались устроить юных сыновей именно туда[36].
В школе Ким Сон Чона знали под именем Сейсо Кин. Его соученик по начальной школе вспоминал, как они занимались борьбой и играли в бейсбол:
– Он тогда был сильным мальчишкой, у него все получалось. В той же школе учился и его старший брат, и я помню, как мы ходили к ним домой в Китабатакэ; их мать была очень добра ко мне. Сейсо был настоящим корейцем. Он легко раздражался, отличался вспыльчивостью. Взгляд прямой, напряженный. В Сейсо чувствовался характер. Но, честно говоря, нравился он далеко не всем.
Другой одноклассник Сейсо Кина тоже играл с ним в бейсбол:
– Он мечтал быть питчером, хотя бросал не слишком сильно и точно. Любил покрасоваться, но амбиции опережали его технику. Не помню, чтобы он хоть раз заливисто, по-детски смеялся. Вечно требовал, чтобы все было так, как хочет он, не считаясь с чувствами других. Мне кажется, он выстроил между собой и остальными людьми стену. Общался либо поверхностно, либо вообще никак. Сколько ни спрашивайте, я ума не приложу, кто мог быть его близким другом.
Эти беседы состоялись спустя полвека после описываемых событий, через несколько лет после ареста Ёдзи Обары и обвинения его в серии особо тяжких преступлений. Может быть, тут нет ничего удивительного, и все же поражает, что из десяти одноклассников, которых я разыскал, ни один не сумел припомнить друзей Сейсо Кина.
Сейсо был вторым из четверых братьев: он родился за десять лет до самого младшего Косе и за шесть лет до третьего брата Эйсё. Самый старший брат Сосё родился в 1948 году. В традиционной корейской семье именно на первенца родители возлагают все надежды, но Сосё Кин их не оправдал.
Один из его одноклассников, Синго Нисимура, был избран в палату представителей японского парламента. Правый националист и ультра-патриот, он верил, что война в Тихоокеанском регионе должна вызывать гордость, а не стыд, и что Японии следует запастись ядерным оружием на случай будущей войны в Азии. Такие люди в Японии составляли хоть и шумное, но незначительное меньшинство, и весьма необычно, что одного из них избрали в парламент. Трудно знать, насколько шовинизм Синго Нисимуры повлиял на детские воспоминания Обары, но о Сосё Кине тот говорил с печальной нежностью.
В первую очередь, Нисимура запомнил Сосё приятным воспитанным юношей, который вполне гармонично влился в класс веселых подростков.
– Если его дразнили, он проходил мимо и старался не обращать на это внимания, – рассказывал Нисимура. – Я проводил с ним много времени, и мне он казался довольно открытым.
Он знал, что отец Сосё заработал огромное состояние на автоматах патинко, а его семья живет в самом дорогом районе Осаки. Считалось, что старший сын отличается от своего окружения, но я бы не сказал, что над ним издевались. Для одноклассников он был вроде домашнего мальчика. В средней школе он вел себя очень мило, но в старших классах резко переменился.
На переменах Сосё Кин повадился выводить мелом на доске лозунги политического характера, наполненные неприязнью к Японии и японцам.
– Он писал: «Долой японский империализм!» – и ругал Японию и ее жителей, а корейцев называл жертвами, – вспоминал Нисимура. – И еще он уверял, будто за ним следит корейское ЦРУ.
Речь идет о знаменитой южнокорейской спецслужбе, которая часто похищала и пытала своих политических врагов. В 1960-х, в период политической неразберихи в Корее и Японии, проходили многочисленные забастовки и демонстрации против Японо-американского договора о безопасности и Вьетнамской войны. Но самый страшный проступок богатых и избалованных старшеклассников элитной школы состоял лишь в том, чтобы примкнуть к левым, слушать записи Джоан Баэз[37]. Поэтому радикальные лозунги Сосё Кина вряд ли стоило воспринимать всерьез.
– Остальные просто смотрели на него и посмеивались, – рассказывал Нисимура. – Народ говорил: «Ой, опять он за свое!», а некоторые предлагали: «Не нравится – вали домой, в Корею». Он напоминал мне героя-одиночку из комиксов. Чем серьезнее он воспринимал свои лозунги, тем больше над ним смеялись.
К окончанию школы Сосё Кин вдруг перестал ходить на занятия. Синго Нисимура не знал причины. Ходили слухи, что дело в неуспеваемости; позже он слышал, что Сосё переехал в Соединенные Штаты. Сам Нисимура поступил в университет Киото и получил профессию юриста, самую конкурентную и престижную в Японии. Через двадцать пять лет он забыл о странном юноше из дзаинити. И вдруг в 1989 году поздним вечером ему позвонили.
Это было Сосё Кин, судя по голосу, жутко напуганный. Он заявил Нисимуре, что им нужно немедленно увидеться. Было уже за полночь, но Нисимура поспешил в большой дом в Китабатакэ, где раньше не бывал. Ему открыла служанка; похоже, остальные домочадцы отсутствовали. Сосё молча поприветствовал бывшего однокашника, достал стопку бумаги и начал что-то поспешно писать.
– Он не сказал ни слова, – вспоминал Нисимура. – Только писал: «У меня в доме „жучки“, поэтому я не могу говорить. Даже дома и в электричках за мной следят». Я осмотрелся и решил, что он преувеличивает. Он жил в большом тихом особняке под присмотром домработницы; ясное дело, что никто его не преследует и не устанавливает прослушку, но он страстно верил собственным утверждениям.
Сосё Кин поведал не только о своем параноидальном страхе преследования, но и о том, чем занимался в Соединенных Штатах.
– Видимо, он там чувствовал себя очень несчастным и одиноким, – вспоминал Нисимура. – Он сообщил совсем немного. Упомянул, что однажды поставил палатку посреди пустыни и застрелил гремучую змею.
По неразборчивым записям трудно было понять, чего Сосё Кин хотел от своего друга-юриста. В конце концов Нисимура попрощался.
– А что тут поделаешь? – сетовал он. – Посоветовал ему нужно хорошенько выспаться и постараться расслабиться. И ушел.
Больше Нисимура ничего не слышал о Кине, чего нельзя сказать о других его одноклассниках из школы при университете Осаки. Примерно в то же время Сосё связался с несколькими бывшими соучениками с необычной просьбой. Он просил каждого одолжить на время альбом со школьного выпускного, а когда возвращал, оказывалось, что у всех юношей на фотографиях вырезаны лица.
– В школе все знали, что он кореец, – рассказывал Нисимура. – Но никаких предубеждений мы не испытывали и достаточно хорошо ладили с ним. Но теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что даже среди такой роскоши парень был несчастен и во всем винил Японию и японцев.
Третий по старшинству брат Эйсё Кин. По всей видимости, он тоже столкнулся с проблемами, связанными с тем, как его воспринимают в обществе, а также с национальностью – но с другими, не такими, как у самого старшего брата.
Эйсё поступил в Университет иностранных языков в соседнем городе Кобе. Талантливый и творческий молодой человек говорил на китайском и английском языках, не считая японского и корейского, увлекался литературой и философией. Группа молодых дзаинити обычно собиралась в библиотеке Осаки для обсуждения литературы и политики с точки зрения корейцев, живущих в Японии; Эйсё примкнул к ним. Они беседовали о Достоевском, Сартре и Камю, о несправедливости, с которой сталкивались каждый день, о зачастую незаметных, но прочных и высоких, как тюремные стены, предрассудках. Юношам не светила работа в ведущих японских банках или торговых фирмах; несмотря на выдающиеся успехи в университете, их никогда не взяли бы на дипломатическую службу, обеспечивающую быстрое продвижение по карьерной лестнице, или в Министерство финансов.
– Большинство дзаинити даже не думают о дискриминации, – пояснил мне один журналист из Осаки. – Их и так все устраивает, они не ощущают себя пленниками. Они выросли в Японии, говорят на японском, едят японскую пищу и даже не подозревают, что они объекты дискриминации. А вот люди с амбициями, которые хотят подняться по социальной лестнице, упираются в стеклянный потолок. Клетку замечают лишь те, кто пытается сбежать. Для второго или третьего поколений натурализованных корейцев резкое осознание дискриминации становится шоком.
Я встречался с одним из членов группы молодых интеллигентов, другом Эйсё Кина. Они провели вместе много часов, беседуя о книгах и делясь мыслями. Но компания Эйсё бывала утомительной. Разговоры с обидчивым, нерешительным и ершистым юношей часто превращались в споры.
– Он был очень жестким, – вспоминал друг Эйсё. – Не умел нормально общаться, а когда тема касалась семейных дел, и вовсе терял самообладание. Казалось, он постоянно настороже.
Однажды приятель заглянул в гости к Эйсё Кину. Учитывая философский радикализм и левые политические взгляды товарища, он не ожидал увидеть такую роскошь. Даже сад украшали огромные и дорогие поделочные камни – грандиозный и монументальный символ богатства и власти семьи.
– Мне кажется, Эйсё было трудно признать, что он вырос в высшем социальном классе, – рассказывал мне его друг. – Он не мог преодолеть пропасть между собой и остальными корейцами.
Эйсё Кин намеревался стать писателем. В двадцать два года в журнале дзаинити опубликовали его рассказ. Там отражена печаль молодого человека: нерешительного, стеснительного, униженного, страдающего от пренебрежения других людей.
Рассказ называется «Это случилось однажды», и его главный герой – дзаинити по имени Банъити Ри. Он едет в метро, и тут в поезд заходят три японца его возраста. Сразу ясно, что они глухие: парни издают невразумительные громкие звуки, общаются на языке жестов быстрыми движениями рук и резкой мимикой. Банъити задумывается, можно ли выразить на пальцах тонкие чувства и их оттенки. Но глухие так горячо беседуют друг с другом, что их усилия глубоко трогают героя.
Мы узнаем, что дома у Банъичи не все гладко; чтобы сбежать от проблем, юноша уходит с головой в «социальные вопросы», но какие – не уточняется. Однако вскоре герой разочаровывается в «лицемерии» организаций дзаинити и задается мучительным вопросом дискриминации. Она видится ему не только в отношении японцев к корейцам, но и в чувстве превосходства над другими, которое в нем тоже присутствует. Если Банъити – жертва расизма, он тоже не избежал собственных предрассудков. «Что нам делать с дурной привычкой ставить других ниже себя?» – спрашивает герой. «Во время этих размышлений ему казалось, будто его придавил огромный валун», – подчеркивает автор. Банъити чувствует себя расколотым пополам, будто в нем присутствует вторая личность – холодный, критический разум, который осуждает его за лицемерие. Юношу очень трогает отсутствие смущения у глухих парней в поезде: «Они боролись по-честному, и в их отчаянных попытках общаться не было никакой фальши».
Затем в вагон садится пьяный японец; в ярком костюме и белых туфлях он похож на якудзу. Один из глухих нечаянно задевает его рукой. Пьяный с гневом хватает его за воротник и требует извинений, но глухой может только мычать. Банъити вскакивает и требует, чтобы бандит оставил свою жертву в покое, – и тогда тот переключается на него. Победитель в схватке крепкого головореза и мягкосердечного интеллигента предрешен, но драка даже не успевает начаться, поскольку между спорщиками встают те самые три глухих парня. Таким образом, корейца спасли от японского гангстера инвалиды.
Банъити не позволило смолчать чувство порядочности и справедливости. Но он унижен, и внутренний голос выносит ему жесткий вердикт: он вмешался, потому что посчитал глухих слабыми и беззащитными. Злость на пьяного головореза вспыхнула из-за своего рода предрассудка, убеждения в превосходстве над инвалидами, – и оно мало чем отличается от принижения дзаинити. «Сильны ли мы, если называем их слабыми? – вопрошает автор. – И что можно сказать о корейцах, которые подвергаются дискриминации в закрытом японском обществе? Кто мы: сильные или слабые?»
Герой выходит из поезда и идет от станции домой, весь в сомнениях, чувствуя угрызения совести. «Отличаюсь я от тех, кого презираю? – спрашивает он себя. – Почему люди так стремятся дискриминировать других?»
Он проходит мимо большого дома с внушительными воротами и садом с «огромными тяжелыми камнями – настолько огромными, что из них можно было бы построить еще один дом». Мимо проезжает «кадиллак» с включенными фарами. «Банъити стало интересно, терзают ли людей, живущих в таком доме, те же сомнения».
Хотя читатели вряд ли могли догадаться, в качестве дома, мимо которого идет вымышленный герой, описывается жилище семьи Кин в Китабатакэ. «Кадиллак» – вероятно, старый автомобиль Ким Кё Хака. Итак, в рассказе о самобичевании и изоляции Эйсё Кин в конечном счете укоряет самого себя. Он создал сочувствующего героя, который испытывает сложные чувства отчуждения и презрения к самому себе. Но Эйсё предавался горьким мыслям в незаслуженно привилегированной ситуации, за высокими стенами особняка в Китабатакэ. Даже герой рассказа не настолько одинок, как обитатели огромного дома. «Те родители и сыновья так привыкли к своей богатой жизни, – размышляет Банъити, невольно выдавая подспудные страдания автора. – А я?»
«Это случилось однажды» вышел в свет зимой 1977 года в журнале «Сандзенри». Рассказ выдвинули на литературную премию, и Эйсё Кин с гордостью рассказал друзьям о своем успехе – похоже, он обрел уверенность, которой ему так не хватало. Но потом он узнал, что конкурс судит известный писатель-дзаинити, давний близкий друг его матери. Юноша посчитал, что его номинировали благодаря покровительству, а не литературным способностям, снова впал в уныние.
Между тем Сейсо Кин, будущий Ёдзи Обара, в детстве «освобождался, унижая себя». Но при желании он легко мог возвыситься, что и продемонстрировал на вступительных экзаменах в старшую школу при Кэйо, одном из двух самых известных и престижных частных университетов в стране. О школах-пансионатах по британскому образцу тогда почти не знали, и подростки редко покидали родные дома и переезжали на учебу в другой город, хотя такое и случалось. Но решение родителей Ёдзи показалось бы странным и в Японии XXI века, а для 1960-х и вовсе было неслыханным.
В пятнадцать лет он покинул отчий дом и уехал жить в Токио совершенно один, без родни. Вместе с домработницей, которая приглядывала за ним, юношу поселили в Дэнъэнтёфу, не менее богатом, чем Китабатакэ, районе. Сейчас это одно из немногих мест в столице, где в основном стоят традиционные японские дома, прячущиеся за деревянными изгородями в глубине садов с зарослями бамбука и мха. Но Сейсо жил в агрессивно современном здании, наглядном образце архитектурного шика 1960-х. Почти двухметровая кирпичная стена и частокол пушистых сосен отгораживали особняк от узкой улицы. В глубине сада скрывались овальный бассейн и просторный двухэтажный дом с белым оштукатуренным фасадом, отделанным коричневой плиткой. Комнаты разделялись стеклянными раздвижными дверьми; спальни на верхнем этаже выходили на широкие балконы, а гараж вмещал сразу несколько машин. Окружающие традиционные японские особняки, как и жилье родителей в Осаке, были тенистые, прохладные и мрачные; а это здание навевало фантазии о Гавайях или Калифорнии: светлая нарядная резиденция, где хочется загорать, устраивать барбекю и танцевать у бассейна. Переехав сюда, будущий Ёдзи Обара перешел на новый уровень самосознания. Забыв фамилию Кин, он превратился в Сейсо Хошияму и сбросил с плеч бремя семьи вместе с корейским происхождением, точно тяжелое зимнее пальто по весне.
Если считать, что за действия преступника несет моральную ответственность не только семья, но и близкое окружение, то сюда же, пусть не в такой степени и не так явно, можно причислить и одноклассников. Знавшие Сейсо Хошияму по университетской школе Кэйо обычно отказывались говорить о нем, и это в какой-то мере указывает на стыд. К тому времени, когда я их разыскал, уже шел суд; в такой ситуации трудно забыть об обвинениях и непредвзято отнестись к воспоминаниям. Человека, которому это почти удалось, звали Кодзи Акимото[38], он учился вместе с Сейсо в выпускном классе.
– Каждый год состав классов менялся, – вспоминал он. – Один мой товарищ раньше учился в одном классе с Хошиямой и сказал мне: «Странный парень». Но мне Сейсо с первого взгляда показался довольно приятным. Он всегда хорошо выглядел и был аккуратно причесан; тогда он носил стрижку, которую мы называли «Кеннеди», – как у знаменитого американского президента. У него были гладкая светлая кожа и, несмотря на юность, неплохая фигура, не мускулистая, но и не рыхлая. И он охотно вступал в разговор, пытался завести друзей. Я решил, что парень довольно интересный и совсем не странный, поэтому спросил друга, с чего тот назвал Сейсо странным. А он ответил: «Посмотри на его глаза».
Акимото сразу понял, что имел в виду его друг. Вокруг век Хошиямы виднелись крошечные шрамы, знакомые его ровесникам как следы операции под названием эпикантопластика. Она заключается в удалении эпикантуса, массивной складки, прикрывающей внутренний угол глаза и характерной для многих жителей Центральной и Восточной Азии. Операция превращала азиатское гладкое веко в двойное европейское. Глаза становились больше и круглее, казались более «западными» и привлекательными, а для многих японцев – и менее корейскими. Через двадцать лет у азиатских женщин дорогостоящая операция обретет огромную популярность.
– Но в те времена пластическая операция у школьника была крайне необычной, – подчеркивал Акимото. – И все же Сейсо явно ее сделал и теперь мог похвастать двойным веком[39]. Я решил, что парень весьма интересный.
Ребята сблизились; два или три раза Акимото бывал у него в Дэнъэнтёфу. В Кэйо учились многие мальчики из обеспеченных семей, но богатство Хошиямы ошеломляло.
– Дом был огромным, – рассказывал Акимото. – Я подумал, что его семья богата уже много поколений. У него оказалась большая коллекция пластинок. А даже для мальчиков из Кэйо в то время это считалось дорогим удовольствием. По словам Сейсо, его годовой доход составлял двадцать миллионов иен – поистине удивительная сумма. Он вроде бы владел автомобильными парковками. Мимоходом я узнал, что его родители живут в Осаке, но сам он никогда о них не рассказывал. В доме не нашлось никаких картин или семейных фотографий. Кажется, он говорил, что живет с дедушкой, но я там видел только домработницу и начал подозревать, что никакого дедушки нету. К тому же Сейсо часто опаздывал на занятия – видимо, некому было его разбудить утром и отправить в школу. Несмотря на живой ум, успеваемость у Хошиями хромала. Потому что он жил один и никто за ним не ухаживал. Он создал собственный мир, варился в собственной атмосфере.
Непросто описать, но что-то в Сейсо Хошияме отличало его от других: хладнокровие и самостоятельность, граничащие с полной оторванностью от общества.
– Однажды он вернулся после каникул с наручными часами, кажется, «ролекс», которые хотел продать. По его словам, он купил их в Гонконге, что нас, мальчишек, очень впечатлило. Импортные часы, заграничные поездки – мы о таком даже не мечтали.
Хошияма хорошо говорил по-английски и делал большие успехи в музыке – по крайней мере, для ушей неискушенных подростков в Кэйо.
– Он превосходно пел, – вспоминал Акимото. – Осенью у нас в школе намечался праздник, и мы решили устроить выступление музыкальной группы, а также продавать «кока-колу» и немного подзаработать. Хошияма отвечал за вокал. Он исполнил композицию Тома Джонса, и получилось великолепно! Точь-в-точь Том Джонс, его резкие движения бедрами и пластика в целом. Не помню, какую песню пел Сейсо, – не «Делайлу», а другую. На нем была рубашка с длинными рукавами, красивая такая, из черного атласа или шелка. Потрясающий наряд. Раньше он не носил таких броских вещей, но обладал своим стилем и выглядел прекрасно.
И все же стать настоящим другом Хошиямы Акимото не удалось. В Сейсо ощущалась некая пустота, будто под многообещающей внешностью пряталась душа, которой недоставало человечности, – если она там вообще была.
– Когда я согласился с вами встретиться, я много думал о том, каким был Сейсо, – признался мне Акимото. – Это очень трудно выразить. Он выстроил стену между собой и другими людьми и никогда по-настоящему не понимал одноклассников. Каждый делится чувствами с друзьями, находит нечто общее, открывается в общении, даже если речь идет о любви к мотоциклам «хонда» или другой чепухе. С Хошиямой у нас такого не было. Если он хотел подружиться с одноклассником, то говорил: «Он клевый парень», – но даже не пытался заглянуть глубже, узнать характер человека. Слишком уж материалист; с ним не возникало неуловимого единения, когда действительно общаешься с человеком по душам. Его интересовали только собственные желания, и никаких компромиссов. Ни до, ни после мне не встречались подобные люди. Я сохранял определенную дистанцию и наблюдал за ним. По-моему, в его душе вообще не было места для настоящего друга. Я до сих пор так считаю.
Больше всего в Сейсо поражала уверенность в обращении с девушками.
– Он часто сам ездил развлечься в Дзиюгаоку и Иокогаму, – вспоминал Акимото. – В Иокогаме работала знаменитая дискотека, куда он часто заглядывал. Мальчишки нашего возраста обычно ходили туда вдвоем или втроем, но никогда поодиночке. А Хошияма не боялся гулять один. Он вел себя как взрослый, флиртовал как взрослый, и это очень впечатляло. Как-то на третьем году старшей школы он сообщил мне: «У меня свидание с девушкой. Показать ее фото?» Я посмотрел: они сидели вместе в дорогом ресторане в пригороде, куда школьники и не подумали бы сунуться. А он запросто появился там, да еще в белом костюме. Рядом стоял огромный букет цветов. Девушку – наполовину японку, наполовину европейку – звали Бетти. Думаю, Сейсо был настроен очень серьезно, но она его бросила, как он со слезами рассказывал по телефону нашему общему другу. Бетти сказала: «Когда станешь зрелым мужчиной, я вернусь». Он считал себя недостаточно зрелым, но твердо решил таким стать. Так что человеческие чувства у Хошиямы все-таки были. Он умел любить по-настоящему.
В школе при университете Кэйо учились несколько корейцев и китайцев. Но никто из одноклассников, по крайней мере опрошенных мною, даже не догадывался, что Сейсо Хошияма дзаинити. Никто не видел его родителей, братьев или друзей детства из Осаки. И никто не слышал о происшествии, ставшем, возможно, одним из самых тяжелых испытаний в жизни юного Сейсо, – о внезапной смерти его отца Ким Кё Хака в 1969 году при невыясненных обстоятельствах.
Джордж О'Хара
Вместо полицейского участка Азабу, где подозреваемого допросили бы в обычном порядке, детективы инспектора Удо отвезли Ёдзи Обару в похожую на крепость штаб-квартиру токийской полиции в Касумигасэки, квартале японской администрации. Неподалеку располагались Министерства финансов, иностранных дел и юстиции; на двух с половиной квадратных километрах разместилось самое большое скопление государственных институтов в стране. В течение нескольких часов после ареста Обары сотни офицеров с ордерами на обыск ворвались в двадцать объектов недвижимости задержанного по всей Японии. Среди них были однокомнатная квартира среди пальм Дзуси-Марины в комплексе Блю-Си-Абурацубо, где когда-то лежала мертвая собака; квартира неподалеку от Роппонги, где арестовали Ёдзи, и особняк в Дэнъэнтёфу. Вертолеты японских телевизионщиков кружили над стратегическими точками, пытаясь заглянуть за полицейский кордон. Они снимали, как собаки-ищейки что-то вынюхивают, а полицейские в комбинезонах перекапывают землю вокруг зданий. Сутки напролет полицейские автофургоны сновали туда и обратно, привозя улики: инструменты, одежду, записные книжки, пачки документов, катушки с пленкой, видео- и аудиокассеты, фотографии, различные бутылки с жидкостью и пакетики с порошком. Их отправляли в хранилище в Касумигасэки, где сам Удо руководил процессом их анализа.
– Собрали около пятнадцати тысяч предметов, – сообщил он мне. – Их разместили в самом большом помещении для улик, которое нашлось в штаб-квартире. Там было столько пыли, что все кашляли и чесались от укусов пылевых клещей. Но теперь мы обладали тоннами сокровищ.
Обару содержали в одной из камер в том же здании. В Японии подозреваемые в уголовном преступлении теоретически должны находиться в местах предварительного заключения, откуда их возят по утрам на допрос и куда отвозят в конце рабочего дня. На деле арестованных почти всегда держат в полицейском участке, где следственная группа контролирует все аспекты: доступ адвокатов и посетителей, время и продолжительность допросов, питание, даже степень освещенности в камере.
Многих прав, которые считаются основными в британском и американском правосудии, подозреваемый в Японии лишен, и, даже если в теории они существуют, на практике их просто игнорируют. У заключенного есть право на встречу с адвокатом – но частота и продолжительность визитов регулируется полицией. У него есть право хранить молчание на допросе – но он вынужден сидеть и слушать вопросы, которые часами задают сменяющие друг друга офицеры, пока арестант не одуреет от скуки и усталости. Детективы не обязаны производить запись допросов. Вместо стенограммы в конце процедуры они составляют краткий отчет (известный в системе правосудия как «заметки для прокурора»), под которым измученного подозреваемого просто просят подписаться.
Ордер на арест дает полиции право задержать подозреваемого на три дня, но с разрешения судьи срок позволено дважды продлевать на десять дней. Судья почти никогда не отказывает, так что полиция может держать человека под стражей двадцать три дня без общения и переписки, без доступа к адвокатам, семье или друзьям, причем даже не обязательно выдвигать какие-либо обвинения.
«Официальное законодательство Японии дает детективам столько преимуществ, что они крайне редко прибегают к откровенно нелегальным методам, – писал криминалист Сецуо Миядзава. – Вся система построена и работает так, что подозреваемый скорее сам добровольно признается в преступлении».
Однако детективы и прокуроры тоже работают под давлением – им необходимо добиться признания. В отличие от британского или американского суда, где необходимо доказать лишь факты, японское правосудие придает огромное значение мотиву. Причины и побуждения, которые привели к преступлению, необходимо доказать в суде; это решающий фактор при вынесении приговора для признанного виновным преступника. Кто, что, где и когда – не достаточно: японский суд хочет знать, почему. Значит, детектив обязан влезть в голову подозреваемого, а иначе он не выполнит свою работу до конца.
В реальности единственный способ узнать мотив – это признание.
– Признание важнее всего, – объяснял мне один детектив. – Все остальное, включая вещественные доказательства, вторично. В некоторых случаях полиция предпочитает искать улики только после получения признания. Они надеются, что подозреваемый откроет разоблачающую его информацию, неизвестную детективам, и она подтвердится в ходе дальнейшего расследования. Тогда исчезнут любые подозрения, что признание получено силой.
– Нам нужны улики, которые избавят от необоснованных сомнений, – сказал японский прокурор социологу Дэвиду Джонсону, который писал: «Признание – это сердце, насос, который помогает продвигать уголовное дело… Японских прокуроров отличает почти парализующий страх предъявить обвинения в отсутствии признания».
И задержанные признаются, вне зависимости от виновности, причем со временем такое случается все чаще. В 1984 году выдвинутые против них обвинения признали одиннадцать из двенадцати человек, представшие перед японским судом по уголовным делам. К 1998 году пропорция составляла уже пятнадцать к шестнадцати. Время от времени полиция и прокуратура ломают челюсти и носы, отбивают гениталии («Нам, японцам, удары по голове не страшны, – делился один прокурор. – Куда хуже получить пинок»). Но обычно прибегают к мягкому физическому насилию, которое скорее не причиняет боль, а унижает: шлепки, легкие тычки, лишение сна, еды и воды, сигаретный дым в лицо. Еще чаще применяют психологическое запугивание; Джонсон описывает случаи, когда «подозреваемым угрожали, их брали измором, мучили, провоцировали, третировали, сбивали с толку». Однако, учитывая полную власть полиции над арестованными, столь грубые меры редко идут в ход. Японские детективы, как правило, вежливы, бесстрастны, настойчивы и непреклонны. Они просто задают одни и те же вопросы, снова и снова, двадцать три дня подряд – 552 часа, 33 120 нескончаемых минут, пока подозреваемый находится в их власти. Чаще всего достаточно просто подождать.
Таким же образом воздействовали и на Ёдзи Обару, который был арестован 12 октября 2000 года.
Он не признался. И даже не собирался признаваться. С самого начала, отказавшись позировать для полицейского снимка, он продемонстрировал нежелание сотрудничать. Стало ясно, что арестант знает свои права и будет настаивать на их соблюдении, тогда как японские полицейские чины в большинстве своем опасаются обвинений в злоупотреблении и без того широкими полномочиями.
– Когда его арестовали, он согласился сдать отпечатки пальцев, но отказался фотографироваться, – рассказывал мне инспектор Удо. – Нам не удалось заставить его смотреть в камеру: если, к примеру, держать подозреваемого за подбородок, полицию могут обвинить в пытках. Поэтому на нашем снимке он смотрит вниз.
Удо не очень хотел вдаваться в подробности[40] полицейских допросов Ёдзи Обары – возможно, потому, что с точки зрения полиции успеха они не приносили.
– Вначале он казался очень напуганным, – отметил инспектор. – Сильно потел и периодически дрожал. Однако все отрицал.
Обару арестовали по подозрению в похищении и нападении, сопряженном с развратными действиями, в отношении Клары Мендес. По правилам, подчеркнул Удо, детективы должны были ограничиться вопросами только по этому делу. Но каждый сотрудник знал, что истинная цель допроса – узнать судьбу с Люси, и Удо не исключал, что детективы «болтали» с подозреваемым о деле Блэкман. Впрочем, долгое время Обара вообще не хотел говорить. Он подтвердил свое имя, а по поводу остального сослался на право хранить молчание.
Прошло две недели; двадцать три дня вскоре истекали. Тогда прокуратура применила еще один свой излюбленный метод. Она обвинила Обару в изнасиловании Клары Мендес и тут же «повторно арестовала» по обвинению в развратных действиях в отношении Кэти Викерс. Теперь полицейские получили еще двадцать три дня, перед тем как отправить Ёдзи в место предварительного заключения, где давления меньше, а атмосфера более расслабленная. Благодаря подобной сомнительной практике (сама по себе она не противозаконна, но граничит со злоупотреблением властью) Обару повторно арестовывали шесть раз.
Вернемся назад, в 1969 год. Тогда отец Обары Ким Кё Хак на пике жизненного успеха отправился в заграничную поездку с группой бизнесменов из Осаки. Ему было сорок четыре, а сыновьям – от семи до двадцати одного года. Подробности той поездки, как и многое другое, до конца так и не выяснены. Но известно, что группа посетила Гонконг, где 27 апреля или днем раньше Ким Кё Хак и умер.
Сам Обара позже настаивал на простом объяснении: смерть отца вызвана внезапным сердечным приступом. Но остальным трагедия показалась мистическим знаком. В особняке в Китабатакэ не стали устраивать пышного и богатого прощания с главой семьи, как заведено у корейцев; родственники даже не соблюдали традиционный траур. Тема почти не обсуждалась в семье; даже спустя десятилетия самый младший сын Косе, который в то время был маленьким, не знал, как именно умер отец. Японские журналы и соседи семьи Ким высказывали предположения, что смерть носила насильственный характер и, возможно, стала итогом деловых разногласий. А позже в большом доме в Дэнъэнтёфу поставили окна с пуленепробиваемыми стеклами.
Какой бы ни была правда, смерть главы семьи изменила жизнь остальных Кимов. Его состояние поделили между сыновьями и вдовой. Служба такси досталась беспокойному старшему сыну Сосё; салоны патинко унаследовал Эйсё, стремящийся стать писателем. Сейсо Хошияма, как все еще называл себя тогда Обара, получил автостоянки и недвижимость, включая особняк в Дэнъэнтёфу. Неясно, какая часть досталась Косе, но, видимо, гораздо меньшая: он единственный из братьев получил бесплатное государственное образование, а не дорогостоящее частное. Теперь у мальчиков не было отца, зато они стали богаты.
Приблизительно в то же время, когда Сейсо Хошияме исполнилось шестнадцать, он попал в автомобильную аварию, которую позже назвали причиной пластической операции. «Из кожи вокруг глаз вынули осколки стекла, – говорилось в книге об Обаре, заказанной в частном порядке одним из его адвокатов. – Многие раны пришлось зашивать, кое-где швы тянулись до уха». Тогда же, согласно источнику, юноша начал страдать от алкоголизма. «Он пил с пятнадцати лет и с тех пор пристрастился к алкоголю, – говорится в книге. – Когда его госпитализировали после автомобильной аварии, пить алкоголь он не мог и начал вдыхать его через нос, что отлично работало… Он вдыхал алкоголь каждую ночь и погружался в мир грез»[41].
Неудивительно, что учеба страдала. Главный смысл школы при университете Кэйо состоит в том, что она гарантирует место в университете Кейо, который, в свою очередь, обеспечивает успешную карьеру бизнесмена, политика, юриста или преподавателя. Чтобы ученик школы Кэйо отвернулся от перспективы университетского образования, требовалось нечто посерьезнее лени, расхлябанности или глупости – а Хошияма не был глупым. В книге, заказанной адвокатом, утверждается, что юноша сам отказался от поступления в знаменитое учебное заведение, опасаясь получить отказ. Так или иначе, в марте 1971 года Сейсо окончил школу в возрасте девятнадцати лет, но в университет Кэйо не пошел.
Далее жизнь Сейсо Хошиямы скрывает туманная завеса. Некоторое время он учился в токийском университете Комадзава, не таком престижном, как Кэйо. Три года провел в путешествиях: как говорится в книге, «он жил в штате Вашингтон, в Стокгольме, катался по миру». Возможно, он изучал архитектуру и однажды познакомился с известным американским музыкантом Карлосом Сантаной – через много лет он покажет свою фотографию рядом со знаменитым другом Кристе Маккензи. Приблизительно в 1974 году Обара вернулся в Японию и поступил в университет Кэйо на заочное отделение. Позже его перевели на очное, где молодой человек получил два высших образования, в области юриспруденции и политологии. В обоих случаях он отказался фотографироваться для выпускного альбома.
В 1971 году, после окончания школы юноша перешел на новый этап трансформации. Он официально сменил национальность с южнокорейской на японскую и взял новое имя: Ёдзи Обара. Имя состоит из двух иероглифов, обозначающих «замок» и цифру «два»; оно достаточно распространенное. А вот фамилия Обара необычна. Большинство японских иероглифов можно прочесть двумя или более способами, в зависимости от контекста и связи с соседними символами. Популярные имена имеют стандартное произношение, более редкие предполагают несколько вариантов. Новая фамилия Сейсо Хошиямы состояла из двух иероглифов (означающих «ткать» и «поле»), и прочесть ее можно было как Обара, Охара или Орихара.
К восемнадцати годам у парня было уже три имени; за тридцать лет до момента ареста он использовал десятки других. Понятно, что у человека, который инстинктивно скрывает свою личность и прячется даже от объектива фотокамеры, официальное имя в документах будет неоднозначным. Но почему Сейсо выбрал именно его?
Известен актер по имени Ёдзи Охара (пишется другими иероглифами и чуть отличается по произношению), снимавшийся в ряде фильмов софт-порно («Соблазн плоти», «Похотливые попутчицы»), которые возбуждали подростков в конце 1960-х. То же имя носил японский режиссер аналогичного периода. Но у семьи Ким и всех, кто знал Обару в то время, нашлось другое объяснение.
Смысл новых имени и фамилии состоял в том, что их можно переделать на западный манер: Ёдзи – Джордж; Обара – О'Хара. Видимо, так завершался долгий процесс трансформации имени и личности: из Ким Сон Чона, корейского младенца, в Сейсо Кина, маленького дзаинити, затем в Сейсо Хошияму, юного японца с большими европейскими глазами, а после в Ёдзи Обару-Охару-Орихару, неуловимого жителя Японии, не запечатленного даже на фотографиях, и, наконец, в Джорджа О'Хару, космополита, друга знаменитостей и человека мира.
На исходе третьего десятка лет жизни у Обары за плечами было два высших образования и опыт нескольких лет путешествий без определенной цели, однако к построению карьеры он даже не приступал. В тридцать он направил свои силы и наследство на поприще, символизирующее дух того времени, – в строительство.
Наступала эпоха знаменитой экономики «мыльного пузыря» в Японии, период с 1980-х по начало 1990-х, когда Токио стремительно превратился в самый богатый город на планете. Через сорок лет стабильного роста японская иена, фондовый рынок и особенно земля стали дорожать с невероятной скоростью. Все владельцы недвижимости разбогатели, заслуженно или нет, и японские банки сражались за право без всяких вопросов ссудить им деньги.
В Лондоне и Нью-Йорке десятилетие тоже выдалось головокружительным, но нигде потребление не достигало такого уровня, как в Токио. Вульгарность чрезмерного экономического бума обросла городскими легендами: унитазы с крышками из меха норки в ночных клубах; коктейли, посыпанные хлопьями настоящего золота; банкеты, где суши поедали прямо с обнаженных тел молодых моделей. Японцы, пережившие войну, знавали крайнюю бедность и голод; теперь их экономика готовилась обогнать американскую. Иностранные туристы, привыкшие к роскошной жизни в нищей стране, разорялись на высоким курсе иены, что притянуло новую рабочую силу гайдзинов в лице банкиров и бизнесменов, учителей английского и даже чернорабочих. И японцы этим гордились: теперь не только представители самых бедных стран Азии, но и американцы, австралийцы и европейцы потянулись в Токио не в качестве заезжих бизнесменов и праздных туристов эконом-класса, а почитателей японской экономической мощи. Символом перемен стали хост-клубы, где симпатичные блондинки-иностранки послушно флиртовали с богатыми клерками, превратившимися в хозяев жизни.
В ослепительном блеске богатства разница между дзаинити и японцами, как и между старыми и новыми деньгами, поблекла. Положение Ёдзи Обары позволяло нажиться на перестановках в благосостоянии и власти. Он взял ссуду под залог одной из своих парковок в Осаке и приобрел около двадцати зданий и квартир по всей Японии, большинство из которых сдавал в аренду. Его объекты располагались и на теплом Кюсю, самом южном из крупных японских островов, и на холодном Хоккайдо на севере. Названия подбирались типичные для эры экономического бума, когда считалось, что иностранные слова придают дополнительный вес: «Сасебо лайон тауэр», «Кусиро пэшн билдинг», «Гинза брайтнес». Обара купил по меньшей мере один объект за границей, еще один осязаемый символ достатка и престижа, – квартиру на тридцать третьем этаже в «Вайкики бич тауэр» на Гавайях. Часть приобретений была записана на имя Обары, но большинство по документам принадлежало девяти основанным им компаниям, включая «Атлантик трейдинг», «Криэйшн инкорпорейтед» и «Плант груп». Каждой компании соответствовал свой адрес, совет директоров и бухгалтер; по бумагам они полностью законны. Как позже выяснилось, никто из указанных в документах граждан даже не знал о том, что является руководителем фирмы.
Однокомнатную квартиру в Роппонги, где его арестовали, Обара купил в 1996 году; еще одно жилье – просторные апартаменты с видом на дворец Тогу, резиденцию японского кронпринца, – приобретено в 1988 году. Любопытные соседи – привычное дело в Японии, однако примечательно, что по обоим этим адресам лишь несколько человек смогли вспомнить Обару, настолько он избегал повседневных контактов.
В здании квартала Роппонги, где находилась его квартира, обслуживающий персонал понятия не имел, кто такой Ёдзи Обара, пока его не арестовали. В Дэнъэнтёфу он выскальзывал из-за высоких ворот в белом «роллс-ройсе» или серебристом «порше» на максимальной скорости, хотя соседи и так видели его нечасто.
– Мы ни разу с ним не разговаривали, и я считала его обычным юношей, – рассказала госпожа Куросаки, которая жила в Дэнъэнтёфу через три дома от Обары. – Конечно, такой молодой человек, живущий один в огромном особняке, привлекал внимание, и люди судачили о нем. Когда он поселился в доме с собственным бассейном, мы все завидовали.
Ежедневные попытки завязать дружбу по соседству Ёдзи игнорировал. Информационные листовки, которые рассылал комитет самоуправления Дэнъэнтёфу, никогда не доходили до адресата, а Мицуко Танаке, местной домохозяйке, ответственной за перепись населения, было очень непросто добыть заполненный бланк от жильцов дома Обары. Однажды она беседовала с его домработницей.
– Приятная и дружелюбная дама; по ее словам, он жил там один, а она для него готовила, – сообщила мне госпожа Танака. – Я спросила, долго ли она там работает, и она ответила, что всего несколько дней. Ее прислали из агентства по временному трудоустройству, и хозяин просил каждую неделю приглашать новую помощницу.
Даже имя обитателя особняка в Дэнъэнтёфу оставалось тайной: снаружи на табличке значилось латиницей: «Охара», а ниже шрифтом помельче: «Хошияма». Впрочем, как ни звали бы хозяина, он не оставался без компании.
– Там постоянно проводили время молодые люди, в том числе иностранцы, – рассказывала госпожа Куросаки. – Особняк окружала высокая стена. Я слышала женские голоса, поэтому думаю, что чаще там бывали женщины. За воротами слышались разговоры и смех. Но людей я не видела. Хозяин не гулял возле дома. Открывались ворота, он выезжал в машине с открытым верхом, рядом сидела женщина, а по возвращении он мигом скрывался за воротами.
Госпожа Танака добавляла:
– Мне запомнилась одна его подруга – с длинными черными волосами, как у японки, но немного смахивающая на иностранку. Довольно долго она появлялась в особняке, а потом пропала. И после ареста Обары мы стали гадать, что же случилось с той девушкой с длинными волосами.
Каким человеком был Ёдзи Обара? Чем он занимался, не считая бизнеса? Отсутствие информации поражает куда больше горстки выясненных фактов. Если отбросить предположения, слухи и догадки, остается немногое, лишь крупицы информации. Обара гордился своими благотворительными взносами. Позже он заявил, что отдал больше 100 миллионов иен на общественно-значимые цели, включая Японское общество детей-инвалидов и Ассоциацию юридической помощи. Несмотря на корейское происхождение или, напротив, благодаря ему, он горячо восхищался японской императорской семьей и с гордостью рассказывал, как присутствовал на вечере у императора Акихито и императрицы Митико. Помимо арендного бизнеса, Обара владел компанией «Гинза фудз», которая обслуживала маленький ресторан-лапшичную в самом фешенебельном районе Токио. Он любил классические импортные автомобили, и на момент ареста его автомобильный парк насчитывал девять машин, включая «БМВ», «мерседес-бенц», «феррари», «бентли-континентал» 1962 года и фаворти Джеймса Бонда серебристый «астон-мартин» 1964 года.
О многом, что касалось взрослой жизни Обары, трудно говорить с полной уверенностью, поскольку за недели, потраченные на изучение его прошлого, я не нашел ни одного человека, которого рискнул бы назвать его другом. Естественно, сразу после ареста друзья могли откреститься от него, но скорее их попросту не было. Я разговаривал с соседями и консьержами Обары, с хостес, которые его развлекали, с владельцами магазинов и курьерами, поставлявшими продукты и товары. Никто не вспомнил, чтобы с Ёдзи были приятели или чтобы он прямо говорил о своих друзьях, кроме Карлоса Сантаны. После ареста за все долгое время предварительного заключения к Обаре приходил только один загадочный посетитель, владелец салонов патинко, – и больше никого, не считая пожилой матери.
У тех, кто познакомился с Ёдзи после ареста, создалось впечатление, что он глубоко и тщательно изолировал себя от общества.
– Я имел дело с разными людьми, – признался мне один журналист. – И вряд ли у Обары хоть раз в жизни был настоящий друг, на которого можно положиться. Иногда я вижу у него в глазах желание довериться мне. Даже когда он в хорошем настроении, чувствуется его одиночество. Мне часто его жаль, очень часто. Он совершенно одинок. Ему не с кем поговорить, обсудить дела. Иногда мне кажется, что именно из-за невозможности кому-нибудь довериться он и обращался с женщинами таким образом. Друзей у него точно не было. Трудно сказать, откуда такая мысль, просто я это вижу, читаю по выражению лица. Я стараюсь смотреть ему в глаза, но он избегает прямого зрительного контакта. Меня обуревают сложные чувства – не только печаль, но и страдание. В таком одиночестве заключен настоящий трагизм.
Единственным существом, к которому Обара питал искреннюю любовь, была его шотландская овчарка Айрин, которая посмертно сыграла столь странную роль в деле Люси Блэкман. В нескольких публичных заявлениях Обара постоянно о ней упоминал, поэтому всем известно, что собаке нравился корм «Цезарь» с мясом, а перекусить она любила сушеной рыбой. Возле входной двери особняка в Дэнъэнтёфу Ёдзи установил памятник своей питомице в натуральную величину, с оскаленными зубами и блестящим керамическим языком. Он называл ее не иначе как «моя любимая собака» и «моя милая Айрин». После смерти овчарки 6 июля 1994 года Обара шесть лет хранил ее останки. «Технологии клонирования активно развиваются, – писал он позже. – И в надежде воскресить любимую собаку я отправил ее на покой в большую морозильную камеру. Я положил туда еще букет роз и любимые лакомства Айрин».
Какое-то время дела у Обары процветали. Стоимость недвижимости и арендная плата продолжали расти. Как подсчитали позже, общая стоимость активов молодого бизнесмена составляла 4 миллиарда иен – около 25 миллионов фунтов. Но имелись у него и долги, которые он беспечно накапливал. Цены на землю в Японии достигли пика в 1989 году, и к началу 1990-х стало ясно, что «мыльный пузырь» лопнул. Однако в 1993 году Обара основал еще одну компанию для крайне амбициозного проекта – строительства небоскреба с офисными и торговыми помещениями на территории одной из своих автостоянок в Осаке. На рекламном проспекте напечатали эскиз готового здания – устремленной в небеса сверкающей двенадцатиэтажной конструкции из голубого стекла с высоким, отделанным мрамором атриумом и множеством зубцов и выступов цилиндрической формы. Территорию украшали скульптуры в виде сияющих сфер с изогнутыми металлическими полумесяцами. «Изумительный футуристический силуэт в районе Кита-Синти с самыми фешенебельными магазинами, – говорилось в рекламном проспекте. – Настоящий пейзаж двадцать первого века». Некоторые слова заменялись английскими, переделанными на японский манер: «годзясу», «сируэтто», «хайсосаэтии». «Кита-Синти тауэр» напоминала чудовищную мешанину претенциозности и китча эпохи экономического бума, которые вышли из моды уже к 1993 году. Ее так и не построили. Через три года кредиторы Обары подали в суд, чтобы вернуть выданные ему займы, и в 1999 году на дом в Дэнъэнтёфу по решению суда временно наложили арест.
Сын корейского торговца кониной поведал мне:
– Почему второе и третье поколения уделяли мало внимания учебе, вполне объяснимо. Считалось, что крупные университеты Японии предлагают своим выпускникам лучшую работу, но моих ровесников таких возможностей негласно лишали. И я прекрасно понимаю, почему он бросил учебу в той социальной среде. К тому же он был очень богат, унаследовал огромное состояние и мог вообще не работать. Из всех братьев он подавал самые большие надежды. Но что ждало юного богача в дорогой школе? Только вечеринки и девочки. Неудивительно, что у него пропал стимул… Я думаю, что в Соединенных Штатах его воспринимали таким, каков он есть, не как корейца или японца, а просто как человека. Но после возвращения в Японию бизнес не заладился. У Ёдзи не было деловой хватки. Он промотал кучу денег. Доходы ему принес только бум цен на недвижимость, но, когда все рухнуло, Обару, как и многих других, ждал провал.
Манабу Миядзаки, писатель и сын главы якудза, подтвердил мне:
– Типичная картина. Отцу, иммигранту в первом поколении, удается разбогатеть. Но он простой человек и даже едва говорит по-японски, поэтому хочет дать сыновьям лучшее образование. У них есть все возможности, но ничего не получается. Они наследуют бизнес отца, однако, при всех ресурсах и знаниях, вылетают в трубу. Потому что они не так агрессивны, как отец. Они получили образование, но не разбираются в реальных делах и постоянно вынуждены просить помощи у старшего поколения. Кроме того, они не в силах побороть свои недостатки. Такие ребята богаты, но несчастны. Поиск поддержки, критика со стороны родителей – их жизнь просто исковеркана.
Через месяц после ареста Обары его адвокат Ёсинори Хамагути сделал для «клуба репортеров» токийской городской полиции публичное заявление от имени своего клиента. Позже Обара будет утверждать, что заявление составил Хамагути и сам Ёдзи до публикации даже не видел текст. Но стиль и содержание указывали, что автором, скорее всего, выступал подозреваемый. «В прошлом у меня были сексуальные отношения с разными иностранными хостес и девушками из эскорта, которые мало чем отличались от элитных проституток, – говорилось в начале. – Теперь меня задержали за то, что я платил деньги проституткам за сексуальную забаву, которую я бы назвал „игрой в покорение“. По поводу преступления, в котором меня обвиняют: точно не скажу, потому что прошло несколько лет, но с некоторыми из так называемых жертв у меня были сексуальные отношения. Все они работали хостес в гайдзин-барах или службе эскорта. Большинство принимали кокаин или другие наркотики прямо у меня на глазах. Все они горели желанием получить деньги в обмен на сексуальную игру, и по окончании забав я отдавал девушкам соответствующую сумму. Поэтому я не считаю себя виновным в изнасиловании или сексуальном домогательстве…
Полиция сообщила мне, что собирается найти всех иностранных хостес, с которыми я занимался сексуальными играми, заставить их выступить с обвинениями и повторно арестовывать меня, пока не найдется пропавшая Люси Блэкман. Более того, детективы полностью закрывают глаза на противозаконное поведение хостес, включая наркотики, нелегальную работу, проституцию и т. д. Меня хотят выставить козлом отпущения.
Что касается Люси Блэкман: она обслуживала меня всего один раз в хостес-клубе, потом меня представили какому-то человеку. Затем я стал находить в почтовом ящике обрывки текстов и непонятные письма, со мной начали одна задругой происходить странные вещи. Я ничего не понимаю.
В конце октября опытные детективы, ведущие это дело (инспектор и помощник инспектора), серьезным тоном сообщили мне, что в Британии обнаружили опасного преступника, а в Токио прибыл подозрительный англичанин (насколько я понял, снайпер). Похоже, меня подставляют и пытаются повесить серьезное дело, но к пропавшей Люси Блэкман я не имею никакого отношения… СМИ изображают меня преступником, ответственным за исчезновение мисс Люси. Это неправда…
Токийская городская полиция без конца твердит, что поиски Люси Блэкман – очень важное дело и надо разобраться с ним как можно скорее. Думаю, на инспектора сильно давит премьер-министр Мори, и не сомневаюсь, что задержка в деле вредит национальным интересам… Теперь я твердо уверен, что Япония движется в сторону возрождения полицейского государства… Власти не жалеют черной краски, рисуя меня абсолютным злом. Они намерены свалить все на меня. В полиции говорят, что обязаны арестовать виновного в похищении Люси, а пока будут и дальше держать меня в заключении по обвинениям в сексуальных домогательствах и сексуальных играх с хостес из гайдзин-бара. Надеюсь, скоро схватят настоящего преступника».
При других обстоятельствах этот странный документ, возможно, и нарисовал бы вызывающую сочувствие убедительную картину: напуганный одинокий чудак, виновный лишь в общении с проститутками, пойман полицией в отчаянной попытке завершить проблемное дело. Но факты вскоре опровергли эту версию. Пока Обара молча сидел в своей камере, на другом этаже инспектор Удо и его команда занимались необычной для японских детективов работой – изучением тысяч предметов, вынесенных из квартир задержанного. Перед полицией стояла сложнейшая задача: путем предоставления вещественных доказательств выиграть дело против подозреваемого, который отказался признать свою вину.
Игра в покорение
Ёдзи Обара обожал суши, а также любил необычные и очень дорогие блюда. Дзуси-Марина – жилой комплекс среди пальм, где он владел квартирой, – располагался за городом. Соседи редко знали друг друга, и обитатели апартаментов рядом с номером 4314 никак не могли вспомнить Обару. Но одна семья была хорошо с ним знакома: они управляли местным суши-баром.
Ёдзи никогда не ходил туда сам, но часто заказывал по телефону доставку. Он мог исчезнуть на несколько недель, а потом звонил три дня подряд. Обара всегда заказывал токуё, особый набор: девять кусочков свежайшего и сочнейшего филе тунца с икрой трески и морским ежом на шариках клейкого риса с соусом, а также аваби – морское ушко, или «ухо Венеры», моллюска, чье жесткое мясо считалось самым дорогим блюдом в меню. Больше всего Ёдзи любил кимо – печень морского ушка, закуску, экстравагантную даже для японца. Среди ценителей аваби считался афродизиаком; причем употребляли его вместе с внутренностями, чтобы усилить действие. Аваби был типичным деликатесом периода экономического бума, приманкой для гурманов и любителей экзотики: в ресторане в Дзуси одна порция стоила 6 тысяч иен (37,50 фунтов).
Парень, который доставлял еду, обратил внимание на Обару еще до того, как им заинтересовалась полиция, а затем и команды телевизионщиков. Ему десятки раз пришлось повторять свою историю:
– Некоторых людей вообще не замечаешь, но в этом человеке было что-то особенное. В его квартире царила странная атмосфера, слегка страшноватая. Помню, что, когда я звонил в дверь, он каждый раз, перед тем как открыть, дважды кашлял: «Кхе-кхе». Заказчик часто выходил в белом халате и темных очках, хотя находился в помещении. Освещение было таким тусклым, что разглядеть его лицо почти не удавалось. Но там стоял запах, похожий на аромат благовоний. Благовония и сигары. Может, одеколон… Я никогда не видел в квартире других людей. Не видел и женских туфель в коридоре. Но еды он всегда заказывал слишком много для одного. И всегда требовал чек – обычно сумма достигала 9 тысяч иен и больше. Говорил он мягко, был довольно вежлив. Только один раз, когда я забыл принести кимо, он позвонил в магазин с жалобой. Он очень любил кимо.
Ёдзи Обара подробно описывал все свои сексуальные приключения, начиная с апреля 1970 года, когда ему было семнадцать лет. В суде он назовет их фантазиями – но если хотя бы часть из них была правдой, то он отличался удивительным женолюбием. Его обвинили в девяти изнасилованиях, но дневники, фотографии и видеопленки, изъятые полицейскими из дома в Дэнъэнтёфу и из квартир в центральном Токио и Дзуси-Марине, фиксировали гораздо больше подобных случаев. Они не выглядели внезапными вспышками жестокости и злости; по свидетельству тех, кто разбирал улики, они даже не были похожи на проявления похоти. В обнаруженных полицией документах и собственных заявлениях в суде Обара подробно описал свои сексуальные приемы и пристрастия, которые обозначил как «игру в покорение».
Свою квартиру в Дзуси-Марине он называл киотен, что означает «плацдарм» и подразумевает что-то вроде стратегической базы. Там Ёдзи хранил видеооборудование, включая профессиональное освещение; к потолку над кроватью он прикрепил крюки, чтобы удобнее расположить жертву. Обара насиловал не всех приходивших к нему женщин. Будучи невысокого роста, он никогда не мерился силами с жертвами. Игра начиналась лишь в том случае, когда ему удавалось хитростью заставить гостью принять наркотик, после чего та теряла сознание. Если ничего не получалось, девушка уходила всего лишь с легким чувством неловкости. Однако, не считая женского туалета, где его поймали подглядывающим, других мест совершения преступлений обнаружено не было.
За много недель до признаний Обары детективы твердо убедились, что Люси была в Дзуси-Марине. В квартире обнаружились сотни волосинок. Сравнительный анализ их ДНК с обрезками ногтей, которые предоставили Джейн и Тим Блэкманы, подтвердил, что некоторые принадлежали их дочери. После обработки одной из множества конфискованных пленок нашлись два кадра с Люси – ее последние фотографии. Девушка стояла у перил на фоне моря, а за заливом виднелись город и холмы. На ней было черное платье, на шее блестела подвеска в форме сердца; солнечные очки она подняла на макушку. В правой руке Люси держала банку пива, и если в ее улыбке и сквозило напряжение, то почти незаметное. Только по левой руке, расположенной под странным углом относительно тела, можно сделать предположение, что девушка находится в неловкой и неприятной ситуации – изображает удовольствие ради незнакомца, который раздаривает мобильные телефоны.
Специалисты тщательно проанализировали фотографии, и полиция выявила конкретное место на причале, где стояла Люси. Погода, угол, под которым падал свет, город вдалеке, даже положение буйков за правым плечом жертвы – все указывало, что фото сделано вечером 1 июля 2000 года.
Были найдены и телефоны с предоплатой, на отслеживание звонков с которых ушло столько сил. Среди улик также оказалась небольшая сумка-барсетка, какие обычно носят японские бизнесмены, с интересным содержимым. Во-первых, там был счет за газ с указанием номера одного из предоплаченных телефонов – того самого, с которого Люси звонила Луизе и Скотту. Во-вторых, в сумке лежал пакетик с порошком. Его содержимое исследовали, и выяснилось, что это сильное снотворное под названием флунитразепам. В Японии препарат встречается редко, его прописывают лишь как лекарство от самой жестокой бессонницы. Но в Британии то же средство под торговым названием рогипнол известно как «наркотик для изнасилования». Полиция нашла образцы еще одного редкого препарата, используемого, как правило, с той же целью: гамма-гидроксибутирата, или ГГБ, а также тринадцать бутылок хлороформа, из которых только две были запечатаны.
Объем документов, изъятых из квартиры, – от толстых записных книжек и дневников до пожелтевших рецептов десятилетней давности – был огромным; и полиция вместе с прокурорами продолжала их изучать, открывая все новые улики. Впрочем, если верить одной японской газете, еще раньше они нашли список из порядка шестидесяти женских имен, японских и иностранных. Возле каждого стояли прозвища, в основном разные, которые Обара использовал на протяжении долгих лет: Юдзи, Кодзи, Казу, Кова, Хонда, Сайто, Ивата, Ивасаки, Акира. Список составлялся несколько лет; некоторые женщины обозначались только именем, напротив других стояли телефонные номера или адреса.
Детективы также нашли чеки от множественных покупок, которые Обара совершил в начале июля. В воскресенье 2 июля, на следующий день после исчезновения Люси, он купил 10 килограммов сухого льда у торговца неподалеку от Блю-Си-Абурацубо, а также большой упаковочный ящик; на следующий день подозреваемый вернулся и приобрел еще 10 килограммов льда.
– У вас умерла большая собака? – спросил продавец, и Обара кивнул.
Во вторник 4 июля он побывал в магазине товаров для активного отдыха «Л. Л. Бин» в Токио и приобрел снаряжение для кемпинга, включая три двухместные палатки, три коврика, складной стол, переносной холодильник объемом 26 литров, электрические фонари и один спальный мешок. В тот же день в строительном магазине Ёдзи купил полотенце, три мешка цемента, пять банок отвердителя для цемента, бетономешалку, пластиковый ящик, кисточку для краски, ведро и метлу. В третьем магазине он взял стамеску, молоток, провод, нож, ножницы, перчатки, полиэтиленовые пакеты, топор, ножовку и бензопилу. Некоторые продавцы вспомнили, что Обара звонил накануне, интересуясь конкретными товарами, чтобы убедиться в их наличии.
Кроме того, полиция завладела записными книжками и дневниками, заполненными рукой Обары и датируемыми еще его школьными годами, а также аудиокассетами с записями телефонных разговоров и напоминаниями о текущих делах. Особенно полезным источником оказалась папка с неподшитыми листами бумаги, которую подробно описала в отдельном документе прокуратура: «Обвиняемый перечисляет имена женщин, с которыми имел сексуальные отношения с 1970 года, и описывает процесс совокупления. Записи ведутся с апреля 1970 года, и первая из них начинается словами: „Я использовал снотворное“. Далее описаны сексуальные акты с многочисленными женщинами после применения снотворного и хлороформа…
В начале есть страница с количеством женщин, с которыми у Обары были сексуальные отношения в каждом году. Например: „1990 год – девять, 1991 год – девять“. Также приведены список сексуальных партнерш по национальности и описания сексуальных отношений с 209 женщинами, начиная с 1970 года, когда обвиняемому было 17 лет, и заканчивая 1995 годом, в 33 года.
…Существует запись (1970 год, 4-я жертва) следующего содержания: „Я напоил женщину и дал ей снотворное, но не смог совершить совокупление, так как она была девственницей“, датируемая 1969 годом. Упоминается использование гиминала[42] (1970 год, 3-я жертва), хлороформа и снотворного (1973 года, жертва № 26), СМИК (снотворное) (1981 год, жертва № 63), разновидность СМИ (снотворного) (1983, жертва № 95), хлороформ и СМИ (1983 год, жертвы № 97, 98), мороженое со СМИ. Это подтверждает, что еще в молодости задержанный постоянно совершал действия насильственного характера, применяя лекарства и хлороформ. Более того, он считает секс с женщинами, одурманенными снотворным и хлороформом, своей визитной карточкой. К примеру: „Я совершаю это у себя в квартире по обычной схеме“. „СМИ (снотворное) действовало хорошо, но ХРОРО (хлороформ) был лишним, и (ее) сильно тошнило“ (жертва № 150). „Усыпил ее в квартире с помощью СМИ-мороженого + шоколад, затем ПВ (порновидео)“.
Он вел записи примерно с 1983 года, делал фотографии и снимал на видеокамеру сцены изнасилования, к примеру: „Полноформатное ВТР (видео) № 1“ (жертва № 139), „ПВ и ПФ (порнофото)“ (жертва № 152), „видео с иностранкой № 1“ (жертва № 160), „поехал в Дзуси, как обычно, ТР (трах), ПВ“ (жертва № 162)».
Полиция, конечно же, сразу набросилась на видеоматериалы. Они обнаружились во всех квартирах, не подписанные или с женским именем и датой на этикетке. Самые ранние датировались еще 1980-ми; некоторые снимались на вышедший из употребления формат «Бетамакс». Детективам удалось найти аппарат, способный воспроизводить записи. Работали по очереди: загружали очередную пленку и просматривали мелькающее видео, тщательно регистрируя содержание и продолжительность. Вскоре стало ясно, что все ролики сняты по определенному сценарию.
Видео было цветное и качественное. Некоторые фильмы предваряло небольшое вступление: молодая женщина смеялась, поднимала бокал и пила. Потом резкий переход к основной сцене: та же молодая женщина лежит обнаженная на кровати. Глаза закрыты, жертва не двигается, но заметно слабое дыхание. Иногда девушка лежала на животе, иногда на спине; часто ноги были разведены и привязаны к крюкам в стене. По обеим сторонам кровати размещались мощные прожекторы, чтобы освещать происходящее.
Камера не двигалась и не дрожала, то есть стояла на штативе. В какой-то момент на видео появлялся мужчина, тоже полностью раздетый.
– У него самое обычное тело, – сказал мне один из тех, кто смотрел эти видео. – Не похоже, чтобы он много занимался спортом, – обычный мужчина средних лет.
Необычной была только одна пугающая деталь: в большинстве фильмов насильник надевал маску.
Я говорил с тремя сотрудниками, видевшими записи или фотографии, конфискованные прокуратурой, и каждый запомнил маску по-своему. Один утверждал, что она серая и закрывает все лицо, как у грабителя банка; по словам другого, она была черной и закрывала только глаза, как маска Зорро; третий считал, что она была в желтую и черную полоску, как шкура тигра.
У человека в маске была эрекция. Перед неподвижной камерой он совершал долгое и яростное насилие над женщиной, лежащей без сознания.
– Он делал много всякого, – сообщил мне полицейский, который видел досье. – Секс в обычной позиции. Иногда анальный. Иногда он использовал… инструменты и разные предметы вроде тех, которые используют врачи. Заглядывал внутрь, если вы понимаете, о чем я. Еще огурец вставлял. Пенис у него вполне нормальный. По обеим сторонам кровати стояло освещение, и иногда, в момент… энергичных телодвижений, он не замечал, как лампы касались обнаженной кожи женщины.
Сбоку от камеры размещались два телевизионных монитора; по словам самого Обары, на одном крутился иностранный порнофильм, а другой передавал изображение его самого в процессе «игры» в реальном времени. Ёдзи посматривал на экраны, чтобы повышать возбуждение.
– У него было очень сильное либидо, – признался мне один из просматривавших видео. – Он все время был активен и вообще не отдыхал.
После одного полового акта насильник сразу приступал к следующему. Иногда попадались две или даже три видеопленки с одной и той же жертвой, снятые за один сеанс, который мог длиться часами.
– Он обращался с женщинами, как с вещами, не как с людьми, – рассказывали полицейские. – Девушки почти никак не реагировали, лишь изредка издавали какие-то звуки.
Когда партнерша начинала проявлять признаки скорого прихода в сознание, Обара всегда делал одно и то же: доставал кусок полотенца или марли и держал его у самого носа жертвы, но не касаясь лица, после чего сопротивление прекращалось.
В разных источниках количество видеокассет сильно различалось. В одном отчете говорилось, что полиция конфисковала тысячу пленок, в другом – 4800. Инспектор Удо сообщил, что их было 170 и там содержались записи с более чем 150 разными женщинами. Однако суд объявил, что жертв было сорок, а Обара настаивал, что их всего девять. По подсчетам Удо, более половины партнерш насильника были иностранками, хотя встречались и японки. Однако, помимо национальности, женщины различались и по внешним качествам.
Большинство иностранок явно работали хостес: высокого роста, стройные, ухоженные, с макияжем и по большей части блондинки. А вот японки относились совсем к другому типу: полные или откровенно жирные, никакой традиционной красоты, как у девушек из гайдзинов.
– Я предпочитаю уродливых японок с бесформенной фигурой, – скажет позже Обара. – Когда я говорил с ними по телефону, то сразу понимал, какого они телосложения. Те, у кого сухой голос, худые, а те, у кого голос влажный, – толстые… Мне нравятся уродки. Такой выбор – одно из правил игры. Гадкие игры с гадкими женщинами.
Иностранных партнерш Ёдзи выбирал по тому же критерию.
– Хостес-иностранки все уродки, – объяснял он. – Не внешне, но в душе.
Через много лет об «игре в покорение» с точки зрения Обары будет опубликован отчет на английском языке. Искаженный в интересах обвиняемого и двусмысленный, он все же выражает сакраментальную суть действий Обары: «Перед началом „игры“ обвиняемый наливает в маленькую рюмку неприятную на вкус жидкость с запахом паленого, известную как „филиппинский ликер“. Потом он с партнершей пьют из рюмки по очереди. Обвиняемый выпивает две рюмки.
Как выяснилось в суде, Обара окончательно теряет чувство стыда как раз после двух доз снадобья. Потом обвиняемый принимает огромное количество допинга, а партнерша продолжает пить „филиппинский ликер“ и теряет сознание. Затем обвиняемый надевает маску и начинает „игру“. Маска превращает его в другую личность за гранью обыденности. Затем Обара приступает к своей отвратительной „игре“.
Обвиняемый предпочитал „играть“ с хостес-иностранками, наркоманками, женщинами с самого дна, которых называют потаскухами… Он также выбирал партнерш из числа японок, ищущих мужчин по телефону. В этом случае обвиняемый предпочитал женщин без талии, полных и уродливых…»
После ареста Обары Клару Мендес снова пригласили в штаб-квартиру расследования. Там полиция показала ей отдельные кадры из видео, снятого ночью 1996 года, когда она находилась в квартире Ёдзи Обары в Дзуси, где ее опоили.
– Детективы постарались пощадить мои чувства, – рассказывала она. – Показали только изображения, стоп-кадры из видео, на которых я могла себя узнать. Да, это была я, лежала без сознания на кровати еще одетая. Выглядело… очень страшно. Я напоминала куклу, куклу в виде девушки.
В списке имен и на видеокассетах полиция обнаружила и других знакомых женщин: Кэти Викерс и Кристину Маккензи. Проверив телефонные номера и адреса в списке, детективы отыскали еще дюжину девушек. Зачастую данные были слишком неточными, чтобы разыскать жертв; к тому же многие девушки-иностранки уехали из Японии в неизвестном направлении несколько лет назад. Некоторые девушки не захотели сотрудничать – они стыдились, боялись или просто хотели забыть мерзкую историю. Другие дела не удалось довести до суда по иным причинам – например, случай Изабель Паркер, которая сама отомстила Обаре, успешно его шантажируя. Однако детективы разыскали целый ряд жертв, по показаниям которых вкупе с видео можно было легко доказать вину подозреваемого.
Семнадцатого ноября прокуратура официально обвинила Обару в том, что он подмешал наркотик Кэти Викерс и изнасиловал ее. И тут же его повторно арестовали по подозрению в совершении аналогичных действий по отношению к тридцатиоднолетней японке по имени Фусако Ёсимото[43]. Восьмого декабря его обвинили в этом преступлении и арестовали по очередному подозрению в изнасиловании двадцатилетней Ицуко Осихары. Далее последовало обвинение в подобных действиях по отношению к двадцатипятилетней Мегуми Мори в новогоднюю ночь 2001 года. Здесь к обвинению в изнасиловании и подмешивании наркотиков добавился еще один пункт: причинение ожога от горячей лампы, которая прислонилась к ноге Мегуми, когда она была без сознания.
Полиции стало известно, что на следующий день после исчезновения Люси Обара позвонил на пожарную станцию Дзуси и попросил соединить с главным управлением. Согласно версии одной из газет, он сказал: «Произошло кое-что серьезное. Пожалуйста, подскажите, где находится больница скорой помощи».
Ему дали номер телефона больницы. Он позвонил туда и уточнил часы работы; разговор был записан. Однако Ёдзи так и не приехал. Через несколько дней он попал в одну из больниц Токио по поводу сыпи, вызванной укусами паразитов.
Полиция не сомневалась, что знает ход событий: Обара напоил Люси, убил ее и каким-то образом избавился от тела. Но где доказательства? В списке имен Блэкман не значилась; видео с ней тоже отсутствовало. Судя по тем двум кадрам, вечер она провела с Обарой, а после ее исчезновения он вел себя подозрительно. Но что именно он с ней сделал? И где Люси теперь?
Детективы обследовали сад особняка в Дэнъэнтёфу и пустыри рядом с другой недвижимостью подозреваемого, протыкая почву полыми стеблями бамбука. Шестеро полицейских с ищейками прочесывали пляж и скалы у Блю-Си-Абурацубо. Работу осложняли заросли густой травы, кучи водорослей и мусора; к тому же детективы опасались растревожить ядовитых змей.
Карита
Арест Ёдзи Обары принес мало утешения семье и друзьям Люси: сама по себе новость не могла унять обрушившуюся на них боль. Не исчезла и неопределенность: токийская полиция не сообщала родителям, что Люси мертва. Кроме факта ареста Обары им вообще мало что рассказывали. Блэкманы по крохам собирали новости, просочившиеся в японские, а иногда и в британские газеты; «горячая линия» продолжала принимать случайную и бесполезную информацию. Луизе Филлипс, которая наконец улетела домой после долгих недель допросов, детективы велели ничего не говорить Блэкманам. Тим и Софи снова прилетели в Токио в середине ноября, но на встрече с ними инспектор Мицузанэ отделывался формальными сведениями, утверждая, что в настоящее время Обаре вменяется серия изнасилований, и, хотя полиция все еще активно ищет Люси, пока нельзя сказать, связаны ли эти два дела между собой.
На пресс-конференции после той встречи Тим выглядел угрюмым и несчастным.
– Насколько оптимистично вы смотрите на возможность найти Люси? – задал вопрос журналист.
– Всегда есть надежда, – ответила Софи и посмотрела на отца.
Тим произнес:
– Поскольку дочь пропала без вести четыре месяца назад, приходится реалистичнее смотреть на вещи. Конечно, есть вероятность, что она умерла. Но когда в голову приходят такие мысли, их надо гнать. Если раньше шанс найти ее живой был пятьдесят на пятьдесят, то теперь, пожалуй, двадцать к восьмидесяти.
– Я бы сказала, шестьдесят к сорока, – возразила Софи.
Тим натянуто улыбнулся:
– Реализм пожилых против оптимизма молодых.
Приближалось Рождество, непростое время для любой разрушенной семьи, а каждого из Блэкманов праздник пугал и призраком потери. Джейн, Софи и Руперт сбежали на Барбадос и провели Рождество, загорая на пляже, чтобы ассоциаций с Люси было как можно меньше. Тим остался на острове Уайт с Джозефиной и ее детьми.
– Я старался держать Люси в укромном уголке мозга, – говорил он мне, – чтобы не позволить случившейся трагедии перечеркнуть все остальное. Приближалось мое пятидесятилетие, у меня было трое собственных детей и четверо детей Джо, о которых нужно заботиться. Конечно, Люси важна для меня, но приходилось уделять время и внимание тем, кого я тоже любил… С острова Уайт я ездил на работу в Кент; на машине дорога занимает полтора часа. У меня был диск с музыкой, которую любила Люси; я слушал его на обратном пути и позволял себе погрустить, вспоминая дочь. Тогда мне было легче возвращаться к Джо с детьми и выполнять свои обязанности.
Мало-помалу Тим перестал хвататься за пустые надежды. Он отказался от мысли, что Люси еще жива, – от слепой веры, которая привлекла лишь аферистов, шарлатанов и журналистов. Он устал сдерживать гнев, направленный теперь не только на похитителя Люси и полицию, но и на всю систему тайного сговора, на безразличие властей, допустивших такую ситуацию. За два дня до Рождества Блэкман послал яростное письмо одному из детективов.
«Прошло полгода с тех пор, как пропала Люси, – писал он. – Самому не верится, но летят недели, а новостей от токийской городской полиции никаких.
Меня бесит, что полиция совершенно не учитывает чувства семьи, которая тоже находится в положении жертвы. Возмутительно и негуманно, что вы не предоставляете нам никакой информации и не собираетесь помочь родным справиться с ужасным и трагическим происшествием…
Очевидно, что за последние пять-шесть лет в Роппонги похищали и насиловали очень многих девушек (некоторые пропали без вести). Многие из них работали нелегально по туристическим визам. Поэтому они часто не сообщают о преступлении в полицию, опасаясь ареста и / или депортации. Под угрозой все девушки-хостес.
Однако некоторые из них все-таки обращались в полицию. Почему же Обаре и ему подобным долгие годы удавалось избегать наказания, похищая и насилуя девушек? Потому что полиция ничего не предпринимала, его не арестовывали. Значит, вы тоже виновны в исчезновении Люси… и, когда похитят, изнасилуют или убьют следующую жертву, полиция и иммиграционная служба обязаны ответить за преступление».
До сих пор исчезновением Люси интересовались в основном в Британии и Японии. Но после ареста подозреваемого и появления жертв разных национальностей весть о скандальном деле разнеслась по всему миру. О преступлениях Ёдзи Обары узнали в Испании, Италии и Турции, Германии, Дании и Голландии. В октябре тридцатипятилетний адвокат по имени Роберт Финниган сидел за своим столом в австралийском городе Сиднее, и тут его взгляд упал на статью на десятой странице «Сидней морнинг геральд». Заголовок гласил: «Возможно, список пропавших без вести неполон», а статья начиналась вопросом: «Становились ли австралийские женщины жертвами негодяя из ночного клуба, которого считают виновным в исчезновении Люси Блэкман, хостес из Британии?»
В газете выражались опасения, что главный подозреваемый Ёдзи Обара, бизнесмен из Токио, виновен в исчезновении и других молодых иностранок. Среди сотрудниц хост-баров Роппонги, зарабатывающих огромные деньги, развлекая бизнесменов, встречалось довольно много австралиек. По крайней мере две девушки из Австралии и одна из Новой Зеландии обращались в полицию по поводу изнасилования. Все они заявили, что Обара соблазнил их поездкой в роскошную квартиру на побережье к югу от Токио и подмешал им наркотик.
– Я прочел статью в обеденный перерыв, – рассказал мне позже Роберт Финниган, – и сразу все понял, хотя и не знал многих фактов. Уж очень знакомая схема. Меня она не удивило и не шокировало, потому что много лет я подозревал нечто подобное. Облегчения я не почувствовал, но теперь я точно знал ответ на вопрос, который не давал мне покоя.
Вопрос был таким: что на самом деле произошло с Каритой Риджуэй, молодой красавицей из Австралии, в которую Роберт был влюблен и которую потерял почти девять лет назад?
Карита Риджуэй выросла в Перте, на далеком побережье Западной Австралии за необъятной пустыней, в одном из самых уединенных крупных городов мира. Ее родители Найджел и Аннет были типичными детьми 1960-х: они познакомились совсем молодыми, быстро поженились и вскоре поняли, что безумно несчастны вместе. Аннет, которой в день свадьбы едва исполнилось восемнадцать, искала просветления, изучала сновидения, медитацию и астрологию. Найджел, эмигрировавший из Британии в 1966 году, играл на барабанах в рок-н-ролльной группе под названием «Перпл хейз»[44].
– Если честно, я вообще-то не был паинькой, – рассказывал мне Найджел через много лет, после того как снова женился и стал респектабельным учителем начальной школы. – Как не был и хорошим мужем, отдаваясь сексу и пьянству. Пил я не так уж много, но девушки непреодолимо меня влекли.
Брак распался окончательно в 1983 году, когда дочерям Саманте и Карите было соответственно четырнадцать и тринадцать лет.
– Об этом я вспоминаю с дрожью, – признался Найджел. – Девочки как раз достигли переходного возраста, становились женщинами, а родители разбежались. Неподходящее время. Думаю, развод сильно повлиял на них.
Карита была энергичной и творческой личностью, талантливой танцовщицей, любила английскую литературу, театр и активный отдых. Когда родители расстались, она стала замкнутой и подавленной, хотя в свои тринадцать лет превратилась в красотку с длинными светлыми волосами, красиво очерченными яркими губами и некрупными правильными чертами лица. Аннет, которая всегда старалась поддерживать дочерей, не знала, как помочь Карите. Отчаяние девочки становилось все глубже; она высказывала мысли о суициде, и напуганная Аннет поместила ее в психиатрическую клинику. Вынужденная изоляция от внешнего мира и внимание сестер и докторов смягчили Кариту, и некоторое время казалось, что она идет на поправку. Но потом больничный психиатр, который, как выяснилось, и раньше злоупотреблял полномочиями по отношению к пациенткам, стал возить девушку в город на обеды и всячески соблазнять. Его уволили и лишили права заниматься медицинской деятельностью, прежде чем он успел причинить ей серьезный вред, но уверенность Кариты в себе окончательно рухнула.
– В отсутствие чувства собственного достоинства и поддержки семьи миловидная внешность только во вред, – поясняла Аннет. – Трудно постоять за себя, становишься легкой добычей.
Карита вышла из родной психиатрической клиники и бросила школу. Пару лет она слонялась без дела по Перту, но вскоре заскучала в слишком знакомой обстановке. Когда ее лучшая подруга Линда Дарк предложила переехать в Сидней, Карита ухватилась за этот шанс. Девушки отправились автостопом на восток через пустыню. В Сиднее Риджуэй встретила Роберта Финнигана, который только что переехал из Британии. Они полюбили друг друга и стали жить вместе.
Аннет, как любая мать, расставшаяся с дочерью, беспокоилась о Карите. Ее волнение переросло в ночные кошмары, а поскольку она интересовалась подобными вещами, то годами записывала подробности снов. Там были сцены, в которых Кариту хватали и насиловали; незнакомцы в странных нарядах внушали чувство опасности и беды. Еще ей запомнился сон, в котором Карита приехала к матери и надела ей на палец кольцо, успокаивая ее. Аннет кропотливо фиксировала свои видения – и последующие события, к ее ужасу, совпали с записями из дневника сновидений.
Худший из кошмаров рисовал Кариту, сидящую за столом вместе с группой мужчин азиатской внешности. Девушка выглядела счастливой и спокойной; собеседники доброжелательно предлагали ей сделать выбор. Однако Аннет видела истинное значение сцены и грязные намерения мужчин.
– Она чувствовала себя в безопасности, – рассказывала Аннет. – Она должна была выбрать одного из мужчин. Но ими руководил холодный расчет, а она не знала и не видела, кто они на самом деле. Ужасный, просто ужасный кошмар. Я видела его во сне, но ничего не предприняла. Я думала, что азиаты просто что-то символизируют, а предсказание было буквальным. Меня до сих пор в дрожь бросает.
Между тем Кариту смущало внимание мужчин. Чтобы избавиться от него, она перекрасила светлые волосы в каштановый цвет, но все равно оставалась необычайно привлекательной. Роберт Финниган, серьезный парень в очках и с тихим голосом, влюбился в нее без памяти. Он перебрался в Сидней после путешествия по Юго-Восточной Азии, а с Каритой познакомился в одном из множества дешевых хостелов австралийской столицы. Последующие пять лет молодые люди провели вместе.
– Я просыпался утром, а она рядом, – вспоминал Роберт. – Мне даже не верилось. Помню, мы гуляли по пляжу Бондай-Бич: повсюду красотки, как с обложек журналов, но Карита затмевала любую из них. Конечно, мы были еще юными, поэтому наверняка не скажешь, но мне кажется, мы оба мечтали провести вместе всю жизнь.
Они снимали в Сиднее дешевые квартиры рядом с другими молодыми мигрантами. Работа у них была самая обычная: Роберт трудился на стройке, Карита – в прачечной, а потом в ресторане. Еще девушка придумывала дизайн футболок и продавала их, изредка подрабатывала моделью и снялась в одном студенческом фильме. Все деньги уходили на путешествия и долгие поездки – на Филиппины, в Непал, Мексику и Америку. Когда средства заканчивались, пара возвращалась в Сидней. В 1987-м, когда они первый год жили вместе, исполнялось 200 лет Австралии, и празднование вылилось в череду барбекю и вечеринок на открытом воздухе. А летом следующего года подруга Кариты Линда уговорила ее вместе поехать в Японию и поработать в хост-баре.
Роберт волновался, и не только потому, что предстояло долгое расставание с красавицей-подругой. Но Линда уже работала раньше в Токио и утверждала, что ничего опасного там нет.
– Как и многих других, меня заставили поверить, что это одна из самых безопасных стран мира, что женщина может гулять по улицам в среди ночи и ничего с ней не случится, – пояснял Роберт. – Профессия хостес выглядела несколько странно: девушкам платят, чтобы поболтать с ними в баре. Впрочем, это одна из причуд японского общества, непонятная европейцу, а для азиатских бизнесменов это лишь способ снять напряжение.
Месяцы расставания дались Роберту нелегко. Его мучили мысли о жизни, которую ведет Карита вдали от него. Девушка звонила почти каждую неделю и присылала открытки, а он рисовал для нее смешные комиксы про Синбада, рыжего кота, которого они подобрали на улице. Подруги остановились в Уцуномии, небольшом бесцветном городке в часе езды к северу от Токио. Они работали в двух клубах, «Мадам Адам» и «Тайгерз лэр», вместе с американками, бразильянками, филиппинками и новозеландками. Карита казалась вполне счастливой. Она быстро заполучила постоянных клиентов, включая богача, который возил ее на дохан в собственном «феррари» с личным водителем. «Никакого подвоха, – уверяла она мать в письме. – Здешним парням просто нравится проводить время с девушками с европейской внешностью, чтобы покрасоваться перед ними… У каждого японского мужчины не меньше трех разных женщин. Жену они оставляют дома, подружку ведут в клуб, а потом игнорируют ее и болтают с хостес».
– Я бы предпочел, чтобы она обучала японцев английскому или вроде того, – признался Роберт. – Но мне не хотелось давить на Кариту – иногда лучше не мешать.
Через несколько месяцев девушка ушла из «Тайгерз лэр», и Роберт вылетел в Гонконг, чтобы оттуда отправиться с возлюбленной в Сингапур и Таиланд.
В 1990 году Карита с Линдой снова поехали на очередную трехмесячную вахту, на сей раз в клуб в Роппон-ги, где в их обязанности входили «танцы». Роберт не стал вдаваться в подробности, но предположил, что речь идет о танцах топлес.
– Думаю, Линде было не впервой, но Карита стеснялась, – рассказывал он. – Она попыталась пару раз, но вряд ли преуспела.
К сентябрю она вернулась к нему в Сидней и стала снова работать моделью и официанткой. Девушка поддержала Роберта, когда он подал документы в Университет Нового Южного Уэльса на юридический факультет.
На следующий год Карита поехала в Токио в третий раз в компании своей сестры Саманты, которая встречалась с японцем. Сестры жили вместе в доме для гайдзинов недалеко от языковой школы, где преподавала Сэм. Карита работала в клубе под названием «Аякодзи» в районе Гинза, где хостес носили пышные старомодные платья с оборками и нижними юбками. Декабрь и январь 1992 года сестры провели в Японии. На Рождество они полакомились свиными ребрышками в ресторане «Лайон» в Гинзе и трюфелями, которые прислал из Перта отец. Двадцать шестого декабря в Токио выпал снег, и на Новый год девушки поехали за город в гости к семье Хидэки, бойфренда Сэм.
Вскоре у Роберта появились потрясающие новости: его зачислили в университет. Карита была просто счастлива и уверяла, что очень им гордится. Порой знакомые удивлялись, как они уживаются вместе: спокойный Роберт, предпочитающий стабильность, и Карита, любительница роскоши и приключений, которой исполнился всего двадцать один год. Но если девушка и сомневалась в прочности их отношений, то предпочитала молчать. После пяти лет вместе было трудно представить влюбленных врозь.
Но в один из февральских понедельников Роберту внезапно позвонила Саманта, растерянная и обеспокоенная. Карита уехала на выходные мне вернулась домой, а теперь она в тяжелом состоянии лежит без сознания в токийской больнице.
Аннет, Найджел и Роберт вылетели в Токио вместе и сразу же отправились к Карите в больницу. Случившееся не укладывалось в голове. Карита, которая никогда не болела, не курила и не принимала наркотики, в пятницу вечером была абсолютно здорова. Она поехала на работу в хост-клуб. А в понедельник Сэм позвонили и сообщили, что она находится в больнице недалеко от клуба. Девушка в ужасе помчалась туда, готовая устроить сестре нагоняй за то, что та за все выходные ни разу не позвонила. Но Карита была в полусознательном состоянии; она не могла говорить и с трудом узнала Сэм. Тем утром девушку привез в больницу некий Акира Нишида и тут же уехал. Вскоре Карита потеряла сознание, а через несколько часов доктора диагностировали у нее острую печеночную недостаточность и объявили, что шансы на выживание меньше пятидесяти процентов.
К среде, когда родители и бойфренд добрались до больницы, жизнь пациентки поддерживали капельницами и дыхательными трубками; кожа у нее пожелтела из-за отравления желчью. На следующий день она впала в глубокую кому. Роберт и семья Риджуэй по очереди дежурили у кровати, пока доктора проводили дорогостоящую процедуру перегонки крови. Видимого улучшения не наблюдалось, и Кариту перевезли в более крупную и современную больницу. Но к выходным в организме накопились не уничтоженные печенью токсины, и у девушки начались конвульсии. К концу следующей недели доктора признали очевидное: мозг Кариты уже не функционирует.
Доктора кололи ее иголками – никакой реакции; зрачки не двигались и не реагировали на свет. Саманта и Роберт не могли смириться с утратой, но Найджел и Аннет согласились, что нет никакого смысла искусственно поддерживать жизнь. В високосную субботу 29 февраля четверо близких Кариты Риджуэй в последний раз приехали в больницу.
– Она лежала в окружении трубок и разных приборов, подсоединенная к аппарату искусственной вентиляции легких, а потом все это убрали, – рассказывал Найджел. – Мы видели по монитору, как сердце стучит все медленнее и медленнее, пока кардиограмма не превратилась в прямую линию. Когда все трубки сняли, Карита снова стала похожа на себя, красивая и очень спокойная. Мне не было страшно: фактически она уже умерла, мы просто ее отпустили. Но Сэм и особенно Робу пришлось нелегко, очень нелегко. Все мы плакали и обнимали Кариту, потом сестры попросили нас выйти на минуту. Когда мы вернулись, ее переодели в красивое розовое кимоно, а руки аккуратно сложили на груди. И всюду цветы – на кровати лежало столько цветов.
Тело Кариты поместили напротив буддийского алтаря на цокольном этаже больницы; Аннет и Найджел всю ночь провели возле дочери, воскуривая ладан. Через день они поехали в крематорий в дальний пригород Токио. Они попрощались с Каритой, умиротворенно лежавшей в гробу среди лепестков роз, и проследили, как она исчезает за стальными дверьми печи. Никто не был готов к тому, что произошло потом.
Через некоторое время родных отвели в комнату с другой стороны здания и дали каждому по паре белых перчаток и палочки. На стальном листе перед ними лежали останки Кариты, вышедшие из пламени печи. Кремация была не полной. Дерево, одежда, волосы и плоть сгорели, но самые крупные кости ног, рук и черепа, хоть и потрескались, но сохранили форму. Вместо маленькой емкости с пеплом семейство Риджуэй получило обожженный скелет Кариты. По японским традициям после кремации семья должна палочками взять кости и положить в урну.
– Роб не сумел справиться с эмоциями, – вспоминал Найджел. – Он посчитал нас извергами, а сам даже думать не мог о таком святотатстве. Возможно, дело в том, что мы родители, а она наша дочь… Сейчас, когда я вам рассказываю, звучит чудовищно, но тогда нам так не казалось. Очень трогательный процесс. Он меня даже успокоил. Мы будто ухаживали за Каритой в последний раз.
Найджел, Аннет и Сэм взяли самые крупные кости и сложили их в урну с пеплом. Сверху оказались самые крупные куски черепа.
Карита умерла за три дня до двадцать второго дня рождения, потому что всего за одни выходные у нее вдруг отказала печень. Как такое могло случиться? У врачей не нашлось объяснений. Вначале доктора сочли девушку наркоманкой, но Сэм, Роберт и все, кто хорошо ее знал, в один голос твердили, что Карита не употребляла наркотиков. Тогда медики предположили, что смерть вызвал вирусный гепатит, но не сходились во мнениях, какого типа и как она могла заразиться.
Единственным человеком, способным пролить свет, был господин Акира Нишида, который в понедельник утром привез девушку в больницу. Но он не оставил никаких контактов. Однако у него был телефонный номер Саманты, и в ту неделю, когда Карита сражалась за жизнь, Нишида несколько раз звонил ее сестре.
Он хорошо говорил по-английски, держался заботливо и спокойно, даже когда Сэм плакала. Он объяснил, что познакомился с Каритой в хост-клубе и пригласил съездить в Камакуру, небольшой приморский город к югу от Токио, где девушка отравилась несвежими устрицами; казалось, он очень обеспокоен тяжелым состоянием Карты. Сэм попросила у него адрес и телефонный номер, однако Нишида с сожалением отказал ей, хотя звонил почти каждый день. Роберта Финнигана больше всех мучили подозрения: необъяснимая природа отношений Кариты с этим человеком и выходные, которые они провели вместе, стали для него очередной пыткой. По его просьбе Хидэки, бойфренд Сэм, связался с полицией и попросил выяснить, кто такой господин Нишида.
В больницу приехали два детектива и допросили Сэм и Хидэки. Встреча получилась очень странной. Задав нескольких вопросов о Нишиде, полицейские обвинили Хидэки в распространении наркотиков, а дальше последовал логичный вывод, что именно он виновен в болезни Кариты.
– Мы больше не обращались в полицию, – заявила Саманта. – Детективы напугали нас куда больше, чем тот человек с мягким голосом, который называл себя Нишидой и, казалось, волновался за нас.
В день, когда Карита умерла, Нишида позвонил снова и долго говорил с Хидэки. Он сказал, что хочет возместить часть расходов семьи на билеты и похороны. Речь шла о миллионе иен (6250 фунтов). Он также намеревался пообщаться с Найджелом и Аннет. На следующий день после смерти девушки семья поехала на встречу с таинственным благодетелем в отель недалеко от токийского аэропорта внутренних рейсов.
Родственники прождали в лобби около часа, прежде чем Нишида наконец пригласил их подняться в номер, который он, как оказалось, снял специально ради этой встречи. Японец однозначно дал понять, что желает видеть только родителей Кариты; возмущенные Сэм и Роберт остались ждать внизу. Как вспоминает Аннет, гостиничный номер был разделен своего рода экраном; у нее возникло неприятное ощущение, что с другой стороны ширмы их кто-то подслушивает. Сам Нишида не произвел никакого особого впечатления: мужчина средних лет в темном костюме, по словам Аннет, «не слишком приятной внешности, с некрасиво заостренным носом». Обращала на себя внимание разве что его потливость: он постоянно вытирал влажное лицо носовым платком или полотенцем.
– Нам было очень не по себе, – призналась Аннет. – У нас на глазах только что умерла дочь. И вот теперь мы сидим в номере и ждем, что кто-то вот-вот выпрыгнет из-за экрана.
Мистер Нишида встретил Найджела и Аннет в гостиной за низким кофейным столиком.
– Я любил вашу дочь, – заявил он им, – и хотел провести с ней больше времени.
– Мы тоже, – сказала Аннет.
Нишида описал выходные, которые они с Каритой провели вместе, начиная со встречи в хост-клубе в пятницу вечером.
– Он сообщил, что в субботу вечером они собирались пойти поужинать, – вспоминала Аннет. – Но Карита чувствовала себя не очень хорошо, и они остались в квартире. Оба пошли спать – насколько я поняла, в разных кроватях, – но посреди ночи Карита проснулась. Ей было очень плохо, а утром в воскресенье стало еще хуже. Нишида вызвал доктора, и тот сделал ей укол от тошноты и боли. Но потом состояние девушки снова ухудшилось, и к тому времени, когда он отвез ее в больницу в понедельник, она была почти без сознания. Если судить по его словам, он пытался позаботиться о Карите, ухаживал за ней и не знал, в чем причина ее недомогания. Нишида упоминал некоторые комментарии Кариты, и они действительно были похожи на ее слова: она извинялась, что заболела и не может составить ему компанию. Дочь так и говорила бы, если бы заболела.
Найджел добавил:
– Он все время твердил, как он сожалеет о случившемся и как это ужасно. Казалось, он хорошо знает Кариту, будто она его девушка. Он действительно был расстроен, говорил: «Такой ужасный несчастный случай» и «не вините себя». Я ему поверил.
Через сорок пять минут японец достал две коробочки и передал их Риджуэям. В одной была золотая цепочка, в другой – кольцо с бриллиантом. Обычная подарочная упаковка отсутствовала, и кольцо не было вставлено в бархатную подушечку, а болталось в коробке.
– Он снова повторил: «Я любил вашу дочь и хотел провести с ней гораздо больше времени», – вспоминала Аннет. – А потом добавил: «Я собирался подарить это ей на день рождения на следующей неделе».
Позже Аннет снова и снова размышляла, что могли означать эти предметы. Ей вспомнились сны о мужчинах-предателях и кольцо, которое Карита принесла ей во сне. Но в тот момент сказать было нечего, и Риджуэям оставалось лишь принять подарки и уйти.
– Мы были очень потрясены, очень, – призналась мне Аннет. – История вполне походила на правду. Мы не могли ни в чем обвинить японца, потому что толком не знали, что случилось с Каритой. Полицию персона Нишиды не заинтересовала, австралийское посольство тоже. Его рассказ звучало достаточно правдоподобно, и получалось, что он сделал все возможное.
С чувством неловкости Риджуэи попрощались и вышли в коридор. Когда они шли к лифтам, Аннет оглянулась и заметила, что мистер Нишида, выглядывая из-за двери, следил за ними с непроницаемым выражением лица, пока они не исчезли из поля зрения.
Родители покинули Японию с прахом дочери на следующий день после похорон, а Саманта осталась в Токио еще на несколько месяцев. Риджуэи улетели в Перт, Роберт вернулся в сиднейскую квартиру, где они жили с Каритой. Больше полугода он рыдал по ночам, а в университете весь первый год ходил как сомнамбула. И еще очень долго не мог поверить, что когда-нибудь обретет покой. Молодой человек жил один и ухаживал за Синбадом, рыжим котом Кариты. Затем Роберт закончил учебу, получил диплом юриста и нашел работу в Сиднее в «Филлипс Фокс», одной из крупнейших юридических компаний в Австралии. И именно в их офисе на Маркет-стрит он прочитал в тот день статью в «Сидней морнинг геральд» и сразу понял: подозрительный Акира Нишида и насильник Ёдзи Обара – один и тот же человек.
В пещере
Конфискованные из владений Обары рассыпающиеся пленки и пожелтевшая бумага заняли целое помещение в штаб-квартире токийской городской полиции. Инспектор Удо провел там множество часов, контролируя работу подчиненных и изучая их находки.
– Я хотел держаться как можно ближе к уликам, – объяснил он мне, – и лично проверял каждую мелочь, потому что менее опытный следователь способен пропустить факт, который для меня станет бриллиантом.
И в конце 2000 года среди пыли и грязи он отыскал сверкающую драгоценность: рецепт из больницы в Западном Токио для Кариты Риджуэй.
В разговоре со мной Удо стремился создать впечатление, что полиция в любом случае разобралась бы с этим делом и справилась бы своими силами. Но нет никаких признаков, что они знали о Карите Риджуэй до ноября 2000 года, когда после долгих настойчивых обращений Роберта Финнигана к сиднейским властям с инспектором связалось посольство Австралии. И как только полицию уведомили о случае Кариты, все детали головоломки быстро сложились в цельную картину.
Рецепт навел на больницу Хидесима, куда сначала отвезли Кариту, и Токийскую женскую больницу, где девушка умерла. Получив фотографии жертвы, полиция опознала ее среди иностранок без сознания из видеоколлекции Обары. Во время насилия, которое длилось несколько часов, было видно, как Ёдзи встряхивает бутылку, смачивает кусок ткани и держит его у девушки под носом. В Токийской женской больнице обнаружилась и главнейшая улика: крошечный образец печени Кариты, извлеченный после смерти и сохранившийся благодаря административной ошибке. В ходе анализа полицейская лаборатория вскоре выявила то, что по необъяснимым причинам упустили врачи: следы хлороформа, который атакует и отравляет именно этот орган.
Роберт общался с семьей Риджуэй лишь изредка; связь с Каритой, которую они олицетворяли, как утешала его, так и причиняла боль. Но однажды, когда все сомнения развеялись, он позвонил Аннет в Перт и сообщил, что мужчину, который представился Акирой Нишидой, на самом деле зовут Ёдзи Обара, обвиняют в серийных изнасилованиях, и он не спасал Кариту, а убил ее. Роберт и Аннет отправились в Токио, чтобы побеседовать с полицией. Мать девушки подписала документы, необходимые для возбуждения уголовного дела.
Обара признал, что он и есть Нишида, но другие обвинения отмел.
– Меня крайне возмущают домыслы, что я изнасиловал и убил Кариту, – сообщил Обара в заявлении, представленном его адвокатами. – У нас были романтические отношения, и это я отвез ее в больницу.
Роберт Финниган составил собственное заявление, которое приобщили к делу от имени Риджуэев. «Обара не только подмешивал женщинам наркотики и насиловал их, теперь он издевается над своими жертвами и унижает их семьи, – говорилось в нем. – Обара – худший представитель человечества. Он не проявляет никакого сожаления. Надеемся, что японский суд покажет его истинное лицо».
Теперь полиция и прокуратура могли доказать, что Обара убийца, и каждые несколько недель изучения видео и записных книжек у них появлялось свежее обвинение в изнасиловании. Но даже правда о Карите не помогала связать Обару с исчезновением Люси. А Ёдзи даже через три месяца одиночного заключения все еще отказывался признаться хотя бы в одном преступлении.
– Полиция недооценила Обару, – рассказал мне один из участников расследования. – Детективы думали, что перед ними всего лишь еще один тупой преступник, который сознается: «Простите. Это сделал я. Тело я оставил здесь, а закопал его вот так». Но Обара был очень упрям и начисто отрицал свою вину.
Девушки, заявившие об изнасилованиях, были проститутками, настаивал он, если снисходил до разговора; Карита умерла от пищевого отравления либо из-за неправильного лечения в больнице, и он понятия не имеет, что случилось с Люси.
– Мы упорно давили на него до одиннадцати, двенадцати ночи, – сообщил мне один детектив. – Как можно меньше давали спать, выматывали его физически и морально. Это жестко, но больше нам ничего не оставалось.
– Полиция умеет вытягивать из людей признания, – заверил меня старший детектив. – Мы стараемся, чтобы преступник понял последствия своих поступков. Мы говорим: «Жертвы действительно очень страдают» и «Вы никогда не размышляли о содеянном?». Но Обара был не из таких. Подобная тактика никогда бы с ним не сработала. – Для себя детектив легко объяснял эту странность Обары, хотя признаться иностранцу решился не сразу: – Возможно, вам трудно понять, но дело в том, что он… не японец.
Когда я слушал, что люди говорят о полиции и что полиция говорит о себе, у меня создалось впечатление, что стражи порядка считают упреки в свой адрес несправедливыми. Главное правило – что преступники сами сознаются – не сработало. В такой ситуации не удивительно, что следствие столкнулось с трудностями. Мысль о том, что преступники обычно хитры, упрямы и лживы и что полиция обязана уметь с ними справляться, не приходила многим детективам в голову – во всяком случае, долгое время. И дело не в некомпетентности или отсутствии воображения, лени или беспечности; полицейские сами стали жертвами чрезвычайной редкого случая: один японец на миллион оказался грязным преступником.
Зима в Японии ясная и пронизывающая, зато холод удерживает змей на расстоянии. Той зимой, по словам инспектора Удо, он предпринял последнюю попытку найти Люси в тех местах, где чаще всего бывал Ёдзи Обара.
– Район большой, – объяснял он, – и там хватает укромных мест, где можно закопать тело. Я собрал команду и приказал им без Люси не возвращаться. За декабрь и январь мои сотрудники обследовали множество участков.
В один из понедельников в начале февраля 2001 года двадцать два полицейских в штатском вселились в гостиницу на пляже в деревне Мороисо, в нескольких сотнях метров от апартаментов Блю-Си-Абурацубо. Номера зарезервировали на целый месяц; каждое утро сотрудники выходили с лопатами и кирками на разные участки вдоль побережья. Местные жители считали их участниками какого-нибудь муниципального проекта – с той лишь разницей, как сказала одна женщина, что «глаза у них были не как у строителей».
В четверг 8 февраля Удо послал к ним из Токио для консультации своего заместителя. Группа пришла к выводу, что область поисков слишком расширилась и на следующее утро следует снова начать в самом очевидном месте – в 230 метрах от пляжа, который растянулся под утесом рядом с Блю-Си-Абурацубо. Именно туда через пять дней после исчезновения Люси подозреваемый приехал в машине с объемным грузом. Там же Ёдзи вызвал слесаря, чтобы взломать собственную квартиру, из которой потом доносились удары; там же потный хозяин без рубашки сначала отказал полиции, постучавшей в его дверь, а позже извинился и продемонстрировал замороженный труп своей собаки. Мистер Хирокава, бойфренд консьержки, даже утверждал, что ночью видел на том пляже похожего на Обару человека с грязной лопатой[45]. Несомненно, в октябре после ареста Обары полицейские собаки обнюхали, а офицеры проверили пляж. Но теперь в отчаянии они решили пройтись там еще раз.
Прямоугольное здание Блю-Си-Абурацубо стояло с самого края, где заканчивалась дорога и начинался берег моря. Побережье было каменистым; над пляжем, усеянным крупной галькой, вертикально возвышалась скала. Вниз к пляжу вела бетонная дорожка. Пейзаж не отличался особым очарованием или красотой, но в это время года небо было высоким и синим, а вода – такой чистой и прозрачной, что на дне просматривались отдельные камни. Однако серый песок на пляже слипся от грязи, а гальку устилала сухая листва. В летние месяцы – к примеру, в начале июля – поверхность блестела от спинок тысяч мерзких бурых жуков, которые питались водорослями, гниющими в разломах валунов.
За изгибом пляжа, метрах в ста восьмидесяти от многоквартирного дома и вне поля зрения местных жителей, часть скалы превращалась в своеобразную каменную башню, тонущую в песке. Прямо за ней скрывалась пещера – укромное местечко, куда тайком сбрасывали мусор и куда подростки ходили покурить и пообниматься. В стране менее чистой и законопослушной, чем Япония, здесь валялись бы кучи пивных банок и использованных презервативов. Ее и пещерой назвать трудно – скорее, широкая расщелина в грязной скале 2,5 метра шириной у входа и 3 метра высотой в самой высокой точке. Стены и потолок сужались и заканчивались тупиком. Из неровного потолка торчали четыре облезлые пластиковые трубы, из которых капало на пол, – древняя попытка отвести дождевую воду с верхних скал.
В центре пещеры в песке увязла какая-то старая ванна. В 9 утра четверо полицейских откопали ее, вытащили наружу и начали поиски на освободившемся участке. Через несколько мгновений раскопок лопаты уткнулись во что-то твердое и шуршащее. Когда находку вытащили из песка, оказалось, что это полупрозрачный пластиковый мешок для мусора с тремя крупными объектами. Сразу стало понятно, что там лежат две человеческие ступни и человеческая рука, отрубленная по плечо. Запястье опутывали водоросли и трава. Разлагающаяся плоть побелела и напоминала воск, но ногти на пальцах рук и ног сохранились, и мужчины с лопатами отметили их аккуратную красивую форму и следы лака. Ответственный офицер сразу же позвонил Удо по мобильному телефону.
– Он плакал, когда говорил со мной, – вспоминал инспектор. – Только и сказал: «Начальник, мы нашли Люси».
Четверо полицейских приостановили раскопки в ожидании приезда старших и самых опытных детективов из Токио. Удо явился вместе со своим начальником, главой Первого следственного отдела Акирой Хиромицу. Судья быстро выписал ордер на активные развернутые поиски, и через два часа в пещере собралось уже человек сорок: местная полиция, специальный следственный отдел Удо и двадцать офицеров из отдела идентификации с камерами, альбомами для зарисовок, резиновыми перчатками и пластиковыми пакетами для сбора улик. Новости распространились быстро, и вскоре над головами уже летали вертолеты, нанятые японскими телекомпаниями, а в лодках в нескольких метрах от берега покачивались фотографы. Вход в пещеру закрыли импровизированным шатром из синего брезента; весь день люди в коротких анораках, резиновых сапогах и синих бейсболках сновали взад и вперед, прикрыв лицо белыми тканевыми масками.
Когда полиция была в сборе, раскопки продолжились. Пещеру расчистили от песка на глубину более полуметра до самого каменного пола. Следующим нашли обнаженное туловище, не завернутое в полиэтилен, а просто закопанное в песке на 30 см вглубь. Затем появились еще два мешка для мусора, где лежали вторая рука, бедра, голени и то, что напоминало голову, покрытую толстым слоем бетона или цемента.
Позже вечером шесть поисковиков с трудом вынесли тяжелый с виду синий кожаный мешок на молнии, 180 сантиметров длиной, держа его за концы. Вначале его доставили в полицейский участок Азабу, а на следующее утро – в лабораторию Медицинской школы Токийского университета. Там с головы скололи цемент и изучили зубы. Они в точности соответствовали медицинским стоматологическим записям, присланным из Севеноукса. Сомнений в том, что все десять частей тела на столе для обследования принадлежат Люси Блэкман, не осталось.
За те выходные старшие инспекторы шесть раз устраивали брифинги для журналистов, аккредитованных в штаб-квартире токийской городской полиции. Протоколы встреч зафиксировали не только возбуждение следователей, но и их защитную реакцию.
– Теперь у нас есть конкретные доказательства, и признание не обязательно, – заявил журналистам один из офицеров в тот же вечер, когда полиция обнаружила страшную находку. – Можете не беспокоиться. Проблема заключалась в том, что мы не могли найти тело. Как только останки опознают, доказательств у нас будет более чем достаточно.
Японские репортеры проявляют назойливость или агрессию по отношению к представителям организаций, с которыми сотрудничают. Но даже они не обошли стороной вопрос, который напрашивался сам собой: почему так долго?
Полиция предусмотрительно попыталась представить свои действия не как провал сыскной деятельности, а как победу в ходе упорной борьбы.
– Хотя мы уже проверяли этот участок, с первого взгляда не удалось распознать его как место преступления, – объяснил один из офицеров. – Следователи постоянно возвращались туда, когда у них появлялось время. Место определенно внушало подозрение, и наше упорство было вознаграждено.
Сотрудник специального следственного отдела подчеркнул:
– Мы уже искали в той пещере, но четырех или пяти человек оказалось недостаточно, чтобы найти тело. Обычно там много водорослей и водятся змеи, поэтому и не удалось сразу обнаружить труп.
Самым запоминающимся объяснением стала реплика сотрудника полиции, которого журналисты обозначили как господина С.
– Детективы – как скаковые лошади, – разглагольствовал мистер С. – Когда они впервые оказываются в новой обстановке, инстинкт им не в помощь. Но если они скачут по кругу, то постепенно добиваются блестящих результатов. Я не сомневался, что возле Блю-Си-Абурацубо нас ждет успех.
Тело пропавшей девушки лежало в неглубокой могиле в 180 метрах от квартиры единственного подозреваемого – квартиры, где полиция общалась с ним в связи со странным поведением спустя всего пять дней после исчезновения Люси. Детективы знали, что незадолго до ареста Обара пришвартовал яхту на причале в нескольких сотнях метров от пещеры, и полагали, что тогда он как раз собирался избавиться от трупа. Кроме того, им сообщили ключевую подробность – о подозреваемом с лопатой, которого видели на пляже поздней ночью.
Полицейские ищейки обнюхали весь район. Однако для обнаружения тела понадобились семь месяцев и специальная команда из сорока элитных детективов. Как современная полиция могла проявить такую некомпетентность? Детективы больше смахивали на ослов-трудяг, а не на породистых лоснящихся жеребцов. И у журналистов, следивших за поисками, зародилось подозрение, что полиция скорее всего уже давно знала, где похоронена Люси, а сцена с пещерой представляет собой хорошо поставленный спектакль.
Причины могли быть в следующем. Полиция отнюдь не глупа и, конечно же, не могла не найти тело в таком очевидном месте. Но детективам требовалось признание, правдоподобное и точное, а в идеале – информация, известная одному лишь подозреваемому, которую не опровергнут ни юридические уловки, ни последующее публичное отречение Обары от своих слов. Они терпеливо ждали, пока Обара заговорит, как поступали буквально все подозреваемые, и расскажет о теле в пещере, которое полиция быстренько «найдет» по его наводке, представив его виновным без всяких сомнений.
– Детективы уже были в Блю-Си-Абурацубо, и они всё знали, я уверен, – поделился со мной один из участников расследования. – Но полиция не должна была найти тело сама. Им требовалось указание Обары. Потому что тогда дело против него пойдет как по маслу. Арестовать кого-то легко – трудно доказать его вину.
Но Обара молчал, и со временем стало ясно, что он и не заговорит. Столкнувшись с его упорством, полиции в условиях цейтнота пришлось выбрать второй вариант и выкопать тело самостоятельно.
Но беда в том, что прошло семь месяцев. Из-за условий захоронения в вакуумных мешках во влажном песке останки Люси, изолированные от насекомых и бактерий, частично мумифицировались, а не разложились. Однако, выражаясь мудреными словами хладнокровных патологоанатомов, «аутопсия выявила радикальные изменения»: хотя тело сразу же идентифицировали, выяснить причину смерти было невозможно.
Неудивительно, что инспектор Удо и все детективы, занимающиеся этим делом, с пеной у рта утверждали, что не имеют ни малейшего понятия о местонахождении тело вплоть до того февральского утра – ведь признание в обратном грозило обвинением в лжесвидетельстве. Но какой бы ни была правда, клеймо позора на следователях оставалось в любом случае. Либо полиция сговорилась скрывать информацию ради спектакля с успешным итогом судебной экспертизы, либо детективы все-таки нашли тело вопреки недосмотру и некомпетентности, в которые просто трудно поверить.
Дома Джейн Блэкман хранила память о жизни дочери: номер «Дейли экспресс» от дня рождения Люси, пластиковый больничный браслет с именем, который надели на новорожденную, детские рисунки карандашом и фломастером, школьные тетрадки, исписанные старательным почерком маленькой девочки. Здесь Люси писала об играх в детском бассейне на заднем дворе, о том, как они с Луизой делали венки из ромашек и как она училась играть на флейте, а отец аккомпанировал ей на банджо, о визите в больницу с маленьким братом Рупертом, когда тот прикусил язык.
В самом конце января Джейн ездила в Японию по просьбе полиции; загадочный визит может указывать, что следователи все же знали о Люси и местонахождении ее тела больше, чем признавали. Интрига вокруг пребывания Джейн в Токио за неделю до спектакля в пещере граничила с плохим предзнаменованием. Никто, кроме нескольких человек, не знал, что мать девушки в Японии. Она зарегистрировалась в отеле под вымышленным именем; к ней в номер не переводили даже звонки ее детей. Инспектор Мицузанэ не сказал Джейн ничего конкретного о ходе расследования, но привел ее в замешательство странными и тщательно продуманными вопросами. Однажды она провела больше часа, изучая детальную зарисовку заколки, которую носила Люси. В другой раз у нее спросили, любила ли Люси угрей. Вопросы о питании дочери вызвали у Джейн дрожь и тошноту.
– «Ела ли она угрей?» «Ела ли она темпуру?» Такие вопросы порождали ужасные предчувствия, – признавалась Джейн. – У меня не хватало самообладания. В отеле «Даймонд», где я остановилась, на пианино без конца играл огромный кролик. Однажды я видела, как по полу бежит таракан. Помню только, что все время плакала. Я не понимала, зачем я здесь.
«Я люблю мамочку, потому что она наводит порядок в доме, – писала Люси в школьном сочинении „Почему я люблю мамочку“. – Мамочка добрая, и она ухаживает за мной. Она готовит мне чудесные торты и печенье, собирает с собой в школу чудесный ланч, всегда наводит порядок у меня в спальне. Иногда мамочка мне не нравится, она кричит на меня, и тогда я плачу. Но обычно она милая, она готовит мне замечательный завтрак и чудесный чай. Я люблю мамочку, когда она надевает красивое платье. Я люблю мамочку очень-очень сильно».
Сама Джейн в детстве потеряла мать, а позже и сестру. Больше всего на свете она боялась смерти одного из детей. Главной целью в жизни она считала их защиту. А теперь она в Японии разговаривала через переводчика с полицейскими, которые интересовались содержимым желудка ее дочери.
Через две недели после обнаружения останков Люси в пещере родители приехали забрать фрагменты тела дочери домой. Впервые Тим и Джейн оказались в Японии одновременно, но ехали они туда и обратно порознь, никогда не встречались и не разговаривали друг с другом. Софи и Руперт вылетели с отцом, а вернулись с мамой; останки Люси везли в багажном отделении самолета. Подруга Джейн Вэл Берман, которая сопровождала убитую горем мать, назвала гроб «чудовищем из фильма ужасов, огромной черной деревянной конструкцией». Когда в полицию пришел Тим, его потрясли неоднократные предложения увидеть останки Люси.
– Я удивился, – сетовал он. – Это какая-то причуда японской культуры? Мне не нужно видеть тело, я и так слишком хорошо могу его представить, не имплантируя в мозг зрительные образы.
Учитывая, в каком состоянии находились останки, тяжелый гроб, запечатанный и облицованный металлом, являлся необходимостью.
Каждый из родителей устроил пресс-конференцию. Джейн, выступавшая в отеле «Даймонд», держалась, как всегда, скромно. Когда настала очередь задавать вопросы, казалось, что все темы уже исчерпаны. Однако один из журналистов все же попытался и задал стандартный в такой ситуации вопрос, который задают не из искреннего интереса, а с целью утопить человека в фотогеничном горе: «Каково это – везти домой тело дочери?» Джейн испепелила спросившего взглядом, но сохранила спокойствие.
Тим, который выступил с Софи и Рупертом в Японском клубе иностранных корреспондентов, был разговорчив и откровенен, в противоположность бывшей жене. Он поблагодарил СМИ за поддержку в нелегкие месяцы и подробно рассказал о своих чувствах по поводу смерти Люси, ареста Обары, «системы» Роппонги и роли полиции. Он также объявил о создании Фонда Люси Блэкман, который сможет «обеспечить безопасность детей во время путешествий… чтобы смерть Люси не была напрасной». Блэкман раздал листовки с изображением их с дочерью в объятиях друг друга; текст призывал пожертвовать деньги и перевести их на счет одного из японских банков.
Среди прочих заметок на той пресс-конференции я написал: «Горе ведет людей разными путями».
Тим подтвердил, что они с детьми посетят пещеру на пляже, и попросил прессу не беспокоить их и позволить погоревать без свидетелей. Этим он ясно дал понять: пожалуйста, оставьте нас ненадолго одних. Но одновременно Тим будто сообщал, где и когда точно они там будут.
Руперт Блэкман приехал в Японию впервые. На всем протяжении мучительных и долгих поисков сестры он меньше остальных участвовал в процессе. Старшеклассник старательно избегал контактов с репортерами и фотографами, которые периодически звонили в дверь дома Джейн в Севеноуксе. Юноша глубоко переживал потерю, но также ощутил на себе, как тяжело стоять в стороне от активной деятельности, поглотившей мать, отца и сестру. Журналисты, писавшие о семье Люси, допускали ошибки в его имени или вовсе не упоминали о нем; многие только теперь узнали, что у Люси Блэкман есть брат.
– Самое грустное – что я даже не успел увидеть в Люси человека, – признался он мне. – Она всегда была мне просто старшей сестрой, а я – ее маленьким братцем. Мне не представилось шанса построить с Люси взрослые отношения, какие возникают между сестрами и братья ми ближе к двадцати годам. Я не был ей другом и никогда уже не буду.
Когда настало время забрать останки Люси домой, Руперта не пришлось уговаривать поехать в Японию. В аэропорту Нарита их ждали беспрестанные вспышки фотоаппаратов; репортеры пятились, натыкаясь друг на друга, и Руперт еле удержался от смеха.
– Душа Люси все равно с нами, поэтому мы способны замечать и смешные детали, – объяснил он. – Вокруг царила нелепая, совершенно безумная суматоха. Естественно, мы были убиты горем, но что тут поделаешь? Если не смеяться, остается только плакать. Помню, как на пресс-конференции, перед самым ее началом, мы с сестрой рассмеялись, а папа сказал: «Нет, послушайте, надо выглядеть мрачными и грустными».
Япония очаровала Руперта: огромные организованные толпы людей на тротуарах и пешеходных переходах, тысячи зонтов под весенним дождем.
– Я еще никогда не был в подобном месте, – признался юноша. – Мне очень нравится, как люди здесь уважают друг друга, культивируют скромность. Но теперь еще труднее признать, что в этом городе могло такое случиться.
К концу недели полиция отвезла родных жертвы на пляж в Мороисо по потрясающему Радужному мосту, переброшенному через широкий Токийский залив и освещенному солнцем.
Они доехали до скалы в машине и затем по ржавой лестнице спустились к пляжу. Руперт хотел увидеть место, где семь месяцев лежала в песке его сестра, хотел стать ближе к ней. Юноша принес для Люси цветы; родители остановились у заправки, чтобы он купил бумагу и ручку и написал сестре прощальную записку.
У подножия лестницы уже ждали тридцать-сорок японских фотографов и операторов. Некоторые присели наготове с тяжелыми черными камерами, другие установили на песке совсем рядом с пещерой металлические стремянки, чтобы улучшить обзор.
Столкновение в такую минуту со столькими чужими людьми Руперт сравнил с «хуком справа», ударом в челюсть.
Тим, Софи и Руперт с цветами пошли вперед. Затворы камер щелкали и жужжали. Когда родные направились к пещере, фотографы подползли еще ближе. Тим обернулся, и фотографы замерли. Прожекторы светили прямо на отца и сестру жертвы. Софи ругалась и кричала на фотографов, а те, точно крабы, пятились назад. Тим тоже кричал, хватал брошенные стремянки и неловко швырял на песок. Журналисты продолжали снимать и фотографировать. Руперт смотрел на всеобщую суматоху, а потом просто отвернулся.
– Папа подбирал камеры и стремянки, кричал, операторы отползали назад, – вспоминал он. – Софи тоже кричала, чтобы все ушли.
А Руперт стоял на коленях на вязком песке и плакал, неподвижно глядя в мокрую пещеру, ставшую могилой его сестре.
Часть V
Правосудие
Прощание
Похороны Люси прошли в конце апреля 2000 года. В любом случае мероприятие получилось бы мрачным, но оно стало вдвойне горьким из-за явной неприязни между Джейн и Тимом.
Похороны организовала мать девушки в англиканской церкви в городке Чизлхерст, в 19 километрах от Севеноукса. Почему именно там, до конца не ясно: в Севеноуксе достаточно церквей, к тому же Люси еще подростком, с подсказки Джейн, формально перешла из англиканской церкви в римскую католическую. Однако церковь имела принципиальное значение для Блэкманов как место венчания Тима и Джейн двадцать пять лет назад. И я задумался, хотела ли Джейн тем самым упрекнуть Тима, сознательно или бессознательно, проведя параллель между их погибшим браком и погибшей дочерью.
В церкви собралось 260 человек; снаружи за алюминиевым ограждением толпились фотографы и журналисты. Тони Блэр и японский посол в Лондоне прислали цветы; ладан, который жгли во время службы, был подарком Токийской городской полиции. Присутствовали многие сверстники Люси из Уолтемстоу-холла, а также бывшие коллеги из «Сосжен», сотрудники «Бритиш эйруэйз» в синей униформе и даже Хелен Дав, которая работала с Люси в «Касабланке». Подруги Люси Гейл Блэкман и Кэролайн Лоуренс пришли вместе; в последнюю минуту Гейл решила, что не сможет находиться в церкви, и ее пришлось уговаривать выйти из машины.
Некоторые из присутствующих отмечали ощущение легкости и нереальности, почти транса, будто похороны проходили во сне. Ощущение лишь усиливалось из-за отсутствия в церкви самой покойной: гроб источал такой аромат разложения, что его оставили в крематории, и в церкви просто стояла большая фотография Люси в синем платье.
– Хуже всего, что ее там не было, – вспоминала Гейл. – Я подписала открытку, которую хотела положить рядом с Люси, и взяла ее в похоронное агентство перед службой. Сейчас я бы промолчала, но тогда мне почему-то хотелось знать, и я спросила сотрудника: «Она настолько плохо выглядит?» И он ответил: «Хуже некуда».
Между Джейн и Тимом не было открытого противостояния, они вообще не разговаривали друг с другом. Но между ними струилась негативная энергия, и заполнившие церковь друзья покорились ей, точно металлические опилки, которые выстраиваются по кругу в магнитном поле. Когда приехали члены семей Тима и Джейн, они расселись по противоположным сторонам от прохода – как на их свадебной церемонии четверть века назад. Отец Джейн, 74-летний Джон Этеридж, находился при смерти: больное сердце, недавняя ампутация второй ноги. Его привезли в церковь на инвалидном кресле; при росте в расцвете сил 190 см он весил теперь немногим больше 57 килограммов.
Даже в горе друзья и семья изо всех сил пытались сражаться за Люси. Гейл разозлилась при виде группы девушек из Уолтемстоу-холла, которые толком не знали Люси и даже порой издевались над ней.
– Джейн попросила приходить без цветов, и друзья Люси отнеслись к ее желанию с уважением, – вспоминала Гейл. – Но заявились и девочки из школы, все разряженные, с огромными букетами. Они хотели лишь покрасоваться. В нескольких рядах от нас они шептались: «О, смотри: здесь тот-то и тот-то» и «А кто это с тем-то и тем-то?». Просто отвратительно. В крематорий я уже не поехала – не могла вынести.
Тим Блэкман больше всех чувствовал себя отчужденным; за ним наблюдало множество чужих глаз. Среди собравшихся нашлось немало людей, которых Тим ни разу не встречал, однако они знали его по телевизионным выступлениям, газетным интервью, сплетням обывателей. Вот отец Люси, который так старался ее найти, но чье поведение и характер вызывали сомнения.
– Помню, как я сказала: «Не верится, что он так спокоен», – призналась Сара Гест, одна из стюардесс «Бритиш эйруэйз». – Он не выражал совершенно никаких эмоций, тогда как мать показывала более естественную реакцию. Конечно, я совершенно не знала этого человека, и наверное, каждый справляется с горем по-своему. Но на похоронах люди были настроены очень критично.
Прямых замечаний не высказывали, но многие пришедшие на похороны применили к близким Люси определенный стандарт, поведенческий код, который Джейн соблюдала, а Тим, по их мнению, нарушал.
Через год и три дня после исчезновения Люси Блэкман, 4 июля 2001 года Ёдзи Обара предстал перед судом за ее изнасилование и убийство. Зал суда в высоком здании в 180 метрах от штаб-квартиры Токийской городской полиции был забит до отказа. Обара уже семь раз появлялся в суде, и пять раз ему вынесли обвинительный приговор по делу об изнасиловании. В Японии судебные заседания проходят не каждый день, а примерно раз в месяц; к тому же большинство заседаний по делу Обары устраивали за закрытыми дверями, чтобы жертвы – Клара Мендес, Кэти Викерс и три молодые японки – давали показания без лишних свидетелей. Но нынче утром на 60 мест, которые распределялись по электронной лотерее, претендовали 900 человек. Ровно в десять утра Обара в сопровождении двух охранников в форме зашел в зал суда.
Он был в темно-сером костюме и рубашке с широким воротом. Помимо наручников, на нем была синяя, крепкая на вид веревка вокруг пояса, которую держали за концы охранники. Когда обвиняемый сел, наручники расстегнули, а веревку отвязали. В японском уголовном суде это обычная практика, но меня потряс контраст беспомощного арестанта в путах и сверкающего современного мира Токио.
Обару попросили повернуться лицом к судейской коллегии, состоящей из трех членов, пока прокурор зачитывал обвинение в дзюнгокан чиши (изнасилование, повлекшее смерть) – близкое по категории к убийству по неосторожности или непредумышленному убийству – Кариты Саймон Риджуэй и Люси Джейн Блэкман. В японском уголовном суде заключенному не просто дают право признать вину или заявить о невиновности: после напоминания о праве хранить молчание его приглашают прокомментировать обвинения. Обара читал с трибуны вслух по бумажке – громко, но на удивление мягко и кротко, почти вяло. Он признал, что был с Каритой и Люси в те ночи, о которых идет речь, но отрицал любую причастность к их смерти. Отношения сексуального характера с Каритой произошли по обоюдному согласию. Люси развлекала его в «Касабланке» (он назвался мистером Ковой – шепелявый мужчина с приличным английским, которого Луиза с трудом смогла вспомнить), но именно она пригласила его куда-нибудь съездить, а не наоборот; вопрос о мобильном телефоне никогда не вставал.
– Мы выпивали и смотрели видео у меня в квартире в Дзуси, – заявил Обара. – Мы не играли (английское слово «play» он произнес на японский манер: «пурэй») в ту ночь ни разу. Я не предлагал ей напитки со снотворным или другими препаратами.
По словам обвиняемого, когда на следующее утро он уехал, Люси была в полном порядке.
– Мне известно, что Люси умерла, – признал он. – Но я не совершал ничего такого, что могло бы привести к ее смерти. Хотя, возможно, на мне лежит часть ответственности, я не делал того, что перечислено в обвинительной речи.
Десятки репортеров выскочили из зала судебных заседаний, чтобы сообщить о заявлении обвиняемого своим телекомпаниям и информагентствам. Обара сел на место, после чего поднялся главный прокурор, чтобы подробно зачитать обвинение. На одном дыхании, монотонно, переворачивая страницу за страницей с такой скоростью, что репортеры не поспевали записывать, он говорил:
– Не позднее чем с 1983 года под разными псевдонимами, не раскрывая настоящего имени, обвиняемый привозил женщин в Дзуси-Марину, предлагал им напитки с подмешанными наркотиками, вызывающими потерю сознания, насиловал их, надев маску, и снимал все на видео. Подобные преступления он совершал регулярно, называя их «игрой в покорение».
Между судебными системами Японии и Западной Европы или Северной Америки есть одна большая разница: процент обвинительных приговоров по уголовным преступлениям. Суды в Соединенных Штатах обычно приговаривают 73 % обвиняемых, почти такой же процент в Британии. В Японии – 99,85 %. Другими словами, судебное разбирательство почти автоматически означает обвинительный приговор: утех, кто попал в японский суд, есть лишь минимальный шанс выйти оттуда через парадную дверь. Это отражается и в отношении к обвиняемым со стороны общественности, СМИ и даже адвокатов: в Японии человек виновен, пока не докажет обратное.
– Вы виновны с момента ареста, – объяснял мне один из адвокатов Обары. – Посмотрите на статьи об уголовных делах. Об аресте в газетах рассказывают очень развернуто. Зачитыванию обвинения уделяют уже меньше внимания. Доказательство вины и окончательный вердикт – самое неинтересное.
Традицию поддерживает даже японский язык. С момента ареста, иногда еще до предъявления обвинений, подозреваемый теряет форму вежливого обращения «-сан» или «-ши» и становится «-ёугиса». Обара-ёугиса: не «господин», а «подозреваемый в уголовном процессе» Обара.
Прокуроры объясняют высокий процент обвинительных приговоров тем, что до суда доходят только те дела, в которых вина обвиняемого очевидна и доказана. Другими словами, виновен или невиновен человек – выясняется в процессе расследования, за закрытыми дверями, а не публично в зале суда. «Прокуроры, как и все население Японии, считают, что обвиняют только виновных и что арестованный почти всегда виновен, – писал социолог Дэвид Джонсон. – Подавляющее большинство японских уголовных судебных процессов совсем не похожи на битвы или соревнования, как предписывает, казалось бы, состязательная логика законов, это скорее ритуал, пустой звук, где нет места даже легким разногласиям».
Наряду с этим крайне редкие случаи оправдательных приговоров являются унизительным ударом по органам власти. В суде на Западе дела выигрывают адвокаты, в Японии дела проигрывают прокуроры, и такой исход может стать для них позором. Когда Ёдзи Обару ввели в зал суда, связанного и закованного, почти все ставки были против него. Однако и сторона обвинения рисковала по-крупному. Документ, который в то утро невнятно зачитывали в зале суда, стал кульминацией совместных усилий детективов и прокуроров за целый год; от него зависели их карьера и репутация.
После выяснения фактов по делу Кариты – о ее стремительном и не поддающемся лечению ухудшении здоровья, отравленной хлороформом печени, человеке в маске на видео – обвинение переключилось на историю Люси Блэкман и перемещения Обары в последний день ее жизни.
В полночь 30 июня он купил виноград, грейпфруты, дыню и мандарины в круглосуточном магазине в токийском квартале Акасака. Через сорок минут на ближайшей бензоколонке заправил свой «мерседес-бенц». В половине второго следующего дня позвонил Люси и отложил время их встречи. Затем оставил в химчистке отеля «Нью-Отани» какую-то одежду, потом снова позвонил Люси и забрал ее напротив станции «Сэндагая» в 15:30. На пути в Дзуси, примерно в пять часов девушка попросила мобильный телефон, чтобы позвонить из машины Луизе Филлипс. Сфотографировал ее Обара в 17:20, судя по положению солнца и длине теней. К шести часам вечера они зашли в квартиру 4314 в Дзуси-Марине. Люси, которая за весь день почти ничего не ела, к этому моменту, должно быть, проголодалась. Обара позвонил в местный ресторан и заказал жареную курицу и темпуру во фритюре с креветками и угрем. Поступило сообщение о перебоях с газоснабжением, поэтому хозяин квартиры позвонил в токийскую газовую службу, и в 19:14 приехал мастер, чтобы все проверить. Пока Обара с ним общался, Люси позвонила Луизе с нового мобильного телефона, который ей подарил Ёдзи. Потом она оставила сообщение Скотту. И после этого пропала.
«В период между этим моментом и 2 июля 2000 года в той же квартире, – говорилось в обвинении, – обвиняемый предложил ей напиток со снотворным и использовал хлороформ, чтобы жертва потеряла сознание. Он изнасиловал ее, и в какой-то момент она умерла по причине использования вышеназванных препаратов либо из-за остановки сердца или проблем с дыханием».
Затем прокуроры перешли к описанию воскресного вечера, когда Обара, добравшись до города на поезде и такси, заехал в одну из своих квартир, а вечером вернулся в Дзуси-Марину. Рано утром следующего дня он снова поехал в Токио, где активировал один из мобильных телефонов своей богатой коллекции предоплаченных аппаратов. Незадолго до половины шестого вечера он позвонил с этого номера Луизе Филлипс: «Меня зовут Акира Такаги. Вообще-то, я звоню по просьбе Люси Блэкман».
За последующие два с половиной часа он сделал еще несколько звонков: в магазин электротоваров, в строительный магазин и в «Л. Л. Бин», торгующий товарами для активного отдыха. На следующий день, во вторник, Ёдзи заехал во все эти магазины и приобрел палатки, подстилки, спальные мешки, фонарики, молотки, резаки, ручную пилу, бензопилу, лопату, емкости, мешалку, два мешка цемента по 25 килограммов каждый и химический реагент, чтобы ускорить его затвердевание.
В среду 5-го он поехал в свою квартиру в Блю-Си-Абурацубо в «мерседесе», забитом некими предметами, накрытыми белыми полотенцами. На следующий день его поведение показалось подозрительным консьержке, и она позвонила в полицию, которая смогла лишь мельком увидеть потного Обару среди цемента и мешков, после чего он извинился и показал замороженный труп своей собаки.
Рано утром следующего дня бойфренд консьержки видел человека, похожего на Обару, недалеко от пляжа с лопатой в руке.
– С 5 по 6 июля 2000 года, – бубнил прокурор, – либо в префектуре Канагава, либо недалеко оттуда, либо в квартире 401 в Блю-Си-Абурацубо, обвиняемый с помощью электропилы отрезал голову, руки и ноги жертве. Голову он зацементировал, положил ее с остальными частями тела в мешки для мусора и закопал в пещере под утесом, где они и оставались.
В воскресенье 9-го Обара позвонил одной японке, с которой познакомился в службе свиданий по телефону. Она никогда не встречала его лично и не знала его настоящего имени; полиция узнала о ней лишь благодаря тому, что отследила номера телефонов подозреваемого и звонки с них. Однако женщина вспомнила, как Обара сказал: «Я совершил нечто ужасное и никому не могу об этом рассказать».
С конца июля по начало октября он отправил в полицию четыре письма (два из них на английском), подписанные именем Люси, в которых перечислялись ее долги и суммы выплат. Этот список, помимо черновиков писем, полиция нашла в одной из квартир Обары.
В пещере, где было закопано тело Люси, обнаружилась сумка для палатки, идентичная той, которую Ёдзи приобрел в «Л. Л. Бин». Бензопилу так и не нашли, но следы на костях Люси соответствовали следам от той модели, которую он купил в тот день. В квартире Обары нашли записную книжку Люси, хлороформ, рогипнол, ГТБ и другие сильнодействующие снотворные препараты.
Обвинение основывалось на уликах, которые в течение долгих месяцев собирали люди инспектора Удо: записях телефонных разговоров, чеках, видео с камер наблюдения на скоростных шоссе, показаниях работника службы доставки, консьержки и продавца фруктов. Все было зафиксировано документально: двадцать восемь папок по делу заняли три полки в углу зала суда. Но с субботы 1 по воскресенье 2 июля, и с 5 июля по 7 зияла пустота, пробел в повествовании, который не смогли заполнить телефонные звонки, свидетельские показания и денежные переводы. Тут требовалось либо признание, либо ДНК Обары – кровь, волосы или сперма – на теле Люси. Однако эксперты-криминалисты так и не нашли следов: либо прошло слишком много времени, либо их там никогда и не было. Получалось, что Люси по какой-то причине умерла, ее разрезали на части бензопилой и закопали в пещере. Если учесть обстоятельства, возникал справедливый вопрос: кто еще мог это совершить, если не Ёдзи Обара? Но педантичное, лишенное воображения, неумолимое японское законодательство требовало ответа на другой вопрос: как именно все произошло?
Судебные разбирательства проходили в залах заседаний самых разных размеров, но во всех случаях выбирались внутренние помещения без окон, освещаемые лампами дневного света и заполненные мертвым, регулируемым термостатом воздухом. В Японии душное лето перешло в холодную сухую зиму, но температура в суде никогда не менялась: ни жарко, ни холодно, не сухо и не влажно. Помещения были прямоугольными, с местами для слушателей, отделенными невысокой деревянной оградой. По другую сторону друг напротив друга сидели за столами адвокаты и прокуроры; между ними стояла трибуна для свидетелей и обвиняемого. Судебный пристав и стенографист расположились позади, лицом к аудитории; за ними на постаменте восседали три судьи. Высокие спинки стульев за их головами походили на черные нимбы.
Заседания, особенно послеобеденные, часто накрывала дремота. Один из судей, полный, но еще довольно молодой человек, сидевший справа от главного судьи, большую часть процесса проводил с закрытыми глазами: трудно сказать, хотел ли он лучше сосредоточиться или просто спал. Однажды адвокаты самого Обары толчком разбудили коллегу, который громко захрапел. В британском суде за такое сразу пристыдили бы и сделали выговор. Но здесь сотрудники хихикнули, судьи снисходительно улыбнулись, и инцидент был тут же забыт.
Япония приостановила практику судов присяжных во время Второй мировой войны; с тех пор исключительным правом выносить приговор обладала коллегия из трех судей[46]. В отличие от Британии, где судьями назначают старших юристов, японские законники – это обособленная юридическая каста; сразу после окончания правовой школы молодой человек (в подавляющем большинстве мужского пола) становится судьей и обычно остается им до конца карьеры, хотя, с точки зрения европейца, молодые выпускники с мягкими пухлыми лицами и прыщами не слишком соответствуют столь ответственной должности. Власть членов коллегии подчеркивают длинные черные мантии; когда судьи входят в зал, все поднимаются с мест. Свидетели принимают торжественную присягу; адвокаты и судьи обращаются друг к другу вежливо и официально. Но никакой благородной театральности, которая присутствует в британском суде, нет, и зал заседаний мало чем отличается от обычного собрания.
Перекрестный допрос нагонял скуку и вызывал разочарование. Свидетельства зачитывались быстро, заявления – сухо и бесстрастно. Никто не выходил из себя и не повышал голоса, и не выражал личной заинтересованности в исходе процесса. Ни красноречия, ни конфликта, ни драмы, и очень мало эмоций, не считая изредка возникающего легкого раздражения. Мы будто присутствовали не на сенсационном разбирательстве, а на педсовете в консервативной школе.
Долгие месяцы адвокаты бубнили, а пальцы стенографиста дрожали над клавишами. Порой я и сам клевал носом. Но за покровом бюрократической скуки пряталась призрачная, словно писк комара на грани возможностей человеческого слуха, интрига. Как обострение чувств перед лихорадкой или гамма ощущений возле линии электропередач – то ли звук, то ли вибрации. И, по всей видимости, исходили они от самого Ёдзи Обары.
На ежемесячные слушания обвиняемого привозили из токийской тюрьмы предварительного заключения, двадцатиэтажной крепости в пригороде Токио Косуге. Адвокаты, вероятно, выразили протест, потому что после нескольких первых заседаний от наручников и грубой веревки вокруг пояса Обару избавили. Он сидел по правую руку от судей, его защитники – за ним; охранники располагались по обеим сторонам.
Ёдзи производил впечатление достойного человека, на которого в неудачно сложившихся обстоятельствах свалили вину, но он изо всех сил старается сохранить лицо. На заседания он всегда надевал рубашку с широким воротом и костюм темно-синего или темно-серого цвета, красивый и дорогой на вид, но мятый, будто только что вынутый из камеры хранения и небрежно почищенный. Мягкие волосы средней длины находились в легком беспорядке, словно их расчесали и уложили в спешке; за восемь лет, что за ним наблюдал, от висков расползлась седина, а волосы на макушке поредели, хоть и медленнее. Помимо очков с темной оправой, Ёдзи всегда носил с собой маленькое голубое полотенце, которым протирал лицо, руки и шею от пота. Суд считался общественным местом, где не нужно снимать уличную обувь, поэтому все были в туфлях, кроме Обары, который носил пластиковые шлепанцы, – видимо, мера предосторожности, чтобы предотвратить попытку бегства.
Горстке фотографий Ёдзи, фигурирующих в деле, было по меньшей мере тридцать лет, поэтому японская пресса жаждала срочно заполучить свежий портрет обвиняемого. Любые съемки в суде запрещены, но профессиональные художники с альбомами для зарисовок и пастелью, решительно сдвинув брови, энергично пробрались на свои места в первом ряду. Однако Обара сорвал их планы, как срывал планы всех, кто пытался запечатлеть его лицо. Едва войдя в зал суда в первый день, он на три четверти отвернулся от слушателей к судьям. На следующее утро в газетах появились рисунки с дальнего и наименее интересного ракурса: волосы, шея, воротник пиджака и левый край челюсти обвиняемого. Даже на суде не удавалось посмотреть ему прямо в лицо.
Каждое заседание прокуроры упорно дополняли новыми подробностями и подтверждали фактами историю, рассказанную во вступительной части обвинительной речи.
В январе 2003 года выступил врач с показаниями об отравляющем действии хлороформа. В апреле анестезиолог обсудил видео изнасилований и объяснил, что характер дыхания жертв, без сомнений, является результатом приема наркотиков. Консьержка Блю-Си-Абурацубо и полицейский инспектор, ответивший на ее звонок, описали внезапное появление Обары и его странное поведение в первые дни после исчезновения Люси. Химик экспертно-криминалистической лаборатории подтвердил, что цемент на голове жертвы идентичен купленному Обарой. Женщина по имени Юка Такино, семье которой принадлежала яхта на соседнем причале, вспомнила случай на пляже недалеко от Блю-Си-Абурацубо через две недели после пропажи Люси: какой-то человек смотрел прямо на нее и двух ее детей, играющих в песке.
– Он уставился на моего сына колючим, даже злым взглядом, – говорила госпожа Такино. – И мне показалось, что он смотрит на детей вовсе не потому, что они ему нравятся.
Ее маленький сын играл у скал; он крикнул маме, что хочет пойти в пещеру.
– Он побежал к пещере, – рассказывала миссис Такино в суде. – И вдруг тот человек ужасно испугался. Он глянул на сына, потом на меня и не отводил взгляд. Мне стало неуютно, и я позвала сына: «Вернись сюда!» А когда он подбежал, сказала: «Не ходи в пещеру».
Мать с детьми собрала вещи и ушла с пляжа. А через семь месяцев после обнаружения тела Люси Юка вспомнила тот странный случай и поняла, что мог найти в пещере мальчик с ведерком и лопаткой. Когда ее спросили, является ли обвиняемый тем человеком на пляже, госпожа Такино повернулась направо, где в полутора метрах от нее сидел Обара, наклонив голову в ее сторону.
– Он похож на того человека, которого я видела, но в тот раз он выглядел злым, – отметила свидетельница, – а сейчас мило улыбается.
Прокуроры прекрасно знали слабые места своей версии и в суде столкнулись с ними лицом к лицу. За недели обысков в квартирах Обары полиция сняла ковры, татами и сантехнику, но нигде не обнаружилось ни пятнышка крови Люси. Требовалось доказать, что можно разрезать тело на десять частей и избавиться от него, не оставив ни следа ДНК жертвы. В мае 2004 года полиция попыталась провести аналогичный эксперимент, распилив в палатке бензопилой мертвую свинью.
Дикую кровавую операцию на грани черного юмора описал ответственный за нее офицер, старший инспектор Нобуёси Акаминэ. Для начала он приобрел палатку, подстилки и бензопилу, аналогичные купленным Обарой в ходе рейда по магазинам через три дня после исчезновения Люси. Палатку с инструментами разместили во внутреннем дворе здания судмедэкспертизы Токийского университета. Затем Акаминэ отправился в мясную лавку и раздобыл 70-килограммовую свинью, разрезанную вдоль позвоночника. Туша, конечно же, была подвешена на крюк, чтобы стекла кровь, поэтому инспектор с помощниками развели в ведре красный пищевой краситель, после чего один из преподавателей криминалистики Токийского университета старательно вколол его в свинью вместо свежей крови.
Из всего ассортимента мясной лавки, объяснил старший инспектор, кости и мясо свиньи больше всего похожи на человеческие. Правую половину туши заморозили, а левую оставили в тепле. Следуя указаниям старшего инспектора, один из сотрудников затащил каждую половину в надежно закрепленную палатку и расчленил бензопилой. Когда процесс распиливания был завершен, на ткань палатки плеснули красного красителя, чтобы проверить ее непроницаемость.
Помимо описания эксперимента, адвокатам и судьям представили для ознакомления небольшой альбом с документами и фотографиями, запечатлевшими процедуру. Я сидел впереди и, наклонившись вперед, сумел рассмотреть фотографии блестящих кусков влажного мяса. Прокуроры не знали наверняка, расчленил ли Обара тело внутри квартиры или на открытом воздухе; замораживал ли тело Люси или нет. Но по результатам эксперимента со свиньей старший инспектор Акаминэ с уверенностью заключил, что из палатки не вытекло ни капли красной жидкости.
После предъявления обвинений судебные разбирательства уже практически не интересовали журналистов. Однако слушатели всегда заполняли как минимум ползала. Там собирался эксцентричный и маргинальный с виду народ, разительно отличающийся от чиновников в строгих костюмах, толпы которых сновали по столичным улицам. Старик в коричневой фетровой шляпе с белым цветком за лентой; за ним две школьницы-прогульщицы в нарядных матросских костюмах; пару раз я замечал человека с бесцветно-серым лицом бомжа, которые в Японии выглядят приличнее любых оборванцев мира. Самым необычным персонажем был мужчина под сорок с пестрой бородкой, окрашенными в зеленый цвет волосами и в длинной юбке, который все время записывал что-то в школьную тетрадку.
Одним из самых постоянных слушателей была невысокая девушка, похожая на фею, которая также прилежно записывала ход разбирательств. Ее звали Юки Такахаси. Она была основательницей и членом клуба «Касумикко» – группы друзей, которые проводили свободное время в судах по самым мерзким преступлениям и публиковали свои наблюдения в блоге. Мужчина с зелеными волосами, который называл себя Майти Асо, тоже входил в клуб. Юки вместе со своими друзьями-блогерами Мики-сан и Пойзон Кэррот пристально следили за делом Ёдзи Обары.
«Мне очень нравятся слушания по делу Обары, – писала Юки. – Я помню их расписание не хуже дней рождения моих родных. Возможно, этот судебный процесс я знаю лучше всех. Если бы об Обаре проводили викторину, мне достался бы главный приз (хотя я бы предпочла сама задавать вопросы в качестве ведущего). За время заседаний я даже запомнила номера мобильных телефонов, которые использовал Обара. Иногда я воображаю себя следователем. Мне очень нравится Обара, но, честно признаюсь, еще больше мне нравятся прокуроры, особенно самый молоденький, он просто крут. Ну и конечно же, главный судья. У него легкий деревенский акцент – такому сразу хочется доверять. В дни судебного заседания собираются все, кем я восхищаюсь, и я жду не дождусь очередного слушания. Накануне я буквально на взводе, и даже на следующий день напряжение не отпускает».
Поразительно высокий процент обвинительных приговоров в Японии приводит к тому, что очень и очень немногие стремятся стать адвокатами по уголовным делам. Зачем? В отличие от гражданских дел, это низкооплачиваемая работа, которая не приносит никаких компенсаций вроде неотразимого внешнего вида и общественного признания. Японцы относятся к адвокатам по уголовным делам с подозрением, поскольку они пытаются оправдать действия преступников – ведь почти каждый, кто попадает под суд, виновен. В среднем адвокат может надеяться на оправдательный приговор раз в тридцать один год.
В Японии юристов относят к уважаемому классу, к которому обращаются «сэнсэй» – «учитель». Такое обращение используют также в отношении врачей, научных работников и политиков. Подразумевается, что обвиняемый, равно как и пациент или студент, не будет подвергать сомнению доводы защищающего его сэнсэя. Обара с самого начала пошел против правил. Он распоряжался адвокатами, как генерал солдатами на войне, и требовал беспрекословного подчинения. Первая команда защитников в октябре 2001 года отказалась вести его дело, так как, по словам одного из них, «не удавалось поддерживать хорошие отношения с обвиняемым». Разбирательства приостановили на год, пока суд искал адвокатов, желающих его представлять. Один из них вспомнил, как Обара сказал ему:
– Мне нужен не мягкий приговор, а оправдательный. Как ответчик я отрицаю все обвинения. Вы мои адвокаты, вы должны бороться с прокурорами.
На Западе подобные слова звучали бы разумно, но для многих японских адвокатов такое заявление выглядело беспрецедентным: словно пациент взялся руководить собственной операцией. В этом состояла еще одна специфическая черта Обары, и никто из юристов еще не сталкивался с таким подзащитным.
Его содержали в токийской тюрьме предварительного заключения. Как теоретически невиновному, пока не доказана вина, здесь ему предоставляли больше свободы, чем в обычной тюрьме. Он мог писать и получать письма, принимать каждый день по посетителю. Вначале раз в месяц, потом все реже, на скоростном поезде из Осаки к нему приезжала пожилая мать Кимико. Но, кроме нее, навещали заключенного только адвокаты – хотя бы один из них являлся каждый день. Обара держался на расстоянии от охранников и тех немногих заключенных, кто задерживался в тюрьме дольше нескольких месяцев. Сам он проведет в крошечной камере с кроватью и рукомойником девять лет, общаясь почти исключительно с адвокатами и занимаясь лишь собственной защитой в суде.
Камера Обары стала его командным пунктом. Стопками в его рост высились папки документов формата А4: письма, факсы, своды законов, подшитые свидетельские показания. Помимо обвинений в восьми изнасилованиях и двух изнасилованиях с летальным исходом, Обару, как и многих богачей эпохи «мыльного пузыря», теперь преследовали кредиторы. За полтора года до ареста на несколько его объектов недвижимости в судебном порядке наложили арест, а в 2004 году его объявили банкротом с задолженностью в размере 23,8 млрд иен (122 млн фунтов). Его дела вели разные команды адвокатов, и никто, кроме самого Ёдзи, не знал всех имен и даже количества защитников. Но каждый момент на него трудились по меньшей мере десять человек. Возможно, за время судебных разбирательств их сменилось несколько десятков.
Для адвоката, привыкшего к покладистым и благодарным клиентам, Обара становился кошмарным сном. Дело не в грубости или агрессии: шокировало его стремление командовать.
– Он словно режиссер, снимающий сюжет по своему сценарию, написанному с точки зрения его реальности, – отмечал один из юристов. – Он умен и очень подозрителен, никому не верит, включая собственных адвокатов. С ним трудно работать.
При перекрестном допросе свидетелей адвокаты задавали вопросы будто по сценарию и явно этим тяготились. «Для адвокатов положение должно быть унизительным, – писала блогер Юки Такахаси. – Видно, как усердно они трудятся, но глаза у них, как у дохлой рыбы, из-за всех его приказов и вопросов, совершенно не относящихся к делу. Я-то могу посмеяться над этим, а вот им, похоже, невесело».
Ёдзи с точностью помнил все даты и подробности, и его раздражал любой адвокат, который что-нибудь перепутал или переврал. Обара предлагал множество идей, но часто непродуманных или противоречивых.
– Он довольно умен и способен изобрести целый ряд стратегий, но он не может решить, какая лучше, – рассказывал один из адвокатов. – Поэтому он пытается хоть как-то объединить их, и выходит только хуже.
Проблема сводилась к одному: чем ответить на обширную коллекцию улик, тщательно собранных и свидетельствующих против него? Обвинения в изнасиловании опровергнуть легко: половые акты, записанные на видео, возможно, не совсем обычны, но совершались по обоюдному согласию. Как заявил мне Ясуо Сионоя – пожалуй, один из самых успешных адвокатов Обары:
– По-моему, если дама работает хостес или вроде того и соглашается идти к мужчине домой, то дает согласие и на секс. И Обара думал так же. Он не отрицал, что причинил вред здоровью вследствие применения наркотиков, и признавал это. Но об изнасиловании и речь не шла. Такова его точка зрения. И если рассуждать логично, возможно, он и прав.
По поводу обвинения в изнасиловании, отравлении наркотиками и убийстве Кариты Риджуэй защита строилась на сомнениях в причине ее смерти. Опять же Обара настаивал на том, что у них были сексуальные отношения по обоюдному согласию и что видео с ним и Каритой без сознания записывалось во время их предыдущего свидания за несколько недель до ее внезапной болезни. К тому же врачебного заключения о том, что печень отказала из-за наркотиков, не существовало. Возможно, девушку убило неправильное лечение после постановки ошибочного диагноза или обезболивающее, которое вколол Карите врач скорой, перед тем как Обара отвез ее в больницу.
Но как насчет Люси? Для некоторых адвокатов дело выглядело самым простым, потому что никаких прямых доказательств не было.
– Важно, что Ёдзи и Люси были одни, и никто другой не знает, что произошло, – подчеркнул один из защитников. – Нам не нужно доказывать, что Обара не совершал преступления. Достаточно показать, что у обвинения не хватает улик. Видео нет. Причина смерти неизвестна. Как Ёдзи в одиночку вынес такой большой труп из квартиры в Дзуси в разгар лета, чтобы никто его не видел? Как ему удалось загрузить тело в автомобиль, распилить у себя в квартире и закопать без всякой помощи? Все, что надо сделать, – указать на все эти слабые места.
Другими словами, адвокаты намеревались не столько защищать обвиняемого, сколько подорвать доверие к версии прокуратуры. Однако Обару такой подход не устраивал. Он жаждал изложить собственную версию – по-своему заполнить дыру в центре истории.
Мастер на все руки
Через пять лет после смерти Люси и спустя пятьдесят шесть месяцев с первого появления в суде Ёдзи Обара начал выстраивать собственную защиту. Все места в зале были заняты. В первом ряду усадили Тима и Софи Блэкман, которые прилетели на судебное заседание; по мере развития событий полицейский переводчик делал для них заметки. Обара сидел между охранниками и, как всегда, по максимуму отвернулся от зрителей к судьям. На нем был светло-серый костюм; лицо покрывала бледность, как у того, кто давно не видел солнечного света. Поднявшись на трибуну для свидетелей, обвиняемый старательно избегал смотреть в сторону Тима и Софи.
За несколько недель до этого заседания вся команда защитников Обары погрузилась в напряженную атмосферу ожидания. Сама способность терпеть такого трудного клиента превращала адвокатов в интересную для меня группу. И они на удивление откровенно отзывались о своем клиенте и его ожиданиях.
– Его настроение постоянно меняется в ходе разбирательств, – рассказывал мне один из них. – Мне кажется, в каком-то смысле он почти отчаялся. Его терзают смешанные чувства, раздражение и неуверенность в победе. Есть риск, что его признают виновным, а он отчаянно жаждет оправдания. Бравада без конца сменяется страхом.
Тогда я впервые предпринял попытку пообщаться с Обарой. Его защитник отказался говорить со мной лично, но согласился передать письмо с просьбой провести в тюрьме интервью, а также список предполагаемых вопросов. Ответ, написанный другим адвокатом, но явно продиктованный самим Обарой, прислали мне по факсу. «Следователям не известны многие ключевые моменты дела, – говорилось в факсе. – Мы верим, что факты касательно, например, вопроса № 5, главного в вашем списке, мистер Пэрри, также прояснятся… В будущем мы готовы предоставлять вам свежие новости, потому что, как сказал мистер Обара, вы пишете для населения родины Люси».
Мой пятый вопрос гласил: «Вы заявили, что не причастны к смерти мисс Блэкман. Кого вы считаете виновным?»
Полиция и прокуратура больше года расследовали дело о смерти Люси Блэкман. Обара потратил на это пять лет, десятками нанимая адвокатов и частных детективов и посылая их в разные уголки страны. Версия событий, представленная прокуратурой, изобиловала подробностями, указывающими на Ёдзи. Ему требовалось противопоставить ей собственную картину реальности – настоящий шедевр.
И теперь Обара с трибуны начал зачитывать вслух свое вступительное заявление, занявшее целую стопку исписанных от руки страниц.
– Правда о том, кем была Люси, опозорит и огорчит ее семью, – мягко шепелявил он. – Родители хотят видеть свою дочь чистым созданием, сестра хочет уважать сестру. Я не собирался уничтожать ее образ в их душе и не изменил бы своему решению скрыть ее истинное лицо, но именно из-за этого решения я и оказался в столь ужасном положении.
Линия защиты Обары развивалась по двум направлениям. Первое – бесконечными вопросами подрывать доверие к каждой строчке версии обвинения, колоть в ее слабые места и обнажать пробелы, а также развенчивать детали собственными обескураживающими подробностями. Второе – нарисовать альтернативный портрет жертвы. В этом и состоял «эксклюзив», которым удостоил меня Обара во втором факсе, присланном незадолго до заседания. По словам Ёдзи, она была вовсе не той жизнерадостной девушкой, какой описывали ее семья и друзья, а терзающейся, склонной к саморазрушению бедолагой, умершей от передозировки нелегальных наркотиков.
При перекрестном допросе, когда вопросы задавали его адвокаты, Обара начал цитировать дневник Люси, параллельно переводя его на японский язык. Он выбирал те места, где девушка описывала самые грустные мысли: перепады настроения, одиночество и тоску по дому, неудачи на поприще хостес и зависть к успеху Луизы. «За эти двадцать дней мы выпили столько, сколько не пили за всю свою жизнь, – читал Обара. – Я устала от похмелья и вечных долгов… Я чувствую себя ненужной… Я все время плачу… Я чувствую себя уродкой, жирдяйкой, невидимкой… Ненавижу себя, ненавижу эти волосы, это лицо, этот нос, азиатские глаза, родинку на лице, зубы, подбородок, профиль, шею, сиськи, жирные бедра, толстый живот, отвислую задницу. Я НЕНАВИЖУ это родимое пятно, эти позорные ноги, я такая безобразная, уродливая и посредственная».
Четвертого мая Люси написала про «вечную охоту на… музыку (что угодно, только не Крейг Дэвид), открытки и „колеса“». Полицейский переводчик изобретательно прочитал самое обличающее слово на японский манер, «кореса», и объявил бессмыслицей.
– Однако я консультировался с пятью профессиональными переводчиками, – возражал Обара в суде, – и все они согласны, что слово читается как «колеса».
– Что означает «охота на открытки и „колеса“»? – спросил адвокат, который, похоже, снова зачитывал подготовленные заранее вопросы.
– Когда молодые люди путешествуют, они обычно покупают открытки, – с апломбом объяснил Обара. – А у наркоманов принято покупать открытки вместе с «колесами».
Последовала еще одна нелепая дискуссия об очередном отрывке из дневника, который Обара прочел следующим образом: «А я, как обычно, как всегда и везде, одинока. И проблема не в коксе, а во мне».
Обара объяснил, что коксом на молодежном сленге называют кокаин. Столь откровенное признание в употреблении нелегальных наркотиков обезоружило прокуроров, и они не сумели возразить. Но, если бы они проконсультировались с носителем языка, стало бы ясно, что на самом деле Люси написала не «кокс», а «7оукс» – сокращенное название родного города Севеноукс.
Главный судья Цутому Тотиги, обладающий очень белыми и очень ровными зубами, имел привычку сверкать ими, улыбаясь даже в напряженные или раздражающие моменты. Вообще-то, улыбка судьи Тотиги служила скорее признаком неудовольствия, чем наоборот. И пока Обара выбирал самые плаксивые и жалостливые отрывки из дневника Люси, оскал судьи становился все шире и шире.
– Слушать эти переводы – настоящая пытка, – наконец заявил судья. – Как они относятся к делу?
Однако дальше история Обары вернулась к концу июня и июлю 2000 года, став совсем невероятной.
Лето того года для Ёдзи выдалось однозначно трудным. Он вел активные переговоры с кредиторами об отсрочке выплаты долгов. В июне, когда в его машину врезался фургон, Обара попал в больницу, получив болезненный вывих шейных позвонков и повреждение барабанной перепонки. Еще он пытался продать некоторые объекты недвижимости, включая квартиру в Блю-Си-Абурацубо. Но больше всего его занимали мысли о смерти любимой шотландской овчарки Айрин, труп которой он хранил замороженным в особняке в Дэнъэнтёфу. Отбросив надежду на воскрешение путем клонирования, безутешный хозяин решил похоронить собаку на полуострове Идзу, где он владел небольшим лесным участком. Задача предстояла непростая, поскольку место требовалось расчистить от крупных деревьев. Но Обара, как он объяснил в суде, знал подходящего человека для такой работы. Он назвал его А-сан (господин А), нандемо-я (буквально: поставщик чего угодно, мастер на все руки, умелец).
Как оказалось далее, загадочный псевдоним господина А, не получивший никакого объяснения, – далеко не самая странная деталь. Защита Обары сообщила множество настолько причудливых подробностей, что они просто не укладывались в голове: одно эксцентричное заявление тут же сменялось тройкой-четверкой новых. Обвиняемый поведал суду, что в 1997 году на подземной парковке у него взорвался автомобиль (никаких дальнейших объяснений столь опасного происшествия не последовало; видимо, Обару преследовало катастрофическое невезение). Чтобы расследовать непонятный случай, он нанял А-сана, с которым случайно познакомился у токийской станции «Синдзюку», где нандемо-я предлагал ему наркотики. За 500 иен (чуть больше 3 фунтов) А-сан согласился расчистить участок для могилы любимой Айрин. Они наметили начало работ на 5 июля, поскольку 6 июля наступала шестая годовщина со дня смерти собаки. Что сводило на нет одно из самых убедительных косвенных доказательств убийства Люси: покупку палатки, пилы и лопаты. Инструменты, объяснял он теперь, предназначались не для расчленения мертвой женщины, а для корчевания деревьев и захоронения останков овчарки.
Планы поменялись из-за непредвиденных обстоятельств в выходные.
Обара познакомился с Люси в «Касабланке» во второй половине июня и согласился, по ее просьбе, отвезти девушки к морю. Факты совпадали с рассказом прокуроров: поездка в Дзуси-Марину, фотография у моря, визит газовщика, телефонные звонки Луизе и Скотту. Но у Обары был козырь: возможность по-своему описать то, чего никто другой не видел, – поведение жертвы за несколько часов до смерти.
– Люси была в очень приподнятом настроении, – заявил Обара. – Не после алкоголя, а после веществ, которые она привезла с собой.
«Веществами» он назвал таблетки кристаллического метамфетамина, экстази и кокс.
– Люси хорошо переносила алкоголь, она продолжала болтать и пить вино, шампанское, а потом и крепкие напитки, джин и текилу, – откровенничал Обара в суде. – Люси сообщила мне, что у нее биполярное расстройство. И действительно, в начале она приближалась к маниакальному состоянию, а скоро вроде бы впала в депрессию… Конечно, действие наркотиков тоже сказывалось.
По словам Обары, они с Люси разговаривали «о разных вещах». Она жаловалась на долги, а потом обмолвилась, что подумывает о работе в «особом клубе» в Роппонги, чтобы поскорее расплатиться (очевидно, подразумевалось заведение с проститутками). Ёдзи рассказал об автомобильной аварии и постоянных болях в шее. Люси предложила сделать ему массаж. «Хотя массаж она делала хорошо, боль не проходила, – говорилось в книге, которую приобщила к делу сторона защиты. – Тогда Люси порекомендовала препараты, которые были у нее с собой. Она сказала, что они помогают от любой боли и дискомфорта, поэтому Обара их принял. В ту ночь он выпил три разных вещества… Люси показала Обаре свой пирсинг на пупке и добавила, что собирается проколоть левый сосок… Обара был немного не в себе из-за лекарств, которые дала ему Люси; их мощный эффект продолжался более часа».
Тим и Софи молча сидели в первом ряду, пока полицейский переводчик в общих чертах передавал речь Обары. Конечно, родным было грустно и неловко слушать, как выворачивают наизнанку наивный и печальный дневник дочери, но больше всего их поражало, как раскрывается бессердечность и хитрость преступника.
– С отцовской точки зрения глупо с уверенностью заявлять, что Люси никогда не принимала наркотики, – высказался Тим. – Возможно, она принимала небольшие дозы из любопытства или для развлечения, как водится у молодежи. Но я не верю, что дочка подвергала свою жизнь опасности, и она уж точно никогда не принимала рогипнол.
Для всех, кто знал Люси, картина, нарисованная Обарой, – вечно пьяная, психически неустойчивая проститутка, сидящая на кокаине, – выглядела нелепо и даже смешно. Но поверят ли им судьи?
Защита Обары опиралась на хитрость, вывернутые наизнанку факты, а иногда на откровенную ложь. Подтасовки не удивляли, но омерзительнее всего, что сквозь отполированную до блеска выдумку проглядывало зерно правды. Обара невероятно много знал о Люси, в том числе личные подробности, которые он мог услышать только от нее. Что бы ни произошло в те часы, когда они были вместе, было ясно: Ёдзи и Люси действительно долго разговаривали, и девушка поделилась с ним секретами, которые доверила бы очень немногим.
Обара изложил и свою версию событий следующего дня, воскресенья 2 июля. По мнению обвинения, Люси к тому времени была уже мертва или при смерти. Но ответчик уверял, что она была еще как жива и продолжала пить и веселиться. Когда Обара поехал на поезде в Токио, Люси предпочла остаться в его квартире, чтоб прикончить свои запасы таблеток. Вечером он позвонил ей из городской квартиры, и «она говорила странные вещи, из-за чего я решил, что у нее передозировка». Он позвонил в несколько отделений неотложки на тот случай, если Люси понадобится медицинская помощь, и вскоре после полуночи вернулся в свой номер в Дзуси.
– Я сказал Люси, что она приняла слишком много таблеток и ей нужно в больницу в Токио, – заявил он. – Но Люси отказалась ехать из страха, что ее депортируют, если узнают о наркотиках.
Вынести дальнейшие слова Обары оказалось труднее всего, и не из-за его лжи, а опять же потому, что в его рассказе была доля правды.
– После аварии у меня болела шея, я неважно себя чувствовал. Поэтому Люси, которая не последовала моему совету, начала меня раздражать, – сообщил он. – К тому же она стала повторять одни и те же очень плохие шутки. Говорила: «Семья по линии Джейн проклята. У них проблемы с головой. Мать Джейн умерла, когда ей был сорок один год. Сестра Джейн умерла в тридцать один».
История семьи была воспроизведена очень точно. Собрал ли Обара информацию дистанционно, с помощью британских частных детективов, работающих в Севеноуксе, или это указывало на ловкость, с которой он обработал Люси, выудив из нее в тот вечер самые страшные секреты?
– Она все твердила: «Это проклятие», – продолжал Обара. – Говорила: «Мать Джейн умерла в сорок один год, сестра в тридцать один. Дочь Джейн умрет в двадцать один год, а внучка в одиннадцать». Она все время повторяла эту дурную шутку, и наконец мне надоело. Я связался с одним человеком и сказал, что у меня в квартире хостес-иностранка с передозировкой наркотиков, ее надо отвезти домой. Этим человеком был А-сан.
По словам Обары, в понедельник утром он снова поехал в Токио. Перед тем как выйти из дома в Дзуси-Марине, он оставил еду для Люси, пребывающей под кайфом, и предупредил, что за ней приедут и отвезут ее домой; деньги для А-сана он спрятал в домашних туфлях из овчины у входа в квартиру.
Видимо, загадочного А-сана ответчику показалось мало, потому что теперь в его истории появился новый персонаж – китаец по имени Сато, личность еще более непонятная. О том, кто он такой на самом деле, суд так и не узнал. Сато якобы позвонил Обаре тем же утром и сообщил, что сам отвезет девушку в больницу вместо А-сана. Он передал трубку какой-то иностранке, по голосу похожей на Люси, и Обара перекинулся с ней парой слов. Позже, когда он поинтересовался у Сато судьбой Люси, китаец ответил: «Спросите А-сана».
– Когда я спросил А-сана, – звучали дальнейшие объяснения, – тот сказал, что Люси не захотела ехать в больницу. Вместо этого А-сану пришлось познакомить ее с одним своим богатым приятелем, поскольку она требовала наркотики. Парочка сразу поладила и занялась тем, что доставляло ей удовольствие.
Другими словами, Обара не знал, что произошло с Люси. В последний раз он видел ее в квартире в Дзуси – в невменяемом состоянии из-за наркотиков, но живой. Он передал ее на попечение какому-то непонятному знакомому, который отправил ее дальше, к еще более непонятным людям. А сам Обара занялся главным делом, которое запланировал на ту неделю, – погребением замороженного трупа любимой собаки.
Остаток понедельника и вторник он закупал инструменты, полевое снаряжение и цемент, после чего извлек труп Айрин из морозильника особняка в Дэнъэнтёфу и поместил в сухой лед. Утром в среду, 5 июля, он ехал к месту захоронения, когда вдруг позвонил А-сан и отменил встречу, сетуя на «срочные дела». Разочарованный Обара свернул к Блю-Си-Абурацубо и поселился в гостинице неподалеку. У него не было ключей, и пришлось вызвать слесаря, чтобы попасть в собственную квартиру. Там он начал работу над будущим надгробным памятником для Айрин – «шедевром», созданным собственными руками. На следующий вечер, в четверг, он открыл дверь нескольким полицейским, среди которых был инспектор Харада, который тоже опишет в суде странное поведение Обары. Но полицейские, уверял обвиняемый, всё неверно поняли. Цемент, который они увидели, предназначался для создания «шедевра», а не для погребения отрезанной головы. Обара действительно вел себя агрессивно и несговорчиво, но этому есть объяснение: когда инспектор вошел в квартиру, он неосторожно пнул завернутый в одеяло труп Айрин. Какой любящий хозяин не выйдет из себя, когда полицейский в форме спотыкается о тело любимого питомца?
На ночь 7-го, с четверга на пятницу, алиби у Обары не было. Он заявил, что уехал проветриться и гулял до утра. Его покусали ядовитые гусеницы, укусы распухли и вызвали лихорадку. Поэтому он позвонил А-сану и отложил злополучный план по захоронению любимой Айрин в лесу на Идзу. В следующие несколько дней он встречался со своими банкирами и бухгалтером.
Уже через неделю новость об исчезновении Люси распространилась по всей Японии. На железнодорожных станциях и на информационных досках висели объявления о пропавшей без вести; тележурналисты вели прямые репортажи из Роппонги и устраивали длинные интервью с семьей девушки, которая умоляла откликнуться всех, кто ее видел.
Как же отреагировал Обара? Если обратиться к книге, представленной адвокатом, обвиняемого это «удивило». Он связался со своим подручным А-саном, который сообщил, что Люси «отправилась в путешествие с каким-то мужчиной».
А-сан и Обара уговорились встретиться 15 июля, чтобы подготовить могилу для Айрин. Но подручный позвонил и опять отменил встречу. Когда Обара в очередной раз спросил его о Люси, то услышал ответ: «Она балуется наркотой в доме моего приятеля». На замечание Обары о шумихе вокруг ее исчезновения, А-сан возразил: «Это смешно, она просто делает то, что хочет».
История выглядела невероятной. В наркозависимость Люси верилось с трудом, но еще труднее было понять, почему Обара сразу не обратился в полицию. И кто такой Сато, «мальчик на побегушках» у «мальчика на побегушках»? И кем был «богатый приятель», с которым, как утверждалось, кутила Люси? Кое-кто мог ответить на все вопросы. Оставалось только найти А-сана – господина А.
Его звали Сатору Кацута, для знакомых – просто Ка-тян. В 2001 году он жил в пригороде Токио Митаке. Мужчина ростом 168 см, носил длинные волосы и усы. Родился Ка-тян в 1953 году на южном острове Кюсю, на год позже Ёдзи Обары; в возрасте двадцати лет по неизвестной причине он решил совершить ритуальное самоубийство, которое в Японии называют сеппуку или харакири, и попытался вспороть себе живот. Парень выжил, но после переливания крови, спасшего ему жизнь, заразился гепатитом С.
Токийский окружной суд узнал эти подробности в декабре 2005 года от пожилого мужчины по имени Иссей Мидзута, которого вызвали в качестве свидетеля защиты. Мидзута знал Кацуту и регулярно нанимал его в качестве водителя и разнорабочего. Одним из разнообразных занятий Кацуты, по словам свидетеля, была торговля кристаллическим метамфетамином, или шабу, в районе станции «Синдзюку». Однажды в начале декабря 2001 года, когда они вдвоем сидели в машине, Ка-тян сказал Мидзуте:
– Я попал в переплет и хочу спросить вашего совета.
Он объяснил, что вопрос связан с Люси Блэкман и человеком, которого обвиняют в ее убийстве, Ёдзи Обарой.
По словам Ка-тяна, прошлым летом Обара позвонил ему и попросил отвезти в Токио хостес-иностранку. Это была Люси. Она уже одурела от наркотиков и, когда Ка-тян приехал за ней, стала выпрашивать у него еще одну дозу. Он дал ей шабу, причем неоднократно.
Мидзута заявил под присягой:
– Кацута говорил: «Люси приняла слишком много наркотиков и умерла у меня на глазах». Он вывез ее тело, но не сказал куда… Обаре он ничего не говорил. О смерти Люси и о том, что он избавился от трупа, Кацута рассказал только мне.
После признаний Ка-тяна Мидзута вспомнил, что прошлым летом, когда исчезновение Люси активно обсуждалось в газетах и на телевидении, Кацута стал «беспокойным и нервным», у него даже начали выпадать волосы.
– Я потребовал подробностей, – сообщил на суде Мидзута, – и планировал расспросить его на новогодней вечеринке, а потом уже решить, вести его в полицию или нет.
Однако выяснить ничего не удалось: через несколько дней Капута попал в больницу из-за запущенного рака печени. Через две недели он, уже при смерти, позвонил Мидзуте, плакал и кричал в бреду: «Я сжег Люси! Люси в огне!»
История Мидзуты в целом подтверждала историю Обары, но возникали две проблемы. Первая заключалась в том, что Кацута, который так мучился из-за смерти Люси, не мог подтвердить ни единого слова: он умер через несколько дней после того истерического звонка Мидзуте. Вторая проблема крылась в самом Мидзуте. Представляясь в суде после принятия присяги, он открыто назвался оябуном – главой банды, входящей в известный синдикат якудза «Сумиёси-кай». Другими словами, звездный свидетель Обары, человек, чьи показания давали надежду на оправдательный приговор, являлся одним из лидеров японской мафии.
– Мы не испытываем ужаса, – признался Тим Блэкман, когда я спросил его, каково это, вернуться в Японию. – Не знаю, почему, но не испытываем. Ведь люди приходят на могилу родных, хоть кладбище и навевает грусть. Но это наша реальность – поддерживать связь. Хотелось ли бы нам вовсе забыть про все? Ответ – нет. Мы здесь, потому что должны и хотим этого.
Раньше Тим руководил своей компанией из двухэтажного деревянного офиса в своем саду на острове Уайт. Но за последние несколько лет поприще застройщика отошло на второй план.
– Я потратил месяцы на дела, связанные со смертью Люси, – объяснил он. – Новые данные появлялись буквально каждый день. Под документы я отвел часть офиса: картотеки, папки, Фонд Люси Блэкман. Похоже на небольшую фирму. Она занимает половину моей жизни.
Тим надеялся, что теперь, когда идет суд, быть в курсе токийских событий будет проще и легче. Но все оказалось наоборот. Заседания тянулись так долго и нудно, что разобраться в происходящем даже в зале суда не всегда удавалось, а из садового домика Тима все выглядело еще и безнадежно далеким.
Через несколько дней после каждого заседания токийская городская полиция предоставляла краткий и совершенно невразумительный обзор текущего положения, который отправлялся в многочисленные папки Тима.
– Объем предоставляемой нам информации ничтожен, – жаловался Тим. – Те несколько фраз, которые к нам приходят, мы очень внимательно читаем. Обара сделал заявление – для нас это крайне важно. Что бы он там ни задумал, мы считаем, что наше с Софи присутствие в суде повышает вероятность обвинительного приговора. Одно дело – сидеть в камере, и совсем другое – стоять перед сестрой и отцом. Если он лжет, то пусть помучается.
Действительно ли Ёдзи Обара страдал от присутствия Тима и Софи в суде, сказать сложно. Но на следующем заседании, стоя на трибуне для дачи показаний, он сделал то, чего прежде не делал ни разу. Он повернулся к Тиму с Софи, сидящим в первом ряду, и с непроницаемым лицом опустил голову. Это был не кивок и не поклон вежливости, а демонстрация того, что он знает об их присутствии. Долгие часы заседания Софи провела, зарисовывая ручкой его лицо с безучастным взглядом в тот неожиданный момент.
Я спросил Тима об Обаре: каково было увидеть лицо обвиняемого. Тим ответил не сразу, что с ним редко бывало.
– На меня снизошло своего рода откровение, – наконец сказал он. – Можете считать меня странным – это и правда странно, спорить не стану. – Снова последовала пауза, и Тим вздохнул. – Что я почувствовал… Передо мной человек моего возраста, чьи действия привели к самой большой и ужасной беде для него самого, который совершил нечто настолько омерзительное с чужой жизнью. Как ни странно, мне немного… грустно, и грусть смягчает гнев, который более естествен в моем положении.
Я не сумел сдержать удивление:
– Вам его жаль?
И Тим ответил:
– Да, мне жаль его. Жаль. Мне очень его жаль.
Разница в возрасте у Тима и Обары составляла всего одиннадцать месяцев. Оба владели яхтами, оба так или иначе зарабатывали на недвижимости. Характер Тима простым не назовешь; его упрямое иноверие, которое меня так привлекало и восхищало, отталкивало обывателей. Почти принципиально он отказался от очевидной точки зрения и соблазнов традиционной морали. Его никто не упрекнул бы в праведном гневе, но вместо того чтобы растоптать обвиняемого, он мешкал и ходил кругами, находя повод для сочувствия и неоднозначные оттенки там, где другие видели лишь черное и белое. Наблюдатели не просто удивлялись его позиции – они были в ужасе.
Если убийство Люси Блэкман не явный показатель добра и зла, то что тогда? Если сам отец жертвы утверждает, что здесь все сложно, и сочувствует убийце собственной дочери, остальные теряют почву под ногами. В итоге оригинальные взгляды Тима сочли оскорблением; на него навесили ярлык грешника, почти богохульника, идущего против общепринятой морали.
СМИК
В любой стране стратегию защиты Обары с ее хитростью, изворотливостью и акробатической ловкостью сочли бы удивительным зрелищем, а в Японии, где адвокаты крайне редко всерьез противостоят стороне обвинения, подобных прецедентов и вовсе не было. Временами линия защиты вообще теряла ясность, переполняясь причудливыми подробностями и приукрашиванием. Кроме того, налицо была смесь искаженных фактов, недомолвок и клеветы на покойную. Многие адвокаты Обары считали, что его ждет провал.
– История Мидзуты о Ка-тяне как свидетельское показание ничего не весит, – заявил один из юристов. – Сплошные домыслы, не считая очевидного факта, что оба они гангстеры. Судья не раз спросил: «Почему вы не упоминали об этом раньше?» Вряд ли он поверил услышанному. Почему Обара с самого начала не заявил, что Люси наркоманка? За первых четыре года судебных разбирательств он вообще об этом не заикнулся. Когда он вывалил все эти подробности, меня даже покоробило. Зачем зря позорить покойницу?
Будто пытаясь заткнуть дыры в плотине, адвокаты Обары лихорадочно пытались упрочить его защиту, задавая очевидные вопросы по его показаниям.
Почему Обара сразу не пошел в полицию, когда стало известно об исчезновении Люси?
Потому что принял три таблетки экстази, которые дала ему Люси, и боялся, что его обвинят в употреблении нелегальных наркотиков.
А как насчет телефонного разговора с японкой, которой он заявил, что «совершил нечто ужасное и никому не могу об этом рассказать»?
Он имел в виду автомобильную аварию, в которую попал.
Зачем Обаре столько бутылок хлороформа?
На самом деле никакого хлороформа в них не было: Обара вылил содержимое и наполнил их водкой, и именно ею он и смачивал ткань, которую держал под носом девушек на видео.
Некоторые вопросы и ответы выглядели настолько нелепыми, что звучали просто комично.
Адвокат: Вы пожертвовали много денег на благотворительность. Вы можете об этом рассказать?
Обара: Я жертвовал деньги со школьных лет, хотя не называл своего настоящего имени. В целом я потратил на благотворительность, пожалуй, несколько десятков миллионов иен. Особенно я сочувствовал детям. Помимо остальных организаций, я посылал деньги в ЮНИСЕФ.
Адвокат: 16 апреля 1991 года вы встречались с императором и императрицей в отеле «Окура». Это правда?
Обара: Да, конечно. Мы присутствовали на благотворительном мероприятии. Они предложили мне поучаствовать в нескольких благотворительных проектах.
Адвокат: Расскажите о своем детстве. Правда ли, что ваш коэффициент интеллекта составлял двести?
Обара: Да…
Наконец в марте 2006 года настала очередь стороны обвинения допрашивать Обару. Лицом к лицу с прокурором его уверенность испарилась.
Прокурор Мидзогути начал задавать вопросы о письмах, полученных полицией, включая подписанные якобы самой Люси, черновики которых были найдены в квартирах Обары.
– Некоторые из них написал я после сообщений от Кацуты, – признался Обара.
– Каких сообщений? – поинтересовался Мидзогути.
– Просто сообщений, – ответил Обара. – Большего я не могу сказать.
– Объяснил ли Кацута, почему вы должны написать письмо в полицейский участок Азабу? – спросил прокурор.
– Он прислал мне об этом сообщение, – ответил Обара.
– В чем был смысл этого письма?
– Я могу воздержаться от комментариев?
– То есть вы не хотите отвечать на вопрос?
– Я сделал это, потому что получил сообщение.
– Вы не можете рассказать подробнее?
– В данный момент нет.
В руках обвиняемый, как обычно, держал маленькое синее полотенце, чтобы вытирать пот с лица и шеи. Даже сзади по позе Обары было заметно, как он волнуется. Плечи резко опустились, а голова склонилась вниз. Прокурор Мидзогути продолжал:
– Третьего июля, после того как в полночь вы выехали из Дзуси-Марины и вернулись в «Мото-Акасака тауэрз», что вы делали тем утром?
Обара не ответил.
– Вы помните, как искали что-то в Интернете через домашний компьютер?
– Нет, – покачал головой Обара. – Не помню.
– У вас есть дома компьютер, верно?
– Да, есть в «Мото-Акасака тауэрз».
– В отчете об использовании этого компьютера от 3 июля есть записи о поисковых запросах через Интернет в районе 8:50 утра. Вы помните тот случай? – Мидзогути показал пачку распечаток.
Реакцию Обары публика не видела, но он, несомненно, растерялся.
– Позвольте мне показать отчет обвиняемому, – попросил прокурор, – так как, похоже, раньше он его не видел. Это список поисковых запросов, поступивших с персонального компьютера с середины июня, – объяснил Мидзогути. – 3 июля 2000 года с 8:44 до 8:57 утра было сделано шесть запросов. Глядя на них сейчас, вы можете что-то вспомнить?
Обара медлил, разглядывая обрывочные фразы, не всегда понятные даже на японском.
– Где-то после полуночи первого числа приняли наркотики, – неуверенно начал он (было не ясно, кто и какие наркотики принял). – Второго мы с Люси говорили о японке, которая пропала в Британии. Ее похитили и так и не нашли. Люси сказала, что это известная история, и я предположил, что девушка убита, хотя раньше о ней не слышал. История запала мне в голову. Я имею в виду то похищение в Британии.
Прокурор перечислил поисковые запросы, которые делал Обара тем утром. Первым шел «Дурман индийский» – растение, также известное как рожок дьявола, галлюциноген, употребление которое может привести к смерти. Далее значился запрос «бухта Нати» – место, откуда пожилые буддийские монахи перед смертью отплывали в последнее путешествие. Третий запрос – «как достать хлороформ». Четвертый – «производство ГТБ», наркотика для изнасилования.
– Зачем вы искали такие сайты? – настаивал Мидзогути.
– Это все равно что спросить, зачем люди смотрят фильмы про убийства, – ответил Обара. – Уж точно не для того, чтобы совершить преступление. Их смотрят, чтобы снять стресс. Вообще-то, я часто заходил на сайты подобной тематики.
Мидзогути указал на последние запросы, которые обвиняемый сделал тем утром:
– Вы посещали и другие веб-сайты – о процессе получения серной кислоты и о том, как купить серную кислоту. Вас интересовала покупка кислоты, верно?
Обара снова промолчал.
Прокурор пролистал документы и указал на другую страницу.
– На одном из просмотренных вами сайтов говорится: «Возможный способ – использование высокотемпературной печи, чтобы превратить в пепел даже кости, однако это очень трудно». И еще: «Один из способов растворить кости – поместить их в концентрированную серную кислоту». Здесь говорится об уничтожении тела умершего, верно?
– Я заходил на такие страницы и в июне, – возразил Обара. – И не по той причине, на которую указывает прокурор Мидзогути.
– Тогда почему в тот день вы снова посетили эти сайты?
– Только потому, как я уже сказал, что разговаривал с Люси о похищении в Лондоне[47].
– Вы помните те два способа, сожжение и растворение в кислоте, которые названы «очень трудными»?
– Не помню.
Для японского суда такое противостояние было в новинку: психологический поединок, борьба умов обвинителя и обвиняемого. Обара без конца утирался полотенцем. Как же, должно быть, заколотилось у него сердце, когда Мидзогути представил следующую улику – тяжелую папку с пожелтевшими страницами.
Именно там Обара описывал свои сексуальные приключения: это был «судовой журнал» его «игр». Его, цитировавшего дневник Люси, теперь ткнули носом в собственный дневник.
– Записи в книге делались приблизительно с тысяча девятьсот семидесятого года, – объявил прокурор.
Обара без труда вспомнил дневник, но отметил:
– Я писал о своих отношениях с девушками через пять лет после того, как они происходили в реальности. Разрыв в пять лет делал их интереснее. Поэтому я и записывал сюжеты спустя пять лет, добавляя порнографии.
– Значит, истории выдуманы?
– Не совсем. Упомянутые девушки реальны, но истории о них – выдумка.
Журнал сексуальных контактов был пронумерован от 1 до 209 и в некоторых случаях датирован с 1970 по 1995 год.
– Взгляните на номер 63, третья строка, – попросил Мидзогути Обару. – Что такое «СМИК»?
– Просто чтобы приукрасить сюжет пять лет спустя.
– Но что это означает?
Пауза и реплика:
– Я не буду отвечать.
– Номер 4: «Я дал ей снотворное». Номер 21: «Сегодня я дал ей снотворное».
По-японски снотворное звучит как суиминьяку.
– Именно так вы и написали, – заявил прокурор. – СМИК означает сокращение от суиминьяку?
– Я не хочу отвечать.
– Номер 140: «Дал слишком много СМИ и ХМ. Очень испугался». Что такое «ХМ»?
– Я забыл.
– Под номером 150 вы пишите о «ХРОРО». Что это означает?
– Я не хочу отвечать на этот вопрос.
– Это начало слова «хлороформ»[48], не так ли?
– Я не знаю.
Мидзогути пролистнул страницы:
– Номер 190. Вы пишете: «Она все поняла, я нашел оправдание, но она знает». О чем идет речь?
– Я просто развлекался, поэтому не собираюсь отвечать.
– Судя по записям в дневнике, похоже, вас очень беспокоило, когда девушки понимали, какую «игру в покорение» вы затеяли без их согласия.
– Нет, неправда. Я развлекался.
– Каким образом?
– Я не буду отвечать.
– Номер 179, февраль 1992 года. «Познакомился с Нанэ, а потом с Каритой». Это та Карита, которая фигурирует в уголовном деле?
Обара молчал. Безумно хотелось увидеть его лицо.
– Вы утверждали, что не использовали хлороформ с Каритой, – напомнил Мидзогути.
– Нет, не использовал.
– Номер 198. «Использовал СМИ и ХРОРО. Перестарался с ХРОРО. Хоть я и использовал ХРОРО с Каритой, думаю, проблемы в лекарстве, которое дали ей в больнице». Написано вашей рукой. Вы использовали хлороформ, верно?
Обара упорствовал:
– Это вымысел.
Через несколько заседаний он попытался заделать дыры, которые появились после перекрестного допроса, ответив на заранее составленные вопросы своих адвокатов по поводу поиска в Интернете и секс-дневника. По словам Ёдзи, он месяцами посещал множество самых разных сайтов, и нет никаких оснований выделять те, которые он смотрел в то утро. Что касается дневника, «ХРОРО», «ХРО» и другие аналогичные сокращения относятся не к хлороформу, а к разным алкогольным смесям, парами которых Обара с партнершами дышали, втягивая их носом из полиэтиленовых пакетов. Однако, меняя показания на свой страх и риск, Ёдзи невольно позволил прокурору поджарить себя с другой стороны. Первый вопрос Мидзогути был очень простым:
– Означает ли СМИ суиминьяку – снотворное?
– «СМ» означает «супермагия», – ответил Обара. – А вот «И», буква игрек, в других странах является общепринятым термином для галлюцинаций и всего неизвестного, непонятного. Как икс и игрек или игрек-хромосома… – Его объяснения превратились в невнятное бормотание и сошли на нет.
Судья Тотиги сверкнул своими безупречными зубами:
– О чем это вы?
В разгар процесса, в апреле 2006 года в Токио для дачи показаний вылетели родители Люси Блэкман и мать Кариты Риджуэй. Учитывая характер отношений между Тимом и Джейн, прокуроры запланировали вначале опросить матерей обеих девушек, а через пять дней пригласить отца Люси.
В ожидании очной ставки обвиняемого в убийстве и родителей, лишившихся своих детей, публики столпилось еще больше обычного. Однако приставы поздно впустили прессу и зрителей в зал: когда двери открылись, Джейн и Аннет сидели в первом ряду, а вот место Обары пустовало.
Главный судья Тотиги лучезарно улыбнулся:
– Суд получил извещение, что обвиняемый отказался явиться на сегодняшнее заседание.
По закону, объяснил Тотиги, судебные разбирательства по уголовным делам не могут проходить в отсутствие обвиняемого. Однако правило можно обойти, если обвиняемый получил вызов в суд и не представил уважительных причин своего отсутствия. Обару, несомненно, информировали в обычном порядке, и утром служащие токийской тюрьмы предварительного заключения пришли к нему в камеру и попросили явиться в суд.
– Но обвиняемый стал сбрасывать с себя одежду, хвататься за раковину и в итоге отказался идти, не представив никакой веской причины, – рассказал судья. – Учитывая, что семьи потерпевших приехали из других стран, суд решил продолжить заседание, несмотря на отсутствие обвиняемого.
Джейн первой заняла место свидетеля. Она поделилась воспоминаниями о Люси в младенчестве, детстве и юности, рассказала о почти сестринской близости с дочерью.
– Горе родителя, потерявшего ребенка, раньше казалось мне самым большим несчастьем, какое только можно познать, – сказала она. – Но я ошибалась. Потерять дочь и узнать, что ее тело осквернили таким нечеловеческим образом, неизмеримо страшнее… Обара отказался сегодня присутствовать в суде, чем опозорил себя и почти напрямую признал свою вину. Он трус.
Затем настала очередь Аннет. Она говорила о том, как отразилась смерть Кариты на ее старшей дочери Саманте и бойфренде Кариты Роберте Финнигане.
– Хотя прошло четырнадцать лет, я все еще думаю о ней каждый день и ощущаю боль потери, – призналась Аннет. – Она была чудесной дочерью, ее ничто не заменит. Я без тени сомнения приговорила бы Обару к смерти, но, если нельзя вынести такой приговор, пусть сидит в тюрьме до конца своих дней.
В Японии существует смертная казнь за убийство, и ежегодно вешают небольшую группу смертников. Однако смертный приговор объявляют лишь в самых крайних случаях: убийство ребенка, большое число жертв или предумышленное убийство из циничных побуждений, например ради мошенничества со страховкой. Никто не утверждал, что Ёдзи Обару целенаправленно пытался убить девушек – хотя сторона обвинения могла бы тут поспорить, ведь насильник, непреднамеренно убив Кариту Риджуэй слишком большой дозой нелегальных препаратов, повторно допустил аналогичную небрежность в случае Люси Блэкман, что можно приравнять к убийству. Впрочем, доказывая вину Обары посредством косвенных улик, прокурор решил, что более мягкое обвинение – изнасилование, повлекшее смерть, – поможет быстрее признать подсудимого виновным.
Через пять дней в зал заседаний явился Тим Блэкман. Обара снова отсутствовал: теперь, по словами судьи, заключенный забился в узкую нишу в стене камеры и отказался выходить.
Речь свидетеля продолжалась около получаса.
– Смерть моей дочери Люси Блэкман была самым ужасным, самым страшным событием в моей жизни, – начал свои показания Тим. – Потрясение и душевная рана… изменили меня. Люси прожила восемь тысяч дней, и ее образ постоянно со мной. Каждый день меня преследуют воспоминания, из-за которых я не могу удержаться от слез. Я могу заплакать на деловой встрече или общаясь с друзьями, я рыдаю по ночам. При виде ребенка в коляске я вижу Люси, и на глаза наворачиваются слезы. Когда дети играют со своим отцом в парке, резвятся и радуются, я горюю по Люси. Я вижу в поезде светловолосую девушку, и глаза наполняются слезами. Я вижу молодую женщину с детишками и думаю о том, чего у Люси никогда не будет… Мне уже не ощутить, как ее любящие руки обнимают меня за шею, не почувствовать тепло ее дыхания, когда она говорит, что любит меня. Я не могу перестать думать о том моменте, когда оборвалась ее жизнь, а мозг перестал работать, о ее последнем глубоком и трагическом вздохе. Было ли ей больно, испугалась ли она, звала ли меня?.. Теперь у меня постоянно перед глазами ее разрезанное тело, следы бензопилы на костях, гниющая, разлагающаяся плоть… части тела Люси в пластиковых пакетах, закопанных в песке, горе на лицах Софи и Руперта. Эти образы останутся со мной на всю жизнь, и, когда я вспоминаю Люси при виде маленького ребенка, я вижу и этот кошмар… Во сне я слышу голос дочери и на мгновение забываю, что она мертва. На мгновение меня охватывает радость от того, что Люси со мной, а потом заново пронзает боль осознания, что ее больше нет и теперь я могу видеть ее только во сне. Я стал другим человеком… Я убит горем и переживаю неописуемо глубокую тоску. Я не могу нормально спать и часто не в силах сдержать слезы. Я боюсь встречаться с друзьями и семьей, потому что меня мучит горе в их глазах… Порой у меня нет сил сконцентрироваться на работе и принять важные решения, поскольку все это кажется бессмысленным и не важным. Я чувствую себя виноватым за все те случаи, когда мог повидаться с Люси, но не нашел времени; виноватым за все те моменты, когда я злился на свою девочку; виноватым за то, что не давал денег, когда они были ей нужны, и виноватым, что не был с ней, когда она во мне отчаянно нуждалась. Может быть, это глупо, но эта вина навсегда останется со мной, мучая меня и бередя ужасную рану, нанесенную смертью Люси. Но хуже всего чувство вины за то, что иногда я не думаю о дочери и на какое-то мгновение бываю весел и счастлив. Весь остаток дней это чувство не позволит мне освободиться от разрушительного действия ее смерти. В глубине души я знаю, что никогда не избавлюсь от этой трагедии, ведь у нас с Люси нет будущего. Только смерть освободит меня от боли. Только надежда, что в мире ином я снова почувствую, как дочь обнимает меня за шею и возвращает меня к жизни.
Это было самая эмоциональная речь Тима за все время, хотя он откровенно нарушил традиции западной юриспруденции, смешав темы, относящиеся к двум совершенно разным обязанностям суда: вынесению собственно приговора и оглашению вердикта подсудимому, которого признали виновным. Если бы Обару объявили убийцей, то были бы все основания принять мнение родственников жертв во внимание при вынесении окончательного приговора. Но пока Ёдзи считался только подозреваемым и отчаянно отрицал все выдвигаемые против него обвинения. Учет мнения пострадавшей стороны на этапе, когда к подозреваемому все еще применима презумпция невиновности, усиливал общее впечатление от японской судебной системы: неофициально подозреваемого считают виновным еще до начала слушаний, и само судебное разбирательство – лишь пустая формальность.
«Я ни разу не согласился ни с одним обвинением суда, – писал Обара в заявлении, подготовленном для заседаний с участием родителей жертв. – С другой стороны, заявления родственников Кариты Риджуэй и Люси Блэкман предназначены убийце девушек. Таким образом, появившись в суде, я буду вынужден выслушивать слова, адресованные убийце, каковым я не являюсь… Я опасаюсь, что суд превратится в орудие возмездия и на меня обрушатся нападки, вызванные ненавистью и скорбью». Впрочем, судья Тотиги отказал в просьбе зачитать этот документ в суде.
На токийский окружной суд, в целом бесцветный и равнодушный, воздействие страстной речи Тима Блэкмана было неоспоримым. Версия прокуратуры выглядела четкой и логичной, тогда как защита Обары увязла в дебрях противоречий, а теперь отец погибшей девушки в простых, но пронзительных словах описал чувства, которые испытывает после смерти дочери, и попросил самого сурового наказания.
Именно поэтому все так ужаснулись следующему поступку Тима Блэкмана: всего через несколько месяцев он принял от Обары полмиллиона фунтов и подписал документ, подвергающий сомнению свидетельства против обвиняемого.
Соболезнование
– Похороны Люси означали, что она больше не считается пропавшей без вести, – рассказывала Софи Блэкман. – С неопределенностью покончено; больше не нужно искать сестру. Но только во время погребения я осознала, что ее жизнь оборвалась. Осознала даже яснее, чем во время прощальной церемонии. Именно погребение означало для меня смерть Люси.
Для Софи трагедия с сестрой тоже чуть не обернулась гибелью.
Между кремацией и погребением останков прошло целых четыре года, заполненных жестокими спорами между бывшими членами одной семьи о том, как следует поступить с прахом Люси. Вначале Тим предложил развеять прах с его яхты в водах пролива Солент, где обычно отдыхала семья, когда Люси была ребенком. Руперт хотел, чтобы могила сестры находилась ближе к Севеноуксу, в более доступном для родичей месте. Но самый горячий и ожесточенный спор разгорелся между матерью и дочерью. Софи отчаянно, безумно хотела разделить прах между четырьмя членами семьи. Она надеялась воскресить тот миг, когда в пещере в Мороисо она впервые с момента смерти сестры почувствовала духовную близость с ней. «Свою часть праха Люси я положу в изящную серебряную шкатулку и буду хранить у себя дома, – писала она в страстном письме, адресованном матери, отцу и брату. – Я не готова отдать Люси земле. Пусть она останется со мной как можно дольше, чтобы я могла разговаривать с ней каждый день. А в будущем, когда у меня появятся собственная семья и свой дом, я похороню останки Люси в идеальном месте, где я всегда смогу быть рядом с ней».
Но Джейн была непоколебима. В 2002 году суд назвал ее распорядителем имущества Люси, что давало матери право последнего слова по всем подобным вопросам, и она твердо намеревалась воспользоваться своей властью. Джейн поместила прах в домашний сейф, купленный специально для этой цели; как оказалось, она, пусть и не решаясь признаться, боялась, что Тим или Софи могут выкрасть прах Люси. Безутешную мать преследовали кошмары, связанные с обстоятельствами смерти дочери, – расчленением и уничтожением ее тела.
– Люси разрезали на части, – говорила она. – Нельзя точно так же обойтись с ее останками. Я знаю одно: мне не нужна половина дочери.
Погребение останков назначили на 23 марта 2005 года в церкви Святых Петра и Павла в поселке Сил всего в миле от дома Джейн.
Еще с подросткового возраста Софи постоянно ссорилась с матерью, и Люси оказывала обеим бесценную помощь – примиряла стороны во время перебранок. В четырнадцать лет Софи ушла из дома, переехала в семью своего друга и прожила там несколько месяцев, бросив школу в разгар выпускного года. Когда пропала Люси, ее сестра училась на технического специалиста по кардиостимуляторам, который следит за работой оборудования и проверяет сердечный ритм пациентов. Впервые вылетев в Токио, она собиралась провести там не больше нескольких дней. В итоге она застряла в отеле «Даймонд» на долгие недели. В перерывах между поездками в Японию девушка возвращалась в Лондон и пыталась заново включиться в ритм жизни интерна. Но с трагическим исчезновением Люси существование Софи совершенно перевернулось, отрезав ее от общения с прежним окружением, которое могло бы ее утешить. Некоторые друзья, как ей казалось, избегали ее, не зная, что сделать или сказать; таких Софи презирала. От других, душивших ее своими утешениями и навязчивым сочувствием, она отвернулась сама. Защитный механизм личности Софи так часто включал агрессию и оскорбительное поведение, что оттолкнул даже тех, кто действительно хотел ей помочь.
Она стала гораздо лучше ладить с Тимом, но он слишком долго оставался номинальным отцом, обитающим на далеком острове Уайт с новой большой семьей.
– Я сама изолировала себя, и весьма успешно, – соглашалась Софи. – И оказалось, что единственным порядочным и надежным человеком в моей жизни была Люси. Я загнала себя в ловушку: чем больше терзалась, тем меньше становилось людей, к которым можно обратиться за помощью. В итоге после похорон Люси я осталась в полном одиночестве.
С самого начала все согласились, что надо провести закрытую церемонию для четырех ближайших членов семьи, но журналисты каким-то образом пронюхали о времени прощания. Чтобы избежать очередной давки репортеров и фотографов, похороны спешно перенесли с шестнадцати часов на тринадцать. Негодование Джейн, убежденной, что именно Тим слил информацию прессе, еще больше осложняло ситуацию.
Служба была короткой и очень простой. Почти через пять лет после смерти Люси урну с ее прахом погребли на кладбище деревеньки Сил в окружении полей и невысоких холмов Западного Кента. Руперт положил на могилу диск с песнями, которые сочинил и записал для Люси. Софи принесла серебряную подвеску из двух половинок, на которых были выгравированы первые строки любимого стихотворения Люси – «Летчик-ирландец предвидит свою гибель» У. Б. Йейтса. В могилу сестры Софи положила пластинку со строкой: «Я знаю, выпадет судьба», а вторую, со словами: «Погибнуть в чреве облаков»[49], оставила себе, чтобы хранить до конца своих дней.
После службы четверо Блэкманов поехали на поздний ланч. Они сидели в ресторане «Рандеву», где когда-то счастливая молодая семья отмечала день рождения Люси. Впервые после развода Тим и Джейн оказались за одним столом. Тим заказал шампанское, и напиток оказался на удивление уместным.
– Было и вправду довольно весело, – признался он мне. – Дети все время шутили и смеялись. Даже Джейн почти не мучило присутствие бывшего мужа.
– Никто не ссорился, – вспоминала она. – Тим сказал, что я хорошо выгляжу. Сама я никогда не провела бы этот день именно так, но мы старались ради Руперта и Софи.
Однако для младшей дочери вечер был наполнен кошмарным лицемерием, и за ее улыбкой скрывались бушующие эмоции.
– Просто охренеть, совершенно ненормально, – жаловалась мне Софи, и даже спустя четыре года после похорон у нее дрогнул голос. – В ресторане каждый старался быть милым со всеми, мы притворялись счастливой семьей, хотя только что похоронили Люси. Это было ненормально – притворство, будто все мы вместе, когда на самом деле между нами ничего общего, ничего, что нас роднило бы. Даже сейчас тот обед кажется мне возмутительным. В нем не было никакого смысла. Смерть Люси очень заметно изменила наши отношения: мы сидели вокруг стола – брат и сестра, отец и мать – как чужие.
Софи гордится тем, что скрыла свои чувства и не показала ни семье, ни друзьям, как она несчастна.
– Единственный раз я подала знак, что на самом деле мне очень плохо, когда пригласила всех заехать ко мне, – рассказывала она. – Мне хотелось сбежать с этого отвратительного ланча, но побыть с родными подольше. Я дала понять: «Не бросайте меня пока, я еще не готова».
У Софи Блэкманы еще немного выпили, почаевничали и распрощались. Соседка Софи Эмма, стюардесса, тогда ушла на вечеринку, и в ночь похорон сестры девушка осталась одна.
– Я не стала уговаривать: «Пожалуйста, останьтесь, мне правда нужно, чтобы вы побыли со мной», – вспоминала Софи. – Наверное, нужно просить людей о помощи, когда она действительно нужна, а я только проверяла, заметят ли родные мое состояние. Конечно, если бы они меня по-настоящему понимали, даже просить не пришлось бы, они сами остались бы… В итоге я чувствовала себя очень одиноко. Для меня день погребения праха Люси стал самым значимым днем. Он означало конец ее жизни – я больше никогда не увижу сестру, и мне казалось, что я не выдержу.
Весь год девушке прописывали кучу антидепрессантов. Она испробовала несколько разных препаратов, и ни один толком не помог. Но теперь, опрокидывая одну за другой рюмки чистой водки, она разложила перед собой коллекцию таблеток, аккуратно выбросив пустые упаковки.
– Я сидела одна и пила. Не знаю точно, о чем думала. Не помню, чтобы у меня был четкий план. Но потом я просто выпила все таблетки, какие нашлись. Помню, глотала их горстями. Некоторые сочли мой поступок криком о помощи, но они ошибаются. Я просто хотела умереть. Не видела смысла жить дальше.
Когда соседка Софи вернулась домой со своим парнем, она нашла девушку спящей на диване. Решив, что она просто напилась, они переложили ее на кровать. На рассвете Эмма улетела надвое суток. Воспоминания о дальнейших событиях разнятся. Тим считал, что тревогу подняла мать Эммы, но Софи помнит, как в полуобморочном состоянии сама позвонила в скорую. Так или иначе, рано утром в пятницу, больше чем через сутки после того, как она приняла таблетки, скорая забрала Софи в больницу, где ей спасли жизнь.
Руперт был первым, кто узнал о случившемся. Он помчался в психиатрическую клинику, куда перевели Софи, и ужаснулся при виде сестры, шаркающей ногами, бессвязно бормочущей и нервно потирающей руки. Она скорее напоминала зомби, чем острую на язык энергичную сестру, с которой они так славно выпивали всего два дня назад. Тим приехал с острова Уайт и перевез Софи в частную клинику, куда ее быстро определили согласно Закону о психическом здоровье[50]. Отца поразила бледность дочери; даже после промывания у нее, видимо, продолжались галлюцинации. Джейн известили последней. Приехав в больницу, она впервые заметила шрамы на руках у дочери – в течение нескольких месяцев та наносила себе раны.
Через несколько дней Софи выписали на попечение отца, и она уехала жить на остров Уайт в старый дом священника вместе с Тимом, Джо и ее детьми. Девушка провела там десять мирных и счастливых недель, дописала диссертацию на степень по клинической психологии в Вестминстерском колледже. Летом стали известны результаты: Софи получила диплом с отличием.
В следующем году она стала пациенткой клиники Касселя в Ричмонде-на-Темзе, специализирующейся на лечении серьезных психических расстройств, связанных с семейными проблемами. Софи провела там девять месяцев. Джейн она больше не видела.
– Считается, что большое несчастье сближает, – говорил Тим, – но на самом деле даже в счастливой семье отношения часто меняются. Родные винят друг друга, отдаляются. А когда семья и так разрушена, как в нашем случае, боль только усугубляет разлад. Поэтому справиться с напряжением и стрессом еще труднее.
Летом 2006 года Тим приехал навестить Софи в больницу и рассказал ей новость, которая сделает отношения между Блэкманами еще напряженнее: Ёдзи Обара предложил отцу Люси полмиллиона фунтов, и тот решил их принять.
Первая попытка состоялась в марте 2006 года, когда один из адвокатов Обары прислал Тиму электронное письмо. В нем предлагалась единовременная выплата в размере 200 тысяч фунтов; в обмен Тима просили не давать показания в Токийском окружном суде. Такое же предложение получила Джейн. Она презрительно отказалась, а вот Тим вступил в краткую переписку по этому вопросу – хотя, как он заявлял мне в то время, не ради денег.
– Таким образом я мог почти напрямую пообщаться с Обарой, – объяснил он. – Я искал возможность связаться с ним и написал ему ответ, сделав вид, что готов к переговорам: во-первых, чтобы увидеть, как далеко он может зайти, а во-вторых, чтобы дать ему надежду, а потом разбить ее вдребезги… Я просто играл с ним… Речь не шла ни о соглашении, ни о деньгах [которые все же были выплачены], ни о прощении.
Однако адвокаты Обары сохранили копии писем, записали на пленку и документально зафиксировали телефонные переговоры с отцом жертвы. Когда в следующем году их опубликовали, стало ясно, что деньги интересовали Тима больше, чем он уверял. «Я получил предложение от обвиняемого, – писал Тим, – и готов рассмотреть его и обсудить условия».
Он попросил 500 тысяч фунтов; Обара сделал встречное предложение – 300 тысяч; в ответ Тим согласился изменить свои показания в суде и пообещал заявить: «Обвиняемый выразил раскаяние и скорбь по поводу смерти Люси. Как отец Люси и христианин, я найду в себе силы простить обвиняемого, и на этом можно считать дело завершенным. Я надеюсь, что он реабилитирует себя в обществе». Однако через несколько дней Тим резко оборвал переговоры, объяснив одному из посредников Обары по телефону: «Британская полиция говорила с японской прокуратурой и проинформировала меня, что им не нравится мое намерение получить деньги и менять показания». Его реплики были тщательно записаны на пленку, перенесены на бумагу и опубликованы.
Подобное предложение сделали и матери Кариты, но Аннет Риджуэй также его отвергла. В следующем месяце все три родителя жертв приехали в Токио и описали, как отразилась потеря дочерей на их жизни.
– С моей прекрасной девочкой обошлись просто ужасно. Это поступок отвратительной твари, грязного животного, охотящегося на беззащитную красоту, – заявил в суде Тим. – Это извращенные действия монстра, который десятилетиями свободно рос в тепличной атмосфере без закона и контроля. Он не пролил ни слезы раскаяния, стыда или вины за свои извращения и преступления против человечества. Мы слышали только ложь и увертки, начиная с отрицания знакомства с Люси и заканчивая отрицанием причастности к ее смерти. Совершено очевидно, что моя красавица дочь была бы сегодня жива, если бы не стала жертвой этого хищника… Его омерзительные преступления, без всяких сомнений, заслуживают максимального наказания и самого долгого из возможных срока заключения. Весь мир считает, что наказанием должна быть казнь – смертный приговор. Я согласен. Любой менее суровый приговор не достоин правосудия, он станет грязным оскорблением жизни и смерти моей дочери.
Однако в ближайшие полгода Тим возобновил переговоры с командой Обары. В конце сентября он поехал в Токио и встретился с представителями обвиняемого в отеле «Нью-Отани». Время выбрали не случайно: в октябре адвокаты Обары выступали с заключительным словом в его защиту. Всего пятью днями ранее на банковский счет Тима на острове Уайт поступило 100 миллионов иен, что на тот момент составляло 454 тысячи фунтов стерлингов.
В японском уголовном суде денежные выплаты жертве от правонарушителя – общепринятая практика, и прокуратура часто поощряет ее. Неосторожный водитель, нанесший вред здоровью пешехода, магазинный вор, даже насильник способны смягчить собственный приговор, а иногда вовсе избежать наказания, проведя на счет пострадавшего определенную сумму, которая часто сопровождается соглашением о прощении или просьбой жертвы в суд о снисхождении. Для западного ума подобные меры – недопустимое вмешательство в беспристрастную работу служителей закона. Но для многих японцев вполне приемлемо, когда обидчик по мере сил старается компенсировать причиненный ущерб. К примеру, в одном деле о групповом изнасиловании обвиняемые, заплатившие 1,5 миллиона иен жертве, получили три года тюремного заключения, тогда как тем, кто не захотел или не смог найти деньги, присудили четыре года. «В таких делах 1,5 миллиона иен можно назвать денежным эквивалентом года тюремного заключения, – писал социолог Дэвид Джонсон. – В случае убийства, когда срок варьируется от трех лет до пожизненного (не исключая вероятность смертной казни), пожелания родственников жертвы имеют большое влияние, которое измеряется годами, а то и жизнью».
Однако между общепринятой практикой и соглашением, предложенным Обарой, существовала разница. Традиционно денежный взнос обвиняемого означает искупление вины, желание исправить содеянное, за которое он взял на себя ответственность. Но Обара ничего не признавал. Сотни тысяч фунтов, которыми размахивали его адвокаты, не имели ничего общего ни с извинениями, ни с признанием вины. Они, как осторожно указывалось в предложении, представляли собой не компенсацию, а мимаикин – «вознаграждение», «деньги соболезнования», совершенно не связанные с уголовной ответственностью. Обара якобы не сделал ничего дурного, но ему, как человеку порядочному, ужасно грустно из-за несчастья с Люси и Каритой, и он просто хочет помочь горюющим семьям.
Если бы его уже признали виновным, то компенсация жертвам могла бы убедить судей смягчить приговор. Но какой смысл в том, чтобы платить деньги тем, кому обвиняемый будто бы не причинил никакого вреда? Некоторые его адвокаты осудили стратегию своего подопечного, но тот настаивал на пожертвованиях с агрессивной решительностью.
Адвокаты и частные детективы отыскали всех восьмерых выживших женщин, в изнасиловании которых обвинили Обару, и предложили каждой по 2 миллиона иен. Некоторые сразу отказались, но предложение повторялось с настойчивостью, граничащей с домогательством. Женщина адвокат Микико Асао представляла трех жертв изнасилования. Она объяснила девушкам, что они имеют право на компенсацию от Обары, но в обмен не должны ничего предоставлять, кроме чека: ни оправдательных показаний, ни просьбы о снисхождении, которые могут повлиять на решение суда. И все-таки большинство жертв подписали документы, подготовленные адвокатами Обары, где платеж назывался «компенсацией за беспокойство»: девушки подтверждали, что теперь дело «полностью улажено», и просили суд «снять обвинения и жалобы по моему делу… так как у меня нет намерения добиваться уголовного преследования ответчика».
– Детективы связывались с ними неоднократно, – рассказала мне Микико Асао. – На работе, дома, по мобильному телефону. Даже когда жертвы меняли номер, команда Обары его узнавала. Адвокаты даже нашли адреса электронной почты. Вот так они добивались желаемого – путем лжи, угроз, психологического давления. Узнав об их происках, я разу выразила протест адвокатам защиты. Но это их не остановило, и они заставили девушек подписать нужные документы.
Тиму Блэкману никто не угрожал. Но в тот же день, когда он получил денежный перевод в размере 100 миллионов иен, он подписал и удостоверил отпечатком пальца документ, который адвокаты Обары представили судьям на следующей неделе.
В заявлении говорилось: «Я не знал, что причина смерти моей дочери Люси Блэкман неизвестна, что ДНК и прочие улики против обвиняемого не обнаружены на теле моей дочери и что обвиняемый Обара остановился в традиционном японском отеле в тот день и в то время, когда предположительно была расчленена и зарыта моя дочь.
Я хотел бы сформулировать и задать японскому суду следующие вопросы:
1. Что за черное вещество вытекало изо рта моей дочери Люси Блэкман и покрывало ее голову?[51]
2. Каковы результаты анализа состава цемента, в который была вмурована голова моей дочери Люси Блэкман?
3. Когда и как перевезли мою дочь Люси Блэкман из Дзуси-Марины в Абурацубо?
Тем самым я как отец Люси Блэкман хотел бы просить изучить три важнейших пункта, которые должны прояснить причину смерти и дело в целом.
Если черное вещество во рту и на лице, способное указать причину смерти, не будет принято во внимание полицией или прокуратурой, то подобные действия незаконны, и как отец, любящий свою дочь, я не прощу виновного, даже если им будет полицейский или прокурор».
По странным грамматическим конструкциям и дотошным упоминаниям одних и тех же подробностей становилось очевидно, что текст составлял не Тим, что он лишь подписал заявление, не задумываясь и, возможно, даже не понимая, о чем там говорится. Но больше всего публику поразило решение запросто подорвать версию обвинения ради какой-то половины миллиона фунтов.
– Публично я поддержала решение папы, – рассказывала Софи, – но на самом деле была совершенно с ним не согласна. Не то чтобы я осуждала его за согласие взять деньги. Но я не сомневалась, что он совершает публичное самоубийство и мама вместе с прессой растопчет его. У каждого найдется свое мнение, и не важно, как папа объяснит свое решение, люди все равно его осудят, что повлияет на его жизнь, карьеру и все остальное. Так и случилось.
Адвокаты Обары объявили о денежном переводе через день после возвращения Тима в Англию. Об этом трубили все британские газеты в те выходные; в заголовках встречалось выражение, которым описала платеж Джейн: «кровавые деньги».
– Я отказалась от любых денег со стороны обвиняемого, как и мои дети Софи и Руперт, – заявила она. – Тим же вступил в переговоры, несмотря на мои пожелания и просьбы сына и дочери. Верные друзья и близкие Люси испытывают отвращение к невероятному предательству Тима Блэкмана.
Многие в такой ситуации залегли бы на дно, пока не стихнет шумиха. Но Тим никогда не прятался от журналистов. Он посчитал своим долгом принять участие в целой серии телевизионных и газетных интервью, где все задавали один и тот же вопрос: почему? Тим говорил об убытках, которые понес за месяцы розысков Люси, о Фонде Люси Блэкман и надеждах создать для него надежный финансовый фундамент. Он указал, что из-за долгого судебного разбирательства и банкротства Обары нет шансов получить компенсацию путем гражданско-правового спора. А заявления Тима, что перевод сделан не самим Обарой, а его университетским «другом» господином Цуджи, и что деньги не только не помогли Обаре, но и доказали его виновность, лишь ухудшили положение. Тим вел себя сдержанно и пытался защищаться, но телерепортеры, которые раньше обращались к нему с показным сочувствием, теперь грубили и ханжески взывали к справедливости. Тим Блэкман, отец, горюющий по убитой дочери, будто сам стал обвиняемым.
Через неделю ситуация еще сильнее усугубилась, когда «Дейли мейл» под заголовком «Предательство отца» опубликовала очерняющую Тима статью объемом 2 тысячи слов. «Невероятный поворот на 180 градусов, причинивший невыразимую боль матери Люси, Джейн, – сообщалось в газете. – Что любопытно: поведение отца могло бы вызвать горькое разочарование, но, по всей видимости, не удивило тех, кто хорошо знал Тима Блэкмана». Слов Джейн в статье нет, однако приводятся реплики «друзей», охарактеризовавших ее поведение как «спокойное благородство» перед лицом предательства Тима. Журналисты рисуют портрет мелочного себялюбца, который, связавшись с другой женщиной, бессердечно бросил семью десять лет назад и отказал ей в финансовой и любой другой поддержке. «Высокомерный и эгоистичный человек, в отношении которого быстро иссяк источник доброй воли в токийском обществе», – утверждали многочисленные свидетели.
Из всего их «множества» в статье назвали только одно имя – Хью Шейкшафт, или «сэр Хью из Роппонги», финансовый консультант, который сурово критиковал Тима[52]. «Меня долгое время шокировало и разочаровывало поведение Блэкмана, – „откровенничал“ Хью с „Дейли мейл“. – Я терпел до настоящего момента, но теперь, услышав о его выходке, больше не могу молчать». Хью снова жаловался на развязность, с которой Тим вел себя в его офисе, на то, что тот спускал деньги Хью на развлечение журналистов, что оставил Софи одну в Токио на два дня. Еще один «друг» Джейн продолжил разоблачение, поведав, как мало Тим платил ей на содержание детей, как пренебрегал Люси («Слышать о его близости с дочерью просто смешно») и даже не посоветовался с Джейн насчет открытия Фонда Люси Блэкман. Далее «Мейл» «узнала», что Джейн планирует написать попечительскому совету благотворительного фонда и поставить под вопрос способность ее бывшего мужа руководить этой организацией.
Тим направил резкое письмо в суд в Токио. «Я принял соболезнования от друга [Обары], как мы принимали соболезнования со всего мира, – отмечал он. – Я принял их, потому что тем самым обвиняемый лишь понесет большее наказание за преступление против Люси, поскольку он банкрот. Обвиняемый виновен, но продолжает притворяться, что нет. Он больной и злобный уголовник, который охотится на наших дочерей». Но было поздно: Тима никто не слушал. Через месяц после перевода от Обары, как выяснилось позже, Блэкман потратил 64 500 фунтов на яхту – уже вторую. Он пытался объяснить, что покупка судна является вложением в яхтенную чартерную компанию, но это тоже никого не интересовало.
Сдержанности Джейн Блэкман в адрес Тима пришел конец через несколько месяцев в официальном интервью для «Дейли мейл». В заголовке приводились ее слова: «Он аморален». «Я будто сражаюсь сразу в двух битвах: против убийцы и против бывшего мужа, – говорила мать жертвы. – На чьей он стороне? Как деньги помогут добиться правосудия по отношению к нашей дочери?.. С моей точки зрения, Тим принял сто миллионов сребреников. Иуде же хватило тридцати».
Когда я познакомился с Роджером Стиром, вторым мужем Джейн, он дал мне совет:
– Прежде всего поймите, что есть два варианта истории. Есть версия Тима, а есть чистая правда, которую расскажет вам Джейн.
Джейн познакомилась с Роджером через два с половиной года после смерти Люси. Его любовь и реальная поддержка, несомненно, помогли ей пережить самый страшный период. Женщина жила одна с 1995 года.
– Я думала, что больше уже никого не встречу, – признавалась она. – Думала, что с этой сферой жизни покончено.
Однажды вечером друзья предложили познакомить ее со своим одиноким приятелем, и Джейн неуверенно согласилась. Свидание началось весьма удачно. Через год после смерти Люси Джейн стала замечать тайные знамения, непонятные окружающим, но имеющие для нее глубокий подтекст. Бабочки, белые перья, звезды, образы ангелов на картинах и в дизайне, пение птиц, необычное поведение предметов и механизмов – Джейн не сомневалась, что это Люси подает ей знаки.
– Она только что была здесь, – заявила она мне, когда я встречался с ней во второй раз. – Вещи пропадали, и без всякой причины сработала пожарная сигнализация.
Перед знакомством с Роджером, испытывая неловкость от свидания вслепую в свои сорок девять, Джейн подъехала к пабу, где они должны были встретиться, и припарковалась рядом с серебристым автомобилем, в салоне которого горел свет. Как выяснилось, именно в этой машине приехал ее визави.
– Я говорю: «Тот серебристый „мерседес“ на парковке не ваш? Там горит свет в салоне». Он ответил: «Не может быть», – но вышел проверить. А вернувшись, сказал: «Вы правы. Но, если это ваша машина рядом с моей, там тоже горит свет». И тогда моя очередь была сказать: «Нет, не может быть». Но когда я вышла, так и оказалось.
Имя «Люси», как известно, происходит от латинского «свет». И Джейн полагала, что свет был важен для дочери как при жизни, так и после смерти. Неожиданно вспыхнувшие лампы служили явным знаком ее присутствия.
– Это была Люси, – уверяла Джейн. – Она выражала мне одобрение. Говорила, что все в порядке.
Роджер сделал предложение Джейн через пять недель, а через восемь месяцев, в августе 2003 года, они поженились.
Роджер был на пять лет моложе Джейн и, как и она, пережил развод. Он родился в семье священника методистской церкви и успел потрудиться в банке, социальной службе, в отделе подбора кадров для Сити и в качестве консультанта по трудоустройству. К моменту женитьбы на Джейн он называл себя «корпоративным теоретиком» и консультировал компании по моральным и этическим вопросам. Он опубликовал книгу под названием «Искусство этики®: Как найти правильный путь и следовать ему». «Скромность, смелость, самодисциплина и прочие моральные ценности служат ключами к успеху, здоровью и самодостаточности, – говорилось на его сайте. – „Искусство этики®“ – это концепция поведения и принятия решений, которая помогает остановиться, подумать, поговорить, объединить усилия – и поступить правильно». Роджер стал преподавать курс «Корпоративная этика» в бизнес-школе имени сэра Джона Касса в Лондоне, а также выступил неофициальным руководителем широкомасштабной кампании преследования Тима Блэкмана.
Когда я только познакомился с Роджером, симпатичным бородачом за пятьдесят, он, похоже, чувствовал себя не очень уверенно в качестве консультанта-фрилансера, издающего собственные книги. В нем чувствовалось легкое, но постоянное напряжение. На сайте «Искусства этики®» есть фотография: Роджер в очках в строгой черной оправе наклонился вперед и доверительно улыбается; на нем нарядная рубашка с цветочным рисунком и пиджак в тонкую полоску. Но, как мне казалось, Роджер чувствовал себя комфортнее в повседневной одежде, чем в деловом костюме. Его любовь и уважение к Джейн, желание защитить ее от жестоких обстоятельств были очевидны и искренни, и естественно, он не мог обойти вниманием ситуацию со смертью Люси Блэкман.
Когда в бабочке, которая пролетала над тропинкой во время загородной прогулки, Джейн видела Люси, Роджер тоже ее видел. Когда женщина во время наших с ней бесед умолкала из-за мучительных – или невыносимо счастливых – воспоминаний, Роджер всегда был рядом, предлагая утешительные объятия или чашку чаю. Но меня поразило рвение, с которым он ввязался в борьбу с Тимом, и его решимость доказать моральное превосходство Джейн, как будто дело касалось его самого. Иногда супруги Стир чуть ли не соревновались в том, кто сильнее презирает Тима, хотя Роджер даже ни разу не видел его.
Я часами беседовал с Джейн в доме в поселке Кемсинг, пригороде Севеноукса, и Роджер, как правило, был рядом. Он так торопился ответить на каждый мой вопрос, что иногда не давал ответить самой Джейн.
– Думаю, я довольно восприимчивый человек, ведь я работал в социальной сфере, понимаю поведение людей и хорошо разбираюсь в них, – объяснял мне Роджер. – И у Тима я вижу все признаки серьезного личностного расстройства. Он самый настоящий Уолтер Митти[53]… Он оставил роль заботливого отца, отлично ладящего с детьми и спасшего Люси жизнь во время судорог, и пошел вразнос, в итоге причинив боль не только Джейн, но и детям. Можно сказать, идеальный объект психологического исследования.
– Это называется социопат, – вставила Джейн.
– Да, он наверняка классический социопат.
Кампания по юридическому преследованию Тима началась после того, как он принял «кровавые деньги». Еще один бывший волонтер в Токио, британский банкир, воспылавший, подобно Хью, ненавистью к Тиму, на собственные средства нанял Марка Стивенса, экстравагантного медийного адвоката. С помощью Стивенса чета Стир убедила полицию Гемпшира, региона проживания Тима, провести расследование по подозрениям в мошенничестве.
Оснований для такого необычного обвинения формально не хватало. Разве Тим кого-то обманул? Точно не Обару, который сам уговаривал его принять деньги. И не Джейн, которая неоднократно отказывалась от аналогичной выплаты.
– Нарушено право собственности Люси, – объяснил мне Роджер.
В одном из заявлений, подписанном Тимом и составленном адвокатами Обары, подтверждалось, что он принял 100 миллионов иен как «представитель семьи Люси». Однако имуществом распоряжалась Джейн, и таким образом, сообщив ложную информацию, Тим обманул не живого человека, а погибшую дочь. Аргумент показался достаточно серьезным полиции Гемпшира, которая отправила детектива взять показания у Джейн, а также Королевской уголовной прокуратуре, пославшей японским инстанциям и запрос на дополнительную информацию.
Больше всего Джейн возмутило создание Фонда Люси Блэкман; он стал одним из полей сражения, где родители Люси боролись за ее душу. За пять лет фонд превратился в маленькую благотворительную организацию с горсткой оплачиваемых сотрудников и несколькими волонтерами. Фонд продавал аварийно-спасательное оборудование для молодых людей – устройства звуковой сигнализации при попытке изнасилования, наборы для тестирования напитков на опасные примеси; Тим рассказывал в школах историю о Люси и говорил о значении личной безопасности дома и за границей. Джейн написала в Комиссию по делам благотворительных обществ с просьбой отозвать у фонда статус благотворительной организации, а также отправила требование попечительскому совету разорвать все связи с Тимом. Роджер написал электронное письмо одному журналисту, «не для печати и строго анонимно», с просьбой расследовать финансовое положение фонда. Еще один фронт открылся в апреле 2007 года, когда Роджер получил электронное письмо от Хайди Блэк, бывшей секретарши Тима и «заместителя председателя правления» фонда. Несколько месяцев назад мисс Блэк уволили, и она оспаривала увольнение в суде по трудовым спорам. Она также обратилась с жалобой с полицию по поводу денег, которые были пожертвованы фонду и, по ее словам, пропали. В ту же неделю, когда Блэк связалась с Роджером, сведения каким-то образом попали в «Дейли мейл». «Расследуется дело о мошенничестве отца Люси в благотворительном фонде» – сообщал заголовок. На следующий день Мэтта Сирла, единственного штатного сотрудника фонда, арестовали, допросили и вынесли ему предупреждение.
Через пять недель с Мэтта сняли все подозрения. Проверив счета фонда, полиция не нашла никаких подтверждений хищения средств или иных злоупотреблений. Ни к чему существенному не привели и жалобы в Комиссию по делам благотворительных обществ и заявление о мошенничестве в отношении имущества Люси. К середине 2007 года все старания Роджера и Джейн закончились ничем.
– Вот почему я не общаюсь с мамой, – заметила Софи. – У мамы просто мания выискивать компромат, чтобы уничтожить папу, независимо от последствий и того, как это отразится на мне и Руперте. Она ставит себя выше нас и наших эмоциональных потребностей, да и любых потребностей. По-моему, такое непростительно со стороны родителя. Если ты рассталась с человеком и начала новую жизнь, снова вышла замуж, то оставь его в покое. Откуда взяться счастью и безопасности в новом браке, если все мамино внимание обращено на бывшего супруга? А Роджер должен хоть иногда показать характер. Какое ему вообще дело? Без конца копать под бывшего мужа своей жены – разве это не странно?
Вердикт
Все эти годы я пытался встретиться с Ёдзи Обарой. Я постоянно посылал через адвокатов письма с просьбой позволить мне провести с ним интервью в токийской тюрьме предварительного заключения. Я указывал на нераскрытые тайны дела (их было несколько) и на искреннее желание сбалансировать свою историю, где пока что излагалась только точка зрения пострадавших и полиции, с точкой зрения обвиняемого. Я отправлял списки вопросов, на которые Обаре наверняка захотелось бы ответить: о свидетельствах против него, о «деньгах соболезнования», о работе полиции. Но больше всего я хотел узнать, как сын корейского магната патинко рос в богатой Осаке, как ему жилось рядом с психически нездоровым старшим братом, как Ёдзи воспринял новость о смерти отца в Гонконге и что он видел в зеркале, прежде чем сделал пластическую операцию.
Однажды он ответил на мое письмо просьбой достать медицинскую карточку Люси – там содержалась именно та информация, которую пытались добыть его адвокаты с помощью частных детективов в Британии. Подразумевалось, что за помощь меня вознаградят. Я отказался. После очередного моего письма один из адвокатов Обары, неулыбчивый человек по имени Киёхиса Араи, пригласил меня к себе в кабинет в центре Токио.
Он начал с личного сообщения от Ёдзи Обары. «Я благодарен вам за письмо, – читал адвокат от имени подзащитного. – Рано или поздно у меня будет возможность с вами встретиться, но для начала, пожалуйста, взгляните на материалы, которые я могу вам предоставить». Араи придвинул мне пачку листов: записи судебных разбирательств, дневники Люси, фотографии Кристы Маккензи в квартире Обары. Большинство документов позже появилось в книге, которая тогда готовилась к выходу (речь о ней пойдет ниже), но часть снимков просто не подлежала публикации, особенно полицейские фотографии останков Люси, извлеченных из пещеры: голова, руки, торс, бедра, икры, ступни и лодыжки, хладнокровно разложенные на столе патологоанатома. Несомненно, изображения вызывали омерзение, и физиологический шок от вида расчлененного тела сменился стыдом, который вызывает порнография.
– Конечно, видеть такое тяжело, почти невыносимо, – заметил господин Араи, передавая их мне. – Мы очень сожалеем.
Казалось, он наблюдает за моей реакцией, пока я просматриваю снимки. Видимо, они должны были привлечь внимание к «черному веществу» на голове и во рту Люси, происхождение которого, по мнению Обары, прокуроры так толком и не объяснили. Но потом мне пришло в голову, что адвокат подразумевал нечто другое. Возможно, мне демонстрировали своего рода предупреждение или даже угрозу – манящий приоткрытый люк в шахту, возможность одним глазком заглянуть в тайну смерти Люси и в разум человека, совершившего такое злодейство.
Араи убедил меня забрать фотографии с собой; как он и просил, на следующей неделе я переслал их ему назад. Через четыре месяца в возмущенном письме он обвинил меня в том, что я отправил в Скотленд-Ярд копии, которые показали семье покойной Люси Блэкман. Адвокат писал: «Вы не только нарушили обещание, данное источнику, и предали наше доверие, но также ранили семью и умножили горе родных. Подобные действия непростительны ни для журналиста, ни для человека». В утверждениях Араи не было ни капли правды.
Вскоре я получил два письма от адвокатов Обары с указанием на неточности в моих статьях: даты, национальность одной из жертв Обары, последовательность событий. «Более того, – возмущался адвокат Синья Саканэ, – вы называете собаку, которая хранилась в морозильнике, немецкой овчаркой, что противоречит действительности: это шотландская овчарка». Я поблагодарил за ценное замечание и опять спросил об интервью, однако ответа снова не последовало. Но в мае 2006 года, после долгих лет отказов, Обара сам вышел со мной на связь в собственной манере, подав против меня судебный иск.
Обара – которого представлял суровый мистер Араи – обвинял меня в клевете. Обычно подобные иски адресуются газетам, напечатавшим недостоверные сведения, однако Ёдзи предпочел преследовать в судебном порядке меня лично. Он требовал возмещения морального ущерба в размере 30 миллионов иен (150 тысяч фунтов), и через три недели меня вызвали в Токийский окружной суд. Юридическая терминология письменной жалобы выглядела тяжеловесной и устрашающей, но если приглядеться внимательнее, обвинения звучали в типичном для Обары стиле, до смешного нелепом. Самое неожиданное обвинение касалось заседания, где давала показания Джейн и куда Обара не явился. Тогда, как сообщили наряду со мной все присутствующие журналисты, судья заявил, что Обара снял одежду и вцепился в рукомойник в камере, не желая выходить. Однако, по словам мистера Араи, утверждение является абсурдом и наглой клеветой. «Нет абсолютно никаких фактов, доказывающих, что истец… разделся догола, чтобы не являться в суд в тот день, – утверждалось в исковом заявлении. – Это противоправное действие нагло опорочило репутацию истца».
Для защиты моих прав «Тайме» наняла токийскую юридическую фирму. Последовали встречи и телефонные конференции, проверки записей и документов, обмен длинными черновиками опровержения. Возбуждение и любопытство пересилили тревогу из-за моего статуса обвиняемого. Встречулия Обару в суде? Каково мне будет сидеть в самой дальней стороне знакомого судебного зала? Но меня ждало разочарование: выяснилось, что Обаре не требуется появляться на слушаниях – как и мне. Гражданско-правовой суд в Японии страдает еще большей бюрократией, чем уголовный. Здесь общаются только адвокаты, и присутствие или отсутствие истца и обвиняемого никак не влияет на решение суда. Я все же сходил на одно из заседаний и посидел на скамье обвиняемого. Слушание длилось меньше десяти минут. Мой адвокат предоставил свидетельства публики и заявления других репортеров, подтверждающие, что они тоже слышали, как судья Тотиги описал дезабилье Обары. Главным доказательством служила, конечно же, стенограмма суда. Однако, хотя то заседание считалось открытым, получить ее удалось только после специального разрешения. Судья и господин Араи изучили материалы и одобрили их; затем трое назначили дату очередного заседания. Мое дело не привлекло никакого внимания со стороны общественности: в зале сидели три человека, но то были не зрители, а адвокаты, ожидающие начала следующего слушания. И все же, несмотря на банальность происходящего, в качестве обвиняемого под бдительным взором закона я ощутил волнение и страх. Совсем другое дело, чем сидеть среди публики и делать записи: я будто выступал на сцене, где был и режиссером, и актером.
Последние два судебных разбирательства по делу Ёдзи Обары – шестидесятое и шестьдесят первое – отводились заключительному слову сторон обвинения и защиты. Ничего нового мы не услышали, однако обе стороны выступали очень долго. Обара два часа провел на ногах, подтачивая версию обвинения. Как невысокий человек умудрился незаметно перенести тело такой крупной женщины в автомобиль? Как можно доверять обвинениям, в которых столько вопросов осталось без ответа? «Нет никаких прямых доказательств, неизвестна причина смерти жертвы, – зачитывала защита. – Не обнаружено улик, доказывающих причастность обвиняемого к ее гибели, включая его ДНК. На трупе не найдено следов хлороформа, хотя прокуратура утверждает, что жертву убил именно этот препарат».
Обвинение предоставило уже всем известные свидетельства: длинную, записанную самим Обарой историю «игры в покорение», показания выживших женщин, видео и лекарства, телефонные звонки, покупки и поисковые запросы в Интернет в дни после исчезновения Люси. Прокурор попытался обернуть версию защиты Обары против него самого, остановившись на самой неправдоподобной детали – невероятной байке о Кацуте, «мастере на все руки», чье участии в деле внезапно всплыло под самый конец. «Столь абсурдные отговорки, – говорилось в заявлении, – сами по себе служат доказательством вины».
Японский суд отличается скорее бюрократической сухостью, нежели яркой эмоциональностью; речь молодого прокурора была привычно монотонной и официальной. Однако язык заявления и накал возмущения выбивались из стандартного ряда. «Это беспрецедентно дикое и грязное дело, – говорилось в речи. – Вероятность того, что Обара повторно совершит подобное преступление, крайне велика. Он не что иное, как хитрое животное, не проявившее ни следа свойственного людям сострадания, не обратившее внимания на голоса безутешных семей. Мы не видим в нем ни капли человечности; он не выразил никакого раскаяния. Анналы сексуальных преступлений еще не видели настолько немыслимого зверства. Таким образом, мы настаиваем на пожизненном заключении для обвиняемого».
Перед началом речи адвокаты Обары несколько раз просили, чтобы в качестве свидетеля вызвали Тима Блэкмана.
– О чем вы хотите его спросить? – поинтересовался судья Тотиги, сверкнув зубами, как всегда в минуту раздражения.
– О том, что он получил сто миллионов иен. Раньше он отказывался от денег, но теперь принял их. Мы хотим проследить ход его мыслей… Он важный свидетель для возможного смягчения приговора. Поэтому я хотел бы его допросить.
– Мы достаточно его слушали, – ответил Тотиги.
Адвокат продолжал канючить, и Тотиги резко бросил:
– Я не позволю ничего подобного. Отклонено.
– Протестую, – заявил адвокат.
– Отклонено!
Судья Тотиги предложил обвинению начать заключительную речь.
– Протестую, – снова встрял адвокат Обары. – Я протестую против решения суда. Оно противоречит обязанности суда тщательно рассмотреть дело.
– Отклонено, – откликнулся судья Тотиги. – Бессмысленные возражения могут быть расценены как неуважение к суду. Не зарывайтесь.
Похоже, защита не сообразила, насколько безнадежно ошибочны и тактически опасны отчаянные попытки на заключительном этапе судебного разбирательства спровоцировать человека, который принимает решение о виновности Обары. Одиннадцатого декабря 2006 года суд завершился. Через пять месяцев слушаний был вынесен вердикт. Сомнений в его характере почти не оставалось.
Шестьдесят одна сессия растянулась на шесть лет; даже в режиме работы британского суда со слушаниями пять дней в неделю, утром и вечером, ушло бы больше полутора месяцев. Обара пустил в ход все возможные ресурсы: юридические, финансовые, следственные, технологические. В 2004 году, по мнению одной английской газеты, его адвокат даже нанял британских частных детективов, чтобы раскопать прошлое Тима, Джейн и Люси, а также Луизы Филлипс и ее сестры Эммы. Через два года в виртуальном пространстве появился веб-сайт на английском и японском языках. Он содержал подробную версию событий с точки зрения Обары, а также отрывки из дневника Люси, подписанные Тимом Блэкманом заявления и некоторые расшифровки записей судебных заседаний. Публиковать официальные документы без разрешения суда запрещалось, и полиция собиралась обвинить сторону защиты в обнародовании свидетельств по текущему уголовному делу. Но авторы сайта подстраховались: страница с доменной зоной to.cx размещалась на сервере малоизвестного региона Австралии – острова Рождества. Уголовное дело так и не завели.
А в 2007 году за несколько дней до оглашения вердикта на полках магазинов в центре Токио появилась книга с фотографией мертвой собаки на обложке.
Издание называлось «Правда о деле Люси» и представляло собой сборник нудных, вычурных и невообразимых в своей нелепости показаний защиты – библию Ёдзи Обары. Также на обложке имелся длинный подзаголовок: «Лучшие прокуроры против обвиняемого Ёдзи Обары с Ай-Кью 180: нив одном деле последних лет показания не были настолько далеки от реальности». «Почему обвинители пустились во все тяжкие? – значилось в аннотации. – Замечено уничтожение улик и подделка прокурором официальных документов». Том объемом в 798 страниц насчитывал 5 сантиметров в толщину и весил почти килограмм.
Книга была «написана и отредактирована» «группой поборников истины в деле Люси», упомянутой и на веб-сайте. Кем же являлись эти правдолюбцы и почему они так стеснялись назвать свои настоящие имена? На самом деле публикация стала очередным тщетным ходом по заказу адвоката Обары; издатели, выполнившие заказ не сомневались, что текст составлен по инициативе и под руководством самого обвиняемого. Там содержалось множество страниц стенограмм судебных заседаний, свидетельств и пространных описаний жизни Ёдзи от третьего лица о его ранних годах, юношеском алкоголизме и событиях до и после того рокового вечера с Люси. Были там фотографии интерьера Блю-Си-Абурацубо и спортивного «мерседес-бенца» Обары; снимки Кристы Маккензи, которая, похоже, курила героин на диване обвиняемого. Электронные письма Тима с переговорами по поводу «денег соболезнования» приводились полностью, как и расшифровки телефонных разговоров с агентом Обары и квитанция о переводе 3,2 миллионов иен изнасилованной украинке. В книгу вошли дневник Люси с аннотациями на английском и японском языках; рисунки пещеры, указывающие точное место, где находились останки Люси, и фотография пляжа во время тайфуна.
В феврале 2010 года издательство «Асука Синса», выпустившее «Правду о деле Люси», подало в суд на Ёдзи Обару и его адвоката Акиру Цудзисиму за неоплату услуг. Заказчик обязался выплатить 1 миллион 314 тысяч 648 иен (на тот момент – 94 тысячи фунтов), однако деньги так и не поступили. Согласно жалобе, представленной в суд, книга печаталась сугубо «в рамках кампании в защиту Обары». Поначалу ее подготовили к печати в декабре 2006 года, вскоре после того, как судьи Токийского окружного суда отложили вынесение приговора. Помимо японского издания, в Британии предполагалось выпустить книгу на английском. Договор с издателем заключила «группа заинтересованных лиц» в лице их агента, адвоката Обары Киёхисы Араи.
На первый взгляд, книга представляла собой произведение независимого автора, выступающего от лица Обары. «В число поборников истины, – объяснялось в тексте, – входят журналисты, юристы и члены юридического сообщества, включая бывших прокуроров». Но, по всей вероятности, над проектом работали только наемники, которым заплатили. «Асука Синса» и Ёрисиге Фуджита, внештатный ответственный редактор, получили инструкции от адвокатов, нанятых Ёдзи Обарой.
«Чтобы назвать позицию издания нейтральным, ответчики притворяются, что за нее ответственна некая организация третьих лиц, – говорилось в иске. – Нет никакой необходимости говорить, что „поборники истины“ не являются коммерческой организацией и субъектом права. Это отдельные люди, в том числе адвокаты ответчика».
Редактор «Асука Синсы» Хидэтоси Окухара описал мне свое недоумение по поводу многочисленных и порой противоречивых инструкций адвокатов Араи, Цудзисимы, Ясуо Сионои и Кацуры Маки.
«Каждый представитель заказчика давал новые указания, сбивая с толку исполнителей, – говорилось в иске компании. – Предположительно, причина в том, что адвокаты встречались с Обарой отдельно по поводу содержания каждого пункта рукописи, а тот часто менял версии».
Согласно иску «Асука Синсы», путаница привела к задержке и полной растерянности. Когда вроде бы уже окончательный вариант отправили в печать, Кацура Маки заявил, что там содержатся ошибки. Редакторы предложили указать список опечаток, на что мистер Араи согласился. Но затем с издательством связался Ясуо Сионоя и велел остановить процесс печати. Из-за исправлений и проволочек книга появилась в магазинах только в апреле 2007 года, перед самым оглашением вердикта в Токийском окружном суде. На английском языке текст решили не печатать, и за перевод, который был почти закончен, «поборники истины» так и не заплатили.
Большая часть материалов книги имела целью указать на конкретную деталь следствия или поднять вопрос, который мог бы сработать в пользу Обары, например: «Разве машина не маловата для перевозки трупа?» и «Как могло тело всю зиму оставаться в пещере, затопляемой приливами?». Кроме того, там попадались заявления вроде таких: «Хостес-иностранки – охочие до наркотиков шлюхи» и «Значит, на самом деле он просто заморозил труп собаки».
Но в итоге получился хаотичный набор из невероятного количества фактов, не указывающих ни на что конкретное. Даже если книга имела какой-то смысл, его поглотила трясина нелепостей и занудства. Действительно ли Обара верил, что кому-нибудь захочется разбираться в этом ворохе сведений? На кого он хотел повлиять публикацией книги? Судьи слышали все это на заседаниях. Если предположить, что их волновало общественное мнение, вряд ли книга могла склонить его в пользу обвиняемого, даже если бы ее хоть кто-то удосужился прочесть. Обара выпустил «Правду о деле Люси» просто потому, что мог себе это позволить. Ему надо было что-то делать, а ничего другого уже не оставалось.
И все же существовала одна очевидная уловка, которой он так и не воспользовался. Японские суды очень доверяют отзывам законопослушных свидетелей об обвиняемом. Мошенник, поджигатель или эксгибиционист могли добиться снисхождения, если порядочные граждане подтвердят их честность, филантропические устремления и популярность в обществе. Обара это понимал, вот почему он так хвастал регулярными пожертвованиями на благотворительные цели: в мае 2006 года он перевел по 5 миллионов иен в фонды «Спасем детей», «Международная амнистия» и «Японский Красный Крест».
Но намного более ценными были бы показания тех, кто знал и любил обвиняемого: одноклассников, старого школьного учителя, университетского приятеля, бизнес-партнера – каждого, кто мог бы сказать о нем хоть что-то хорошее. В «Правде о деле Люси» упоминаются бывшие учителя, которые нежно любили Ёдзи, но ни одного из них так и не пригласили выступить со стороны защиты. В частности, «почетного профессора Секигути» из университета Кейо, как утверждалось в книге, «шокировала» новость об аресте Обары. К сожалению, профессор скончался незадолго до вынесения обвинений бывшему студенту. Обара перепробовал все методы и непременно нашел бы подходящих свидетелей, если бы таковые существовали. Но отсутствие голосов в его защиту еще раз подтверждало одну из самых больших его странностей: пройдя через детство и юность и дожив до среднего возраста, он так и не завел ни одного друга.
Оглашение вердикта назначили на 10 утра вторника 24 апреля 2007 года. В Британии в это время час ночи; и, если все бы пошло по плану, я бы успел передать новости в последний утренний выпуск газеты. Но времени было в обрез, особенно если случится задержка. В то день я проснулся рано утром и написал черновик новостной статьи, подробности к которой намеревался сообщить по телефону после объявления вердикта. Текст начинался так: «Владелец многочисленных объектов недвижимости в Японии Ёдзи Обара этим утром обвинен в убийстве хостес из Британии Люси Блэкман и приговорен к пожизненному заключению (уточнить) после сенсационных шести с половиной лет судебных разбирательств.
(Добавить реакцию семьи в суде, слова судьи)
Вердикт послужит возмездием семьи мисс Блэкман, особенно ее отца Тима, который долгие месяцы провел в Японии, пытаясь заставить полицию активнее заниматься поисками дочери после ее исчезновения в июле 2000 года…»
Я отправил черновик в Лондон по электронной почте, выпил чашку кофе и взял ноутбук и записные книжки. В суде сегодня утром ожидались толпы; я хотел выйти из дома пораньше, чтобы занять место в очереди. В животе щекотало от волнения, я почти трепетал.
На следующей неделе исполнялось семь лет с того дня, как Люси приехала в Японию. Прошло пятнадцать лет с момента отключения аппаратов поддержания жизнедеятельности Кариты Риджуэй, и двадцать семь лет с тех пор, как Тим спас малышку Люси от фебрильных судорог. Тридцать восемь лет назад на той же неделе в Гонконге умер – или был убит – отец Ёдзи Обары, и примерно тогда же его второму сыну, на которого Обара-старший возлагал главные надежды, разбила сердце девушка по имени Бетти, наполовину американка. Прошло семьдесят лет с переезда в Осаку родителей Обары, бедных иммигрантов из колонии, и восемьдесят четыре года с погромов после Великого землетрясения Канто, когда японцы безжалостно убивали корейцев. Все эти события соединялись в общую картину, но я не мог увидеть ее целиком. У меня перед глазами стоял образ дерева, чьи корни, ушедшие глубоко под землю, питают ствол живительной водой. Ветви разрастались ввысь и вширь; от каждой веером расходились бесконечные мелкие побеги, питающиеся влагой из недр земли. Исковерканная жизнь Обары представлялась мне сучком на одном из побегов; смерть Люси, горе ее семьи, попытка самоубийства Софи стали плодами на этой ветке. Человеку под силу увидеть лишь крошечную часть извилистого черного дерева, и даже ее трудно описать словами. Но нынче утром судья Тотиги официально вынесет приговор этой крошечной частице. В невообразимом смешении смертей Люси и Кариты и странной жизни Обары должен проступить смысл.
После стольких лет наступал судьбоносный день. Я писал в блокноте: «Есть ли хоть один шанс, что его оправдают? Конечно же нет. Масса косвенных доказательств. Нелепая версия защиты. Весы правосудия по максимуму склонились в пользу обвинения. И все же…»
Я уже почти вышел из дома, с беспокойством понимая, что начинаю опаздывать, но все-таки снова включил ноутбук и быстро набросал второй черновик новостной статьи, которая начиналась так: «Владелец многочисленных объектов недвижимости в Японии Ёдзи Обара этим утром оправдан по обвинению в убийстве хостес из Британии Люси Блэкман после сенсационных шести с половиной лет судебных разбирательств.
(Добавить реакцию семьи в суде, слова судьи)
Вердикт послужил сокрушительным ударом по семье мисс Блэкман, особенно по ее отцу Тиму, который долгие месяцы провел в Японии, пытаясь заставить полицию активнее заниматься поисками дочери после ее исчезновения в июле 2000 года…»
В очереди в зал судебного заседания оказались 232 человека – меньше четверти от количества публики, присутствовавшей на первом разбирательстве. Подтверждался статус японского правосудия как пустой формальности; однако зал были заполнен почти целиком. Я смог разглядеть в первом ряду светловолосые головы Тима и Софи, позади них сидели Аннет, Найджел и Саманта Риджуэй. Обара уже был на своем месте, отвернувшись от всех и вся. Я занял свое место. Волнение не оставляло меня, к тому же время поджимало и я боялся опоздать со сдачей статьи. Каждые пятьдесят секунд я невольно смотрел на часы, а потом опять оглядывал лица вокруг, часть из которых хорошо помнил по предыдущим слушаниям: блогер Юки, хмурящиеся судебные художники и знакомый мне детектив; позади него – старик с цветком на шляпе. В самом заднем ряду сидел молодой худощавый блондин в плаще и что-то строчил в блокноте.
В зал через заднюю дверь быстро зашли судьи, и все встали.
Через восемь минут я уже был на улице, вцепившись в мобильник, вокруг меня сновала толпа таких же репортеров.
– Второй вариант! – закричал я, когда мне ответили из Лондона. – Берите второй вариант статьи. Его оправдали. Но он получил пожизненное заключение. Что ж, мне очень жаль, но так сказал судья. Знаю-знаю, я и сам ничего не понимаю.
От: Ричарда Ллойда Пэрри Отправлено: вторник, 24.04.2007.14:36 Кому: «Тайме онлайн»; отдел международных новостей «Тайме»
Тема: вердикт по делу Люси Блэкман – обновленный вариант
(Пересылаю окончательный вариант текста, переговорив с адвокатами, – думаю, теперь я все понял.)
Ричард Ллойд Пэрри Токио
Владелец многочисленных объектов недвижимости в Японии Ёдзи Обара этим утром оправдан по обвинению в изнасиловании и убийстве хостес из Британии Люси Блэкман. Вердикт послужил сокрушительным ударом по ее семье и вызвал нешуточное замешательство у токийской полиции и прокуратуры.
Тем не менее Обара получил пожизненный срок после обвинительных приговоров по другим восьми делам об изнасиловании и одном деле об изнасиловании и убийстве хостес из Австралии Кариты Риджуэй. Защита тут же заявила, что намерена подавать апелляцию.
Главный судья Токийского окружного суда Цутому Тотиги оправдал Обару по делу о похищении, изнасиловании, убийстве и расчленении Люси Блэкман, чье тело обнаружили закопанным в пещере на берегу недалеко от дома подсудимого через семь месяцев после его поездки с жертвой за город.
Судья Тотиги признал, что, несмотря на косвенные доказательства, нет прямых улик (например, образца ДНК), которые связали бы Обару со смертью Люси Блэкман.
Однако текст приговора демонстрирует отвращение судей к личности Обары и совершенным им преступлениям.
– Вы обращались с женщинами как с сексуальными объектами, стремясь удовлетворить свою похоть, – заявил судья Ёдзи Обаре, взирающему на него со скамьи подсудимых. – Ваше поведение продиктовано не здоровым сексуальным влечением, а грязными преступными намерениями. Более того, вы использовали смертельно опасные препараты, такие как хлороформ, которые способны привести к гибели вследствие нарушений в работе печени. Без сомнения, женщины поступали беспечно, но я считаю, что они не могли предугадать столь аномальное поведение… Вы неоднократно повторяли свои забавы, бессердечно подвергая опасности их жизнь и их тела.
Причиной преступлений является ваше эгоцентричное отношение, основанное на извращенных сексуальных вкусах, что заслуживает самого сурового наказания.
Семья мисс Блэкман выразила негодование по поводу оправдания Обары по делу Люси, а также обвинила токийскую прокуратуру в неумении собрать неопровержимые доказательства причастности Обары к смерти мисс Блэкман.
– Боюсь, что сегодняшняя несправедливость – результат провала прокуратуры, не сумевшей адекватно доработать дело, – заявил отец жертвы Тим, присутствовавший на заседании с младшей сестрой погибшей, Софи Блэкман. – Люси лишили возмездия.
Мать мисс Блэкман Джейн Стир заявила по телефону из дома в Севеноуксе, графство Кент:
– Мои худшие опасения оправдались. Я обращаюсь к своей любимой дочери Люси: я очень по тебе скучаю. Болезненная рана в моем сердце, видимо, никогда не заживет, но я истово верю, что однажды мы снова обнимемся. Твоя мамочка никогда не оставит надежду добиться правды и справедливости.
Миссис Стир, которая развелась с мистером Блэкманом еще до исчезновения их дочери, осудила бывшего мужа, который принял 100 миллионов иен от «друга» Обары в обмен на подписание показаний, где ставились под вопрос некоторые улики против обвиняемого. Но оглашение вердикта доказало, что в этом деле судья оправдал Обару не из-за денег, а из-за отсутствия «дымящегося ружья», которое связало бы его со смертью мисс Блэкман.
– Мы признаем, что тем или иным образом обвиняемый участвовал в расчленении и захоронении погибшей Люси, – подчеркнул судья Тотиги. – Есть подозрения, что в том или ином смысле он причастен и к ее смерти. Такое предположение косвенно подкрепляется попытками обвиняемого скрыть ее смерть и предоставить ложную информацию, будто девушка жива. Однако остается неизвестным, как именно обвиняемый причастен к гибели Люси.
В Японии в случае оправдательного приговора и обвинение, и защита могут подавать апелляцию, так что дело, видимо, растянется еще на несколько лет.
Часть VI
Жизнь после смерти
Очень по-японски
– Когда разбирательства с полицией закончились, я улетела домой в Англию и впала в транс, – рассказывала Луиза Филлипс. – Я не могла спать и все время плакала. Мне казалось, что кто-то придет за мной, и я глушила страхи алкоголем и лекарствами. Я ненавидела себя и утратила желание жить. Я не выходила из дома моей мамы в Кенте, и родным пришлось со мной нелегко. Меня мучили кошмары, будто за мной кто-то гонится, или во сне я тщетно пыталась спасти Люси из горящего здания. Иногда мне чудилось, что Люси вернулась домой и говорит: «Вот и я – я тебя искала», или незнакомый голос говорит по телефону: «Ты никогда ее больше не увидишь».
Потерю близкого человека часто сравнивают с потерей части тела, но далеко не всегда подразумевается ампутация с аккуратными швами. Когда молодой человек умирает жестокой и неожиданной смертью – это все равно что выдернуть руку из сустава. Мышцы и артерии разорваны; от шока и нехватки крови страдают даже далеко расположенные органы. После гибели Люси внутренняя орбита, по которой она вращалась, навсегда лишилась стержня. Боль потери излилась наружу, подействовав не только непосредственно на семью и близких друзей девушки, но и на тех, кто даже не знал Люси.
Софи едва не убила себя, и девять месяцев ей оказывали психиатрическую помощь. Руперт Блэкман весь первый семестр в университете страдал от глубокой депрессии. Он вернулся домой к Джейн, и целыми днями в одиночестве лил слезы у себя в комнате. Подруга Люси Гейл Блэкман год ходила к психотерапевту; Джейми Гаскойну, бывшему парню Люси, который ездил с Софи в Токио на поиски, пришлось учиться управлять гневом.
– Когда я узнал о случившемся, мне просто хотелось кого-нибудь убить, – признался он. – Я и правда вел себя ужасно. Через несколько месяцев я начал встречаться с девушкой, коллегой по работе, и обращался с ней ужасно. Меня воспитывали в стопроцентном уважении к женщинам, но я не мог совладать с собой.
Однако хуже всех пришлось Луизе, которая много лет не могла избавиться от мыслей о самоубийстве. Выпивка и кокаин все хуже помогали не поддаваться им. Из-за данного полиции обещания ничего не рассказывать о деле Люси семье Блэкманов девушке было еще тяжелее. В итоге ближайшие друзья Люси и ее мать Джейн Блэкман отвернулись от Луизы, убежденные, что та скрывает важнейшие доказательства. Луиза жила дома, время от времени подрабатывая официанткой, но нигде надолго не задерживалась. В конце концов она влюбилась и вышла замуж за человека, которого знала еще по юным годам в Бромли, но рядом всегда маячила мрачная история смерти Люси, грозившая в любой момент разрушить счастье Луизы.
– Никто со мной не разговаривал, – жаловалась девушка. – Все подозревали меня. Чувство вины не оставляло меня ни на Рождество, ни в день рождения, ни даже в день своей свадьбы: меня мучило, что я выхожу замуж, а Люси нет. Я чувствовала себя виноватой в том, что счастлива, что взрослею. На мне будто лежал груз ответственности, что я существую, а моя подруга погибла.
Понятно, что после смерти Люси ее невидимый образ некоторое время будет преследовать близких. Но девушка и умерла невидимкой: семь месяцев, пока ее останки покоились в пещере, ее искали и никак не могли найти. Впрочем, никто не удивился, когда выяснилось, что Люси убили. Не признаваясь в этом вслух, в глубине души все давно понимали, что она ушла навсегда.
Но когда тело жертвы нашли, родным и друзьям пришлось столкнуться с самой дикой жестокостью.
– Я помню свои мысли, когда Люси считалась пропавшей без вести, – призналась Софи. – Я думала: «Видимо, теперь она уже не вернется – ее больше нет, и я начинаю к этому привыкать, но только пусть ее не разрубят на куски». Когда мне показали фотографии, стало ясно, что попрощаться с сестрой по-человечески не удастся. Даже сияющие волосы – ее гордость и символ привлекательности – были отрублены или сожжены. А потом начался запутанный долгий суд, мрачный и нелепый, зловещий и утомительный одновременно, со свиными тушами в палатках, замороженными собаками, вежливыми гангстерами и темной фигурой неуловимого преступника в центре паутины…
Закоренелый рецидивист, лощеный психопат из высшего света или дерганый маньяк – любой был бы лучше Ёдзи Обары, шепелявого, одинокого, дотошного идо абсурда настойчивого. И наконец, вердикт, который назвал его виновным во всем, кроме причинения вреда Люси, – и не потому, что судья действительно счел Обару невиновным, а из-за недостаточности улик. Дальше предстояли апелляции с обеих сторон, и перспектива подать последующие апелляции, и возможность изменить все десять вердиктов, как обвинительных, так и оправдательных. Судебный процесс не принес никакой уверенности, никакого привычного утешительного вознаграждения за терпение и старания. Казалось, все специально подстроено так, чтобы выбить участников из колеи, лишить их почвы под ногами.
Воздействие этого дела походило на вращение центрифуги: оно не объединяло, а разъединяло людей. И речь не только о семье Блэкманов; многие из тех, кто знал Люси, вдруг замечали за собой, что отдаляются от друзей, семьи и друг от друга. Тем, кому было не все равно, любая реакция на смерть Люси казалась ненормальной. Их одинаково мучило и холодное безразличие, и назойливое любопытство. У каждого находилось собственное мнение, основанное на поверхностных сведениях из газетных статей и телевизионных выпусков, и многие обыватели осуждали сомнительную профессию хостес и неосмотрительность Люси, севшей в машину незнакомого мужчины. Точно так же раздражали те, кто преувеличивал свою близость с Люси ради желания прославиться знакомством со знаменитой жертвой и публично присоединиться к сонму плакальщиков.
Даже настоящим друзьям было трудно поднимать болезненную тему. Джейн жаловалась, что круг ее знакомых очень сузился, ведь они столкнулись с необычной и непростой задачей соблюдать деликатность. А что сказать женщине, чью дочь только что порубили на куски и закопали в пещере?
Подруга Люси Кэролайн Лоуренс, после ее исчезновения вернувшаяся в Севеноукс на Рождество, избегала всех своих старых приятелей.
– Мне не хотелось ни видеть, ни слышать прежних знакомых, чтобы не думать о смерти Люси, – призналась она. – Я вообще не выходила из дома. Однажды я увидела, как по улице идет Софи, и спряталась. Пусть это эгоистично, но я просто не могла себя заставить с ней поговорить.
И дело не только в неумении подобрать искренние слова для Софи. Невероятное внешнее сходство девушки с погибшей сестрой стало в последние годы особенно заметным и создавало жуткое впечатление, что перед тобой покойница.
Софи заметила страх окружающих, и гнев на их несправедливое отношение – разве она заслуживает наказания из-за сходства с сестрой? – только усилил ее одиночество. Она и так слишком долго чувствовала себя призраком и не желала видеть ужас в глазах других. Через два года после смерти Люси Софи осознала, что перешагнула страшный порог: по числу прожитых лет она обогнала собственную старшую сестру. Но ей было некому рассказать, какие чувства это вызывает и какая скорбь наполняет душу.
В сентябре 2007 года Токийский окружной суд закрыл дело о клевете, возбужденное против меня Обарой. Он подал апелляцию в высшие инстанции, где через восемь месяцев ему также отказали. Возможно, Ёдзи и не рассчитывал выиграть: вероятно, смысл заключался не в том, чтобы доказать свою правоту, а в стремлении заставить меня поволноваться и потратить время и деньги на бумажную волокиту. Японские суды, разбирающие дела о клевете, не требуют с проигравшего истца возмещения судебных издержек. «Тайме» потратила на услуги адвокатов 60 тысяч фунтов.
Я был не единственным, против кого Обара выдвигал обвинения. Он подал в суд и выиграл возмещение ущерба у нескольких японских еженедельных изданий, а также у журнала «Тайм», который в 2002 году допустил ошибку в статье, сообщив, что подозреваемый связан с якудза. Как мог банкрот позволить себе столь дорогостоящие мероприятия и содержание свиты адвокатов, частных детективов, администраторов сайта и издателей, не говоря уже об огромных расходах на выплаты «денег соболезнования»? Ответ – его семья. Контроль над имуществом Обары перешел к родственникам, включая мать, Кимико, которой перевалило за восемьдесят. Именно они либо их агенты щедро оплачивали юридические услуги. Я слышал, что Кимико все еще проживает в доме, где вырос Обара. Младший из ее сыновей Косе Хошияма также остался в Осаке, где работал дантистом, всячески избегая журналистов. Был и третий брат, честолюбивый писатель, который называл себя Эйсё Кин. Никто из членов семьи Ёдзи ни разу не появился в суде и не дал ни одного официального интервью; даже адвокаты Обары лишь выписывали родственникам счета, а общались с ними мало и очень редко. И я отправился на скоростном поезде из Токио в Осаку на поиски семьи Ким-Кин-Хошияма.
На станции я взял такси компании «Кокусай такусии» – «Международное такси», которая все еще принадлежала Кимико. На ней семья и заработала себе состояние. Сначала я отправился туда, где Обара собирался построить башню в стиле «экономического бума», и обнаружил пустую многоэтажную парковку. После я отыскал первое жилье Кимов – старый домик в переулке, отходящем от торговой улицы в бедном районе. Он также пустовал; за углом стоял один из семейных салонов патинко – темный, с закрытыми ставнями. Оттуда я отправился в богатый спальный район Китабатакэ, где все еще остались традиционные японские дома, окруженные высокими стенами из кирпича, обмазанного глиной, с тяжелыми воротами и черепичной крышей. У одного из таких зданий висела табличка с именем матери Обары. Я позвонил по домофону, и после долгого ожидания откликнулась пожилая женщина.
– Госпожа Ким? – уточнил я.
– Ее здесь нет, – ответил слабый голос.
– Вы не госпожа Ким?
– Я домработница.
– А когда вернется хозяйка?
– Не знаю.
Я не сомневался, что говорю с самой матерью Обары.
Уже отойдя от дома, я заметил, что из его калитки вышел человек под пятьдесят в белой мятой рубашке навыпуск и черных брюках. Он нес два полиэтиленовых мешка с мусором или грязным бельем и двигался быстрым шагом, устремив взгляд вперед. Я понял, что передо мной Эйсё Кин.
– Господин Кин! – окликнул я его и поспешил вдогонку. – Господин Кин, можно с вами поговорить?
Мужчина помедлил и обернулся, но, когда я представился, он тут же взорвался. Я привык к тому, что присутствие репортера мало кого радует, но реакция Эйсё Кина превзошла все ожидания. Он взбеленился в один миг, без всякой прелюдии или постепенно растущего раздражения. Как только я протянул визитку и назвал свое имя, он буквально обезумел.
– Я издатель! – заорал он ни с того ни с сего. – Прочтите мои книги!
– Да, господин Кин, я читал ваш рассказ о корейце и глухих юношах, – кивнул я. – Он показался мне интересным. Можно с вами поговорить?
– Я не видел брата тридцать лет, – отрезал он. – Если вы опять попадетесь мне на глаза, я приму известные меры. Не желаю, чтобы вы ко мне приближались. – Эйсё Кин остановился, поставив мешки на тротуар, и продолжал кричать, выпучив глаза и тыча в меня пальцем: – Если девицы приезжают в чужую страну и идут за парнем, причем совершенно не привлекательным, в его квартиру, – о чем это говорит? Зачем ей так поступать?
– Ну не знаю, мистер Кин. Если вы имеете в виду Люси Блэкман, она решила, что Обара хочет сделать ей подарок.
– Вы тупица! – рявкнул он и продолжил свой путь с мешками, поглядывая на меня через плечо, пока я пытался его догнать. – Это абсурд. Занялись бы серьезными вопросами, а не всякой ерундой. Как насчет глобального потепления?
– Я пишу на разные темы…
– Вы видели в Таиланде красивую девушку рядом с уродом?
– Довольно часто, я ду…
– Вы попусту тратите время.
– Простите, если…
– Вы пишете статьи за деньги?
– Такая у меня работа, если вы это имеете в виду. Я…
– Мой отец провел в тюрьме два с половиной года, – неожиданно перешел он на английский, а затем снова остановился и поставил мешки на землю. – Он участвовал в сопротивлении, боролся с японцами. Но единственное, в чем я виню отца, – ему не хватало времени на семью. Но он всегда говорил о важной роли образования.
Я кивнул в надежде выразить сочувствие и понимание.
– Я не выезжаю за границу, но говорю на японском, корейском, китайском и английском, – продолжал Эйсё.
Я снова с готовностью кивнул.
– Я не богач, – заявил он. – Японская пресса утверждает, что мой брат – магнат в сфере недвижимости в Восточной Японии. Идиотизм… – Он с отвращением махнул рукой и добавил: – Не приходите сюда больше. Никогда. Не приближайтесь ко мне. Иначе я приму меры.
– Господин Кин, я не хотел вас обидеть. У меня всего несколько…
Но мужчина снова решительно двинулся по улице со своими мешками, продолжая бормотать и качать головой.
В марте 2007 года, за месяц до вынесения вердикта в Токийском окружном суде, в восточном пригороде Токио была убита двадцатидвухлетняя британка Линдси Хокер, преподаватель английского языка. В воскресенье она отправилась к двадцативосьмилетнему японцу по имени Тацуя Итихаси на занятия по разговорной речи и не вернулась домой. Когда на следующий день туда заявилась полиция, Итихаси ускользнул из квартиры в одних носках, не успев обуться. На балконе квартиры обнаружилась ванна с землей, в которой преступник закопал тело Линдси. Девушку избили, изнасиловали и задушили.
Ее отец Билл Хокер, инструктор по вождению из Мидленда, вылетел в Японию, чтобы опознать дочь и привезти тело домой. Как и Тим Блэкман, он дал пресс-конференцию в отеле недалеко от аэропорта Нарита. Конечно, обстоятельства отличались: о судьбе Линдси стало известно сразу же, и единственной загадкой было местонахождение убийцы. Но в Билле Хокере я увидел горюющего родителя в той самой роли, которая подходила по ситуации и Тиму Блэкману, но тот отказался ее играть.
Билл Хокер почти ничего не понимал от горя. Скорбь по дочери пересилила ненависть к убийце. На него было больно смотреть; меня терзал стыд, что человеку, задыхающемуся от рыданий перед чужими людьми, бессердечно задают вопросы. Но журналисты все равно их задавали, и вспышки фотоаппаратов освещали перекошенное лицо Билла. Он олицетворял все то, чего не показывал Тим Блэкман, но чего публика ждет от человека в такой ситуации: сломленный, беспомощный, уничтоженный потерей любимой дочери.
Тем временем Тацуя Итихаси просто исчез; полиция разыскала его только через тридцать два месяца. Оказалось, что он уже давно преследовал иностранок и однажды вечером, столкнувшись с Линдси на железнодорожной платформе, шел за ней до самого дома. Национальность жертвы и способ захоронения тела добавляли преступлению пугающе-непонятный оттенок, и все же многие сочли неудивительным, что подобное убийство произошло именно в Токио.
Сколько раз иностранцы – в Японии и Британии – вслух отмечали, что убийство Линдси Хокер выглядит «очень по-японски», хотя затруднялись назвать причины. А дело заключается в неясном, и все же глубоко засевшем стереотипе, основанном на рассказах о навязчивости японских мужчин, о подавляемой или извращенной сексуальности, порнографических комиксах и байках о том, как японцы относятся к женщинам с Запада. Смерть Линдси Хокер посчитали не ужасающим отклонением от нормы, а вполне ожидаемым происшествием. Тенденцию с беспокойством отметили и сами японцы – особенно после пресс-конференции Билла Хокера, который заявил, что убийство его дочери «позорит вашу страну». На тех выходных встревоженное японское телевидение отправило съемочную бригаду на улицы Лондона, чтобы узнать у прохожих, очерняет ли гибель Линдси репутацию Японии.
Конечно, возникло ощущение дежавю, связанное с делом Люси; со временем люди стали путать британскую девушку, зарытую в пещере, с британской девушкой в ванне, объединив обе истории. Однако, кроме страны, где произошли убийства, национальности жертв и их возраста, ничего общего между преступлениями не было. К тому же девушки погибли с разницей в семь лет. И все же многие поспешили составить превратное впечатление о Японии и ее жителях в целом.
СМИ пестрели обобщениями по поводу японской сексуальности и воображаемых вкусов местных мужчин. Упоминались «тикан» – «лапалыцики» в переполненных поездах, а также печальное известные японские порнографические манга-комиксы с напоминающими европеек большеглазыми красотками, которых бурно насилуют угрюмые клерки. Газеты задействовали бывших учительниц английского и хостес в «страшилках» о навязчивых преследователях. «Чем так притягательны для японцев западные женщины?» – задался вопросом репортер некоей бульварной газеты и нашел ответ, побродив по пабам Роппонги. В своей статье он, в частности, писал: «„Они одновременно презирают нас и восторгаются нами, если вы меня понимаете, – сообщила мне двадцатичетырехлетняя учительница английского из Ливерпуля, выпивая с друзьями в баре в пятницу вечером. – Вот почему нам так трудно их понять. Я пытаюсь расшифровать поведение местных мужчин уже целый год, сколько здесь живу, и до сих пор не преуспела“.
Одни англичанки уверяли, что японцы относятся к ним странно, неприятно и непредсказуемо, но другие отмечали мистическую притягательность европейских женщин для здешнего контингента.
Выше ростом, более независимые и свободные, чем японки, они пугают, раздражают и неодолимо манят к себе. „На западных красавиц, особенно высокого роста, здесь смотрят как на богинь, – рассказывает британская сотрудница токийской биржевой компании, прошлой ночью гулявшая с друзьями в баре „Хаб“ в Роппонги. – …Японцы настолько другие, что вряд ли нам вообще удастся их понять“».
Всю суть передавал заголовок статьи: «Прокуренные бары, японские мужчины и их одержимость западными прелестницами стоили Линдси жизни».
Население Японии более чем в два раза превосходит население Британии, однако в 2005 году там зафиксировали 2,56 миллионов преступлений против 5,6 миллиона в Англии и Уэльсе. Что примечательно, только 3,5 % японских правонарушений связано с насилием – по сравнению с 21 % в Британии. Сколько молодых британок погибли в Нью-Йорке, Йоханнесбурге или Москве за годы между смертью Люси Блэкман и Линдси Хокер? Никто не потрудился выяснить. По стандартам любой сравнительно развитой западной нации, Токио – фантастически безопасный город, где крайне редки кражи со взломом, где почти не знают об угоне автомобилей, а женщины спокойно ходят по улицам в любое время дня и ночи. Одна из причин зачастую неумелых действий японской полиции – недостаток практики расследования настоящих преступлений.
Мнение о японцах, «одержимых» западными женщинами, – расистское клише: наглые, волочащиеся за каждой японкой иностранцы попадаются в Токио куда чаще пресловутых «лапалыциков». Местная порнография и манга действительно уникальны по стилю, но предположение, что японцы-онанисты больше увлекаются порнографией, чем их «коллеги» на Западе, опровергается фактами: крупнейшим потребителем и производителем порнографии являются Соединенные Штаты. И всякому, кто считает Японию сексуально зажатой страной, следует провести вечер пятницы с девушками из Роппонги, которые проявляют к мужчинам-иностранцам не меньше интереса и влечения.
Что же делает Японию настолько «другой» для западного гостя? Не только иероглифы на табличках и раскосые глаза прохожих. Существует неуловимое, но глубокое ощущение себя гайдзином, чужаком, которое и восхищает и пугает, – абсолютное непонимание окружающей атмосферы, жестов отдельных людей и эмоций толпы. Токио брызжет энергией, но она заперта в рамках из правил и условностей. Лучше всего это заметно в поведении японцев, в их пресловутой «сдержанности» и «вежливости».
Японские мужчины редко проявляют агрессивный мачизм, который на Западе используют, чтобы произвести впечатление или напугать. Японцы редко «распускают хвост» с напыщенным видом; почти всегда они являют полную противоположность опасному и угрожающему поведению. Новичкам вроде Линдси или Люси, которые не разбирались в японцах, они казались «милыми», «робкими», «скучными». За пятнадцать лет жизни в Токио я стал свидетелем всего двух драк, и обе начались внезапно, без предварительной ругани, подстреканий или предложений «выйти поговорить», и закончились столь же неожиданно.
В итоге у многих иностранцев ослабевает инстинктивная осторожность и подозрительность, которые защищают нас дома. Вот что объединяло Линдси Хокер и Люси Блэкман, консервативных, порядочных англичанок, которые никогда не пошли бы домой к незнакомому англичанину и не устроились бы хостес в лондонском ночном клубе. Япония казалась им безопасной; Япония и была безопасной, – вот почему девушки, зачарованные мнимой защищенностью, приняли такие решения, на которые не отважились бы в любой другой стране.
Почему Люси поехала в Дзуси в квартиру Ёдзи Обары? Даже самые близкие удивились ее неосмотрительности.
– Пойти в гости к такому мужчине просто глупо, – говорил брат Люси Руперт. – Я постоянно думаю о том, что несчастья можно было легко избежать. Я пытаюсь представить себя на ее месте и всегда нахожу момент, когда я сказал бы: «С меня хватит. Дальше я не пойду». Но для самой Люси события того дня развивались вполне естественно; тут, видимо, и проявилась дьявольская хитрость ее обидчика – сделать так, чтобы жертве даже в голову не пришло сомневаться или остерегаться.
Работа хостес подразумевала встречи с мужчинами в свободное время, и Люси под угрозой увольнения пыталась набрать нужное количество доханов, так что ей были очень нужны постоянные клиенты. Вдобавок ей обещали подарить мобильный телефон, который облегчил бы не только работу, но и дружеские, а тем более новые романтические отношения. В самом Обаре не было ничего явно устрашающего; с его хорошим английским и кажущимся богатством он выглядел куда привлекательнее многих клиентов «Касабланки». К тому же изначально они договорились только на ланч, а уже потом Обара опоздал и вдруг невзначай предложил съездить к такому знакомому, совершенно неопасному и ласкающему слух любого британца месту – на побережье.
Люси плохо представляла, насколько далеко и в каком направлении находится море; когда они туда наконец добрались, уже не имело смысла отказываться. Обара не потащил ее сразу к себе – сначала были фотографии у моря, а потом, возможно, последовало вполне логичное предложение заказать еду на дом и не ходить в ресторан, раз уже так поздно. Как только они оказались в квартире, ей подарили обещанный мобильный телефон, уже активированный. Никто не знает, что случилось потом; суд не выяснил никаких подробностей, и Ёдзи Обару оправдали по делу об убийстве Люси – но после такого долгого дня с щедрым клиентом разве можно отказаться от бокала шампанского из рук хозяина?
Многие девушки в подобных обстоятельствах поступили бы точно так же. И многие еще поступят так в будущем, и лишь единицы из них в итоге попадут в беду. Со временем я пришел к выводу, что в этом и состоит печальная будничная правда о смерти Люси Блэкман: дело не в неосторожности или глупости девушки, а в том, что в практически безопасном, хоть и непростом обществе ей страшно не повезло.
Я как-то поделился своими мыслями с Тимом Блэкманом, но он со мной не согласился.
– Невезение тут ни при чем, – заметил он. – За ней охотился тот, кому место в тюрьме. Виновата не злая судьба, а общество, не сумевшее обуздать преступника. Люси стала жертвой бездействия закона и порядка.
Инспектор Удо и некоторые другие офицеры токийской городской полиции, с которыми я общался, показались мне честными и преданными работниками, трудившимися день и ночь, чтобы найти убийцу Люси. К сожалению, они служили в структуре, которая была и остается самонадеянной, ленивой и зачастую некомпетентной. Косность полиции – одно из загадочных табу японского общества, тема, которую пресса и политики не обсуждают и даже не признают[54].
На самом начальном уровне – регулируя дорожное движение, помогая заблудившимся старушкам и усмиряя выпивох и дебоширов – японские стражи порядка бесподобны. В более серьезных случаях они сумеют вытянуть признание из обычного японского правонарушителя. Но перед лицом неординарного преступления они неизбежно пасуют: забывчивые, страдающие отсутствием воображения и множеством предрассудков, увязшие в бюрократизме полицейские – просто обуза для современного общества. Их работа в деле Люси Блэкман и других аналогичных расследованиях наводит на мысль, что истинная причина низкой преступности в Японии не в отличной работе блюстителей порядка, а в самих людях, законопослушных и уважающих друг друга не благодаря, а почти вопреки японской полиции.
Конечно, можно сделать скидку на трудности, возникающие в том случае, когда жертва – иностранка; семья девушки из Японии, пропавшей в Британии, наверняка тоже столкнулась бы со множеством разочарований, выпавших на долю Блэкманов. Но настоящим позором стало не само расследование – традиционно халтурное, фатальное запоздавшее, с вялой слежкой за Обарой и неспособностью найти тело в пещере. Куда серьезнее полиция ошиблась, столько лет позволяя Обаре оставаться на свободе. К примеру, Кэти Викерс сообщила о нем еще в 1997 году, и ее отказались слушать. А сколько девушек, промолчавших о своем унижении, сталкивались с «игрой» насильника? Самым большим позором можно назвать те пять лет, когда полиция не хотела слушать подозрения семьи Кариты Риджуэй в отношение «Нишиды», который привез их умирающую дочь в больницу. Ошибка детективов состояла в отсутствии воображения, неспособности всей правоохранительной структуры думать не по шаблону. Полицейские подразделяли людей на типы, от чего и отталкивались. Молодая хостес, которая пошла домой к клиенту и потом обвинила его в изнасиловании, видимо, разыгрывает спектакль, а вот богатый парень с рассказом об испорченных устрицах и пищевом отравлении явно говорит правду. Японская полиция совершенно не могла защитить женщин от Обары; он легко выскальзывал из их сети с крупными ячейками. Когда умерла Карита, Люси Блэкман исполнилось тринадцать, а ведь тогда можно было покончить с преступником. «Если бы полиция вовремя выследила Обару, достаточно было только обыскать его дом, и раскрылись бы все его грязные утехи, продолжавшиеся десятилетиями, – писали Риджуэи в заявлении накануне оглашения вердикта. – Обара тридцать лет был серийным насильником, накачивал своих жертв наркотиками. Если бы полиция предприняла действия в 1992 году, как мы просили, Люси Блэкман была бы жива, и многие другие девушки, японки и европейки, избежали бы изнасилования».
В начале 2009 года, через год после неудачных попыток засудить меня за клевету, я пережил ряд любопытных событий. Но для начала важно заметить следующее: у меня нет никаких доказательств, что они как-то связаны с Ёдзи Обарой.
Однажды утром ко мне домой в Токио доставили большой плотный конверт. Послание добиралось до меня несколько дней; по штемпелям я обнаружил, что оно долго кочевало по почтовым отделениям. Оно было адресовано некоему Кэнго Намай в бюллетень «Спасем нацию», но квартиру на окраине Токио, указанную на конверте, почтовая служба не нашла. Отправитель назвался «Товарищем», однако не предоставил больше никакой контактной информации. Не имея обратного адреса отправителя, на почте вскрыли конверт и, увидев в письме мое имя, переслали его мне.
Внутри конверта под ксерокопией моей визитки лежал лист бумаги с моим домашним адресом. В конверте также были: скрепленные степлером документы, несколько фотографий и книга на японском языке в твердой обложке с изображением женщины с диадемой на голове.
Сначала я взглянул на фотографии: десять цветных снимков, распечатанных на двух листах бумаги. На них был я, один или с друзьями. Очевидно, что кадры тайком сделал некто, следивший за мной.
Пять фотографий были примерно трехмесячной давности. Я очень хорошо помнил тот день: погожая осенняя суббота, поздний ланч с гостями из Лондона. На снимках мы идем домой по многолюдной торговой улице, я разговариваю с гостями и улыбаюсь. Где сделаны остальные кадры, распознать оказалось труднее. Один, вероятно, появился с камеры видеонаблюдения в лифте; на двух других я где-то выступал, на лекции или на собрании. Я постарался вспомнить похожие события и подозрительного типа с фотоаппаратом, но ничего не вышло. Так или иначе, он или она шли за мной по улице неподалеку от моего дома, пока я занимался своими немудрящими ежедневными делами.
Дальше я изучил остальное содержимое конверта. Книгу я узнал: японское издание документального романа «Принцесса Масако: пленница хризантемового трона», написанного австралийским журналистом Беном Хиллзом. Книга вышла три года назад и приобрела скандальную известность. Там рассказывалось о несчастной судьбе японской наследницы престола, талантливой и амбициозной выпускницы Гарварда, которую привела к хронической депрессии удушающая атмосфера императорского двора, тщательно поддерживаемая дворцовой бюрократией. Японское правительство жестко осудило вышедшую в свет книгу; токийский офис ее издателя пикетировали разъяренные ультранационалисты. Однажды я брал интервью у Бена Хиллза, когда он проводил свое исследование; в его книге есть пара моих статей о принцессе Масако. В переведенном на японский экземпляре, который я держал в руках, все ссылки на мое имя были выделены желтым маркером, а страницы аккуратно помечены стикерами.
И последнее, что обнаружилось в конверте, – документе шесть страниц, отпечатанных на лазерном принтере. Никаких приветствий или вступительных фраз, сразу к сути: «Целью Ричарда Ллойда Пэрри является свергнуть японскую императорскую семью и взять Японию под британский контроль».
Далее отмечалось: «В „Принцессе Масако“, клеветнической книге об императорской семье, использованы материалы, предоставленные Ричардом Пэрри, который манипулировал австралийским журналистом Беном Хиллзом и заставил его опубликовать текст. Хотя должность Ричарда Пэрри называется „глава токийского бюро“, у него всего один наемный работник, и Пэрри может безнаказанно делать то, что взбредет ему в голову… Он продолжает настойчиво оскорблять императорскую семью за рубежом, и, если его не остановить, ситуацию не удастся исправить. Мы надеемся найти героя, который разберется с Ричардом Пэрри.
В настоящий момент в Интернете блокируется информация, порочащая императорскую семью. Далее приводится основное содержание статей, фотографии и другие материалы из Интернета.
К Ричарду Пэрри, человеку, который готовит заговор против Японии, нельзя более относиться снисходительно. Клан Пэрри убил 186 японских солдат во время Второй мировой войны. Он оскорбил семью императора и ввел японцев в замешательство… Он предоставил материалы Бену Хиллзу, якобы независимому австралийскому журналисту, с целью заговора против японской императорской семьи путем написания и публикации книги… Нельзя позволять Ричарду Пэрри и дальше оскорблять императорскую семью и дезорганизовывать Японию».
Столько нелепостей в одном конверте.
Меня не в первый раз называли врагом императорской семьи: других журналистов, которые сообщали о депрессии принцессы, обвиняли в том же самом. Но кукловодом австралийского писателя и проводником британских имперских замашек меня назвали впервые. Однако самым невероятным стал отрывок военной истории (абсолютно новый для меня) и образ «членов клана» Ллойда Пэрри военного времени, которые попирали ногами трупы японских солдат. Даже для выдумки чересчур цветисто, и я не мог удержаться от улыбки. Знакомый стиль…
Я сразу понял, что происходит. Кто-то, скорее всего частный детектив, аккуратно собрал досье на меня; судя по отсутствию обращения, он, вероятно, сделал кучу копий и разослал по многочисленным адресам, среди которых числился и вестник «Спасем нацию». Но организация либо переехала, либо закрылась, и совершенно случайно конверт попал в руки мне – последнему человеку, который должен был прочесть досье.
По названию понятно, что «Спасем нацию» являлась группой ультранационалистов – одной из многих больших и маленьких ячеек, существующих по всей Японии и устраивающих шумные демонстрации против людей и организаций, которые кажутся им недостаточно патриотичными. Ученые и политики, с пренебрежением отзывающиеся о стратегии Японии времен Второй мировой войны, посольства России, Южной Кореи и Китая, журналисты, компрометирующие императорскую семью, – все они время от времени навлекают на себя неудовольствие «уёку», ультраправых сил, которые выражают свое возмущение традиционным способом: выводят на улицы один или несколько черных фургонов и выкрикивают с крыши обвинения в мегафон, размахивая флагами с изображением восходящего солнца. Иногда ячейки связаны с бандами якудзы, но к актам насилия прибегают очень редко. Кто бы ни был отправителем конверта, он надеялся разжечь ненависть ультрас ко мне лично, в надежде, что они явятся ко мне домой или в офис и «разберутся» со мной.
В документе использовалось слово «сейбай»; знакомая японка, которой я показал текст воззвания, с трудом смогла его перевести.
– «Разобраться» – да, пожалуй, подходящий вариант, – заметила она. – Но можно перевести и как «судить» или «наказать». «Усмирить» и даже «повергнуть». Нехорошее слово. Очень нехорошее. Думаю, тебе следует отнести материалы в полицию.
Я не ожидал, что полиция воспримет угрозы всерьез, однако я ошибся. Через несколько минут после моего появления в участке в маленьком допросном кабинете собрались четыре детектива и, надев перчатки, принялись изучать конверт и его содержимое. Меня закидали вопросами: замечал ли я слежку, получал ли в последнее время странные телефонные звонки, видел ли подозрительных людей или машины возле дома или офиса. И каждый раз я отвечал: «Нет».
– У вас есть враги? – поинтересовался главный инспектор, маленький, опытный на вид человек с морщинистым лицом курильщика.
Конечно, иногда мои статьи вызывали неприятие. Как любой репортер, пишущий о семье императора, особенно о грустной истории принцессы Масако, я изредка получал злобные письма, телефонные звонки с ругательствами и анонимные угрозы из самых темных глубин Интернета. Но мало-мальски серьезные действия против меня предпринимал только один человек.
– Вы правильно сделали, что обратились к нам, – заметил главный инспектор. – Слово «сейбай» в подобном письме настораживает. Оно подразумевает насилие. Вы смотрите сериалы про самураев? Воины употребляют такое слово, когда говорят о нападении на своих врагов. А если самурай с кем-то «разбирается», он пускает в ход меч.
Детективы оставили конверту себя, чтобы проверить на отпечатки пальцев. Я спросил, нужно ли мне принять какие-то меры предосторожности. Инспектор нахмурился и кивнул.
– Не стойте близко к краю платформы в метро, – посоветовал он. – Держитесь подальше – тогда вас будет труднее толкнуть под поезд. И то же самое, когда ждете зеленого сигнала светофора, – не приближайтесь к проезжей части. В любом случае будьте бдительны и сразу же звоните, если заметите что-нибудь подозрительное. Мы известим местный полицейский участок, чтобы патрульные приглядывали за вашим домом.
Один из детективов специализировался на действиях крайне правых. Он знал вестник «Спасем нацию» и Кэнго Намая, которому сразу же позвонил. Адрес организации действительно поменялся, подтвердил господин Намай, но им не присылали никаких писем. Детектив описал содержимое конверта и спросил мнение Намая, но тот успокоил полицию. По его словам, ультранационалисты получают множество странных писем, но любой нормальный правый пропустит мимо ушей подстрекательства в анонимной писанине без ссылок на источники.
Подозрения в слежке как ничто другое обостряют чувства. В несколько последующих недель Токио засиял для меня фантастическими оттенками, будто его снимал через цветные фильтры режиссер-фантаст. Детали, на которые я прежде не обращал внимания, – вспышки фотокамер, темные очки, цвет и марка припаркованных автомобилей, одежда и лица прохожих на улице – вдруг преисполнились зловещего смысла. Я фиксировал в памяти каждую секунду, будто собирая подробный отчет о происходящем для показаний под присягой. Самые банальные занятия вроде пятнадцатиминутной поездки на метро в офис превратились в героическую борьбу за выживание. Я чувствовал себя до смешного нелепо, но тошнотворная тревога не отпускала.
Шли месяцы. Никаких попыток швырнуть меня под поезд, никаких ударов сверкающим самурайским мечом, никаких новых странных писем и телефонных звонков. Как-то мне позвонил инспектор и сообщил, что отпечатки пальцев на конверте не значатся в полицейской базе. Я уже почти расслабился и стал без опаски переходить улицу, когда в июне 2009 года из соседнего с моим офисом полицейского участка позвонили. Группа ультранационалистов под названием «Школа благородного сердца» намерена провести демонстрацию против меня и, как положено у законопослушных японских экстремистов, официально сообщила о своих планах. Полиция не могла запретить свободное выражение взглядов, но предпочла своевременно меня предупредить.
«Школа благородного сердца» появилась, как и обещала, через несколько дней: четверо мужчин среднего возраста в стареньком черном фургоне с флагом. Протест проходил по классическому сценарию уёку: несколько кругов вокруг офисного здания и требования через мегафон, чтобы Ричард Пэрри из «Тайме» извинился за оскорбление императорской семьи. Мужчины попытались проникнуть в здание, но охрана вежливо им не позволила. Тогда они потребовали вручить мне письмо, однако и его отказались передать. Националисты опустили конверт в почтовый ящик напротив здания, но, поскольку марки на нем не было, письмо так до меня и не дошло.
Через полчаса мои преследователи на черном фургоне уехали восвояси. Правда, полтора месяца спустя они вернулись и повторили ритуал с фургоном, лозунгами и письмом, однако больше я ничего не слышал ни о них, ни об их единомышленниках.
Та история так и осталась загадкой. Я до сих пор не знаю, кто и почему пытался заставить националистов «разобраться» со мной. Но сам инцидент забыть не удалось, тем более что у него был интригующий эпилог. Через несколько месяцев я встретился с Ясуо Сионоей, одним из адвокатов Ёдзи Обары, с которым связался в последней и безуспешной попытке добиться аудиенции с его клиентом. Я поведал юристу историю о странном конверте, фотографиях и людях в черных фургонах, и на лице мистера Сионои появилось странное выражение – отчасти удивление, отчасти веселье. Он припомнил:
– Однажды во время нашей встречи Ёдзи неожиданно заговорил о вас. Он упомянул ваши статьи о японской императорской семье и добавил: «Заметки Пэрри разозлили правых. Думаю, скоро его ждут неприятности». А когда я спросил, какие именно неприятности, он ответил: «Вот уж не знаю».
«Какая я на самом деле»
Кем был Ёдзи Обара, и что сделало его таким? Я годами размышлял о нем, говорил о нем и наблюдал за ним в суде, но что я на самом деле знал? В хронологии его жизни оставались длинные пробелы: годы путешествий после окончания школы, почти весь период между возвращением в Японию и арестом. Я исчерпал все доступные источники информации. Семья Обары была настроена враждебно и не собиралась ни с кем общаться; от самого Ёдзи я получал только уклончивые ответы и повестки в суд. Полицию, которая изучила жизнь подозреваемого подробнее всех, интересовали только сведения, которые можно использовать в суде. Даже Карлос Сантана, самый знаменитый и неожиданный «друг» Ёдзи, отказался о нем говорить. И сам Обара задолго до первого преступления начал стирать себя из собственной жизни, лишая всяких надежд любого, кто стремился уловить закономерности и провести связь между прошлым и настоящим. Он изменил разрез глаз, сменил имя и национальность. Он носил темные очки и туфли с каблуком. Он старательно избегал объективов камер, будто принадлежал к дикому племени, где верят в кражу души посредством фотосъемки. Даже насиловал он тайно, в противоположность идее насилия как подтверждения мужской власти: большинство его жертв даже ничего не помнили, пока полиция не показала им видео.
Может быть, поэтому у него было так мало близких отношений? Потому что дружба, помимо всего прочего, дает ключ к личности, не менее уникальный, чем отпечаток пальца, оставленный во внешнем мире? В наши дни все мы психологи-любители и с готовностью проводим связь между ранним опытом и поведением во взрослом возрасте. Что касается Обары, в детстве на него определенно давили: ожидания матери, присутствие психически неустойчивого старшего брата, потеря отца, скрытая инстинктивная нелюбовь к корейцам в Японии и разрушительная свобода от обязанностей и дисциплины благодаря внезапному наследству. Но в Японии есть бесчисленное множество нервных детей, миллионы неблагополучных семей, испорченных богатых отпрысков и жертв расизма; и лишь единицы становятся серийными насильниками и убийцами.
В ходе судебного разбирательства никогда не всплывал вопрос о душевном состоянии Обары; не было никакого психиатрического освидетельствования. На первый взгляд, характеристика Обары из уст судьи Тотиги местами совпадает с описанием психопата: «Самодовольный, бездушный и безжалостный человек, совершенно лишенный сострадания… человек, которому неведомы угрызения совести». Но для меня подобные диагнозы очень сомнительны, ведь они представляют собой удобное моральное и клиническое заключение, которое обеспечивает обывателям фальшивое и незаслуженное успокоение. Мы навешиваем ярлык на экстремальное поведение – чудовище, психопат, злодей – и помещаем преступников в категорию, которая отличает их от «нормальных» людей. Тем самым мы утешаем себя. Теперь можно не беспокоиться о сложности человеческой природы и о границах, которые все мы можем в тот или иной момент преступить. Японские комментарии – многие из которых были доступы в Интернете, но редко попадали в основные средства массовой информации, – придерживались того же принципа: они подчеркивали статус Обары как корейца, словно иностранное происхождение снимало с японского общества ответственность за насильника.
Кем бы ни был Ёдзи Обара, он появился в Японии – хотя и непросто понять, каким образом. Пожалуй, поначалу я надеялся выполнить стандартный трюк и «забраться» в голову Обары. Если бы удалось представить, о чем он думает, когда сидит в камере-одиночке или стоит на коленях возле чуть дышащего тела одной из своих жертв, я мог бы поздравить себя с тем, что «понял» тему. Но подобные надежды иллюзорны. В отличие от слов или действий, мысли и эмоции других людей нам недоступны. Даже те, кого мы знаем лучше всех, остаются незнакомцами, которых мы способны понять лишь изредка, если вообще способны. Возможно, у Обары богатый внутренний мир, противоречащий реальности; но даже если бы я туда проник, то не мог бы сказать наверняка, действительно ли мне это удалось, или я стал жертвой собственного тщеславия либо игры Обары.
Не исключено, что там и вовсе нечего понимать, что внутри ничего нет, а есть только то, что лежит на поверхности. Правда могла оказаться скучной; никакой правды могло вообще не существовать, или там скрывалась самая большая тайна, которую Обара так старался сохранить. На мой взгляд, его жизнь лучше всего характеризует отсутствие близких отношений, практически до полной изоляции. Должно быть, для столь закрытого существования нашлись причины, болезненные и крайне важные, но они лежали где-то очень глубоко. Логичнее говорить не о присутствии Обары, а об отсутствии – в том смысле, как сильный холод можно назвать отсутствием тепла, а тьму – отсутствием света. Обара леденящей тьмой проник в жизнь тех, с кем соприкоснулся, и отнял ее. Вот в чем состояла его истинная суть – не в личности, которую можно изучать и оценивать, а в его влиянии на жизнь других.
В суде Обара предоставил чеки своих благотворительных взносов и потребовал, чтобы его судили по добру, которое он принес людям. Почему же тогда не судить по тому злу, которое он им причинил и которое стало его сутью? Безликий оборотень, он был не человеком, а болью своих жертв, злом в чистом виде.
Он был крестоносной яростью Джейн по поводу «кровавых денег» и унижением Тима, который их принял. Он был таблетками и водкой в крови Софи и потерянным из-за душевного срыва годом Руперта. Он был гневом, вспыхнувшим в Джейми Гаскойне, он был страданием и недоумением девушки Джейми, семейной памятью о погибшей Люси как тети и двоюродной бабушки еще не родившихся детей.
Люди привыкли искать правду, единую и неделимую, которая восходит перед глазами, как ясная полная луна в безоблачном небе. Считается, что рассказ о преступлении должен предоставлять четкий фотографический оттиск, подавать историю очищенной от ненужной шелухи, как соленый орешек. Но главный герой этого дела Ёдзи Обара, будто черная дыра, втянул все краски, и остались только дым, туман, слабое мерцание. Другими словами, в этом орехе была лишь скорлупа, хотя ее поверхность сама по себе не укладывалась в голове.
У всех, кто общался с Блэкманами или читал о них в газетах, сложилось собственное устойчивое мнение об их истории. Каждый знал, о чем думали участники событий, и каждый был уверен в собственной правоте – не только по поводу Ёдзи Обары, но и самой Люси, ее семьи и Японии как нации. Это дело самым невероятным образом вызывало всеобщее желание высказать свое мнение.
Особенный всплеск комментариев вызывали поведение Тима и его решение принять 100 миллионов иен. Последующие несколько недель часто казалось, будто его обвиняют в не меньшем преступлении, чем Обару. «Его боль усилится вдвое, – предсказывал корреспондент „Дейли мейл“. – Он будет мучиться из-за того, что мог бы поступить иначе и спасти свою красавицу дочь от аморальной карьеры хостес, стоившей ей жизни; а еще он будет страдать, осознавая свою вину за ту роль, которую сыграл, лишив Люси заслуженной справедливости». Или как сказала мне Джейн: «У меня такое ощущение, что я воюю сразу с двумя, борюсь за то, чтобы привлечь к ответственности обоих – Обару и отца Люси».
Что именно Тим сделал не так? Насчет «денег соболезнования» важен только один вопрос: решили ли они исход дела? В решении суда открыто заявлялось, что выплаты жертвам изнасилования никак не повлияли на вынесение приговора в виде пожизненного заключения, максимально возможного наказания. В системе японского правосудия подобная выплата только так и могла повлиять на результат слушаний. Японские суды можно упрекать во многом, но только не в оправдании убийц благодаря их богатству; Обару признали невиновным в причинении вреда Люси, потому что суд, справедливо он или нет, заявил об отсутствии прямых доказательств.
Общественный приговор Тиму, разумеется, вынес не закон, а мораль. «Какой отец возьмет деньги у обвиняемого в убийстве его дочери? – задавал риторический вопрос читатель газеты „Сан“. – Тиму Блэкману следует стыдиться». Каждое из таких заявлений подспудно провозглашает превосходство характера комментаторов, и между строк проскальзывает подразумеваемое бахвальство: «Я бы никогда такого не сделал». На что мне сразу хочется ответить: «Откуда вам знать?» и «А какое ваше дело?».
Представить себя в экстремальных ситуациях, где нас испытывают морально и физически, – захватывающее упражнение. В уме мы часто сдаем подобный экзамен. Любому, у кого есть дети, мерещилась их смерть, и мы понимаем, что это самая страшная из потерь. Но мы можем только гадать, только надеяться, что поведем себя достойно, сдержанно и уверенно. Знать наверняка нельзя, как нельзя предсказать течение редкой и угрожающей жизни болезни.
И особенно это касается тех случаев, когда речь заходит о деньгах. Газетные страницы с письмами читателей огульно иронизируют над «ценой», которую Тим якобы назначил за жизнь Люси. Однако для большинства из нас деньги, на том или ином уровне, решают многое. Сто миллионов иен, выплаченные Тиму Блэкману, никак не повлияли на правосудие; своим выбором он не причинил никому вреда. И удобства, которые он приобрел на эти деньги, смогли облегчить ему жизнь, пошедшую вразнос от страданий и боли. Часть из них Тим направил в Фонд Люси Блэкман, еще часть обещал отложить для Софи и Руперта. А остальное потратил на классическую яхту, шестидесятилетнюю «Инфанту», на которой в 2008 году благополучно обогнул земной шар.
Многие кривились, услышав о таких «излишествах». Если бы эти деньги выиграли в суде или их выплатил официальный компенсационный фонд, никого бы не интересовало, на что их потратили. Большинство людей, оказавшись в подобных обстоятельствах, назвали бы свою «цену». Если бы эти деньги помогли выплатить обременительный долг, облегчить жизнь больного родственника, обеспечить образование ребенку или собственную безбедную старость, многие ли из нас отказались бы от вознаграждения, не сказали бы в итоге: «Я страдал и заслужил компенсацию»?
Я надеюсь, что мне никогда не придется пережить потерю, с которой столкнулись Блэкманы, и проверить собственные нравственные ориентиры. Возможно, я горевал бы, как Джейн или бедный Билл Хокер; возможно, вел себя энергично и активно, как Тим. Возможно, я отказался бы от всякого денежного возмещения – или посчитал бы, что это самое меньшее, на что я имею право. Я не знаю, и никто не знает – и ни у кого из нас нет права судить тех, кому выпали такие страдания.
Джейн Стир имела право высказывать свое мнение, как и Аннет, Найджел и Саманта Риджуэи. Риджуэи пережили точно такую же потерю, как и Тим; но, несмотря на постоянные уговоры адвоката Обары, они наотрез отказались от предложенной суммы. Джейн утешала солидарность с австралийской семьей; они с Аннет часто разговаривали по телефону и стали своего рода друзьями по несчастью, которых объединила потеря дочерей. Но только до июля 2008 года – когда Найджел Риджуэй с согласия бывшей жены и дочери подписал документ, где он утверждал, что верит в способность Обары «реабилитироваться» и ставит под вопрос некоторые улики, доказывающие убийство Кариты. В обмен семья Риджуэй получила свои 100 миллионов иен. Они понесли невосполнимую потерю; они больше ниоткуда не могли получить компенсацию; они чувствовали, что заслужили хотя бы деньги. Однако новость шокировала Джейн. Мать Люси заявила мне, что отец, мать и сестра Кариты «продались дьяволу».
Люди боятся таких историй, как у Люси, где все кончается бессмысленной, жестокой, безвременной смертью. Но большинство не признает свой страх и находит утешение в решительных суждениях о нравственности, размахивая ими, как пылающими факелами в ночи, чтобы отогнать волков.
Джейн тоже нужно было чувствовать собственную правоту, но еще больше ей хотелось доказать, что неправ ее бывший муж. И своих убеждений ей было мало, она хотела, чтобы о его неправоте объявил суд. Но в потере, горе нет правых и неправых. Скорбь превратилась в замкнутый круг: одна боль порождала другую. И каждый из Блэкманов должен был найти силы, чтобы разрубить этот круг.
Отчасти им помогали попытки найти что-то хорошее в смерти Люси, светлую полосу в черном тумане. Тим искал ее в Фонде Люси Блэкман. История этой организации началась с банковского счета, о котором он сообщил на одной из своих пресс-конференций в Токио. Затем, несмотря на старания Джейн и Роджера Стиров, фонд официально зарегистрировали как благотворительную организацию. Помимо сигнализации от насильников и наборов для обнаружения примесей, веб-сайт фонда распространял полезную информацию о безопасности путешествующих молодых людей, которые любят ходить по ночным клубам. Устраивались мероприятия для сбора средств, которые вели комедийный актер и известная модель; в 2007 году девушка-подросток из Ливерпуля по имени Натали была названа «Мисс Фонда Люси Блэкман». Правда, не все шло по плану: производитель гаджета под названием «Бадди сейф», которым торговал фонд, через несколько месяцев обанкротился; не работали некоторые из ссылок на сайте.
Но Тим гордился программой фонда «Пропавшие за границей». Она предлагала помощь британским семьям в такой же ситуации, в какой он сам оказался после исчезновения Люси. Когда-то ему казалось, что больше ни у кого не было такого невероятного и кошмарного опыта, однако подобные случаи происходили каждые несколько месяцев.
Уэнди Синх, 39-летняя мать, убитая мужем на Фиджи. Эми Фицпатрик, застенчивая ирландская 15-летняя девочка, которая пропала в Испании новогодним вечером в двух шагах от дома. Майкл Диксон, 33-летний журналист, который исчез в Коста-Рике во время отпуска. Алекс Хамфри, социальный работник 29 лет, который вышел из отеля в Панаме, чтобы поехать к знаменитому водопаду, и не вернулся.
Ни одно из этих происшествий не вызвало такого бурного общественного резонанса, как дело Люси. Либо жертвы были старше, либо не такими фотогеничными, к тому же на Фиджи и в Коста-Рике тогда не было международного саммита и не было Тони Блэра, чтобы подстегнуть расследование. Другими словами, родным пропавших никто не помогал. Фонд Тима делал для них то, в чем отказывало Министерство иностранных дел Великобритании: обеспечивал круглосуточную «горячую линию» для сбора информации и сообщений от очевидцев, публиковал объявления и подробности произошедшего на своем веб-сайте и оплачивал расходы родственников на дорогу и перевозку тел погибших на родину. Впрочем, Министерство иностранных дел оказывало партнерскую поддержку, а еще после исчезновения Люси в лондонской полиции появились сотрудники для оказания поддержки родственникам тех, кто пропал за рубежом.
Работа фонда приносила удовлетворение, но Тим лишь усмехался и качал головой, когда его спрашивали, помогла ли она забыть Люси. Никакой вообразимый успех – в благотворительности, профессиональной или личной жизни – не мог пересилить потерю Люси. Тим разве что надеялся подавить боль и не дать ей перечеркнуть всю оставшуюся жизнь. В разговоре со мной он использовал образ переполненного черного мешка для мусора, набитого горем, разочарованием и сожалением, которые ассоциировались с Люси и ее судьбой. Мысль о том, чтобы открыть этот мешок и просеять его мерзкое содержимое, пугала до безумия. Блэкман никогда не поддавался суицидальным мыслям, но посещали они его часто. И дело не только в стремлении избавиться от бремени жизни, но и в надежде, что после смерти он воссоединится с Люси.
– Люси мертва, – говорил мне Тим. – Софи постоянная пациентка психушки. Руперт вылетел из университета с нервным срывом. Становилось не лучше, а только хуже. Я будто тонул и не знал, смогу ли когда-нибудь выбраться на берег.
Особенно трудно приходилось в дни рождения и годовщины смерти Люси. Каждые несколько месяцев приходилось заново вспоминать пережитую трагедию.
– Люси пропала первого июля, – объяснял Тим. – Родилась первого сентября, а нашли ее в феврале. Плюс Рождество – трудный период в любой семье, а тем более у тех, кто потерял близких. День, когда дочь умерла, дается мне тяжелее всего, и обычно я выхожу на парусах в Солент. Люси любила этот пролив, и там я особенно остро ощущаю, что ее со мной нет.
Шестнадцатого декабря 2008 года, когда Тим был в море, на «Инфанте» зазвонил спутниковый телефон. Стояла глубокая ночь. Когда он поднял трубку, на другом конце линии был я.
Второй раз за два года я стоял у здания Токийского суда в окружении репортеров, бормочущих в свои мобильники. Судьи верховного суда только что вынесли решение по апелляциям Обары и прокуратуры. Обвинительные приговоры за восемь изнасилований, а также изнасилование и убийство Кариты Риджуэй остались без изменений. А вот оправдательный приговор по делу Люси Блэкман частично отменили: Обару признали виновным в похищении, подмешивании в напиток наркотика, попытке изнасилования, расчленении Люси и незаконном избавлении от ее тела; пожизненный срок подтвердили.
– Осквернение достоинства стольких жертв с использованием наркотиков с целью удовлетворения своей похоти – беспрецедентное зверство, – заявил главный апелляционный судья Хироси Кадоно. – Никаких смягчающих обстоятельств в действиях, совершенных по подтвержденным извращенным мотивам, нет и не может быть.
Вердикт осложнялся тем, что по еще одному обвинению – в убийстве Люси – Обару снова оправдали. Действительно, вскрытие не выявило причину смерти девушки, и узнать точный ход событий с ее последнего телефонного звонка не представлялось возможным. Но японский суд воспользовался правом вынести приговор на основе косвенных улик[55]. Нам трудно понять, как в отсутствии иных подозреваемых человека можно признать виновным в подмешивании наркотиков, изнасиловании и расчленении женщины, с которой он провел последний вечер, но невиновным в ее убийстве. И все же новые приговоры удивили не меньше, чем первоначальный оправдательный; все мои знакомые считали, что судьи просто безразлично поставят печати под вынесенными ранее вердиктами. Джейн Стир, которая присутствовала в суде вместе с Роджером, заплакала от облегчения.
– Это было мучительное испытание, и я говорю не о сегодняшнем дне, а обо всех восьми годах, – заявила она по окончании слушания. – Наконец-то у нас есть два обвинительных приговора и пожизненное заключение… Сегодня восторжествовали правда и честь, и не только для Люси, но для всех жертв жестоких сексуальных преступлений.
Все это я рассказал по спутниковому телефону Тиму, и тишина в трубке отозвалась шипением. Раньше Тим за словом в карман не лез, и я даже подумал, что связь прервалась. Мне пришлось буквально вытягивать из него фразы, необходимые для статьи в газете.
– Потрясающе и совершенно неожиданно. Именно этого Люси и заслуживает, – наконец произнес он. – После такого долгого расследования и стольких мучений большое достижение для полиции и прокуратуры воздать обвиняемому должное.
Тим поблагодарил меня за звонок и повесил трубку. «Инфанта» находилась между Марокко и Вест-Индией; на полпути трансатлантической регаты. Ветер почти стих; море и воздух дышали густой тропической жарой, и Тим на борту своей яхты, в 13,5 тысячах километров от Токио, наконец мог почувствовать умиротворение.
Обара снова подал апелляцию в верховный суд. Теперь его адвокаты все свое внимание переключили на версию обвинения. Они хотели продемонстрировать физическую невозможность перевезти мертвое тело из квартиры в Дзуси-Марине в токийский комплекс Блю-Си-Абурацубо, а затем в пещеру. Аргумент уже приводился ранее и был отвергнут, но сейчас Обара попытался доказать свою правоту путем нелепого эксперимента. По его просьбе адвокаты купили ту же модель морозильника, в котором Обара хранил тело в доме в Дэнъэнтёфу, а также потратили 1 миллион иен (около 7 тысяч фунтов на тот момент) на создание манекена, повторяющего параметры Люси.
– Этот манекен сделан очень искусно, его кожа похожа на человеческую, – сообщил мне адвокат Ясуо Сионоя. – Он весит ровно столько же, сколько и Люси, и повторяет ее размеры. Один из адвокатов, примерно такого же телосложения, как Обара, попытался поднять его и положить в морозильник – и сделать это оказалось абсолютно невозможным.
Видео со стараниями дублера стало главным пунктом апелляции.
Из своей камеры в токийской тюрьме предварительного заключения Обара продолжал командовать юридическими сражениями. Он подал в суд на газету «Ёмиури» за клевету и отрицал претензии издателя книги с мертвой собакой на обложке в неуплате. Сионоя говорил об апелляции со скромной уверенностью; вердикта не будет, предсказывал он, по крайней мере, до середины 2011 года. Но в начале декабря 2010 года Тиму, Джейн и Риджуэям позвонили из токийской полиции с неожиданными новостями: верховный суд отказал Обаре в апелляции. Теперь обвинительные приговоры и пожизненный срок были бесповоротно подтверждены; деваться Ёдзи Обаре больше было некуда[56].
Пожизненный срок в японском суде редко соответствует прямому смыслу, обычно так определяют срок более тридцати лет. Даже если посчитать десятилетие, которое Ёдзи Обара провел в тюрьме предварительного заключения, он вряд ли выйдет на свободу раньше 2030 года. И на тот момент ему исполнится семьдесят восемь лет. В качестве осужденного преступника его перевели в тюрьму с режимом, резко отличающимся от мягких условий тюрьмы предварительного заключения, в которой он пребывал с 2001 года. Обаре пришлось делить камеру с другими узниками; он лишился доступа ко всем книгам и документам, которыми пользовался последнее десятилетие. Посещать его позволялось лишь раз в месяц и только членам его семьи. Встречаться со своими адвокатами заключенным не запрещают, но каждый раз нужно получать разрешение, а оно выдается раз в несколько недель.
– До сих пор Обара был сам себе главным адвокатом, но в тюрьме это исключено, – сказал мне Сионоя.
Последние дни до тюремного заключения команда адвокатов вела со своим клиентом интенсивные переговоры. Они спешно разрабатывали план действий, чтобы вести дела Обары без ежедневного контакта, к которому они так привыкли.
Прокуратура не подавала апелляцию в верховный суд, поэтому единственный оправдательный приговор – за убийство Люси Блэкман – оставался в силе. Джейн твердила, что даже неполное признание вины можно считать победой, если не для Люси, то для остальных жертв Обары. Конечно, так и было, но особого смысла такая победа уже не имела. Словно под конец отчаянной борьбы двух решительных и непреклонных соперников один вдруг опустил руки и просто ушел. Люси умерла – и что могло это изменить? Потеря оставалась невосполнимой; любое временное утешение – арест подозреваемого, суд, обвинительный приговор, 100 миллионов иен – испарилось, как ложка воды в пустыне. А если бы Обара признал вину, просил прощения, разрыдался? Или если бы его обвинили в умышленном, а не случайном убийстве, и приговорили к повешению? Представьте самую жестокую кару – даже она не принесла бы облегчения и не исправила того, что действительно имеет значение. Люси, единственная и неповторимая, драгоценная и любимая для родных и близких, мертва, и ничто ее не вернет и не заменит.
Вот какой она была.
Все обо мне
Я мечтаю о волшебном кольце, которое превратило бы нас с сестрой в фей. У нас был бы замок, летающие пони и магические чары.
Какая я на самом деле. Я добрая и благоразумная, как говорят мамочка и папочка. Иногда я очень злюсь на сестру и брата. Я очень много думаю о других и помогаю им. Я не люблю торопиться, когда что-то делаю, даже если меня подгоняют. Я не очень люблю играть на детской площадке. Я ненавижу омлет и брюкву, а еще горошек. Для меня это самое ужасное. Я скажу вам, что еще не люблю, но это не самое ужасное. Гороховое пюре.
– Я постоянно думала о том, что он с ней сделал, – призналась Джейн. – Самое ужасное мучение на свете – представлять, как Обара разрезает Люси. У меня просто мозг закипал; я боялась, что никогда не смогу избавиться от этих мыслей. Услышу звук бензопилы, и меня начинает буквально трясти.
Джейн ходила к психотерапевту и разговаривала с матерями других погибших детей в Японии и Британии. Все были добры и сочувствовали ей, но лучше не становилось. Потом ей предложили курс лечения под названием «Десенсибилизация и переработка движением глаз», или ДПДГ, широко применяемое при посттравматическом стрессовом расстройстве у солдат, вернувшихся из Ирака и Афганистана. Такая терапия часто давала отличные результаты, хотя причину ее эффективности не могли полностью объяснить даже работающие с ней специалисты. «От чего вам стало бы легче?» – спросил терапевт Джейн на первом сеансе. «От мысли, что дочь в безопасности», – ответила она.
– Тогда он велел мне подумать о тех ужасных вещах, которые Обара сделал с Люси, – вспоминала Джейн. – А потом я должна была следить за его пальцами, которыми он двигал в разные стороны. И вот я думаю об этом, а врач повторяет: «Она в безопасности, она в безопасности…».
Джейн посетила четыре сеанса, и это было единственное лечение, которое хоть немного помогло.
– Теперь, когда я сижу в суде и переводчик перечисляет все те кошмарные вещи, которые сделал Обара, я повторяю про себя: «Она в безопасности, она в безопасности…», и мне становится легче. Думаю, терапия стала переломным моментом, который помог мне не сойти с ума… Я не верю в возможность смириться и продолжать жить. Как с таким смириться? Просто учишься существовать со своим несчастьем. Но я никогда не буду прежней. Иногда иду в супермаркет и чувствую себя абсолютно нормально, а потом увижу маленькую девочку, похожую на Люси в раннем детстве, и слезы льются ручьем.
С годами у друзей Люси появились собственные дети. Ребенка Луизы Филлипс крестили как Люсию, дочь Саманты Берман – Грейс Люси. Джейн тронула любовь друзей дочери, вот только она не могла избавиться от мыслей о той жизни, которая была бы и у Люси, если бы девушка осталась жива.
Джейн ненавидела все, что касалось Фонда Люси Блэкман; в войне за обладание дочерью эта организация служила олицетворением сокрушительного поражения. Джейн ненавидела лицемерие, которое усматривала в действиях Тима, – благотворительность папочки, который бросил жену и детей. Несмотря на выводы британской полиции и прокуратуры, она по-прежнему подозревала фонд в хищении чужих средств и мошенничестве. Она не хотела ничего слышать ни о фонде, ни о его мероприятиях, но все же возмущалась его существованием и тем, что он использовал имя Люси в обход самой Джейн.
В смерти Люси, в мрачном фатализме, который сделал ее дочь жертвой слепой судьбы, женщина нашла для себя утешение: смерть, как и жизнь, предопределена.
– Я уже говорила вам, – напомнила она мне, – и я ничего не выдумываю: я точно знала, что никогда больше ее не увижу. Я хотела устроить дочери встречу с экстрасенсом до поездки в Японию, но она не пошла к нему. В детстве Люси всегда была такой взрослой – в каком-то смысле она заменила мне мать. И я знаю, что ей выпала такая судьба. Люси для этого и родилась. Ее послали в наш мир, чтобы остановить Обару. Ей не было предначертано дожить до старости.
Другими словами, Люси должна была умереть, и Джейн предвидела неизбежность ее смерти. Сердце матери снова не ошиблось, как не ошибалось и раньше, когда Джейн не хотела отпускать Люси в Японию. За время своей печальной истории, начиная со смерти матери и заканчивая ссорами с Софи, Джейн всегда оказывалась права. Даже выбрав Тима, она не ошиблась, потому что человек, который женился на ней, не был тем человеком, который от нее ушел.
– Это не он, не мой Тим, – говорила Джейн. – Человека, с которым я прожила девятнадцать лет, уже не существует.
Она нашла единственный способ подчинить факты хоть мало-мальски приемлемому объяснению: ее успокаивала твердая вера в постоянное присутствие Люси. Джейн ездила на сеансы к ясновидящей по имени Трейси, которая жила в пригороде Лондона Пендже.
– Я поехала туда, и Люси говорила со мной через Трейси, – поведала мне Джейн. – Я целый час общалась с ней. Трейси говорила: «Люси вот так укладывает волосы, а вы гладите ее по голове». И да, я действительно любила гладить дочь по волосам. Циники скажут, что это просто слова, но прозвучало много такого, о чем другие не могли знать… Не хочу никого разубеждать, но я знаю, что со мной говорила именно Люси… Я общаюсь с ней мысленно. Несколько месяцев назад во время прогулки мы увидели, что продается симпатичный дом, и договорились о просмотре. Я попросила Люси: «Если считаешь, что он нам подходит, дай мне знак». Знаками всегда служили бабочки и звезды. На входной двери висело небольшое объявление: «Ушли на пляж». Довольно необычно для сельской местности, правда? Но именно на пляже мы нашли ее тело. Мы заглянули в дом, и вся стена была в наклейках с бабочками. А наверху мы увидели абажур в форме звезды, и в саду кружились бабочки и рос большой куст, постриженный в форме бабочки. Поэтому я сказала: «Хорошо, Люси, спасибо. Мы услышали тебя».
Однажды Джейн встречалась с целительницей, и та предсказала ей, что к ней в сад прилетит малиновка. И действительно, через несколько недель на садовой дорожке появилась птичка. Джейн и Роджер начали кормить малиновку, она быстро перестала бояться их и стала почти ручной.
– Это Люси, – сказала целительница, и Джейн ей поверила.
Еще один знак Джейн получила в день похорон, выйдя из темной церкви на свет. На дереве напротив входа сидел черный дрозд, и после окончания службы он громко запел. Его пересвист парил над могилами. Друзья и семья Люси маленькими группами собрались снаружи. Люди один за другим прощались и уходили, а над ними в ветвях щебетал черный дрозд.
– Он запел, когда все мы вышли на улицу, – вспоминала Джейн, – и я сразу сказала себе: «Это Люси». Его заметили все – так громко он пел. Даже Тим посмотрел вверх и сказал: «Только послушайте! Неужели такая птичка издает столько шума?» Я только улыбнулась про себя.
В смерти тоже можно найти утешение, если видеть ее вот такой – в образе птицы, поющей на ветвях дерева.
Благодарности
Разобраться в этой истории мне помогали многие, но больше всех – семьи Блэкман / Стир и Риджуэй. Во время неоднократных встреч, телефонных разговоров и электронной переписки они терпеливо отвечали на мои вопросы, которые, несомненно, порой причиняли им невыносимую боль. В книгу следовало бы добавить подзаголовок «Судьба Кариты Риджуэй», и мне жаль, что я не смог уделить больше места жизни Кариты и стойкости ее семьи. Я благодарю Руперта Блэкмана, Софи Блэкман, Тима Блэкмана и Джозефину Берр, Аннет Риджуэй, Найджела и Эйлин Риджуэй, Джейн и Роджера Стир и Саманту Тер мини (в девичестве Риджуэй). Я благодарю Луизу Филлипс и Роберта Финнигана, который так много сделал для Люси и Кариты при жизни и после смерти, а также друзей Люси: Валери Берман, Гейл Коттон (в девичестве Блэкман), Джейми Гаскойна, Саманту Годдард (в девичестве Берман), Кэролайн Лоуренс и Кэролайн Райан.
Некоторые из тех, кому я бесконечно признателен, попросили не раскрывать их имен, но я благодарен им всем, особенно выжившим жертвам Ёдзи Обары. Среди тех, кого я могу назвать, хочу сказать спасибо за воспоминания, документы, контакты, поддержку, мысли, расследования, корректуру, перевод и гостеприимство следующим людям: Кодзо Абэ, Джейку Эделыитейну, Питеру Элфорду, Киёхисе Араи, Нахоко Араки, Микико Асао, Яну Эшу, Чарльзу Баунди, Алексу Боулеру, Эверетту Брауну, Джозефине Берр, Крису Кливу, Джейми Коулмену, Робу Коксу, Дэвиду Сиборну «Дэю» Дэвису, Томоми Дегути, Майклу Дэнби, Тоби Иди и всем сотрудникам «Тоби Иди ассошиэйтс», Японскому клубу иностранных журналистов, иностранным СМИ в Японии, Дэну Франклину и всем сотрудникам издательства «Джонатан Кейп», Ватару Фудзисаки, Бенджамину Фулфорду, Джейми Гаскойну, Бену Гудиеру, Бену и Саре Гест, Самару Хаммаму, Томасу Харди, Ацуси Хосое, Хидэо Игараси, Нориюки Иманиси, Стюарту Айсетту, Шошин Ивамото, Ли Якобсону, Джен Джоэл, Эрику Джонсону, Колину Джойсу, Кентаро Катаяме, Велисариосу Каттоуласу, Хидэо Кавагути, Таэко Кавамуре, Ли Хён Сук, Лео Льюису, семье Ллойд Пэрри, Хэмишу Макаскилу и Английскому бюро, Джастину Маккарри, Тошио Маэде, покойному Уильяму Миллере, Ванессе Милтон, Манабу Мияваки, Джайлзу Мюррею, Тике Накаяме, Синго Нисимуре, Кацуро Нитто, Хидэтоси Окухаре, Акихиро Отани, Цуёси Отани, Дэвиду Пэрришу, Дэвиду Пису, Дэйву Расселу, Джулиану Райэллу, Иссэю Сагаве, Хиро Сасо, Масато Сато, Дзюндзо Саве, Мэтту Сирлу, Хью Шейкшафту, Алексу Спиллиусу, Марку Стивенсу, Джереми Саттон-Хибберту, Хироко Табути, Юки Такахаси, Джиллиан Тетт, Чике Тоноока, Митико Тояме, Адаму Уиттингтону, Фионе Уилсон, Шигеру Ямамото и Юдзи Ёситоми.
Мой прежний работодатель «Индепендент» оказал серьезную финансовую поддержку на начальном этапе сбора информации; мой нынешний работодатель «Тайме» щедро предоставил мне время, чтобы во всем разобраться и написать текст, а также надежно защищал меня от обвинений в клевете. Из прежних коллег я особенно благодарен Леонарду Дойлу, из нынешних – Ричарду Бистону, Пэту Берджу, Мартину Флетчеру, Энни Спэкмен и Роланду Уотсону, а также Кэйдзи Исадзи и Мэттью Уиттлу из «Клифорд чане» в Токио. Друзья и коллеги в «Ёмиури симбун» также стали для меня надежным источником информации и поддержкой.
Хотя книга критикует японскую полицию, сотрудники, с которыми я встречался в ходе сбора информации, в подавляющем большинстве показались мне добрыми, благородными и трудолюбивыми людьми, заслуженно гордящимися своей работой. Моя критика направлена не на отдельных полицейских, а на всю систему, которая нуждается в реформе. Я благодарю Фусанори Мацумото, Тосихико Мии, покойного Тосиаки Удо и всех тех, кто предпочел остаться неизвестным.
Веб-сайт Фонда Люси Блэкман можно найти здесь:
http://www.lucieblackmantrust.org
Джейн Стир поддерживает хоспис в Уилде:
http://www.hospiceintheweald.org.uk
Примечания
Эта книга основана на реальных фактах; излагаемые в ней события я наблюдал лично, их подтверждают и другие свидетели; все высказывания документально удостоверены надежными письменными или видео- и аудиоисточниками. В таких историях неизбежно существует несколько версий отдельных событий. Я старался выбирать те из них, которые заслуживают доверия, а в случае затруднений излагал обе версии. Если не указано иное, факты и цитаты взяты из личной переписки, проведенных мной интервью, пресс-конференций с моим участием и документов из личных архивов Тима Блэкмана, Аннет Риджуэй, Найджела Риджуэя и Джейн Стир.
Большинство слушаний по делу Ёдзи Обары в окружном и апелляционном судах посещали нанятые мной японские референты, которые подробно записывали происходящее. В Японии официальные стенограммы заседаний по уголовным делам обычно недоступны для журналистов, но во многих случаях мне удалось добыть копии через другие источники. Я также обращался к англоязычным судебным отчетам для жертв и их семей, подготовленным токийской полицией.
В некоторых случаях я изменил имена и внешность участников. Причин было три: мой собеседник пожелал остаться неизвестным; я по разным обстоятельствам не смог связаться с человеком, упомянутым в книге; кроме того, я принципиально не называю имена выживших жертв сексуального насилия. Последних я старался описать таким образом, чтобы их не могли узнать даже близкие друзья и родственники. Иногда мне даже пришлось поменять не только имя, но и биографию, хотя хронологию я сохранил. Изменения практически не повлияли на сюжет в целом.
В написании японских, корейских и корейско-японских имен я придерживался правил, которыми обычно пользуются в западных изданиях. Все японские и корейско-японские имена даны в привычном порядке: вначале имя, потом фамилия. Корейские имена – в традиционном национальном порядке: сначала фамилия, потом имя или имена. Поэтому в именах Ёдзи Обара, Сейсо Кин и Ким Сон Чон, фамилиями являются Обара, Кин и Ким, соответственно.
Японские иены переведены в британские фунты стерлингов по актуальному обменному курсу, который несколько отличается от обменного курса на момент событий, описанных в книге: в июле 2000 года, когда пропала Люси, один фунт стоил приблизительно 160 иен.
Заголовок «Пожиратели тьмы» вдохновлен книгой Тору Мацугаки «Ями о куу хитобито» (Токио, 2006 год), и я очень благодарен господину Мацугаки за теплую поддержку.
Словарь японской лексики, встречающейся в тексте
Гайдзин, или гайкокудзин – иностранец (яп.).
Мидзувари – разбавление холодной водой (яп.) – японская традиция разбавлять виски и другой крепкий алкоголь водой.
Мидзу сёбай – торговля водой (яп.) – японский эвфемизм для индустрии развлечений и, в первую очередь, проституции.
Сеппуку, или харакири – ритуальное самоубийство методом вспарывания живота; в средневековой Японии – распространенный способ покончить с собой среди самураев.
Сунакку (от англ. снэк) – так в Японии называют и закуски, и закусочные.
Сямисэн – японская трехструнная лютня.
Татами – тростниковые маты, обычно с набивкой из рисовой соломы, которыми в Японии традиционно застилают пол.
Театр Но, или Ногаку – мастерство, талант (яп.) – традиционный японский драматический театр, одним из характерных элементов которого являются маски.
Темпура – популярная категория японских блюд из рыбы, морепродуктов и овощей, приготовленных в кляре и обжаренных во фритюре.
Футон – традиционный японский толстый матрас, который расстилают для сна прямо на полу.
Шабу-шабу – фондю по-японски, котел с кипящим бульоном, в который опускают тонкие ломтики мяса, сыра, рыбы, овощей и т. д.
Якудза – традиционная форма организованной преступности в Японии, японская мафия.