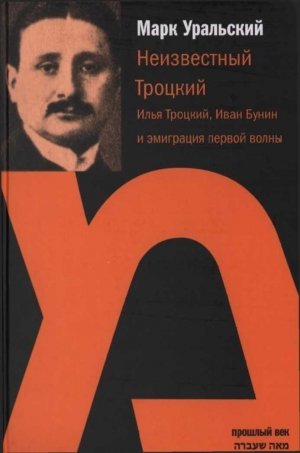
| прошлый век |
|---|
Марк Уральский
Неизвестный Троцкий Илья Троцкий, Иван Бунин и эмиграция первой волны
Гешарим • Иерусалим
Мосты культуры • Москва
Книга издана при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
Неизвестный Троцкий. Илья Троцкий, Иван Бунин и эмиграция первой волны. Иерусалим; М.: Гешарим/Мосты культуры, 2017. 702 с. — (Прошлый век. Воспоминания).
ISBN 978-5-93273-440-7
ISBN 978-5-93273-440-7
© Марк Уральский, 2017 © Мосты культуры/Гешарим, 2017 © Андрей Бондаренко, оформление
Илья Маркович Троцкий (предисловие)
Жизненный путь Ильи Марковича Троцкого, известного журналиста и общественного деятеля русского Зарубежья, типичен для многих молодых евреев из южной России. Отправившийся совершенствовать свое техническое образование за рубеж (в начале века он стал вольнослушателем машиностроительного факультета Венского политехнического института), он, одновременно, стал активно сотрудничать в австрийской и русской периодической печати. Очень быстро журналистика превратилась в его основную профессию.
В конце Первой русской революции Илья Троцкий, приняв предложение крупнейшего русского издателя того времени Ивана Сытина стать иностранным корреспондентом его газеты «Русское слово», навсегда поселился за границей, разделив таким образом судьбу многих интеллектуалов, которые предпочли оставаться вне России, подвизаясь главным образом в качестве зарубежных публицистов в русских газетах и журналах. К этой дореволюционной волне русской эмиграции принадлежат многие видные русские литераторы и публицисты: Максим Горький и Александр Амфитеатров, Михаил Осоргин и Михаил Первухин, Илья Бунаков-Фондаминский и Борис Савинков...
Весьма успешное, с точки зрения личной карьеры, дореволюционное пребывание Ильи Троцкого за рубежом является лишь началом долгого, по существу, вечного странничества этого пылкого и трудолюбивого представителя русско-еврейской интеллигенции, которому по воле судьбы досталась фамилия, сыгравшая роковую роль в истории России первой половины XX века (об этом настоящая книга сообщает интересные детали и исторические подробности). Его публицистика этих лет содержит в себе очень ценный фактический материал о жизни русской диаспоры в Европе до Первой мировой войны, культурном обмене и взаимоотношениях между русскими и европейскими интеллектуалами — историческими артефактами, изученными, на мой взгляд, сегодня весьма поверхностно.
Австрия, Германия, Скандинавия, Франция, Голландия, Швейцария, а с началом Второй мировой войны Новый Свет — вот география многолетнего странствия Ильи Троцкого, носимого по свету различными волнами русской эмиграции. Он прожил долгую, до предела насыщенную событиями и, судя по материалам, приведенным в данной книге, вполне успешную жизнь. Сотрудничество в российских, затем русских эмигрантских, а также иноязычных газетах и журналах дало возможность Илье Троцкому, как журналисту, живо интересующемуся современным литературным процессом, познакомиться и общаться с целой плеядой представителей русской и мировой словесности. Его публицистическое и эпистолярное наследие — богатейший источник исторических фактов, которые особенно значимы для профессионалов еще и потому — отмечу это особо! — что Троцкий-журналист, отличаясь высоким профессионализмом, был предельно щепетилен в выборе публикуемого им материала, умело избегая дешевой сенсационности, фальшивок и всякого рода «клубнички». Статьи, интервью, корреспонденция И.М. Троцкого разбросаны по огромному количеству журналов, газет и архивных собраний, а его собственный богатый архив хранится в нью-йоркском Институте еврейских исследований (YIVO). Открытие и изучение этого разнообразного наследия позволило автору настоящей книги добыть ценнейший материал по истории русской культуры, который проливает свет на ранее неизвестные страницы из жизни и творчества многочисленных литераторов и общественных деятелей, с которыми Илья Троцкий имел возможность общаться. В первую очередь это касается последнего классика русской литературы Ивана Бунина, знаменитых писателей эмиграции первой волны Марка Алданова и Дон Аминадо, а также таких европейских звезд, как Кнут Гамсун, Август Стриндберг, Луиджи Пиранделло, Герхард Гауптман и др.
Внимательного изучив источники и исторический фон, на котором происходили события жизни его героя, Марк Уральский в доступной беллетристической форме описал судьбу Ильи Марковича Троцкого, чья биография, публицистика, в том числе мемуарная, а также общественные заслуги (например, инициирование кампании по номинированию Ивана Бунина на Нобелевскую премию по литературе, создание Южноамериканского WOrldORT, работа в нью-йоркском Литфонде) долгое время оставались вне поля зрения историков литературы, культурологов и других исследователей.
Что же касается читателя, интересующегося историей европейской культуры и русского Зарубежья в частности, то книга «Неизвестный Троцкий», содержание которой вполне соответствует названию, позволит ему окунуться в атмосферу «Серебряного века», будней литературной элиты русской эмиграции, напомнит имена видных общественных и политических деятелей из этой среды, сообщит о многих доселе неизвестных событиях и документальных фактах.
В заключение позволю себе выразить надежду, что книга М. Уральского «Неизвестный Троцкий» привлечет должное внимание к личности И.М. Троцкого — незаурядного, в высшей степени достойного человека, и его наиболее значительные литературно-публицистические работы будут собраны по различным изданиям и опубликованы в отдельной хорошо комментированной книге.
Стефано Гардзонио (Пизанский университет)
Введение
Илья Маркович Троцкий, журналист газеты «Русское слово» («русскословец», как их называли) и видный общественный деятель, играл заметную роль в культурной жизни русской эмиграции первой волны. Его имя постоянно мелькает в многочисленных исследованиях, посвященных послереволюционной эмигрантской литературе и журналистике1. Историки и литературоведы, занимающиеся русским Зарубежьем, непременно натыкаются на следы его бурной активности. Тем не менее, долгое время личность И.М. Троцкого — публициста и неутомимого «ходатая по делам русских писателей в изгнании», — оставалась непроясненной ни в историческом, ни в культурологическом контексте. Солженицын, например, неоднократно цитируя И.М. Троцкого во втором томе своего историко-полемического исследования «Двести лет вместе», о нем самом не сказал ни слова. Да и историки эмигрантской литературы не проявляли интереса к его фигуре, ограничиваясь краткими биографическими примечаниями.
Первые подробные и достоверные сведения об И.М. Троцком приводятся в статьях автора настоящей книги, опубликованных в сборнике «Русские евреи в Америке» (РЕВА)2, за которыми последовали другие его публикации.
Есть долг памяти. Если кому-то отдавать долги, то предкам, тем, кто несправедливо забыт, по воле случая или злому умыслу. Книга «Неизвестный Троцкий» относится к разряду документальной беллетристики. По своему характеру это жизнеописание, в котором портрет главного героя — Ильи Марковича Троцкого (1о июня 1879, Ромны, Российская империя — 5 февраля 1969, Нью-Йорк, США) создается в связке с людьми и в окружении людей, с которыми он общался в разные периоды своей бурной жизни: как русский интеллигент и как еврейский подвижник, как журналист и как масон, как общественный деятель и как предприниматель.
Автор сознает, что при таком подходе фигура И.М. Троцкого подчас тонет в деталях — ярких и запоминающихся, имеющих отношение к ее бытованию и судьбе, но не создающих портрета отдельной личности «в галошах, шляпе и пальто». Да и кто такой по большому счету Илья Троцкий? Журналист, общественник... Таких в те годы было десятки. Вот Иван Бунин, с коим он был знаком более 30 лет, это личность. В первую очередь — «классик русской литературы», и к этому еще «биография»! Писать о Великих большая честь, но на этом поле топчутся орды жаждущих сказать нечто свое. Тогда как писать «о малых сих» — трудно, но можно и нужно. Ибо великие живут за счет малых, кои греются в лучах их гения. Илья Троцкий этому убедительный пример. Не будь вокруг Бунина таких, как он, не имел бы этот гений ни Нобелевской, ни средств к существованию.
Свою карьеру журналиста И.М. Троцкий начал в Вене, корреспондентом влиятельной ежедневной газеты «Das Neue Wiener Tagblatt». Затем судьба свела его с русским медиамагнатом Иваном Сытиным, и он
сразу попал в «Русское слово» — крупнейшую газету России <...>. До Первой мировой войны И.М. Троцкий был берлинским корреспондентом «Русского слова», <затем вплоть до 1917 г. ее специальным корреспондентом по скандинавским странам. — М.У>. Влияние заграничных корреспондентов столичных русских газет в эти годы было очень велико, — с ними считались министры и дипломаты, и нередко через журналистов неофициальным путем в Петербург давали знать то, что нельзя было сказать в официальных нотах3.
В начале XX в. И.М. Троцкий опубликовал в русской прессе около 400 статей, многие из которых и поныне весьма занимательны для читателей, интересующихся «Серебряным веком. Помимо работы в качестве корреспондента «Русского слова», он издавал первую русскоязычную газету в Германии, стал первым (и последним) русским журналистом, который поддерживал личные отношения с норвежскими литераторами Бьёрнстьерне Бьёрнсоном, Квидом Квидамсоном, Кнутом Гамсуном и единственным иностранцем, кого принял у себя в доме и удостоил многочасовой беседы гениальный шведский писатель и драматург Август Стриндберг.
Среди его знакомых, интервью с которыми он регулярно публиковал в русской прессе, значились такие корифеи западного литературного мира, как австрийские писатели Артур Шницлер и Петер Альтенберг, немецкие — Герхарт Гауптман, Бернхард Келлерман и Герман Зудерман, датчанин Георг Брандес — один из крупнейших скандинавских мыслителей и литераторов, чье влияние на европейскую литературу ощущается до сих пор. Таким образом, Илья Троцкий, образно выражаясь, играл роль «живого моста», соединявшего в начале XX в. скандинавскую, австро-германскую и русскую культуры.
Оказавшись в эмиграции, И.М. Троцкий продолжал активную литературно-публицистическую деятельность, концентрируя свою энергию как на представлении русскому читателю знаменитых западных писателей — например, нобелевских лауреатов 1920-х Синклера Льюиса и Луиджи Пиранделло, — так и в создании паблисити на Западе корифеям русской эмигрантской литературы, в первую очередь — Ивану Бунину. В дневнике В.Н. Муромцевой-Буниной от 26 декабря 1930 г., где приведена выдержка из письма И.М. Троцкого к одному коллеге-журналисту: пора, начать кампанию номинирования Бунина на Нобелевскую премию, «Друзья Бунина должны взяться за дело!»4
Сам И.М. Троцкий не входил в в ближайшее окружение писателя, как, например, М. Алданов, Б. Зайцев, И. Фонда-минский или М. Цетлина. Он просто был горячим поклонником писательского таланта и его «верным другом», всегда готовым откликнуться на просьбу о помощи.
В своей «буниниане»5 Илья Троцкий отнюдь не ограничивался частной перепиской с друзьями писателя. Как публицист он обратился ко всей эмиграции первой волны. И его голос был услышан. После публикации статей И. Троцкого в парижской газете «Последние новости» и рижской «Сегодня»6 в русском Зарубежье началась активная кампания в пользу Бунина, в которой сам Троцкий, используя свой личный авторитет и обширные знакомства в среде шведских интеллектуалов, играл роль влиятельного лоббиста. Кампания по номинированию Бунина закончилась триумфальным успехом. В 1933 году Иван Алексеевич Бунин стал первым русским писателем, удостоенным Нобелевской премии и одновременно первым в мире литератором-эмигрантом, без гражданства, получившим эту высокую награду. Что касается Ильи Троцкого, то «год Бунина» оказался для него лично очередным переломным моментом в его эмигрантской судьбе. В Германии к власти пришли нацисты и ранней весной 1933 г. И.М. Троцкий в срочном порядке покинул Берлин. С этого времени он жил то в Копенгагене, то в Брюсселе, то в Париже, пока в 1935 г. не перебрался в Аргентину, приняв предложение ОРТ стать представителем этой организации в Южной Америке. С началом Второй мировой войны И.М. Троцкий безвыездно жил в Буэнос-Айресе, а в 1946 г поселился в Нью-Йорке7, где прошли последние, но очень плодотворные в литературном отношении годы его жизни.
Всю свою жизнь, до самых последних дней Илья Троцкий был неутомимым общественником. Он занимался организацией материальной поддержки евреев, пострадавших во время Первой мировой войны, участвовал в акциях помощи жертвам большевицкого голодомора 1920-х, более шестидесяти лет жизни посвятил работе в области еврейского профессионального образования и здравоохранения (ОРТ-ОЗЕ) и, будучи с 1947 г. секретарем нью-йоркского Литфонда, всемерно способствовал выживанию русской эмигрантской культуры. На этом поприще, как свидетельствуют документы, публикуемые в настоящей книге, он вместе с Алдановым и другими друзьями Бунина оказал неоценимую помощь в организации кампании по материальной поддержке больного писателя, оставшегося после войны без средств к существованию.
Активно работал Илья Троцкий и в нью-йоркском «Союзе русских евреев»8, который по части благотворительности помогал всем эмигрантам, невзирая на религиозную принадлежность — при подлинной нужде отказа не было никому.
Как политический деятель И.М. Троцкий до революции примыкал к Народно-социалистической трудовой партии (энесы), а в эмиграции участвовал в деятельности Республиканско-демократического объединения9. Он занимал умеренные социал-демократические позиции и был известной и уважаемой в среде правых социалистов Австрии, Дании и Голландии фигурой.
При его жизнеописании нельзя не коснуться истории революции и Гражданской войны, русской послереволюционной эмиграции, не сказать о духовной атмосфере, в которой эти события вызревали и разразились. После 1917-го «Серебряный век» оказался разорванным на части. Одна из них, «модернистская», до конца 1920-х развивалась в Советской России в русле «Первого русского авангарда», а затем — «социалистического реализма». Другая часть, как «очаг истинно русской культуры», бережно сохранялась в русском Зарубежье, в среде эмиграции первой волны.
Во что вскоре превратилась русская революция, не поймет никто, ее не видевший. Зрелище это было совершенно нестерпимо для всякого, кто не утратил образа и подобия Божия, и из России бежали все имевшие возможность бежать. Бежало и огромное большинство самых видных русских писателей, и прежде всего потому, что в России их ждала или бессмысленная смерть от руки первого встречного злодея, пьяного от разнузданности и безнаказанности, от грабежа, от вина, от крови, от кокаина, или позорное рабское существование во тьме, во вшах, в лохмотьях, среди эпидемий, в холоде, в голоде, в пещерных муках желудка и унизительных заботах только о нем, под вечной угрозой быть выброшенным из своего нищенского угла на улицу, быть посланным на уборку солдатских нечистот в казарму, быть без всякой причины арестованным, избитым, оскорбленным, увидеть свою мать, сестру или жену изнасилованной — и в полном молчании, ибо за малейшее свободное слово в России могут вырезать язык10.
Волна революции вымыла в Зарубежье весь цвет русской литературы и публицистики «Серебряного века».
Среди интеллектуалов первой волны в общем и целом превалировали либерально-демократические умонастроения, выразителем которых были две крупнейшие газеты русского Зарубежья — парижская «Последние новости» и рижская «Сегодня». С ними активно сотрудничал И. Троцкий, здесь же печатались И. Бунин, М. Алданов и другие писатели-эмигранты. На более правых, охранительских позициях стояла парижская газета «Возрождение». В ней после 1926 г. из представителей бунинского окружения публиковали свои произведения только Марк Алданов, Борис Зайцев, Александр Куприн и Николай Рощин.
Другую часть интеллектуальной элиты русской диаспоры — менее многочисленную, но компактную и весьма сплоченную, составляли консерваторы-монархисты и национал-патриоты разных оттенков, опиравшиеся на симпатии «молчаливого большинства» — пассивных, с точки зрения интеллектуальной и общественной активности, эмигрантских масс. В этой среде пропагандировались «Протоколы сионских мудрецов», разрабатывались теории «жидомасонского заговора», процветали антисемитизм, антиэкуменизм, великодержавный русский шовинизм и другие подобного рода «прелести мира сего». У них были свои органы печати, как правило, сугубо публицистические, малотиражные, рассчитанные на узкий круг единомышленников. Беллетристика в изданиях консервативно-монархического толка была представлена слабо, и в целом ничего, заслуживающего внимания с точки зрения высокой литературы, эта среда на свет не произвела.
На правом фланге обретались и «просвещенные консерваторы», как философ Иван Ильин или историк Сергей Ольденбург, дистанцировавшиеся от эксцессов «кондовой» русской духовности и поддерживавшие плодотворный и весьма интересный в историко-культурной ретроспективе диалог со своими оппонентами из либерально-демократического лагеря — см., например, переписку члена ЦК партии кадетов «московского златоуста» Маклакова с известным консерватором-монархистом Шульгиным11.
Обращаясь к ретроспективе литературного наследия русской эмиграции, можно согласиться с мнением одного из друзей И.М. Троцкого — поэта-сатирика Дон Аминадо:
Несмотря на твердо укоренившееся мнение, что дубовый листок, оторвавшийся от ветки родимой, должен непременно засохнуть и превратиться в пыль, равно как обречен на гибель и разложение каждый покинувший родную почву и подпочвенные пласты честный писатель, — кстати сказать, о Тургеневе, написавшем большинство своих произведений в Буживале под Парижем, почему-то забывали, — несмотря на все эти мрачные предпосылки и предсказания, литература в эмиграции расцвела пышным цветом.
«Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», «Последнее свиданье» и «Солнечный удар», не говоря уже о целом ряде других книг рассказов, стихов и воспоминаний, Бунин написал на берегу Средиземного моря, в Грассе, в Приморских Альпах, на берегу Атлантического океана, в Париже, а не на Волге, не в Москве, и не в Елецком уезде Орловской губернии.
Куприн написал своих «Юнкеров», «Елань», книгу «Храбрые беглецы», рассказы для детей, не выезжая с улицы Жака Оффенбаха, и, конечно, задолго до того страшного дня, когда бессильного, немощного, полупарализованного, полуживого, и уже бывшего, а не сущего, везли его в отдельном купэ на советскую родину, на подпочвенные пласты, на осиротевшую дачу в Гатчине.
Все вещи Алданова, начиная от «Св. Елены» и «Девятого Термидора» и кончая «Ключом», «Бегством», «Истоками», — блестящий перечень их в несколько строк не уложишь, — задуманы и созданы в эмиграции, заграницей, за рубежом.
Рассказы, романы, повести Бориса Зайцева — «Анна», «Дом в Пасси», его «Тургенев», «Жуковский», — все это плоды трудов и дней невольного и длительного изгнания.
Свою замечательную книгу «После России» Марина Цветаева написала тоже здесь, а не там.
Там была только одиночная камера, и в одиночной камере смерть.
То же самое, и в полной мере, относилось и к Осоргину, и к Адамовичу, и к Ходасевичу, и к Мочульскому, и к многочисленным молодым беллетристам и поэтам, чуть ли возникшим и окрепшим уже в эмиграции.
А об историках, философах, и ученых и говорить не приходится.
Бердяев, Лев Шестов, Ростовцев, Лосский, Степун, — вся эта Большая, а не Малая медведица, расточала свой звездный блеск тоже не на русские, и на иностранные горизонты. И вот оказывалось, что о любви к отечеству и о народной гордости можно было с полным правом декламировать вслух не только на Ленинском шоссе или на площади Урицкого, но и где-то у черта на рогах, на левом берегу Сены, в стареньком помещении Тургеневской библиотеки, неожиданно пополнившейся томами и томами новых изгнанников, на которых, продолжая желтеть от времени, глядели старомодные портреты Герцена и Огарева, не убоявшихся легкокрылого афоризма, что мол на подошвах сапог нельзя унести с собой родину...
Оказалось, что можно, и что история эта, конечно, повторяется12.
Однако помимо творческого потенциала и высоких принципов существовала еще и грубая реальность: литературная среда русского Зарубежья была перенасыщена профессиональными литераторами, и жить на одни гонорары было практически невозможно13, хотя такие журналисты «с именем», как И.М. Троцкий, были востребованы.
Кроме жесткой конкуренции и хронического безденежья литераторы-эмигранты постоянно сталкивались с враждебным отношением к себе местных собратьев по перу, в большинстве своем симпатизировавших Советскому Союзу. Да и правительства западных демократий, из-за боязни осложнений во взаимоотношениях с СССР, не выказывали особого
желания помогать русским эмигрантским сообществам.
Среди европейских писателей «первого эшелона» были, конечно, случаи глубокого понимания и сочувствия участи русских изгнанников. Так, например, Томас Манн после своей первой личной встрече с Буниным в парижской квартире Льва Шестова (28 января 1926 г.)14 писал, что приверженность к культуре своей страны:
<...> сегодня обрекает людей <типа Бунина>стать контрреволюционерами, буржуазными, антипролетарскими, политическими преступниками, вынужденными покинуть свою страну, если это удается. Тут я чувствую симпатию, солидарность — некоторого рода потенциальное товарищество; ибо мы в Германии еще не дошли до того, чтобы писатель с чертами характера, похожими на бунинские, должен был отряхивать прах отечества со своих ног и есть хлеб Запада. Но я не сомневаюсь нисколько в том, что в подобных обстоятельствах я разделил бы его судьбу».
Увы, для Томаса Манна последнее замечание оказалось пророческим — через всего семь лет он сам стал изгнанником. Однако, в общем и целом, западные интеллектуалы относились к русской эмиграции неприязненно.
Эти изгнанники нашли столь мало сочувствия и понимания со стороны принявших их стран. Чудовищность положения русских эмигрантов заключалась в том, что к ним, сбежавшим от ада большевистской революции, относились с таким презрением, будто бы они были отребьем человечества или отбросами истории15.
Таким образом, упорная полувековая работа русской диаспоры по сохранению в Зарубежье очага истинно русской культуры шла в условиях «борьбы за выживание». В отличие от советских «литераторов-вельмож» (Горький, А.Н. Толстой, К. Федин, И. Эренбург), осыпаемых золотым дождем гонораров, премий и привилегий, писатели-эмигранты, и в их числе первый русский нобелевский лауреат по литературе
Иван Бунин, на Западе влачили полунищенское существование16. В подобном ракурсе результаты их работы кажутся еще более поразительными — по своему объему, культурно-историческому и художественному значению.
Мироощущение интеллектуальной элиты русского Зарубежья Иван Бунин выразил в своей программной речи «Миссия русской эмиграции» (Париж, 16 февраля 1924 г.17):
Если бы даже наш исход из России был только инстинктивным протестом против душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то и тогда нужно было бы сказать, что легла на нас миссия некоего указания: «Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллион из числа лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захватчиков; перед тобой миллион душ, облеченных в глубочайший траур, душ, коим было дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных земных царств и знать, что это царство есть плоть и кровь их, дано было оставить домы и гробы отчие, часто поруганные, оплакать горчайшими слезами тысячи и тысячи безвинно убиенных и замученных, лишиться всякого человеческого благополучия, испытать врага столь подлого и свирепого, что нет имени его подлости и свирепству, мучиться всеми казнями египетскими в своем отступлении перед ним, воспринять все мыслимые унижения и заушения на путях чужеземного скитальчества: взгляни, мир, и знай, что пишется в твоих летописях одна из самых черных и, быть может, роковых для тебя страниц!» <...> Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием , памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы... <...>
Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не
только за страх, но и за совесть не приемлет Ленинских градов, Ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия. «Они хотят, чтобы реки текли вспять, не хотят признать совершившегося!» Нет, не так, мы хотим не обратного, а только иного течения. Мы не отрицаем факта, а расцениваем с точки зрения не партийной, не политической, а человеческой, религиозной. <...> мы очень прислушиваемся и — ясно слышим все еще тот же и все еще преобладающий голос хама, хищника и комсомольца да глухие вздохи. Знаю, многие уже сдались, многие пали, а сдадутся и падут еще тысячи и тысячи. Но все равно: останутся и такие, что не сдадутся никогда. И пребудут в верности заповедям Синайским и Галилейским, а не планетарной матерщине <...>. Пребудут в любви к России Сергия Преподобного, а не той, что распевала: «Ах, ах, тра-та-та, без креста!» и будто бы мистически пылала во имя какого-то будущего, вящего воссияния. <...>
Говорили — скорбно и трогательно — говорили на древней Руси: «Подождем, православные, когда Бог переменит орду»! Давайте подождем и мы. Подождем соглашаться на новый «похабный мир» с нынешней ордой18.
Успех бунинской речи сделал писателя духовным лидером той интеллектуальной части русской эмиграции, где превалировали либерально-демократические воззрения, христианский персонализм и мессианизм. Из людей именно такого типа организовался своего рода «бунинский круг», к которому принадлежал и И.М. Троцкий. Для всего бунинского окружения:
Задача сохранения культуры исчезнувшей старой России переросла в миссию русской эмиграции. Культура Российского зарубежья оказалась фантомным отражением Серебряного века, в атмосфере которого выросли ее представители19.
В повседневной жизни Бунин был на редкость сложной, артистически-изменчивой натурой. Всегда и во всем характер его проявлялся в самой широкой гамме эмоций. Здесь помимо писательского тщеславия и сугубого эгоцентризма он неизменно выказывал искреннюю отзывчивость на чужое горе, застенчивость, резкую правдивость и еще, говоря словами его старого друга Куприна, «какое-то жадное ко всему крайнему любопытство».
Возможно, в силу этих качеств бунинского характера возникла многолетняя его дружба с Алдановым — явление в мире искусств уникальное. Других примеров таких трогательно доверительных, простых, без охлаждений и ссор, дружеских отношений между двумя выдающимися литераторами, один из которых считался самым значительным, а другой — самым читаемым писателем русского Зарубежья, история отечественной культуры не знает. В этом свете проясняется и подоплека отношений между Ильей Троцким и Марком Алдановым, иллюстрирующихся их перепиской, публикуемой в настоящей книге.
Супруги Бунины были многим обязаны по жизни дружеской поддержке своего окружения. Но и сами они в критических ситуациях готовы были прийти им на помощь.
О гражданском подвиге И. Бунина, приютившего в своем доме в Грассе литератора Александра Бахраха, которому как еврею некуда было деться в оккупированной нацистами Франции, и прятавшего «под своей крышей» во время облавы на евреев супругов Александра и Стефу Либерман, рассказывается в разделе Гл. 5. «Спасенные Буниным»: Александр Бахрах и супруги Либерман.
История русской эмиграции первой волны знает немало сумасбродных проектов, подлостей «во благо великой идеи», фактов прямого предательства «горячо любимой родины» и других эксцессов, присущих экзистенциальному состоянию «тотальной отверженности». Все они относятся к разряду «банальных истин».
Тогда как созидательно-творческий импульс русской эмиграции — уникальный, как уже отмечалось выше, культурологический проект «сохранения очага», достоин самого тщательного изучения. В этом ракурсе Илья Маркович Троцкий — литератор, общественник, демократический социалист и масон, как историческая фигура являет собой обобщенный типаж русского интеллигента «Серебряного века», а его долгая жизнь, насыщенная многочисленными контактами, разъездами, полемическими выступлениями и публицистической деятельностью — своего рода зеркало русской эмиграции первой волны.
Возможно, настоящее и не изменяется к лучшему от нашего постижения истории, но — и в этом пишущий эти строки глубоко убежден — знание прошлого придает обыденности стиль, форму и содержание, а значит — делает повседневную жизнь ярче и интересней.
В процессе изыскания и подготовки материалов для данной книги неоценимую помощь автору оказали Гунард Берг (Нью-Йорк), Татьяна Гладкова (Париж), Ричард Девис (Лидс), Готтфрид Кратц (Мюнстер), Борис Равдин (Рига), профессор Галина Родина (Арзамас), Габриэль Суперфин (Бремен), профессор Владимир Хазан (Иерусалим), Татьяна Чеботарева (Нью-Йорк), профессор Магнус Юнггрен (Стокгольм). Всем им автор выражает свою глубокую благодарность. Особенно признателен автор Олегу Коростелеву (Москва) — за постоянную поддержку советом и делом, а также академику Александру Лаврову (С.-Петербург), Сергею Морозову (Москва) и профессору Стефано Гардзонио (Пиза), взявшим на себя труд прочесть рукопись и высказать свои замечания. Примечания, идущие по тексту, даются в сокращенном виде.
ОПИСАНИЕ АРХИВОВ
В YIVO-архиве И.М. Троцкого (Title: Ilya Trotsky, ID: RG 577, Inclusive Dates: 1937-1968 (www.yivoarchives.org/?p=collections/ controlcard&id=32945) хранятся документы, относящиеся главным образом лишь к периоду его жизни в Новом Свете. Архив состоит из четырех боксов.
В Box I собраны подлинники писем, среди которых особый интерес представляют письма писателей М. Алданова, И. Бунина, Дон Аминадо, Т. Варшер, С. Орема и М. Авенбурга, публикуемые в настоящей книге. В Box II находятся рукописи различных авторов, копии газетных статей, личные документы, поздравительные телеграммы по случаю 75-летия, перечень русских писателей в Париже и др. материалы, в Box III — рукописи самого И. Троцкого, например, «Путешествие по южной Америке» (на испанском), автографы его статей на различных языках и др. материалы, а в Box IV — три альбома с копиями статей И. Троцкого на немецком и идише, тексты Августа Гайлита и Стефана Поллачека на немецком языке.
Другая часть публикуемых в настоящей книге писем и материалы, имеющих отношение к личности И.М. Троцкого, разыскана автором в Бахметьевском архиве (BAR) — три письма И. Троцкого к М. Алданову, Русском архиве Лидсского университета (РАЛ/LRA) — письма И. Троцкого к Буниным, архиве Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета (HIA), архиве «Джойнт» (JDC Archivé) и личном архиве Рикардо Авенбурга (Буэнос-Айрес).
Примечания
1 Абызов Ю., Равдин Б., Флейшман А. Русская печать в Риге: Из истории газеты «Сегодня» 1930-х годов. Кн. 3. Stanford, 1997; Солженицын А.И. Двести лет вместе (1795-1995). М., 2001-2002; Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать: Из мемуарного и эпистолярного наследия / Общая ред., вступит, статья и комм. В. Хазана. Jerusalem, 2011; Будницкий О.В., Полян АЛ. Русско-еврейский Берлин (1920-1941). М., 2013; Schlögel К., Ки-cher K, Suchy В., Thun G. Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918-1941. Berlin, 1995; Марченко ТВ. Русские писатели и
Нобелевская премия (1901-1955)- Köln; München, 2007 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte; Bd. 55).
2 Уральский M. Илья Маркович Троцкий — публицист, общественный деятель, ходатай за русских литераторов в изгнании // Русские евреи в Америке (ниже всюду — РЕВА). Кн. 9. Торонто; СПб., 2014. С. 82-162.
3 Седых А. Памяти И.М. Троцкого // Новое русское слово. 1969. № 20423. 7 февраля. С. 1.
4 Из письма И. Троцкого С. Полякову-Литовцеву // Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы. Т. 2. Мюнхен, 1982. С. 235.
5 Уральский М. Память сердца: буниниана Ильи Троцкого // Вопросы литературы. 2014. № 6. С. 325-344-
6 Троцкий И. Среди нобелевских лауреатов (письмо из Стокгольма) // Последние новости. 1930. № 3560. 21 декабря; Получат ли Бунин и Мережковский Нобелевскую премию? (письмо из Стокгольма) // Сегодня. 1930. № 360. 30 декабря.
7 Приезд И.М. Троцкого // Новое русское слово. 1946. 1 октября. С. 3.
8 Эта европейская организация эмиграции «первой волны», воссозданная в Нью-Йорке в 1942 г., после войны под руководством Якова Фрумкина среди прочего занималась издательской деятельностью.
9 Талас М. Республиканско-демократическое объединение российской эмиграции: организация, стратегия и тактика (http:// cyberleninka.ru/article/n/respublikansko-demokraticheskoe-obedinenie-rossiyskoy-emigratsii-organizatsiya-strategiya-i-taktika).
10 Бунин И.А. Письмо к Боссару (21 июля 1921 г.) // И.А. Бунин: Pro et contra. СПб., 2001. С. 32.
11 Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919-1939 гг. / Сост., вступит, ст. и прим. О.В. Будницкого. М., 2012.
12 Дон Аминадо. Поезд на третьем пути. М., 2000. С. 693-694.
13 Березовая Л.Т. Культурная миссия пореволюционной эмиграции как наследие Серебряного века // Новый Исторический вестник. 2001. № 3 (5).
14 Манн Т. Парижский отчет // И.А. Бунин: Pro et contra. С. 115-
116.
15 Герра Р. Несостоявшийся диалог // Новый журнал. 2009 (http:// magazines.russ.ru/nj/2009/257/ge20.html).
16 М. Алданов, призывая Бунина не быть излишне щепетильным в отношениях с меценатами, писал 21 декабря 1948 г.: «Во все времена — даже и в лучшие времена — знаменитейшие писатели часто не могли прожить своим трудом, и, от Горация до Гоголя и до наших современников, жили в значительной мере тем, что их друзья собирали для них деньги». (Грин М. Письма М.А. Алданова к И.А. и В.Н. Буниным // Новый журнал. 1965. № 81. С. 128).
17 Бунин ИЛ. Миссия русской эмиграции (http://bunin.niv.ru/ bunin/bio/missiya-emigracii.htm); Бакунцев А.В. Речь И.А. Бунина «Миссия русской эмиграции» в общественном сознании эпохи (По материалам эмигрантской и советской периодики 1920-х гг.) // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. М., 2014. С. 268-337.
18 Бунин И. Великий дурман: Неизвестные страницы / Сост., вступит. статья, прим. О. Василевской. М., 1997.. С. 126-138.
19 Березовая А.Г Культурная миссия пореволюционной эмиграции как наследие Серебряного века. 2001.
Глава 1
В начале пути
К сожалению, сведений о начальном (до 1906 г.) российском периоде жизни Ильи Марковича Троцкого не сохранилось, а сам он об этом в своих статьях-воспоминаниях не рассказывает. Эту часть его биографии приходится воссоздавать на основе косвенных данных. При этом некоторые датировки являются приблизительными. Отрывочные воспоминания его младшего брата — Я.М. Троцкого, которые используются в тексте, относятся к середине 1960-х. Якову Марковичу тогда уже было за восемьдесят и, хотя он и обладал ясной памятью, никакие точные даты им не упоминались. По всей видимости, Илья Маркович впервые появился в Петербурге в 1903-1904 г., в конце 1905 г. он переезжает в Вену, а в 1907 — в Берлин. Начиная с даты «первого берлинского периода» жизни И.М. Троцкого, все этапы его большого жизненного пути определены достаточно точно. В адресных книгах Вены и Берлина фамилия Ильи Троцкого (Ilja Trotzky) появляется с 1906 г. (по 1908 г.) и с 1909 г. (по 1914 г.) соответственно.
Илья (Минахем Элияху) Маркович (Мордухаевич) Троцкий родился 1о июня 1879 г. в Ромнах — уездном городе Полтавской губернии, расположенном на правом берегу Сулы (левого притока Днепра), в устье реки Ромна, в небогатой многодетной еврейской семье. К концу XIX в. это был маленький — около 23 ооо человек, город с немощеными и неосвещаемыми улицами и домами, в большинстве своем крытыми соломой. Евреи составляли почти третью часть населения города. В основном это были ремесленники и тор-говцы. Во многом благодаря активности последних ежегодно в Ромнах происходили четыре ярмарки, на которые доставлялись товары из других городов Украины, России и Белоруссии. Две из них — Вознесенская и Ильинская, известные далеко за пределами Украины, продолжались от двух до трех недель. В 1881 г. и в октябре 1905-го в Ромнах произошли погромы (в 1905 г. восемь евреев были убиты), после которых часть евреев эмигрировала, в том числе семья знаменитого сиониста Хаима Арлозорова1, одного из пионеров создания государства Израиль.
Из известных в истории людей помимо И.М. Троцкого в Ромнах: родились, будущий «отец советской физики» Абрам Иоффе, революционер, а впоследствии активный сионист Петр Рутенберг, знаменитый большевик Григорий Сокольников (Бриллиант) и Александр Таиров (Корнблит) — выдающийся театральный режиссер, основатель Камерного театра. В Ромнах не было мужской гимназии, но существовало реальное училище (с 1877 г.), в котором учились А. Иоффе, И.М. Троцкий, П. Рутенберг и будущий выдающийся ученый в области прикладной механики Степан Тимошенко2. Будучи погодками, они, возможно, окончили училище в одно и то же время — в 1896 г. Все перечисленные выпускники РРУ воспользовались правом поступления в высшие учебные заведения Российской империи. Абрам Иоффе, например, отправился затем в Петербург, учиться в Технологическом институте3, позднее там же учился и Рутенберг, а Тимошенко окончил Петербургский институт путей сообщения (1901 г.). Что касается И.М. Троцкого, то в отличие от товарищей он поехал получать дальнейшее образование в Екатеринослав, в Высшее Горное училище (ЕВГУ)4. Известно, что Абрама Иоффе и Степана Тимошенко связывала многолетняя дружба. Тимошенко и Рутенберг состояли в переписке. Однако сведений об отношениях между И.М. Троцким и его одноклассниками нет. Иоффе и Тимошенко были далеки от литературы и политики, а И.М. Троцкий как журналист не интересовался научными проблемами.
Но вот то, что ни Илья Троцкий, ни Петр Рутенберг друг о друге в своих воспоминаниях не упоминают, кажется странным, поскольку оба они, будучи социалистами, участвовали в российской общественно-политической жизни. Впрочем, один раз журналист все же вспомнил о Рутенберге — в статье на немецком языке «Мартин Иванович5. Один эпизод из жизни Рутенберга», опубликованной в газете «Еврейское недельное обозрение» («Jüdische Wochenschau»)6, выходившей в Буэнос-Айресе, где он жил в годы Второй мировой войны. Статья по существу является некрологом — Рутенберг скончался в Иерусалиме 3 января 1942 г., и звучит как торжественный панегирик борцу за освобождение рабочего класса Российской империи, а впоследствии активному сионисту, ушедшему в мир иной. Из всей яркой жизни Рутенберга акцент в ней сделан только на один эпизод — организацию им казни агента царской охранки попа Гапона. «Убийство попа Гапона» — одно из нераскрытых политических преступлений в царской России. Жертвой убийства стал 36-летний политик и общественный деятель, руководитель Собрания русских фабрично-заводских рабочих Петербурга, бывший священник Георгий Аполлонович Гапон. Убийство произошло 28 марта (10 апреля) 1906 г. в пригороде Петербурга, дачном поселке Озерки. Возбужденное следствие не привело ни к каким результатам и через несколько лет было закрыто. Материалы следственного дела остались необнародованными. В качестве главного подозреваемого в следственном деле фигурировал член партии эсеров, инженер П.М. Рутенберг. В 1909 г. он опубликовал заявление, в котором признавал, что совершил убийство Гапона по поручению ЦК партии эсеров. Интересно, что подчеркивая факт рождения Пинхаса Рутенберга в ортодоксальной еврейской семье виноторговцев из провинциального украинского городка, рассказывая о его учебе в хедере и лишь затем — с 11 лет, по настоянию матери! — в «христианском реальном училище», Троцкий скромно умалчивает о том, что они с покойным погодки, земляки и, вполне возможно, одноклассники. Более того, сближение Рутенберга с социал-демократами (он примыкал к левым эсерам) произошло в Екатеринославле, причем именно в те годы, когда там жил и учился в ЕВГУ И.М. Троцкий. Таким образом, вопрос, почему это личное знакомство не отмечено в некрологе и не прослеживается больше в других мемуарных публикациях Ильи Марковича, остается загадкой. В начале 1900-х Илья Маркович Троцкий окончил ЕВГУ, получив профессию маркшейдера. Однако его больше прельщала карьера на литературном поприще, и он всячески стремится войти в литературную среду. И.М. Троцкий публикует заметки в южнорусских газетах7, а в 1903-1904 гг. появляется в Петербурге, где посещает литературные «воскресенья» Федора Сологуба на 7-й линии Васильевского острова.
Из отрывочных замечаний И.М. Троцкого следует, что ему в те годы помогала освоиться в литературной среде будущая жена Сологуба — писательница, переводчик и деятель женского движения Анастасия Чеботаревская, работавшая с 1905 г. в редакции петербургского «Журнала для всех». Символистская атмосфера сологубовских посиделок не повлияла на вкусы Ильи Троцкого, чьи предпочтения никогда не выходили за рамки классической традиции — Пушкин, Толстой, Чехов, Горький, Куприн, Бунин, Алданов.
«Два Троцких»
Определенную роль в возникновении «затененности», окутывающей в исторической ретроспективе жизнь и деятельность И.М. Троцкого, несомненно, играет сама его фамилия.
Среди ошибок, связанных с отождествлением имени «Троцкий» с теми или иными историческими фактами, имеются и злонамеренные подтасовки. Например, апологеты теории «иудео-масонского заговора» записывают в масоны Л.Д. Троцкого — заклятого врага масонства, на том лишь основании, что в списках членов парижской ложи «Свободная Россия» значится И.М. Троцкий8. Последний, действительно, был инкорпорирован в эту ложу в 1937 г. и принимал участие в масонском движении вплоть до своей кончины. Об И.М. Троцком-масоне будет рассказано ниже, в разделе Гл. 5 «Илья Троцкий и русские масоны», но курьезных случаев, когда Илью Марковича отождествляли со Львом Давидовичем и наоборот, можно найти предостаточно. Ведь они не только были ровесники и земляки, но с 1905 по 1917 гг. оба обретались в Западной Европе — в Австрии (Вена), Германии (Берлин) и Скандинавии (Копенгаген, Стокгольм). В кайзеровском Берлине оба Троцких представляли в качестве иностранных корреспондентов влиятельные российские газеты: Илья Маркович — «Русское слово», а Лев Давидович — «Киевскую мысль»9. Несомненно, уже по этой причине их постоянно путали друг с другом.
Вот что, например, писал на сей счет главный редактор немецкоязычной венгерской газеты «Пестер Ллойд»10 Джозеф Фешци (сообщая о публикации в своем издании статьи Ильи Троцкого «Трагедия одной фамилии»):
Будапешт, 21.11.1927
Глубокоуважаемый коллега!
Само собой разумеется, что из-за Вашей фамилии Вас часто путают с другим Троцким, и для Вас — эмигранта, преследуемого советским режимом и вынужденного жить на чужбине, это является фатальным обстоятельством. Из двух интересных статей, что вы мне прислали, я хочу опубликовать одну, под названием «Трагедия одной фамилии». Гонорар за нее будет перечислен на ваш берлинский адрес.
Лев Давидович Троцкий, урожденный Бронштейн, имел много партийных кличек и псевдонимов. Троцким он вошел в историю по воле случая. Убегая в 1902 г. из сибирской ссылки, он вписал в фальшивый паспорт фамилию надзирателя одесской тюрьмы, в которой ему пришлось сидеть в 1898 г. Новая фамилия постепенно пристала к нему навсегда.
Г.А. Зив, соратник Л.Д. Бронштейна по революционной борьбе, вспоминал:
Как только я впервые увидел этот псевдоним, в моей памяти невольно всплыла импозантная фигура Троцкого, старшего надзирателя одесской тюрьмы, величественно опирающегося на свою длинную саблю и из своего центра держащего в руках всю тысячную толпу непривыкших к покорности и повиновению обитателей тюрьмы, всех младших надзирателей и даже самого начальника тюрьмы.
Сильная и властная фигура Троцкого несомненно произвела глубокое впечатление и на Бронштейна.
И чем более я знакомился с деятельностью Бронштейна впоследствии, тем больше росла во мне уверенность, что Бронштейн свою новую фамилию позаимствовал у царька одесской тюрьмы11.
Хотя «Троцкий» для Ильи Марковича — родовое имя, а для Льва Давидовича — псевдоним, типологически они во многом схожи личностями: оба одногодки, родом с Украины, в раннем детстве посещали хедер, затем реальное училище. С юности обоих привлекала журналистика. Лев Давидович с самого начала своей литературно-публицистической деятельности заявил себя незаурядным политическим и литературным критиком: кусачим, проницательным, обладающим четко формулируемой «установкой», ярким и напористым стилем.
Лев Троцкий — публицист «идейный», точнее — ангажированный, а поэтому в своих статьях — будь то политический памфлет или литературная критика, — всегда манифестирует, как ледоход, пробивая в закостенелом, по его убеждению, духовном пространстве свежие идеи. Но, так или иначе, все они сводятся к вычленению подспудных «причин», благодаря которым появляется на свет разбираемое им произведение. И всегда эти причины имеют социальную природу. Из любой литературы Л.Д. Троцкий «по капле выдавливает» буржуя12. В созданной его усилиями «Трисэсэ-рии»13 подобный подход лег в основу пресловутого метода социалистического реализма.
Тогда как Илья Маркович Троцкий — вполне заурядный очеркист, без особых аналитических, метафизических или идейных амбиций. По классификации другого Троцкого, он типичный
мелкобуржуазный интеллигент, <который — М.У.> — увы! — в качестве «инструмента», пользуется беглыми наблюдениями и поверхностными обобщениями — до тех пор, пока большие события не ударят его крепко по темени14.
Илья Троцкий — кочующий по миру журналист, собиратель фактов для корреспонденций типа «обо всем понемножку», «милый друг» различного рода знаменитостей, сочинитель трогательных воспоминаний с ностальгической жилкой — в исторической перспективе фигура не политическая, а культурологическая. Он боготворил литературу — эту «священную корову» русской духовности
и как всякому русскому интеллигенту, ему было свойственно просветительство — желание научить народ азбуке, преподать ему некие элементарные навыки, <в том числе — М.У.> гигиенического свойства15,
— избегая при этом крайностей, свойственных его идеологически ангажированному однофамильцу.
В качестве примера, характеризующего литературную публицистику «двух Троцких», можно сопоставить их статьи о популярном в конце XIX — начале XX в. немецком писателе Германе Зудермане16.
В 1902 г. Лев Троцкий опубликовал в газете «Восточное обозрение» статью «Да здравствует жизнь!» о драме Зудермана «Es lebe das Leben!»17. Это была первая в России серьезная критическая работа о творчестве популярного в конце XIX — начале XX в. немецкого писателя. Автор начинает статью с формулировки своего видения литературного жанра трагедии как отражения «социальных законов».
...в классической трагедии главным действующим лицом — хотя и без лица — был Рок. Он сокрушал, расстраивал, губил, карал, он потрясал сердца, он рождал в зрителях трепет ужаса («беременные женщины выкидывали, дети умирали в содроганиях», говорит наивное предание), — в этом собственно и крылось торжественное величие трагедии. Теперь рока нет. Его роль выполняется (pardon!) мелкой сволочью социальных законов — спроса и предложения, конкуренции, кризисов и пр. и пр., — армия более дисциплинированная, но не менее безжалостная. Темная стихийная сила Судьбы, неожиданными и неотразимыми волнами смывающая, как прибрежный песок, человеческие надежды, ожидания и идеалы, разменялась — обидно сказать! — на цифры, на статистику.
Я полагаю, однако, что дело все-таки не в этом. Где бы ни лежали причины «вырождения» трагедии, во всяком случае несомненно, что превращение Рока в социальный закон не лишило страстей их напряженности, страданий — их пафоса... Законы общественной жизни и партийные принципы, в которые их облекает сознание, это тоже сила, не уступающая в своем величии древнему фатуму.
Общественные принципы в своей безжалостной принудительности способны, не менее Судьбы Эсхила, растереть в прах индивидуальную душу, если она вступит с ними в конфликт. <...>
Речь у нас идет о пятиактной пьесе Зудермана <...> «Да здравствует жизнь!».
Это произведение носит название драмы, но в нем, — если отрешиться от схоластических критериев — можно найти все основные элементы трагедии. Другой вопрос — до какой высоты сумел их поднять Зудерман...
Далее идет краткое изложение сюжета пьесы, который строится на конфликте между отвлеченными моральными принципами аристократа-охранителя, радеющего за святость института брака, и реальной ситуацией, где он оказывается возлюбленным жены собственного друга и единомышленника.
Здесь, на сцене, — мир личных отношений. Тот же барон любит в течение пятнадцати лет жену своего друга Беату, которая и является его истинной подругой жизни, вдохновительницей его лучших идей, «сущностью, окраской и апогеем его бытия», наконец, воспитательницей его сына. Интимные отношения развиваются в борьбе с основами общественно-нравственного миросозерцания, которая углубляет их и под конец сообщает им невыразимый трагизм. Принципы проходят железною стопою по человеческим костям.
В общем и целом — вполне толстовская проблематика из «Анны Карениной» и «Крейцеровой сонаты», где герои являются мучениками своих собственных принципов. Однако Лев Троцкий находит истинных виновников личной трагедии главного героя — барона Рихарда Фелькерлинга в лице ряда второстепенных персонажей и далее делает далеко идущие выводы в духе ницшеанской концепции гибели принципов аристократического благородства под натиском «ресентимента». В качестве носителей столь низменной духовности в пьесе, по мнению Л. Троцкого, выступают представители «рыцарско-германско-европейско-капиталистического миросозерцания». <Они — М.У.>, а не идеалисты реакции Фелькерлинги, составляют материальную силу партии угнетения. Все живое гибнет в ее атмосфере.
Да и не может быть иначе в той немецкой среде, где реальные основы всех понятий и суждений давно размыты. Где весь идеализм, одухотворявший некогда жизнь, выдохся без остатка и заменился несколькими окостеневшими формулами «господской морали», патетически провозглашаемыми в парадных случаях, но нарушаемыми на каждом шагу практического обихода. Где собственная сословная «честь», утратившая старый романтический ореол, представляется лишь прозаическим «исполнительным листом», выданным из государственной германской канцелярии на право взыскания с плебейских масс.
Сын этой среды, который смотрит на ее моральные постулаты не как на неизбежный «этикет», а как на руководящие и вдохновляющие идеи, который чуток и честен с собою настолько, чтобы давать себе отчет во всех нравственных конфликтах, создаваемых его общественным положением, который в то же время настолько пропитан предрассудками своего «общества», что отречься от них для него значило бы отказаться от разумного существования, — такой человек воплощает в своем лице трагические черты отжившего сословия.
Как герой античной трагедии, он обречен року... року своей касты. Таков барон Рихард Фелькерлинг.
Судьба его безмерно скорбна. Но в наше отношение к нему примешивается струя холода. Понятно почему: для нас это человек другой планеты. Хочется сказать: пусть мертвые хоронят своих мертвецов.
Нам же пристало жить, жить и работать для жизни.
Es lebe das Leben!
Десятилетие спустя И.М. Троцкий публикует в газете «Русское слово» свое интервью с Зудерманом, а в 1928 г., в газете «Сегодня», очень интересную с историографической точки зрения статью-некролог «Зудерман и Толстой»18.
Умер Герман Зудерман. Ушел из жизни кумир провинциальных див, театральных предпринимателей, мечтательных дев и идейно настроенных юношей. <...> Нужно правду сказать, Зудерман как художник и драматург уже лет двадцать мертв для германской литературы. О Зудермане в последние годы не говорили. <Им> зачитывалась <только — М.У.> провинция.
Зудермана, как драматурга, вознесли на вершину славы женщины: Элеонора Дузе, Эльза Леман, Вера Комиссаржевская и Елена Полевицкая.
<...> В девяностых годах прошлого столетия <ХІХ в. — М.У.> Зудермана ставили в ряд с Ибсеном и Гауптманом. С годами, однако, в свете Ибсена звезда драматического натурализма Зудермана тускло померкла. Развенчал его известный германский критик Альфред Керр. Под бичующим хлыстом керровского сарказма от художественной ценности творчества Зудермана мало <что> осталось. Он ушел из жизни оцененный, но крепко обиженный. И если его драматическое творчество еще некоторое время в провинции будет жить, то беллетристика обречена на невзыскательный литературный вкус пасторских дочек, отставных чиновников и сентиментальных вдов.
После столь неутешительной оценки литературного гения ушедшего из жизни писателя И.М. Троцкий приступает к рассказу о своей встрече с ним в 1910 г., когда по заданию газеты «Русское слово», готовившей «специальный номер, посвященный Толстому», он «снесся письменно с Германом Зудерманом», чтобы заказать ему статью для этого выпуска.
Однажды раздался у меня телефонный звонок: Зудерман.
— Я в городе и хочу с вами встретиться. — К вашим услугам. — Встретимся на Ангальтском вокзале, а оттуда поедем ко мне в Треббин19. По пути поговорим о вашем предложении. — С удовольствием. — А вы меня узнаете? Бороду мою знаете?
Кто в Германии не знал «пятиактной» бороды Германа Зудермана.
В условленный час встретились. Первое впечатление от внешности писателя — здоровенный мужик с бородой лопатой. Горланит во все горло и жмет руку до треска в суставах. До Треббина, где лежит поместье Зудермана с изумительной виллой-дворцом, поехали третьим классом. <...> Зудерман объяснил — М.У.>:
Не люблю летом ездить в мягком вагоне. В сиденьях много пыли и в вагоне духота. В третьем классе легче дышится...
Заговорили о предложении «Русского слова». Я назвал Зудерману имена писателей, давших согласие написать о Толстом.
<...>
— Кнут Гамсун, к сожалению, отказался. — Почему? — Не любит он Толстого. Написал мне короткое письмо с таким непристойным отзывом о нашем великом писателе, что не решаюсь его опубликовать. Выйдет скандал и не в пользу Гамсуна.
Зудерман задумался и умолк. Молчал долго. Уже подъезжая к Треббину, коротко обронил:
— Нехорошо! Очень нехорошо!
В Треббине меня приняли с чисто русским радушием. Зудерман интересовался отношением к его произведениям русского читательского мира, расспрашивал о русских постановках его драм и пытливо вникал в мои рассказы о творчестве Горького, Бунина и Мережковского. Имя Толстого тщательно обходилось.
И только поздним вечером, когда мы с писателем гуляли в саду, Зудерман вернулся к моему предложению».
Далее И.М. Троцкий рассказывает, что Зудерман отклонил предложение «Русского слова» написать статью о Льве Толстом, мотивируя свой отказ этическими соображениями:
Изощряться в склонении прилагательного «великий» — мне не дано. Все, что я мог написать о Толстом, мною вам сказано. <...> Если русскому читателю ценно мое мнение о Толстом, он помирится и на моем коротеньком, но искреннем интервью...
Так Герман Зудерманом о Толстом и не написал. Я его понял и не настаивал.
Мы еще вернемся к подробностям встречи И.М. Троцкого с Зудерманом. А вышеприведенные тексты наглядно демонстрируют стилистические и концептуальные различия в публицистике «двух Троцких», относящейся к жанру «литературные страницы». Здесь налицо два разных подхода к литературе. Илья Маркович живет литературным процессом, в мире литературы и для литераторов, не выпячивая при этом свое собственное «Я». Он, говоря словами Сент-Бева: «лишь рисовальщик, создающий портреты великих людей».
Лев Давидович, напротив, стремится руководить литературным процессом, заставить его развиваться в нужном, единственно верном, в его понимании, направлении. Он не только не умаляет из почтения перед великими представителями писательского сообщества свое «Я», а наоборот выпячивает его по максимуму, нависая, как колосс, над головами собратьев по перу.
Из публикаций И.М. Троцкого можно почерпнуть много любопытных сведений о привычках, манерах, укладе жизни и отдельных чудачествах, присущих тем или иным знаменитым фигурам литературного мира. Он пишет о живых людях и для людей, тогда как другой Троцкий моделирует концептуальные схемы творчества знаменитых писателей, беспощадно критикует их и научает, что делать.
Эти «два Троцких» — украинские евреи, ровесники, социалисты и литераторы, были настолько чужды друг другу как с психологической, так и с мировоззренческой точек зрения, что, даже пребывая в одном и том же пространстве, явно избегали личных контактов. Так, например, Л.Д. Троцкий, осужденный после революции 1905 г. на вечное поселение в Сибирь и бежавший по дороге в ссылку, уехал из России и в 1907 г. обосновался в Вене. В это же время в столице Австро-Венгерской монархии проживал и И.М. Троцкий.
Однако не имеется никаких указаний, что их пути в Вене хоть как-то пересекались. То же самое можно сказать о Скандинавии и Берлине. И.М. Троцкий, охотно вспоминавший в печати о своих встречах с известными революционерами социал-демократами, близкими к Л.Д. Троцкому (Ганецкий20, Коллонтай21, Парвус, Радек22 и др.), никогда не упоминает своего однофамильца в числе знакомых.
Для понимания причин такого рода «антагонистической» несовместимости важно не упускать из вида один исключительно важный момент. Если Лев Давидович — революционер-марксист, ниспровергатель основ и устоев, всегда позиционировал себя как не еврей23, то Илья Маркович — умеренный социалист, убежденный демократ и либерал, напротив, был именно русский еврей, человек не религиозный, но остро ощущавший свою кровную связь с еврейством и активно боровшийся за выживание своего народа в годину тяжелейших испытаний, выпавших на его долю. Фигур подобного типа — «пассионариев XX столетия» — было немало: П.Б. Аксельрод, Г.Я. Аронсон, Л.М. Брамсон, А.А. Гольденвейзер, Г.А. Ландау24, Я.Г. Фрумкин, и с многими из них И.М. Троцкий был знаком, сотрудничал и дружил. Эти люди всегда четко дистанцировались от Л.Д. Троцкого и большевиков, никогда не питая иллюзий относительно их устремлений и деяний.
Несомненно и другое. Лев Троцкий — пламенный трибун, яркий мыслитель, выдающийся политический деятель, а как личность — эгоцентричный, властный и заносчивый человек, относится к числу наиболее выдающихся фигур первой половины XX столетия.
В сравнении с этим «гигантом мысли» И.М. Троцкий попросту теряется на историко-культурологическом горизонте. Он даже не политический деятель, а типичный «общественник», хотя, что называется, и не лыком шит. Илье Троцкому, русскому интеллигенту из литературной среды «Серебряного века», присущи и цельность мировидения, и твердость убеждений, и пусть не «брильянтовый», однако собственный, узнаваемый и располагающий к себе литературный стиль. Как тип исторической личности И.М. Троцкий — не источник новых идей, а, образно говоря, «зеркало эпохи», в котором отразилась история русской революции, массовой политической эмиграции и русского Зарубежья.
После сравнительного описания личностей «двух Троцких» скажем о самом происхождении их фамилии. Считается, что фамилия Троцкий (польск. Trocid) образована от одноименного прилагательного, обозначающего принадлежность к городу Троки (ныне Тракай в Литве) — древней столице Великого княжества Литовского. Первые корни фамилии на территории России можно обнаружить в ведомости переписи Древней Руси в период Ивана Грозного. У Великого князя имелся особый список знатных и благозвучных фамилий, которые давались приближенным только в случае особых заслуг или поощрения. В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона сказано следующее:
Троцкие — дворянский род, происходящий от лубенского полкового судьи Максима Т., пожалованного местностями в 1710 г. Его сын Петр был наказным полковником лубенским и временно заменял генерального есаула (1742). <...> Род Т. внесен в род. кн. Полтавской (Гербовник, VIII, 133), Воронежской, Полтавской и Черниговской губ.25
Самый прославленный из этой дворянской семьи, генерал-адъютант Виталий Николаевич Троцкий участвовал в покорении Средней Азии. В 1875 г., после завоевания этого края, он был военным губернатором Сырдарьинской области. А в конце жизни Виталий Николаевич Троцкий — генерал-губернатор западных губерний Российской империи: Виленской, Ковенской и Гродненской. Его сын Сергей Витальевич Троцкий26 — один из бакинских друзей поэта и философа Вячеслава Иванова27, который посвятил ему стихотворение «Соловьиные чары»28.
Среди русских масонов отмечен другой военачальник XIX в. — генерал-лейтенант Аникий Осипович Троцкий29. Что касается евреев, живших в окрестностях Трок, то они получили эту фамилию, когда польско-литовские земли вошли в состав Российской империи. Так некоторые евреи стали «Троцкими», т.е. однофамильцами российских дворян. Никто из «еврейских Троцких» в Российской империи никакими значительными деяниями себя не проявил, знаменитой эта фамилия стала только в эпоху Первой русской революции, благодаря кипучей деятельности Л.Д. Троцкого. В советское же время из урожденных Троцких прославился архитектор Ной Абрамович Троцкий, работавший в Ленинграде до Великой Отечественной войны. По легенде, архитектору настойчиво предлагали изменить одну букву в своей фамилии, став Троицким или Тронским; но он наотрез отказывался, отвечая: «Пусть Лев Троцкий меняет, потому что для него это псевдоним, а для меня — фамилия». Умер он в своей постели через три месяца после того, как в Мексике по приказу Сталина был убит его однофамилец, заступивший ему путь на вершину «всесоюзной славы».
Американский художник и мемуарист Сергей Львович Голлербах, представитель «второй волны» эмиграции, в разговоре с автором30 вспоминал, как в начале 1950-х присутствовал на собрании, организованном редакцией журнала «Социалистический вестник» в Нью-Йорке, где в числе известных социал-демократов — Аронсона, Вишняка, Никольского, — выступал и И.М. Троцкий.
Они тогда мне, человеку неполных тридцати лет, казались глубокими стариками, им всем было за семьдесят. Троцкий выглядел человеком уверенным и весьма представительным. Он начал свое выступления со слов:
— Меня зовут Илья Троцкий и Льву Троцкому я не сват и не брат, хотя бы уже и потому, что «Троцкий» — моя родная фамилия, а его фамилия — Бронштейн.
Присутствующие смеялись и аплодировали.
В базе данных «Жертвы политического террора в СССР», составленной обществом «Мемориал», упомянут 51 носитель фамилии Троцкий/Троцкая, из них евреями были только семеро, остальные — русские, украинцы, поляки и белорусы. Среди Троцких встречаются представители практически всех слоев населения: священники, крестьяне, рабочие, служащие, ремесленники, а также два известных советских ученых: Исаак Моисеевич Троцкий — литературовед, историк, писатель31, ученый секретарь Историко-археографического института АН СССР32, и Николай Николаевич Троцкий — профессор-энтомолог.
Итак, желая пошутить, а то и дистанцироваться от своего природного «еврейства», русский революционер Лев Давидович Бронштейн, став Троцким, обеспечил этой фамилии всемирную славу, но вместе с тем принес ее исконным носителям неприятности. Вслед за опалой и объявлением Л.Д. Троцкого «злейшим врагом советской власти», его однофамильцы в СССР, чтобы не нажить беды, в подавляющем большинстве меняли родовую фамилию.
Впрочем, фамилию Троцкий меняли не только в принудительном порядке. Например, младшие сыновья Ильи Марковича — Дан Марк и Евгений, живя в Америке, посчитали для себя более удобным носить фамилию Тревор (Trevor). В свою очередь младший сын Льва Троцкого — Сергей, оставшийся в СССР после высылки отца, предпочел носить фамилию матери — Седов. Но это не помогло — он погиб в ГУЛАГе.
Из тех Троцких, которым удалось вовремя покинуть родину, в указателе имен биографического словаря «Российское зарубежье во Франции», помимо И.М. Троцкого, Л.Д. Троцкого и членов его семьи, представлены: Елена Владимировна Троцкая — церковный деятель, в эмиграции жившая в Аньере (под Парижем); Зинаида Самеевна Троцкая-Зильберквейт — поэтесса; Мария Владимировна Троцкая — фрейлина Двора последней императрицы и Владимир Николаевич Троцкий-Сенютович — промышленник, церковный деятель, благотворитель.
Наверное, в русском Зарубежье обретались и другие Троцкие. Однако никто из них не стал сколь-нибудь значимой фигурой в этом культурно-историческом пространстве.
С.И. Гусев-Оренбургский и А.И. Куприн
В одном из своих очерков 1920-х И.М. Троцкий, с ностальгической восторженностью описывая атмосферу, царившую в русском столичном обществе того времени (1905-1907 гг.), называет имена своих первых наставников на литературном поприще.
Еще совсем юнцом <И.М. Троцкому в 1906 г. было 27 лет. —М.У.> делал я тогда первые робкие шаги на литературном поприще. Максимилиан Волошин33, Гусев-Оренбургский, покойный Григорий Петров и ныне здравствующий собрат по перу Петр Пильский были моими крестными отцами. Новичок в журналистике и чужак в столице, я крепко держался своих «крестных», жадно ловя каждое новое слово и ища литературных знакомств34.
Максимилиан Волошин — один из крупнейших и популярнейших сегодня русских поэтов «Серебряного века». Об о. Григории Петрове, знаменитом в начале XX в. христианском публицисте, мы скажем ниже. А вот имя Сергея Ивановича Гусева-Оренбургского — писателя из горьковского круга издательства «Знание», давно и прочно забыто на родине; биографические сведения о втором, эмигрантском периоде (1921-1963) его долгой жизни практически отсутствуют.
Гусев-Оренбургский был писателем небольшого таланта, но честный и искренний. Прежде, чем стать писателем, он служил священником, скромным, провинциальным священником где-то возле Оренбурга. Поэтому к своей фамилии Гусев он добавил еще Оренбургский. Был он человеком тихим и сердечным, с побитым оспой лицом, гладко зачесанными волосами и одетый весьма просто и непритязательно35.
Писал Гусев-Оренбургский главным образом о русской глубинке. Его герои — бесправные крестьяне, жизнь которых протекает в безысходной, удручающей бедности. Важная тема — переселенчество: писатель повествует о тщетных попытках бедняков обустроиться в Сибири. Под влиянием Горького пафос социального обличения вскоре обретает у Гусева-Оренбургского апокалиптические тона. Писатель решительно не приемлет прошлое и настоящее в целом, «страну отцов», где безраздельно царят стяжатели и мракобесы: «Земля уже наполнилась слезами и кровью... наступила эпоха повального бегства детей из страны отцов». Он чает идеального будущего, когда «вулканы гнева зальют мир огнем всеочищающего пожара»36.
Когда же этот чаемый пожар и вправду разразился, писателю пришлось эмигрировать. Он попал сначала в Харбин, а затем 40 лет (1923-1963 гг.) жил в Нью-Йорке, где зарабатывал на жизнь исключительно литературным трудом. Нередко печатал свои рассказы дважды, а то и трижды, порой под разными заглавиями. Был осторожно уклончив в общении с литераторами.
Характерно, что ни в мемуарных очерках И.М. Троцкого, ни в его переписке за исключением вышеприведенной фразы упоминания о Гусеве-Оренбургском никогда больше не встречаются, хотя с 1950-х они оба жили в Нью-Йорке, сотрудничали в русскоязычной прессе и, казалось бы, должны были пересекаться.
Не менее интересно и другое — И.М. Троцкому принадлежит статья «Еврейские погромы на Украине и в Белоруссии 1918-1920 гг.»37, однако еще за 45 лет до ее написания его бывший «крестный» буквально по горячим следам опубликовал свое исследование на эту тему — «Багровую книгу»38.
Послесловие к нему, поражающее своей убийственной и беспощадной прямотой, написал Максим Горький:
Книгу эту следовало бы озаглавить так: «Деяния обезумевших скотов». Составляя кровавую книгу грязных подвигов христолюбивого русского народа, В.И. Гусев-Оренбургский, бывший священник, человек совестливый, чувствовал себя, должно быть, очень подавленным той позорной правдой, которую ему пришлось видеть, слышать и рассказать. Он употребил немало усилий для того, чтобы собрать и отметить все, самые ничтожные проблески примитивной «жалости», видимо надеясь, что эта «жалость» — свойственная даже и животным, но оскорбительная для разумных людей, — эта жалость ляжет яркими пятнами трогательной человечности на однообразно-мрачную картину бессмысленного, бредового зверства».
Вспоминая о том, как он делал «первые робкие шаги на литературном поприще»39 И.М. Троцкий описывает и свою первую встречу с А.И. Куприным:
Время горячее и вдохновенное. Россия клокотала политическими страстями. Столица жила как в горячке. Литература и журналистика расцветали пышным цветом. Чуть ли не каждый день нарождались новые журналы и газеты. Откуда-то из провинциальной глуши нагрянула в Петербург целая ватага молодых талантов и дарований. Страницы новых изданий пестрели незнакомыми именами. Раскрепощенное от цензурных оков слово играло яркой мыслью и пенилось революционным задором. Литературный Петербург бредил наяву. Не знал грани дня и ночи. <...>
Звезда А.И. Куприна стояла тогда в зените славы. Мне страстно хотелось с ним познакомиться.
— Куприн у меня сегодня будет. Приходите. Познакомитесь... — сказал небрежно Пильский, поправив неизменно сползавшее пенсне.
И вот я у Пильского. В его «берлоге», как тогда в литературном мире окрестили беспорядочно заваленную книгами, журналами и газетами квартиру неистового критика. С трепетом и волнением жду знаменитого автора «Поединка».
Я мыслил себе Куприна стройным красавцем и бравым офицером. Такое представление создал себе о нем, читая его изумительные произведения.
Каково же было мое разочарование, когда в комнату шумно ввалился всклокоченный увалень в сильно потертом костюме и в брюках с «бахромою».
От наблюдательного писателя трудно было скрыть изумление.
— Что, батенька, разочарованы. Вы себе меня иным рисовали? Не смущайтесь, юноша! Не вы первый и не вы последний!.. Послушайте, какой курьез со мной в Самаре произошел.
Попал я в этот богоспасаемый город случайно... Дело было зимою. Поезд наш застрял в снегу. Решил переночевать в городе. Куда пойти? Отправился в дворянский клуб. Хотя знакомых никого, костюмчик неважный, все же впустили. С холода да от одиночества немного лишнее выпил. Подходит ко мне старшина и справляется о моей персоне. Замечаю, что у старшины физиономия расплывается в улыбку и он с ехидцою говорит: «Вы что же, быть может, писатель Куприн?» Киваю утвердительно головою. Он, дескать, самый и есть. Поверите, чуть не отколотили! Даже хмель прошел. С трудом спасся...
Вот, батенька, в какие переделки попадаю из-за своей внешности.
В эмиграции И.М. Троцкий без сомнения не раз встречался с Куприным, но никаких воспоминаний больше не оставил.
Петр Пильский
Петр Моисеевич Пильский — один из самых плодовитых и ярких русских публицистов первой половины XX в. — родился в 1876 г. в офицерской семье в Орле. Его мать принадлежала к старинному французскому роду Девиер — этой фамилией журналист, использовавший огромное количество псевдонимов40, часто подписывал свои литературно-критические статьи и заметки. По желанию отца Петр с младых ногтей начал делать военную карьеру: учился в Московском кадетском корпусе, в престижном Московском Александровском военном училище. В училище Петр Пильский близко сошелся с Александром Куприным. Дружба этих впоследствии известных литераторов со временем переросла в литературное сотрудничество. Впервые Пильский осознал себя литератором после того, как стал посещать литературный кружок Валерия Брюсова.
Сам Пильский, однако, тяготел к реалистической традиции, придерживаясь «классической» линии Пушкин — Лев Толстой — Чехов. В 1894 г. он посетил Ясную Поляну, где имел личную беседу со Львом Толстым. И хотя на Толстого сам он особого впечатления не произвел, Пильский запомнил их встречу на всю жизнь, восприняв доброжелательное отношение писателя к своей персоне как благословение на серьезные занятия литературой. Решив посвятить себя литературе, Пильский выходит в отставку и в 1898 г. появляется в Петербурге, где обзаводится солидными литературными знакомствами: Владимир Короленко, Максим Горький, Леонид Андреев...
Пильского знали и как хорошего лектора, сочетавшего талант едкого фельетониста и жадного на впечатления репортера41.
Хотя Пильский чурался всякого рода «измов», он, как отмечалось выше, поддержал в начале пути идейного вождя акмеизма Николая Гумилева, дружил с футуристом Василием Каменским и даже выступал на эпатажном вечере футуристов в Одессе в начале 1914 г.42
По многочисленным воспоминаниям современников, в быту Пильский был склонен к загулам, жил беззаботно и безрассудно:
Пильский был темпераментный и бойкий писатель, отлично владевший пером, но бреттер, самохвал, забияка, кабацкий драчун43.
В 1914 г. Пильский был мобилизован и отправлен на фронт, где пробыл два года. На войне командовал разными подразделениями — ротой, батальоном. Демобилизованный по ранению в 1916 г., он продолжал активную литературную деятельность вплоть до 1918-го:
<...> 1918 г. стал годом бегства Пильского из Советской России. Столкнувшись с любопытным фактом — в мае 1918 г. петербургские матросы «волей революционного народа освободили из психиатрической больницы Николая Чудотворца сумасшедших...» — Пильский начал собирать материалы по этому вопросу у врачей-психиатров. Эти изыскания привели его к политическому, антибольшевистскому выводу — о душевной болезни большевистских комиссаров. В статье «Смирительная рубаха», опубликованной в петербургской вечерней газете «Эхо» летом 1918 г., Пильский употребил термин «душевно больные» не только в метафорическом, но и в буквальном смысле. Позже, уже в эмиграции, он писал: «Я наверно и точно знал, что Раскольников, занимавший тогда виднейшее положение комиссара Балтийского флота, — многолетний пациент психиатров, что он сидел в сумасшедшем доме, что продолжает лечиться <...>. Знал, что пользовался услугами невропатологов и сам Ленин...». Естественным следствием статьи стал арест автора.
Пильский был отправлен в военную тюрьму, но давать показания до суда отказался. Прошли месяцы, до суда дело так и не дошло (разбирательство было невыгодно и неудобно самим большевикам, в то время еще пытавшимся соблюдать видимость правовых норм). Чтобы ослабить значение статьи, большевики объявили сумасшедшим самого Пильского. Воспользовавшись временно предоставленной свободой, Пильский бежал из Петербурга44.
Несколько лет он метался по охваченной гражданской войной России, неоднократно арестовывался — то махновцами, то большевиками, в октябре 1921 г. оказывается в Прибалтике — в Риге, где сразу входит в круг сотрудников газеты «Сегодня», год спустя перебирается в Эстонию, где проработает пять лет (опубликовав за это время около тысячи статей в местной и в зарубежной печати, на русском и на эстонском), а в 1927 г. возвращается в Ригу, где проживет до конца своей жизни, заведуя литературным отделом «Сегодня», ставшей к тому времени одной из самых читаемых газет русской эмиграции.
В эти годы искрометные и одновременно изящные публикации Пильского на темы литературы, искусства и театра имеют большой успех. В эмиграции Пильского ценили также как одного из лучших литературных критиков, который собирал по крохам и оценивал данные о литературной жизни всего русского зарубежья. При этом «многие известные писатели считали Пильского благожелательным критиком, свойство, которое в литературных кругах, — по мнению Алданова, — встречается далеко не часто». Пильский всячески способствовал продвижению русской эмигрантской литературы на прибалтийскую литературную сцену. Благодаря ему в Риге было осуществлено единственное прижизненное издание прозаических сочинений Юрия Фельзена, опубликована автобиографическая повесть Куприна «Купол святого Исаакия Далматского» и поздние прозаические произведения Бунина, с которым его связывали особенно теплые отношения.
В 1928 г. под псевдонимом «П. Хрущов» Пильский публикует роман «Тайна и кровь» в жанре революционного детектива-боевика, предисловие к которому написал Александр Куприн. Книга имела большой коммерческий успех и дважды переиздавалась (в Англии и Франции). В 1929 г., уже под его настоящим именем, в Риге выходят две книги мемуарных очерков «Роман с театром» и «Затуманившийся мир», тепло встреченные эмигрантской критикой.
7 июня 1940 г. в Латвию входят войска Красной армии. Эмигрантскую газету «Сегодня» закрывают, в квартире Пильского устраивают обыск и изымают рукописи из домашнего архива. Поскольку незадолго перед этими событиями Петр Пильский пережил инсульт и находился в парализованном состоянии, он избежал ареста и депортации. В декабре 1941 г. Пильский скончался в своей рижской квартире, из которой не выходил последние полтора года.
А.А. Суворин-младший
Эпоха «Серебряного века» ознаменовалась, в частности, невиданным доселе расцветом публицистики, появлением большого числа качественных газет и журналов, как регионального, так и всероссийского масштаба. Профессия журналиста, особенно центральных газет, становится очень востребованной и хорошо оплачиваемой. Времена газетчиков-«щелкоперов» канули в небытие. На их место пришли высокообразованные молодые журналисты, из которых многие по происхождению были евреями. Среди них отметим для примера только тех, о ком речь пойдет ниже — инженера Осипа Дымова (выпускник Петербургского лесотехнического института), социолога Соломона Полякова-Литовцева (выпускник Парижской высшей школы социологических исследований), адвоката Аминада Шполянского (Дон Аминадо), имевшего диплом юридического факультета Киевского университета, и самого Илью Марковича Троцкого, выпускника Екатеринославского высшего горного училища.
Первой крупной русской газетой, с которой И.М. Троцкий стал сотрудничать, была «Русь» — газета кадетского толка, основанная А.А. Сувориным. Последний был младшим сыном русского медиамагната, крупнейшего деятеля русской культуры второй половины XIX — начала XX вв., представителя консервативно-охранительского направления Алексея Сергеевича Суворина45. Вполне возможно, что попал И.М. Троцкий в «Русь» благодаря протекции Осипа Дымова, который после знакомства с ним в Вене стал рекомендовать его как журналиста своим российским знакомым. Например, в одном из своих зарубежных писем к В.Ф. Боцяновскому, заведовавшему в газете «Русь» с момента ее основания отделом литературно-критического фельетона, он интересовался:
Нужен ли «Руси» корреспондент из Вены? Я мог бы указать
на сотрудника венских газет (больших) Илью Марковича (sic!)
Троцкого, т Wien XX Wallersteinstr. 2146.
Младший Суворин был личностью весьма незаурядной. В отличие от своего старшего брата Михаила Алексеевича Суворина, главного редактора (с 1903 г.) правоконсервативной газеты «Новое время», он придерживался либеральнодемократических взглядов. Такого же направления были издаваемые им газеты «Русь», «Молва», «Маленькая газета» и юмористический журнал «Серый волк». Помимо издательского дела Алексей Алексеевич под псевдонимом Алексей Порошин писал статьи по вопросам внутренней и внешней политики, театра и искусства. Еще А.А. Суворин увлекался изучением восточных методик самосовершенствования и безлекарственных методов оздоровления и считается пионером отечественной науки о лечебном голодании. Им было опубликовано немало работ на эту актуальную и по сей день тему, из них наиболее известны «Оздоровление голодом и пищей», «Лечение голоданием», «Практика голодания». Во время Гражданской войны А.А. Суворин участвовал в первом белогвардейском Кубанском походе и в 1919 г. выпустил книгу с резкой критикой Добровольческой армии, после чего был из нее изгнан и уехал в Югославию. Там, в Белграде, его сводный брат Михаил Алексеевич Суворин возобновил печатание газеты «Новое время», ставшей типичным профашистским изданием с выраженным антисемитским уклоном47.
В дореволюционной России слова «нововременец» и «русскословец» были нарицательными, олицетворяя противоположные в идейном плане направления общественной активности — консервативно-охранительское и либеральнодемократическое. В эмиграции, однако, два некогда весьма известных журналиста-русскословца — И. Колышко (Баян) и С. Орем, оба хорошие знакомые И.М. Троцкого, сотрудничали с «Новым временем». Сергей Иванович Орем даже состоял в редакции этой газеты (о С.И. Ореме и его переписке с И.М. Троцким в 1960-х см. ниже). Но А.А. Суворин был убежденный демократ и для газеты своего брата ни в каком качестве, по всей видимости, не подходил.
Жизнь Алексея Алексеевича Суворина в эмиграции не задалась: материально он очень нуждался, и по ложному доносу издателя одной из своих книг о лечебном голодании, не желавшем платить авторский гонорар нищему эмигранту, был посажен в тюрьму. В тюрьме А.А. Суворин начал курс голодания, чтобы «помолодеть, обновить свои стареющие силы».
На 35-м дне голодания ему была дана возможность защищать самого себя в суде. Он выиграл процесс, но продолжил свой курс голодания до 42 дней. Результаты были поразительными и получили широкую огласку, после чего А.А. Суворин развернул активную деятельность по пропаганде своего метода лечения голоданием. Он переписывался с десятками тысяч читателей, которые по его методике самостоятельно лечились от самых разнообразных заболеваний. В середине 1930-х А.А. Суворин поселился в Париже, где продолжал активно популяризовать свои теории. В 1936 г. он, в частности, выступал с публичными лекциями о лечении без лекарств. Умер А.А. Суворин, отравившись в номере одного из парижских отелей светильным газом.
Г.С. Петров
Сотрудничество И.М. Троцкого с «Русью» продолжалось недолго. По его утверждению, газету Суворина-сына в 1905 г.
прихлопнули навсегда за напечатание трех очерков А. Амфитеатрова под заглавием «Семья Обмановых»48,
— хотя на самом деле «навсегда» газета была закрыта в 1908 г., когда И. Троцкий уже работал в сытинском «Русском слове». Как вспоминал Троцкий, когда он в 1906 г.:
приехал из Вены в Петербург в качестве корреспондента «Ноес винер Тагсблат», <...> пришла на мысль идея написать несколько статей о тогдашних русских настроениях <также> и в русской печати в оценке «иностранца». Поместил я несколько фельетонов и в «Русском слове» под экзотическим псевдонимом Генрих фон Дельвег49.
Фельетоны «иностранца» обратили на себя внимание петербургской и московской прессы, а моей скромной персоной заинтересовался покойный писатель-священник Г.С. Петров, находившийся в зените писательской славы. Я стал частым гостем в его гостеприимном и культурном доме50.
В другой, более поздней статье51 Троцкий уже с подробностями вспоминает, где он встретил Григория Петрова и как это знакомство изменило его жизнь.
Статьи и публичные выступления, овеянные легкой дымкой «крамолы», восторженно воспринимались молодежью. <...> репутация радикала и воспитателя детей великого князя Константина Константиновича значительно содействовали популярности Петрова. Обратили на него внимание В.М. Дорошевич — фактический редактор «Русского слова» и И.Д. Сытин, привлекшие его к постоянному сотрудничеству в газете. <...>
В одном из <литературных> салонов меня представили Григорию Петрову. Его внушительная внешность — на редкость красивого мужчины, простота и обаяние сразу покорили мое сердце. Случайно мы одновременно оставили салон и по пути домой разговорились. Помнится, я рассказывал своему спутнику о Вене, где прожил несколько лет, о встречах с Артуром Шницлером, Хуго фон Гофманисталем, Стефаном Цвейгом и другими австрийскими писателями, представителями так называемой группы «детерминистов»52, произведения которых и литературное влияние сказывалось уже и на творчестве русских символистов53.
Едва ли миновала неделя после знакомства с Г.С. Петровым, как мною получено было приглашение отобедать у него на дому в ближайшее воскресенье. <...>
Ровно в назначенный час поднимаюсь по лестнице к квартире Григория Петрова на Васильевском острове. <...> В гостиной, кроме хозяина дома, его жены и малолетнего сына, сидел пожилой человек, по-видимому, <...> гость, пришедший раньше меня. Григорий Спиридонович представляет меня жене, называет имя сына и потом с улыбкой говорит:
— Знакомьтесь! Иван Дмитриевич Сытин! <...>
За обедом И.Д. почти не участвовал в беседе, которую хозяева дома вели с нами. Жена Г.С. Петрова — врач по образованию, обнаружила разносторонность в политических вопросах и литературе подстать своему супругу. Не требовалось большой наблюдательности, чтобы почувствовать заметное стремление Григория Спиридоновича дать мне возможность проявить себя. Убеждали в этом поставленные им ряд наводящих вопросов касательно политической, социальной и культурной жизни тогдашней Австро-Венгрии, ждавшие моего освещения и оценки. В деликатной форме застольной беседы меня, по-видимому, подвергали <...> экзамену на актуальные проблемы в общеевропейском масштабе.
Петербургское гостеприимство по тому времени нисколько не уступало московскому. Как долго длилось застольное «бдение» у четы Петровых трудно вспомнить. На дворе стояла осень и рано вечерело. Сели за стол около двух часов пополудни, а когда перебрались в гостиную пить кофе — надвигались уже сумерки. И здесь только И.Д. Сытин по-настоящему заговорил, раскрыв загадку нашей встречи. <...>
— Берлин — «гиблое место»! третьего журналиста туда послали, надеялись поставить информацию и корреспондирование на должную высоту, а выходит — ошиблись в расчетах. <Последний берлинский корреспондент — М.У.>, человек образованный и даровитый, но к сожалению пьет, манкируя своими обязанностями. <...> Пришлось его отозвать... Сейчас вакансия берлинского корреспондента свободна. Редакция ищет замены. Григорий Спиридонович в курсе редакционных дел. Он вас рекомендовал в письме к Ф.И. Благову. Завтра я возвращаюсь в Москву. Так вот поезжайте со мной!?
Потолкуйте с Дорошевичем и Благовым. Что касается меня, то мое благословение вам гарантировано. <...> Все расходы по вашей поездке в Москву и тамошнее пребывание оплатит контора54.
Таким образом, протекцию И.М. Троцкому в деле устройства на должность берлинского корреспондента «Русского слова» по собственной инициативе и доброте душевной составил о. Г.С. Петров.
Личность Григория Спиридоновича Петрова — искреннего и чистого служителя Русской Церкви сегодня известна немногим, тогда как с 1890-х и вплоть до революций 1917 г. оно было на слуху: публичные лекции Г.С. Петрова привлекали толпы людей, книги пользовались большим спросом.
Василий Розанов, присутствовавший на нескольких публичных лекциях Петрова, написал о нем восхищенную статью, в которой, в частности, говорил:
Образованный, просвещенный, и притом европейским просвещением, а не одною академическою схоластикой, он имел мужество убрать из своих тем, из своих оборотов речи все «интеллигентное», все сколько-нибудь затруднительное для понимания простецов... Для него быть христианином — значит в малом и слабом виде, в миниатюре сил человеческих повторять Христа. Но что Христос творил? Больных исцелял, слабым помогал, с грешниками был, все благое творил, от всего злого удерживал. И вот, быть христианином — для священника Петрова и значит, как бы идя посреди улицы народной, направо и налево кидать мешочки с добром...55.
Среди множества восхищенных поклонников мастерства Петрова выделяется фигура всесильного министра финансов России графа С. Ю. Витте, о знакомстве с которым затем на протяжении полувека рассказывал И.М. Троцкий в своих статьях-воспоминаниях56. Витте представил Г.С. Петрова ко двору, где, как выяснилось, уже были наслышаны о молодом проповеднике57. В 1908 г. его портрет написал Илья Репин58.
Внимание широких слоев читающей публики приобрел его труд «Евангелие как основа жизни» (1898)59, выдержавший около 20 изданий и переведенный на многие языки. Петров в этой книге призывал обратиться к Евангелию как к источнику знаний о том, как себя следует вести в повседневной жизни. Максим Горький в своем письме Антону Чехову писал об этой книге, что «в ней много души, ясной и глубоко верующей души... Ее написал поп и так написал, как вообще попы не пишут».
Г.С. Петров выпустил также целый ряд книжек духовнонравственного содержания — «Школа и жизнь», «По стопам Христа» (части I и II), «Братья-писатели», «К свету!», «Божьи работники», «Апостолы трезвости», «Зерна добра» и др., — из которых многие выдержали по несколько изданий. В 1899-1917 гг. Петров был деятельным сотрудником газеты «Русское слово».
Петров, как и Сытин, родился в очень бедной семье, подростком сумел поступить в Петербургскую семинарию и в 1881 году стал священником. В отличие от своих собратьев он начал привлекать внимание прихожан, затрагивая в проповедях общественные вопросы, проблемы науки, искусства и даже политики. За прогрессивные взгляды молодежь прозвала его «новым батюшкой»; в 1893 году он получил место священника в Михайловском артиллерийском училище в Петербурге, а затем стал преподавателем богословия в Петербургском политехническом институте. К 1896 году Петров уже сотрудничал в «Русском слове» (Горький с презрением относился к его статьям под псевдонимом «Русский») и каждый месяц ездил в Москву, стараясь помочь газете выжить.<...> без поддержки <Петрова > в 90-е годы существование «Русского слова» оказалось бы под угрозой. Когда Дорошевич возглавил «Русское слово», он постепенно убедился в том, что Петрову не место в редакции светской беспартийной газеты, какой виделось ему «Русское слово». Тогда Сытин основал религиозно-социалистическую газету <«Правда Божья» — М.У.>, где Петров в качестве редактора мог беспрепятственно продолжать свою христианскую агитацию. <...>
Когда в 1901 году Толстого отлучили от церкви, Петров открыто осудил такое ущемление свободы совести. За эту дерзость ему запретили читать публичные лекции, лишили сана и ненадолго сослали в монастырь. Во время русско-японской войны большой интерес в обществе вызвали его статьи в «Русском слове», которые шли вразрез с привычным духом патриотизма и утверждали, что христианам должно видеть братьев во всех людях, даже во врагах60.
Как активный сторонник христианского социализма, призывавший к «обновлению» Русской Церкви, Г.С. Петров вступил в конфликт с ее иерархами:
Часто слышатся самые резкие и тяжкие обвинения и против религии, и против Христа, и против Евангелия, против церкви. Обвинения эти большей частью, как ни горьки они, звучат правдою. Упреки заслуженны... теми, кто выдавал и выдает себя за церковь, кто хотят олицетворить в себе и Евангелие и Христа, т.е. духовенством.
<...> Я беру здесь не личные слабости, недостатки, и даже не пороки духовных лиц. Это — личное, человеческое, мимолетное, преходящее. Я разумею основное направление исторической деятельности духовенства, тот отпечаток, который оно, духовенство, в протяжении 19 веков накладывало и накладывает на христианство — чистое и небесно-высокое учение Христа. Духовенство сузило широкую правду Христову, измельчило, засорило русло евангельского потока в жизни61.
После лишения сана Петров не мог более проживать в Петербурге и стал ездить по стране с лекциями. Стали ухудшаться и его отношения с Сытиным, совсем еще недавно бывшим другом и соратником. В начале 1910-х Г. Петрова, как, по мнению Сытина, излишне «левого», перестали печатать в «Русском слове»62.
После Февральской революции на Поместном Соборе 1917-1918 гг. Г.С. Петров был восстановлен в священстве.
В 1920 г. Г.С. Петров через Константинополь эмигрировал в Сербию, где, быстро выучив язык, выступил при поддержке министерства просвещения с более чем 1500 лекциями на морально-этические темы. Помимо устных выступлений по всей стране он издал на сербском языке свыше 30 брошюр, а в 1923 г. опубликовал на сербском языке книгу «Зидари живота» («Созидатели жизни», русское название «Финляндия. Страна белых лилий»). Книга снискала огромную популярность и была переведена затем на болгарский, русский, турецкий и др. языки. В Болгарии она считалась своего рода учебником, а в Турции была включена в программу учебных заведений страны, и особенно армейских училищ. Многие годы турецкие офицеры в обязательном порядке изучали «Страну белых лилий» как руководство к «обновлению жизни» в своей стране. В предисловии к одному из изданий говорится, что «Страна белых лилий» — наиболее читаемая в Турции книга после Корана.
Как большинство русских либералов-литераторов «Серебряного века» — от умеренных типа Бунина до крайних радикалов, олицетворением которых был Горький, Григорий Петров ратовал за глубинное преобразование России:
Старая Россия со старыми порядками, со старою русскою ленью, русскою распущенностью и косностью изжила себя. Грядущая новая Россия требует общенародной работы, общенародного ученья, перевоспитания всей страны и самой бодрой, кипучей, напряженной работы всех и каждого, кто хочет и сам жить полною жизнью, и чтобы Россия проявила свои силы и дарования во всем блеске и во всей красоте63.
Когда столь чаемые передовой русской интеллигенцией преобразования привели к Гражданской войне, краху гражданского общества и массовой эмиграции, Григорий Петров в развернувшейся на Западе жаркой полемике «Кто виноват?» по-прежнему оставался на либерально-демократической позиции. В незаконченной им статье «Корни болезни», посвященной причинам русской революции, он, обличая крайне правых, пишет:
Люди, выдающие себя за русских монархистов, винят кого угодно, только не себя, не свои былые хищничество и помпадурство. Винят интеллигенцию, евреев, масонов, жидо-масонов, наконец, даже антихристах...> Очевидно, <...> помпадуры русской монархии думают обмануть общественную мысль. Навести ее на ложный след и тем скрыть главных виновников крушения России, свое хищное и самодурное помпадурство64.
Григорий Петров скончался 18 июня 1925 г. в клинике Maison de Santé под Парижем, после операции неизлечимой раковой опухоли.
Примечания
1 Его дед Элиэзер Арлозоров — автор галахической книги «Сефер Хагахот Элиезер» (1902), был казенным раввином города в 1853-1911 гг.
2 В его мемуарах, впервые изданных в 1968 г. в США (на русском языке), описан знаменательный эпизод: «...в Киевском политехникуме поводом к разногласию с министерством послужила ограничительная норма для приема в институт евреев. Для Киевского политехникума была установлена норма в 15% от общего числа принимаемых студентов. После 1906 г. Правление института перестало считаться с этой нормой и число студентов-евреев к 1910 году значительно превысило установленную норму. Министр настаивал на увольнении принятых сверх нормы евреев, а правление не спешило с выполнением этого требования и все оставалось по-прежнему. Кончилось тем, что три декана института, в том числе и я, были в начале февраля 1911 уволены из института и оказались сразу и без жалованья, и без казенных квартир, которые они до того времени занимали. Из чувства солидарности левая часть профессуры подала в отставку. Отставка была принята и Политехникум сразу потерял 40% своего профессорского состава» (Тимошенко С. Воспоминания. Киев, 1993. С. 117).
3 Окончив его в 1901 г., А. Иоффе затем учился в Мюнхенском университете, где получил ученую степень «доктор философии».
4 Екатеринославское Высшее Горное училище, открытое в 1899 г., давало маркшейдерское и геодезическое образование на двух отделениях, горном и заводском.
5 Псевдоним Рутенберга-подпольщика.
6 Trotzky /. Martin Iwanowitsch. Eine Episode aus dem Leben Ruthenbergs // Jüdische Wochenschau. 1942. № 92.
7 См., напр.: Троцкий И. Юзовка жертва кризиса // Приазовский край. 1903. № 169. С. 5 (www.donjetsk.com/retro/2888-yuzovka-po-trockomu.html).
8 Серков А.И. Русское масонство, 1731-2000 гг.: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 810.
9 О работе А. Троцкого в этой газете см.: Чернявский Г.И. Лев Троцкий. Революционер. 1879-1917. М., 2012.
10 «Pester Lloyd» — крупнейшая немецкоязычная газета либерально-демократического направления, издававшаяся в Будапеште в 1853-1945 гг. (возобновлена в 1999 г.).
11 Зив ГЛ, Троцкий. Характеристика (По личным воспоминаниям). Нью-Йорк, 1921.
12 О литературно-художественной публицистике Л.Д. Троцкого см.: Чернявский Г.И. Лев Троцкий. Революционер. 1879-1917.
13 Презрительно-ироническое прозвище СССР, частое в статьях И.М. Троцкого.
14 Троцкий Л.Д. В защиту марксизма. Cambridge (МА), 1997. С. 175.
15 Парамонов Б. Зощенко в театре // Парамонов Б. Конец стиля. М., 1997. С. 81.
16 О нем см.: Родина Г.И. Зудерман и Россия: рецепция творчества в культурном пространстве рубежа ХІХ-ХХ веков. М., 2004.
17 Троцкий АД. Сочинения. T. XX: Проблемы культуры. Культура старого мира. (www.marxists.org/russkij/trotsky/1926/trotl479-htm).
18 Троцкий И. Зудерман и Толстой // Сегодня. 1928. № 328. 2 декабря.
19 Trebbin, город в земле Бранденбург в 36 км к югу от Берлина.
20 Троцкий И. Фюрстенберг-Ганецкий — военный контрабандист // Сегодня. 1929. № 20. 20 января.
21 Троцкий И. Мадам полпред // Сегодня. 1928. № 235. 31 августа.
22 Троцкий И. Встречи с Радеком (Из воспоминаний журналиста) // Сегодня. 1937. № 28. 28 января.
23 По известной легенде, когда знаменитый московский раввин Яков Мазе (1859-1924) ходатайствовал Л.Д. Троцким «за евреев», тот ответил: «Я — не еврей, а интернационалист»; на что Мазе сказал: «Революцию делают Троцкие, а расплачиваются за нее Бронштейны».
24 На статью Г.А. Ландау «Революционные идеи в еврейской общественности» часто ссылается А.И. Солженицын, удостоивший его титула «глубокий мыслитель» (Двести лет вместе. Т. 2. С. 351); см. также.: Повилайтис В. Философия истории и культуры Г.А. Ландау (http://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-istorii-i-kultury-g-a-landau).
25 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. ХХХІІІ(А). С. 907.
26 Троцкий С.В. Воспоминания // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 41-87.
27 Из воспоминаний Е. Юкель, см.: Зубарев Л.Д. «Все они впоследствии занимались литературой...»: Еще раз о бакинском периоде Вяч. Иванова // Donum homini universalis. М., 2011. С. 129.
28 Шишкин А.Б. Бакинская запись С.В. Троцкого в дневнике Вяч. Иванова 1924 года // Donum homini universalis: Сборник статей в честь 70-летия Н.В. Котрелева.. С. 409-414.
29 Серков А.И. История русского масонства первой половины XIX века. СПб., 2000; Серков А.И. Русское масонство, 1731-2000 гг. (по указателям).
30 Беседа имела место в 2014 г., С.Л. Голлербаху в то время исполнился уже 91 год, но он отличался удивительной для своих лет живостью ума и отличной памятью на лица и даты.
31 См.: Троцкий И.М. III-е отделение при Николае I. Л., 1990.
32 Его родной брат Илья Моисеевич Троцкий (1897-1970), филолог-классик, крупнейший специалист по античной литературе, в 1938 г. изменил фамилию и стал именоваться «Тронским».
33 По сообщению А.В. Лаврова, в библиографических указателях, посвященных М. Волошину, фамилия И.М. Троцкого нигде не упоминается.
34 Троцкий И. Встреча с Луиджи Пиранделло (Из дорожных впечатлений) // Сегодня. 1926. № 295. 30 декабря.
35 Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать. Т. 1. С. 523.
36 Хализев В.Е. Сергей Иванович Гусев-Оренбургский // Русские писатели, 1800-1917. Т. 2. М., 1992. С. 64-67.
37 Книга о русском еврействе (1917-1967). Нью-Йорк, 1968. С. 56-69.
38 Гусев-Оренбургский В.И. Багровая книга: Погромы 1919-20 гг. на Украине. Харбин, 1922; Книга о еврейских погромах на Украине в 1919 г. Составлена по официальным документам, докладам с мест и опросам пострадавших / Ред. и послесл. А.М. Горького. М., 1923.
39 Троцкий И. Встреча с Луиджи Пиранделло (Из дорожных впечатлений).
40 Количество публикаций, принадлежащих П.М. Пильскому, исчисляется несколькими сотнями. Точное их число установить практически невозможно, поскольку постоянно выявляются новые его псевдонимы, не говоря уже об анонимных материалах. На сегодняшний день удалось раскрыть, вместе с криптонимами, 71 псевдоним Пильского. См.: Меймре А. Петр Пильский и его гонорары (www.russianresources.lt/archive/Pilsky/ Pilsky_14.html).
41 Меймре А. П.М. Пильский в Эстонии 1922-1927 (www.russianresources.lt/archive/Pilsky/Pilsky_20.html).
42 Каменский В. Путь энтузиаста. Пермь, 1968. С. 152.
43 Чуковский К. Современники. М., 1963. С. 168.
44 Меймре А. П.М. Пильский в Эстонии.
45 Динерштейн Е.А. А.С. Суворин: Человек, сделавший карьеру. М., 1998.
46 Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать. Т. 2. С. 502-503.
47 Шумихин С. Из истории белградского «Нового времени»: Письма М. А. Суворину 1921-1930 гг. // Новое литературное обозрение. 1995- N2 15. С. 194-214.
48 Троцкий И. Каприйские досуги // Новое русское слово. 1966. № 19634« 11 декабря. С. 3. Здесь автора подводит память. За напечатание 13 января 1902 г. первой главы из сатирического романа А.В. Амфитеатрова «Господа Обмановы» была закрыта газета «Россия», а сам автор публикации «арестован и, под охраною жандармов, отправлен в Восточную Сибирь, “в распоряжение иркутского генерал-губернатора”», см.: Амфитеатров А.В. Глава из романа «Господа Обмановы» — первая и последняя (http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ECCE/AMFI. нтм#2).
49 Под псевдонимом «Фон Дельвег Генрих» И. Троцкий опубликовал четыре статьи, в основном на актуальные политические темы, лишь в последней рассказывалось о русской литературе: К моменту (из записной книжки иностранного корреспондента); Распустят ли вторую Думу? (из записной книжки иностранного корреспондента); Письма из-за рубежа (из впечатлений иностранного корреспондента) // Русское слово. 1907« № 31 (22 февраля). С. 1-2; № 51 (9 марта). С. 1-2; № 179 (17 августа). С. 1-2; № 193 (23 августа). С. 2.
50 Троцкий И. Гениальный самородок. Памяти И.Д. Сытина // Сегодня. 1934- № 218. 7 декабря.
51 Троцкий И. И.Д. Сытин (Из личных воспоминаний) // Новое русское слово. 1966. № 19612. 11 ноября.
52 Имеются в виду писатели круга «Молодая Вена», находившиеся в те годы под влиянием теории «психического детерминизма» Фрейда.
53 Это мнение И.М. Троцкого вполне разделяют и современные историки литературы, см., напр.: Жеребин А.И. Абсолютная реальность: «Молодая Вена» и русская литература. М., 2009.
54 Троцкий И. И.Д. Сытин (Из личных воспоминаний).
55 Розанов В.В. Около церковных стен. М., 1995. С. 304.
56 См., напр.: Троцкий И. С.Ю. Витте и мировая война // Дни. 1924. № 522. 27 июля.
57 Витухновская М. Григорий Петров: «Будьте строителями жизни!» // Родина. 2002. № 2. С. 58-59.
58 Ныне хранится в Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого.
59 См.: http://lib.pravmir.ru/library/readbook/2218#part_28736
60 Рууд Ч. Русский предприниматель московский издатель Иван Сытин. М., 1993 (www.litmir.co/br/?b=226зoз&p=З1).
61 Вершилло Р. Петров, Григорий Спиридонович (https://аntimodern.w0rdpress.c0m/2009/08/02/petr0v/).
62 Рууд Ч. Русский предприниматель московский издатель Иван Сытин (гл. 8, «Между желаниями и возможностями»).
63 Петров Г. Русская лень // Русское слово. 1910. 9 июня.
64 Витухновская М. Григорий Петров: «Будьте строителями жизни!».
Глава 2
Газета “Русское слово” и ее редакторы В. Дорошевич, Ф. Благов, Н. Владимиров и А. Руманов
Итак, журналистская карьера Ильи Троцкого одновременно началась и в России, и за рубежом — в Вене, считавшейся в начале XX столетия вторым по значению культурным центром Европы после Парижа. Официально Илья Маркович приехал в столицу Австро-Венгерской империи в 1905 г.1, чтобы, как тогда было принято в России, завершить свое техническое образование. Однако, поступив вольнослушателем на факультет машиностроения Венского политехнического университета, он, судя по всему, не столько учился, сколько подвизался в местной журналистике, работая в «Ноес Винер Тагблат» («Neues Wiener Tagblatt») — влиятельной венской ежедневной газете (выходила в 1867-1945 гг.) и информационном издании «Резиденц Нахрихтен» («Residenz Nachrichten»). Одновременно он пишет корреспонденции и для ряда русских провинциальных газет и, судя по всему, бывает наездами в Петербурге.
Короткий венский период жизни И.М. Троцкого явился в его жизни своего рода трамплином, спрыгнув с которого в московскую газету «Русское слово» он опять оказался в западной Европе, только теперь уже в Берлине. Сам Илья Маркович пишет об обстоятельствах, сопутствующих его появлению в «Русском слове», следующее:
Первые шаги на журналистском пути в тогдашнем Петербурге <мне — М.У.> удалось сделать при содействии Анастасии Чеботаревской, впоследствии вышедшей замуж за Федора Сологуба — известного писателя и поэта. <Она> ведала делами газеты «Товарищ» — центрального органа «Союза освобождения»2, вокруг которой концентрировались такие культурные силы, как В.В. Водовозов, Е.Д. Кускова, Е.М. [С.Н.] Прокопович и многое другие. Сбылись мечтания о работе во влиятельной петербургской печати. Открыт был доступ в дома и салоны, где собирались сливки столичного писательского и политического мира3.
В 1906 г., в петербургском доме православного проповедника, общественного деятеля и публициста о. Григория Спиридоновича Петрова состоялось, как уже рассказывалось выше, знакомство Ильи Троцкого с «интереснейшим русским человеком» — Иваном Дмитриевичем Сытиным. Молодой журналист из Вены настолько понравился Сытину, что тот сразу сделал ему деловое предложение:
— Что же это вы, сударь, у австрийцев пишете? <...> Бросьте немцев, приезжайте в Москву, познакомьтесь с Дорошевичем и Благовым и переходите в «Русское слово». Признаться, я был весьма польщен лестным предложением4. Г.С. Петров горячо поддерживал Сытина. Мне не дали срока на размышление. <...> Выбирать между австрийской и русской печатью не приходилось. Моя судьба была решена. <...> Через несколько дней я в Москве был включен в тесную семью сотрудников «Русского слова». <А>спустя две недели, снабженный инструкциями и напутствиями В.М. Дорошевича, Ф.И. Благова и И.Д. Сытина, <я> катил в Берлин в качестве постоянного корреспондента московской газеты5.
Здесь цитируется ранний вариант истории «сытинского выбора» из статьи-некролога в газете «Сегодня» (1934 г.). Через 17 лет Илья Маркович описывает этот сюжет другими словами6:
— Чего вам у немцев работать? Поезжайте от нас корреспондентом в Берлин. «Русскому слову» молодые силы нужны.
Двумя неделями позже курьерский поезд, уходивший из Москвы, увозил меня в столицу Германии в качестве постоянного корреспондента «Русского слова». Было это осенью 1906 года7.
Самая распространенная в России газета «Русское слово», которую современники называли «газетным левиафаном», издавалась в Москве с 1895 по 1917 год.
Ни одна газета в стране не могла и мечтать о столь широкой читательской аудитории, какую имело «Русское слово»8.
История сытинского «Русского слова» неразрывно связана с именем Антона Павловича Чехова, который по преданию настоятельно посоветовал ему начать издавать газету.
В те далекие времена абы кто открыть газету не мог. Такое право считалось актом личного доверия правительства к издателю. Несмотря на свое солидное положение, Иван Дмитриевич Сытин, считавшийся во властных кругах либералом и мужиком, таких привилегий был лишен. Для создания газеты он открыл на третьих, вполне лояльных к власти, лиц некую фирму, которая и выпустила в 1895 году черносотенской направленности газету «Русское слово». Два года фирма, поддерживаемая Сытиным, вяло выпускала газету и «продала» ее Сытину в 1897 году в полуживом состоянии.
Несколько лет издание «не шло». <...> Но в 1901 году, после целой череды смен главных редакторов, этот пост занял известный фельетонист Влас Дорошевич9.
С этого момента начинается и «подъем» газеты, и превращение И.Д. Сытина в крупнейшего русского медиамагната.
Поистине неисповедимы пути Господни. Студент, которого Иван Дмитриевич когда-то обещал «в порошок стереть, буде он еще ко мне явится», за то, что тот издал в сытинской типографии переписанную им под своей фамилией гоголевскую «Майскую ночь, или Утопленницу», с годами превратившийся в известнейшего российского фельетониста, обсуждал с издателем условия, на которых он был готов принять газету. Подписанный 16 июля 1901 г. договор гласил: «Нужно уволить всех реакционных сотрудников; Сытин не должен вмешиваться в редакционную де-ятельность; Дорошевич в течение трех лет обязуется давать для «Русского слова” 52 воскресных фельетона в год, а также отдельные статьи по текущим вопросам общественной жизни, числом не менее 52 в год».
Надо сказать, что ни Сытин, ни Дорошевич особо не церемонились относительно соблюдения условий договора. Дорошевич, при всей своей огромной работоспособности, не мог выдержать такого бешеного творческого темпа, совмещенного с административной работой, а Сытин специально, в качестве инструмента давления, внедрил в редколлегию заместителем главного редактора своего зятя Благова, через которого и проводил свою политику.
Сразу после подписания договора Влас Дорошевич превратился в самого высокооплачиваемого журналиста России с окладом 50 ооо рублей в год10.
Как пишет Гиляровский,
С приездом В.М. Дорошевича <...> газета не только ожила, но и засверкала. И.Д. Сытин не вмешивался в распорядки редакции. Редактором был утвержден его зять, Ф.И. Благов, доктор по профессии, не занимавшийся практикой, человек весьма милый и скромный, не мешавший В.М. Дорошевичу делать все, что он хочет. В.М. Дорошевич, с титулом «короля фельетонистов» и прекрасный редактор, развернулся вовсю. Увеличил до небывалых размеров гонорары сотрудникам, ввел строжайшую дисциплину в редакции и положительно неслыханные в Москве порядки, должно быть, по примеру парижских и лондонских изданий, которые он осматривал во время своих частых поездок за границу. <...>
Когда В.М. Дорошевич появлялся в редакции, то все смолкало. Он шествовал к себе в кабинет, принимал очень по выбору, просматривал каждую статью и, кроме дневных приемов, просиживал за чтением гранок ночи до выхода номера. <...>
Гордый и самолюбивый всевластный диктатор «Русского слова», он привык благодаря слишком подчеркнутому «уважению» окружающих лиц к своей особе требовать почти молчания в своем присутствии. Его даже боялись11.
«Русское слово» была газетой не только общественно-политической и литературной, но — и это особенно важно! — экспресс-информационной. Она не являлась «идейной» газетой, хотя на деле придерживалась кадетской ориентации. Но прежде всего «Русское слово» было коммерческим изданием:
«Русское слово» стало первой русской газетой, пошедшей по пути создания своих корпунктов на местах. «В Москве события не происходят, — заявил Дорошевич, — в Москве есть только происшествия, а все события — в Петербурге». Поэтому первым и главным корпунктом стал питерский. За ним открылись харьковский, киевский, варшавский, хабаровский... В редакции, которая в 1904 году переехала в собственный, устроенный на манер парижских издательств, дом на Тверской (№ 18), ни на минуту не смолкали телефоны. Новости доходили сюда с потрясающей быстротой. Сам министр финансов граф Витте говаривал при встрече с Дорошевичем:
— Такой быстроты в собирании сведений нет даже у правительства. — Так на то мы и газета, — нахально задирая нос, отвечал журналист. В короткий срок московская газета, прозванная современниками за оперативность «фабрикой новостей», превратилась в самый читаемый и авторитетный российский печатный орган с ежедневным тиражом, приближавшимся к миллиону экземпляров12.
Интересные сведения о «Русском слове» сообщает Владимир Гиляровский в своей книге «Москва газетная»13:
Дом для редакции был выстроен на манер большой парижской газеты: всюду коридорная система, у каждого из крупных сотрудников — свой кабинет, в вестибюле и приемной торчат мальчуганы для посылок и служащие для докладов; ни к одному сотруднику без доклада постороннему войти нельзя. В этом же доме разместил И.Д. Сытин и другие свои издания: третий этаж заняло целиком «Русское слово», а в четвертом поместились «Вокруг света» и «Искры», как приложение к «Русскому слову», сначала издававшееся с текстом, а потом состоящее исключительно из иллюстраций. <...>
Помещение редакции было отделано шикарно: кабинет И.Д. Сытина, кабинет В.М. Дорошевича, кабинет редактора Ф.И. Благова, кабинет выпускающего <...>, кабинет секретаря и две комнаты с вечно стучащими пишущими машинками и непрерывно звонящими телефонами <...>.
У кабинета В.М. Дорошевича стоял постоянно дежурный — и без его доклада никто в кабинет не входил, даже сам И.Д. Сытин.
Деятельность иностранных корреспондентов в «Русском слове» курировал зять Сытина Федор Иванович Благов. По образованию он был врач, расставшийся с медицинской карьерой во имя редакционно-издательской деятельности — до революции Благов входил в состав Правления «Товарищества И.Д. Сытина». И.М. Троцкий не оставил подробного портрета «беспримерного по своей широте Ф.И. Благова»14, но в своих отрывочных замечаниях всегда характеризовал его с самой лучшей стороны. Ф.И. Благов был убежденный либеральный демократ и часто раздражал власти своими разоблачениями закулисных интриг при дворе и в правительстве:
Судебные дела против Ф.И. Благова возбуждались одно за другим. Только с 1 мая по середину июня 1906 г. московский комитет на основании докладов цензора В.А. Истомина девять раз ходатайствовал о возбуждении судебных преследований за статьи, которые касались работы Думы, ее отношений с правительством, погромной политики правительства, голода в Поволжье. <...> <Один> раз за всю историю издания «Русского слова» ответственный редактор Ф.И. Благов был <даже — М.У.> подвергнут <...> аресту по распоряжению градоначальника. Такая суровая и редко применяемая на практике мера вызвала удивление в газетном мире. Причиной ареста Благова послужил опубликованный 8 октября 1910 г. отчет о похоронах председателя Первой Государственной Думы С.А. Муромцева, профессора Московского университета, одного из создателей кадетской партии. Похороны Муромцева были ис-пользованы либеральной и демократической общественностью как повод для проведения демонстрации против самодержавия и черносотенной Думы. <...> В отчете, занявшем чуть ли не всю третью страницу газеты, говорилось о том, что присутствовавший на похоронах представитель полиции прерывал выступавших ораторов и запрещал им касаться некоторых вопросов. Московский градоначальник расценил оглашение этого факта как публичное распространение ложных слухов о деятельности должностных лиц. В прессе началась шумная полемика по поводу ареста Благова, и вместо трех месяцев он отсидел только две недели, а этот инцидент способствовал поднятию тиража газеты.
В эти же годы Благов дважды оказывался на скамье подсудимых <...> за опубликование в № 287 за 1912 г. письма священника Илиодора и статьи «Паевое предприятие» в № 35 за 1914 г.15.
В обоих случаях Благов был оправдан по суду, но тиражи газеты с его материалами подлежали изъятию.
Эмигрировав сразу после революции, Благов обосновался со своей второй женой в Париже, где оказался вне издательской и журналистской деятельности. Тем не менее, будучи парижским представителем дальневосточных газет, он все же изредка выступал в печати. В среде соотечественников-эмигрантов к нему относились с уважением, но, в общем и целом, у него была
очень тяжелая жизнь в эмигрантских условиях. Жена Ф.И. Благова поступила в мастерскую дамских нарядов, а Ф.И. Благову, на старости лет, приходилось иногда в картонке разносить заказы по клиенткам.
И.М. Троцкий, как явствует из его письма к редактору газеты «Сегодня» М.С. Мильруду от 20 ноября 1933 г., сочувствовал незавидной доле Благова и живо откликался на просьбы поддержать его материально:
Мне С.И. Варшавский сообщил, что Ф.И. Благов очень болен и в крайней нужде. Все бывшие «русскословцы» обязались его поддерживать minimum по 25 фр<анков> в месяц. Разумеется, я присоединился к этому решению. И вот, очень прошу Вас, дорогой Михаил Семенович, распорядиться в конторе, чтобы причитающийся мне гонорар за статью о Бунине («Сегодня» № от субботы 18.XI (заграничное издание)) был по возможности скорее переведен Ф.И. Благову.
В своем ответе от 23 ноября 1923 г. М.С. Мильруд, бывший «русскословец», тоже питающий теплые чувства к Благову, пишет:
Ваше желание о пересылке гонорара Федору Ивановичу будет, конечно, исполнено. Я лично тоже присоединился к этому фонду. Кто мог у нас думать, что судьба Федора Ивановича сложится так печально?16
Судьба Дорошевича оказалась ничуть не лучше. Он спился и умер в Совдепии, всеми забытый и никому не нужный, совсем еще молодым (57 лет) в 1922 г.
К сожалению, в своих воспоминаниях И.М. Троцкий не успел описать импозантную фигуру Власа Дорошевича — «короля фельетонистов», во многом способствовавшего расцвету этого жанра в эпоху «Серебряного века».
В петербургском филиале «Русского слова» яркой фигурой был Аркадий Руманов17, пользовавшийся известностью и уважением даже в сановных петербургских коридорах власти. С великим князем Александром Михайловичем (женатым на сестре Николая II Ксении Александровне) его связывала настоящая дружба, продолжавшаяся и в эмиграции, где Руманов в конце 1920-х — начале 1930-х занимал должность его личного секретаря18.
Вокруг Руманова, который в истории русской литературы остался как один из поэтов «Царскосельской гимназии»19, группировался
весь цвет петербургской литературной элиты — по словам Поля Валери, «третьего чуда» мировой культуры, после высокой «греческой» классики и эпохи Возрождения — начиная от Розанова и кончая Блоком, который шесть раз упоминает о Руманове в своих дневниках20. О Розанове же он сам мне рассказывал, как тот ему однажды сказал: «Вот мы с вами разговариваем, а над нами ангельские крылья шелестят»21.
В воспоминаниях современников оценки личности и деятельности Руманова весьма противоречивы: от восторженных до уничижительных. По словам Алексея Ремизова, Руманов «без всяких безобразий мог человека прославить и вывести на дорогу»22. По свидетельству В. Пяста, Блок находил его «каким-то таинственно-замечательным человеком», и
поскольку Руманов ладил с Сытиным, то нередко он выступал как доверенное лицо издателя в Петербурге. Несмотря на то, что Руманов непрочь был покрасоваться, произнося свою фамилию таким образом, будто она у него «такая же, как и у царствующего дома», его уважали за журналистскую объективность, поэтому важные персоны охотно давали ему интервью и он получал новости из первых рук23.
Резко негативные отзывы о личности А. Руманова относятся в основном к его эмигрантскому периоду жизни. Особенно интересны в этом плане воспоминания Осипа Дымова, долгое время бывшего закадычным другом Руманова — тот был женат (первый брак) на его двоюродной сестре, пианистке Женни Штемблер. В конце 1920-х он уже «испытывал к некогда по-настоящему близкому человеку глухое житейское раздражение и обиду, позже развившиеся в чувство непримиримого отчуждения»24.
<...> до сих пор не могу я оправиться от отвращения, кот<орое> я испытал, когда Аркадий на другой же день после моего приезда в Париж явился с твердым намерением обокрасть меня, лгал, льстил — старый им испытанный прием. Несчастные гроши, которые я после 35 л<ет> (!!!) работы честно получил, заслужил, он пытался выманить — он, просадивший миллион буквально и ни разу за зо лет не подумавший обо мне.
<...> Это просто гадина, этот Арк<адий> Вен<иаминович> Р<уманов>! Он «своего» великого покойного князя обобрал и обсосал, чем и ускорил его смерть. Я это знаю совершенно точно со слов певца Дмитрия Смирнова, которому на днях сказала это сестра Николая II — Ксения Александровна. Единственная заслуга Арк<адия> В<ениаминовича>: он кормит ряд совершенно беспомощных ртов. Но, имея — несколько лет тому назад — большие капиталы, не постеснялся выбросить <их> на шампанское и икру, забирая у беспомощных ртов. Придет на него управа — должно быть!25
В заключение приведу цитату из воспоминаний, принадлежащих Кириллу Померанцеву, человеку весьма информированному в вопросе «Кто есть кто в русском Зарубежье» и непредвзятому в своих оценках личности А.В. Руманова:
он был живым опровержением легенды (в которой, быть может, есть какая-то доля, но лишь доля правды) о том, что евреи всегда умеют хорошо устраиваться. У Аркадия Вениаминовича были неплохие связи на Западе. Так, он отлично знал одного магната американской печати и директора одного из самых больших французских издательств «Плон», и вдобавок был представителем по еврейским делам во Франции г-жи Рузвельт (вдовы президента), но воспользоваться этими связями для какого-либо улучшения своего материального положения он не сумел или не захотел. Какие-то гроши он все же получал, но именно гроши; подрабатывала какими-то уроками жена. Приходилось занимать деньги, иногда не удавалось их отдать. Но большой ли это грех? Много больший — делать из денег идола, как считал Георгий Адамович.
Знаю, но без подробностей, что сразу после ухода немцев он участвовал в каких-то просоветских эмигрантских объединениях, но, помня патриотическую эйфорию, охватившую многие эмигрантские круги, большой вины в том не вижу. Во всяком случае, ко времени моего знакомства с ним от таких настроений в нем не осталось и следа.
Теперь характерным для А.В. было совсем другое. Как-то раз мы возвращались с ним с какого-то литературного вечера. Заметив нас, один шедший нам навстречу человек быстро перешел на другую сторону улицы. А.В. удивился: «По-моему, я не сделал ему ничего хорошего. Почему же он меня избегает?» И как это верно! «Человеческое, слишком человеческое», сказал бы гениальный автор «Заратустры»26.
Дорошевич привел с собой в газету целую команду великолепных журналистов, прекрасно чувствовавших и слово, и эпоху, которую этим словом надо было отражать. В команде были такие акулы пера, как фельетонисты Амфитеатров и Пильский, новостник Потапенко, репортер Гиляровский и др.
Что касается художественной литературы, то «Русское слово» оставалось цитаделью русского критического реализма. А. Куприн, Л. Андреев, О. Дымов, С. Гусев-Оренбургский, Скиталец, Н. Телешов и др. Наиболее умеренным среди них был Иван Бунин, а самым радикально-провокативным Максим Горький.
В 1900-х печатался в газете и В.В. Розанов27 (под псевдонимом В. Варварин), однако Сытин лично уволил его в 1911 г., когда решил сделать газету еще более либеральной. Розанов, регулярно выступавший на страницах крайне правого Суворинского «Нового слова», в глазах либерально-демократической общественности был одиозным ретроградом.
Дорошевич официально утверждал, что редактирует печатный орган, не знающий «ни “фильств”, ни “фобств”», другими словами, газету, в которой выступают литераторы разных эстетических, художественных направлений. Однако декларации о намерениях — декларациями, а в реальной жизни успех или безвестность того или иного литератора во многом зависели от вкусовых предпочтений главного редактора, а то и от его каприза.
Как во всякой литературной среде, в той, что группировалась вокруг «Русского слова», были свои предпочтения и конфликты. Неоднозначным было в ней и отношение к Дорошевичу, кстати, болезненно реагировавшему, когда «нарушали его волю». Особо критическое отношение к главе «Русского слова» испытывали деятели символистского лагеря. Тут, отметим, антипатия была взаимной, поскольку Дорошевич не терпел «декадентов», постоянно высмеивал их в своих фельетонах. В свою очередь, литераторы, близкие к кругу Мережковского и Гиппиус, видели в нем все того же «писателя для толпы», «для обывателя»28.
Хотя такие знаменитости из лагеря символистов, как Мережковский и Брюсов иногда печатались в «Русском слове», в общем и целом «декадентов» с их «духами и туманами» здесь не жаловали. В. Дорошевич, выливший немало сатирического яда в своих фельетонах на их головы, и Н. Валентинов, бывший в 1911-1913 гг. фактическим редактором «Русского слова», приложили немало сил, чтобы не пропустить в число авторов газеты не только З. Гиппиус, но и такую звезду первой величины, как А. Блок. И это несмотря на то, что сам Сытин был отнюдь не против, и за Блока активно хлопотал заведующий петербургской редакцией газеты А. Руманов.
Такова была обстановка в «закулисье» крупнейшей газеты Российской империи, с которой, впрочем, И.М. Троцкий если и сталкивался, то лишь опосредовано. Из всех редакторов он тесно общался, по-видимому, только с Ф.И. Благовым, коему, по отзывам современников, во многом был обязан своей успешной карьерой. О В. Дорошевиче Троцкий в своих воспоминаниях говорит лишь вскользь, а о других редакторах «Русского слова» — Н. Валентинове и А. Руманове, и вовсе не упоминает.
И.М. Троцкий сотрудничал с «Русским словом» одиннадцать лет, выступая, как иностранный корреспондент, в качестве главным образом политического обозревателя. Информационные статьи на культурологические темы, из которых русский читатель узнавал о литературных и театральных новинках Германии и Скандинавии, в общем объеме дореволюционной и, надо сказать, весьма обширной публицистики Ильи Троцкого занимают весьма скромное место. В своей «русскословской» публицистике И.М. Троцкий заявляет себя либеральным демократом, не приемлющим любые формы расовой или религиозной ксенофобии, талантливым, энергичным журналистом, разбиравшимся в политике, литературе и театральном искусстве. Другими словами, он был типичный «русскословец» и, что особенно важно подчеркнуть, сохранил верность либерально-демократическим идеям, которые отстаивала эта газета, на всю свою долгую жизнь.
Публицистическая активность Ильи Троцкого в дореволюционный период выглядит весьма и весьма внушительно. Подборка его статей и корреспонденций, представляющих и в наше время значительный культурно-исторический интерес, могла бы составить вполне увесистый том. Его статьи регулярно появлялись в рубрике «Заграничные корреспонденции» — «Берлин (от нашего корреспондента; по телеграфу от нашего корреспондента; от нашего берлинского корреспондента)». Эта рубрика была ежедневной. Однако в каждом номере газеты существовала еще рубрика «Заграничная хроника», где печаталась краткая информация о текущих событиях в мире. Авторы материалов в этой рубрике не указывались. Можно полагать, что раздел «Берлин (от нашего корреспондента)» из этой рубрики также в основном состоял из заметок И.М. Троцкого, на что указывает стилистическое, а подчас и тематическое сходство материалов раздела и его статей.
Выборочный перечень статей И.М. Троцкого в «Русском слове», иллюстрирующий стилистику и основные направления его публицистической деятельности в этой газете, приведен в Приложении II
У Ивана Сытина был верный глаз и чутье на полезных для его дела людей. Приглашение Ильи Троцкого в «Русское слово» оказалось его очередной удачей и, судя по всему, медиамагнат это понимал. Так, в фирменном сборнике, посвященном пятидесятилетию издательской деятельности И.Д. Сытина, помещен, среди прочих, и портрет одного из самых молодых сотрудников издательства — иностранного корреспондента «Русского слова» И.М. Троцкого. Сам Илья Маркович по прошествии десятилетий неизменно поминал как И.Д. Сытина, так и коллектив «русскословцев» в целом «тихим добрым словом», а с бывшими коллегами, ставшими, как и он, эмигрантами, долгие годы поддерживал дружеские отношения. Однако подробно он описывает в своих воспоминаниях только одного коллегу из числа русскословцев — Иосифа Иосифовича Колышко («Баяна»). Впрочем, это и понятно — из них всех только Баян выступал «во время оно» в роли политического авантюриста (см. ниже).
Сытинское «Русское слово» имело в Российской империи огромный успех, к началу 1917 г. тираж газеты составлял 600-800 тысяч экземпляров. После Октябрьского переворота «Русское слово» было закрыто большевиками.
И.Д. Сытин
Из обширного корпуса мемуарной публицистики И.М. Троцкого больше всего написано им об Иване Дмитриевиче Сытине — человеке, которому он во многом обязан своей успешной журналистской карьерой.
Мое знакомство с И.Д. Сытиным началось в яркую эпоху русской журналистики, когда после октябрьской революции 1905 г. с нее спали цензурные цепи и когда в Москву и Петербург хлынула могучая волна молодежи в поисках приложения своих литературных сил,
— писал Троцкий в статье-некрологе, посвященной памяти Сытина29, — первой по счету (1934 г.) в его «сытинском» мемориальном цикле. Затем, уже после войны, начиная с 1951 г., — статья «Иван Дмитриевич Сытин. К столетию со дня рождения» — и в 1966-1967 гг. он публикует в газете «Новое русское слово» целую серию воспоминаний, где так или иначе фигурирует Сытин.
Крупнейший русский медиамагнат первой трети XX в. Иван Дмитриевич Сытин имел репутацию просветителя, издавал русских писателей и книги для народа. Этой славе способствовало его происхождение — крестьянский сын, начавший свою трудовую деятельность «мальчиком» в купеческой лавке. С артелью офеней — торговцев лубочной литературой для народа Сытин исходил многие губернии юга России. Симпатии русского общества вызывал и факт близости Сытина к издательству «Посредник», существовавшему под эгидой Л.Н. Толстого.
Основным делом И.Д. Сытина было его книжное издательство30, где печатались произведения русских писателей, книги для народа, которыми торговали на ярмарках, календари. Став на ноги как издатель, Сытин начал заниматься и периодикой. Первым и самым любимым для издателя был журнал «Вокруг света», долгое время остававшийся в его личной собственности. Впоследствии он издавал и другие журналы. Среди них большой популярностью пользовались у русских читателей «Вестник спорта и туризма», «Вестник школы», «Для народного учителя», «Заря», «Мирок», «Модный журнал», «Нужды деревни», «Пчелка», «Искры» и т.д. Часть этих изданий печаталась в качестве приложений к «Русскому слову». Однако наибольшую известность Сытину и его издательству принесла газета «Русское слово», хотя одновременно сытинское издательство принимало участие в выпуске еще целого ряда газет: «Дума», «Русская правда», «Правда Божия», «Раннее утро», «Вечерние известия» и др. В 1916 г. Сытин купил издательство А.Ф. Маркса с самым распространенным в стране журналом «Нива». Фирма Сытина имела книжные магазины и отделения в Петербурге, Варшаве, Екатеринбурге, Иркутске, Киеве, Ростове-на-Дону, Одессе, Самаре, Саратове и на Нижегородской ярмарке. Одним из первых среди российских издателей Сытин вышел на мировой рынок.
К 1913 году численность рабочих и служащих на книжном комбинате достигла высшей отметки — 1725 человек и держалась на этом уровне до 1915 года включительно. В 1916 году, вследствие войны и снижения производства, она сократилась на 433 человека, то есть более чем на 25 процентов, однако в 1917 году 100 из них были снова приняты на работу. <...>
За пятьдесят лет созданное Сытиным на пустом месте издательское дело стало заметным явлением в России. Накануне Февральской революции добрая четверть всех книг, выходивших в империи, печаталась на машинах, принадлежащих Сытину31.
И.М. Троцкий подробно рисует колоритный портрет Сытина32, что для его публицистики явление редкое, поскольку обычно в своих очерках он дает «общие картины», без прорисовки отдельных деталей. Во всех строчках его описания этого человека чувствуются и любование, и теплота, и глубокая личная симпатия.
Дородный, кряжистый, с светлеющей бородой клинышком и маленькими глубоко сидящими глазами, искрящимися умом и хитростью, Иван Дмитриевич производил впечатление прасола33. Мало говорил и внимательно слушал. И речь его была чрезвычайно своеобразна и любопытна: отрывиста, лапидарна и порой беспомощна, но столь отлична от русской интеллигентской речи, что ее хотелось бесконечно слушать.
Или такой эскизный набросок:
И.Д. Сытин, еле заметно улыбаясь, сидел в любимой позе — слегка согнувшись над столом и перебирая пальцами руки волосы седеющей бородки34.
Интересное замечание из той же статьи о литературных симпатиях Сытина:
От внимательного участника сытинских бесед <...> не могло ускользнуть одно явление — пиетет И.Д. к памяти А.П. Чехова. Не будет преувеличением сказать, что Сытин не упускал случая, чтобы упомянуть добрым словом обожаемого им писателя. Ему трудно было примириться с мыслью, что останки Антона Павловича, скончавшегося в германском курорте <...>, привезли на родину в товарном вагоне, в котором до того перевозили сельди. Вспоминал И.Д. об этом будто об обиде, лично ему нанесенной.
Все, что касалось Чехова, как писателя и человека, всемерно интересовало Сытина.
Преклонялся Сытин и перед личностью Льва Толстого:
Я присутствовал на похоронах Льва Николаевича и был одним из той многотысячной массы, что пришла отдать последний долг великому писателю, коленопреклоненно и с обнаженными головами провожая его останки.
Говоря о Сытине в контексте портретных зарисовок, даваемых И.М. Троцким, нельзя не отметить важную историческую деталь — исключительно тесную связь до Первой мировой войны русского делового мира с Германией. Иван Дмитриевич Сытин по своим вкусам тоже был выраженный германофил35.
И.Д. Сытин любил Берлин и частенько его навещал. Ему импонировала германская организованность, упорядоченность немецкого уклада жизни, <...> коммерческая добросовестность немцев, налаженность и пунктуальность их работы. Восторгался он культурностью и чистотой германской столицы и особенной заботливостью берлинцев украшать балконы домов цветами.
— Неужели на ночь цветов с балкона не убирают? У нас бы их с корнями вырвали... Ну, и немцы! Народец, что и говорить!..
<Однако> не жаловал старик немецкой кухни.
— Живут как баре, а едят как хамы. И что, кажись, стоит научиться прилично готовить. Учимся же мы у них строить, чего бы немцам не поучиться у нас кухне.
<...> Немцы его очень уважали и ценили его издательский опыт. Всякий его приезд обставлялся с большой торжественностью, тем более, что и клиентом он был завидным и широким. Редко торговался, хотя и любил по привычке российских купцов «прибедняться».
Бывало, приедешь с ним к какой-нибудь фирме, директора вокруг него увиваются, величают Хер Генералдиректор, а он усядется в передней на краешек стула и разыгрывает просителя.
— Мы — люди маленькие и тут потолковать можем. <...>
— Иван Дмитриевич, вы роняете наш престиж у немцев. И чего засели в передней?
— Ну, где там. Твоего не уроню! Ты вон в цилиндре и гамашах. Тебя не посрамишь!
И действительно немцы отлично разбирались в игре московского миллионера и ходили перед ним на задних лапках. <...> Заказчик <Сытин — М.У.> был крупный и требования предъявлял соответствующие. Не дай Бог ротационную машину или линотип не вовремя или в ненадлежащем состоянии доставят. Такой шум поднимал, что куда и «прибеднение» девалось! И в этом сказывалась его московская натура.
Интересно, что рассказывая в своих статьях-воспоминаниях о встречах и беседах Сытина с Горьким (см. ниже), Илья Троцкий никогда при этом не упоминает об его отношении к своему кумиру — Ивану Бунину. А ведь именно по отношению к нему издатель всегда выказывал особую симпатию. В качестве «значащего примера» отметим, что на торжественном банкете в «Праге» по случаю годовщины пятидесятилетней издательской деятельности И.Д. Сытина, которая несмотря ни на что — «в разгар стачек и беспорядков, вызванных нехваткой продовольствия, в атмосфере всеобщего отчаяния, порожденного войной» — отмечалась 19 февраля 1917 г. на официальном уровне и с большим размахом36, от лица писателей выступил отнюдь не Горький, а именно И.А. Бунин37.
После революции Сытина особо не баловали. Когда Сытину исполнилось 75 лет, ему пришлось писать унизительное письмо в Совнарком, своему бывшему хорошему знакомому
А.В. Луначарскому, с просьбой назначить ему пенсию. В октябре 1927 г., к 10-летию революции, эту просьбу милостиво удовлетворили: памятуя о прежних заслугах на ниве народного образования, Сытину положили пенсию в 250 рублей в месяц и вдобавок разрешили проживать с семьей в «отдельной» (sic!) пятикомнатной квартире.
Хотя для И.М. Троцкого — эмигранта и непримиримого противника советской власти, любого рода прислуживание большевикам являлось несомненным показателем морального падения личности, он ни разу не бросил камня в сторону своего бывшего работодателя и покровителя. Лишь только слова сочувствия и скорбного сожаления:
В последний раз я встретился с И.Д. Сытиным несколько лет назад в Берлине. Но это уже был иной Иван Дмитриевич: подавленный, замкнутый, озлобленный. Сломили злые силы большевизма и этот могучий русский дуб. И вот нет уже больше старого Сытина38.
В 1934 г. на Введенском кладбище И.Д. Сытина — человека, которого не так давно величали «русским колоссом-просветителем», в последний путь его провожали лишь родные да немногие из бывших служащих.
Максим Горький
Андрей Седых в статье-некрологе «Памяти И.М. Троцкого»39 пишет:
Когда И. Сытин приехал за границу, он предложил И.М. Троцкому сопровождать его. На страницах «Нового русского слова» И.М. вспоминал, как Сытин повез его на Капри к Горькому40.
В своих очерках о посещении Горького на Капри41 И.М. Троцкий описывает лишь осень 1913 г., причем первая его статья с сюжетом о совместной поездке с Сытиным на Капри — «Гениальный самородок», появилась еще до Второй мировой войны (1934 г.) в рижской газете «Сегодня»42:
Издательство <Товарищества И.Д. Сытина — М.У.> вело переговоры с Максимом Горьким о приобретении издательского права на его первые произведения, написанные в первые пятнадцать лет. Горький запросил 450 тысяч рублей. Правление издательства уполномочило И.Д. Сытина съездить к Горькому и лично с ним столковаться. По дороге из Москвы в Берлин <Сытин — М.У> взвесил все «за» и «против» и решил, что операция эта разорительна для издательства.
— Протелеграфируй, пожалуйста, Феде (Ф.И. Благову) и другим директорам, что не стоит ездить к Горькому. Все равно дела я с ним не сделаю.
Я, конечно, выполнил просьбу Ивана Дмитриевича. На следующий день получили ответные депеши из Москвы, что директора присоединяются к его мнению. И.Д. Сытин выслушал содержание депеш, встал, перекрестился на угол и начал говорить тихим таким шепотом:
— Поедем, стало быть, к Алексею Максимовичу. Хорошо сейчас на Капри...
— А что скажут в правлении?
— Неважно! Протелеграфируй, что едем. <...>
Познакомишься с Горьким, посодействуешь мне в переговорах о цене и покатаешься по Италии. Только ты уж меня одного с Горьким не оставляй. Обернет вокруг пальца. Он — жох!..
Мы телеграфно оповестили Горького о дне приезда и получили приглашение быть его гостями. <...>
От Берлина до Рима нас сопровождал известный фильмовый промышленник Ханжонков. Всю дорогу Сытин плакался, что Горький его разорит и что мы едем заключать явно убыточную сделку. То же самое он говорил и покойному писателю Первухину43, корреспондировавшему из Рима в «Русское слово». Полный профан в издательском деле, я в душе решил облегчить Ивану Дмитриевичу его миссию. <...>
На пристани на Капри нас встретил личный друг Горького бывший берлинский издатель И.П. Ладыжников. Завидев еще издали Ладыжникова, И.Д. заметно всполошился и, обратившись ко мне, снова повторил просьбу — не оставлять его одного. Мы остановились в каком-то чудесном отеле, из окон которого открывался чарующий вид на неаполитанский залив.
Покуда я приводил себя в порядок, Иван Дмитриевич и Ладыжников куда-то исчезли. Тщетно я их искал в гостинице, ресторане и парке отеля. <...>
Загадка, впрочем, вскоре разъяснилась. <...> Для меня стало очевидным, что Сытин уже сидит у Горького и, вероятно, ведет переговоры о приобретении его произведений.
На веранде горьковской виллы я нашел большое общество. <...> Было шумно и весело, а прелестная итальянская осень и синие волны, шаловливо игравшие у близкого берега, располагали к интимности.
Максим Горький находился, по-видимому, в отличном настроении44 и очень ярко и образно рассказывал разные эпизоды из своей скитальческой <...> жизни.
Завтрак сменился чаем, чай — обедом и время пролетало незаметно. За ужином <...> завязался спор об индивидуализме в литературе. Один из тех специфически русских споров, когда все одновременно говорят, один старается перекричать другого, и никто никого не слушает.
Д.И. Сытин сидел все <это> время молча, с явным интересом прислушиваясь к спору и не проронив ни слова. <...>
<...> Начали прощаться. Мы с Иваном Дмитриевичем остались последними. И вдруг случилось нечто, что на всю жизнь запечатлелось в моей памяти.
И.Д. Сытин подходит к Горькому и, подавая ему на прощание руку, говорит:
— Итак, Алексей Максимович, по рукам. Как ты сказал, так и будет. Заплатим тебе 450 тысяч. Спасибо.
Горький смутился, а я стоял совершенно растерянный.
В отель мы возвращались молча. Я внутренне досадовал на старика. К чему вся эта комедия. Зачем он отравлял мне всю дорогу в Италию причитаниями о грозящем издательству разорении? К чему просил не оставлять его наедине с Горьким? И вообще, что это за дикий подход к делам?
Иван Дмитриевич, очевидно, понимал мое настроение и, обняв меня вокруг талии, тихо сказал:
— Чего ты, милый, сердишься. Ведь Горький твой же брат-писатель. Что тебе жалко сытинских капиталов, что ли? Эх, и наживем мы на этом деле. Имя-то какое? Горький!
Сам И. Троцкий в своих воспоминаниях неизменно отмечал, что ведущим журналистам и писателям, сотрудничавшим с «Русским словом», — а это был цвет русской литературы! — Сытин и его правая рука в редакционно-издательских делах
Ф.И. Благов платили «с истинно московской щедростью», а в особых случаях именитым иностранцам и отечественным писателям с громкими именами (Андреев, Бунин, Горький, Куприн) сулили «любой гонорар, как бы высоки его размеры не были»45.
По всему видно, что в своих воспоминаниях И.М. Троцкий стремился делать акцент на интеллектуально-культурологических аспектах описываемых ситуаций, а не развлекать читателей житейскими пустяками. Так, в другой статье46 он дополняет свои воспоминания сюжетом, в котором присутствовавший в дачной компании Горького Луначарский поднял тему о присуждении Нобелевских премий по литературе. По его мнению, шведы до сих пор помнят о своем поражении в Полтавской битве, а шведские слависты не могут простить Пушкину язвительных замечаний на эту тему в поэме «Полтава». Поэтому шведская Академия и относится с неприязнью «к русской изящной литературе»:
Иван Дмитриевич, который недолюбливал Луначарского <...> внимательно его слушал. По-видимому, его заинтересовала тема о Нобелевской премии. <...>
— Мне кажется, Анатолий Васильевич, что ваша теория в части, касающейся шведской Академии, несколько хромает. Это может засвидетельствовать <наш сотрудник — М.У.>, сидящий рядом со мной. Не дальше как в прошлом году он, по поручению «Русского слова», объездил все три скандинавские страны, познакомился с тамошним литературным миром и вынес оттуда впечатления, диаметрально противоположные вашим. Он мог бы многое нам рассказать.
Далее И.М. Троцкий повествует, что, ни в коей мере не вступая в полемику «с таким диалектиком, как А. Луначарский», он, тем не менее, позволил себе «внести поправки в его явно надуманную и упрощенную теорию». Журналист рассказал внимательно слушавшему его обществу, что ведущие шведские писатели с большим уважением относятся к русской литературе. Всемирно известный Август Стриндберг — один из кумиров российской читающей публики, например, прямо заявил ему, что, если бы ни продолжающийся скандал между ним и шведской общественностью, он «не задумался бы выступить с предложением о присуждении Нобелевской премии Горькому» и лишь нежелание «обрекать Горького на роль жертвы наших внутренних распрей» удерживает его от этого:
Эффект стриндберговских слов вызвал никем не предугаданный отклик. Безмолвствовал и Луначарский, ничем не проявляя желания высказаться. Только И.Д. Сытин с плутоватой улыбкой на лице глядел в сторону Луначарского, как бы желая сказать: «Ну что — получил». <...>
Вернувшись в отель, мы еще долго делились впечатлениями о проведенном вечере. Здесь, впервые, И.П. Ладыжников, нарушив обет молчания, проиронизировал по адресу Сытина:
— Повезло вам, Иван Дмитриевич, с Горьким... Вовремя успели оформить контракт по передаче вашему издательству единоличного права на печатание его произведений. Будь Алексей Максимович заранее осведомлен о своей популярности в Швеции <...>, он, вероятно, потребовал бы другие договорные условия. Горький мужик умный, умеет отстаивать свои интересы.
Иван Дмитриевич как будто пропустил мимо ушей скрытый укол Ладыжникова. Однако, стоя у дверей своей комнаты перед отходом ко сну, успел мне шепнуть:
— Завидует, жадюга! Впрочем, Господь с ним! Контракт подписан и формально утвержден...
Воскрешая образ гениального русского самородка на фоне каприйских дней и в горьковском окружении, мне хотелось бы только прибавить лишний штрих к многогранной и красочной «сказке-жизни» Ивана Дмитриевича Сытина»,
— пишет в заключение своей статьи И.М. Троцкий.
В своей более поздней статье о И.Д. Сытине47, написанной к столетнему юбилею со дня рождения издателя, он приводит еще один его отзыв о Ладыжникове — своем «конкуренте», личном издателе и друге Горького:
— Ничего, ничего. Поедем, поторгуемся с Горьким, авось уступит. Беда, видишь ли, не в Горьком, а в его советчике и заграничном издателе — Иване Павловиче Ладыжникове. Это — ловкач, такого другого не сыскать. С виду тихоня, двух фраз складно не скажет, смиренник, а в душе — жох... ты меня, пожалуйста, не оставляй с ним с глазу на глаз. Обкрутит он меня и не оглянешься.
Одним из первых, кто обратил внимание на то, чем по сути своей являлось пребывание «буревестника революции» на Капри, был вышеупомянутый И.М. Троцким Михаил Константинович Первухин, плодовитый литератор, переводчик и публицист.
Заболев чахоткой, Первухин переселился в 1899 г. сначала в Ялту, чтобы лечиться, а затем навсегда перебрался в Италию. С 1907 г. он работал иностранным корреспондентом различных русских газет — «Биржевых ведомостей», «Речи», «Русской мысли» и др. На Капри Первухин общался с Горьким, о котором оставил интересные мемуары48.
Во время своего пребывания на Капри Горький никогда не оставлял политической, вернее, революционной деятельности. В 1908 г. возникла идея перенести на Капри руководство русской социал-демократической партии, однако не все лидеры партии согласились с этим, и идея не осуществилась. Вскоре, получив в распоряжение крупную сумму денег, подаренных партии эксцентричным и возможно психически неуравновешенным миллионером, Горький предложил организовать на Капри знаменитую «школу революционной техники» для «научной подготовки пропагандистов русского социализма». Тогда на Капри приехали ученики этой оригинальной школы и их инструкторы и преподаватели. Таким образом <...> на Капри «возник литературно-политический центр, куда входили люди, принадлежащие к экстремистским партиям49.
М. Первухин парадоксально обыгрывает мысль о том, что на Капри жил не один, а два Горьких:
Один из них был признанным писателем Максимом Горьким, вел открытую публичную жизнь, имел широкие знакомства в среде итальянской интеллигенции, принимал прославленных соотечественников: Ф. И. Шаляпина, К. С. Станиславского, И. Е. Репина, А. С. Новикова-Прибоя, М. М. Коцюбинского и др. Но помимо Максима Горького на острове жил мало кому известный А.М. Пешков, босяк-ницшеанец, который предпринял, возможно, наиболее радикальную за всю свою жизнь попытку создать собственную философию. <...> Максим Горький на Капри предоставил Алексею Пешкову возможность осуществить свой эксперимент50.
После октябрьского переворота 1917 г. М.К. Первухин занял непримиримо антибольшевистскую позицию, одновременно резко поправев. Разочаровавшись в либеральной демократии, он стал поклонником итальянского фашизма. Фашистское движение, спасшее Италию от большевизма, казалось ему силой, способной освободить и Россию.
Будущее — за фашизмом. И я, как первый русский, примкнувший идейно к фашистскому движению, как первый русский журналист, с самого начала этого движения в Италии почуявший его колоссальное значение и начавший пропагандировать фашистскую идею в русской среде, — считаю себя имеющим право сказать: — «Будущее — за нами, фашистами!!»51
Однако в отличие от большинства русских фашистов52, Михаил Первухин, в молодости подвергавшийся преследованию со стороны черносотенцев, всегда был убежденным врагом антисемитизма. По этой причине он дистанцировался от самого одиозного представителя русского монархического антисемитизма в Италии князя Н.Д Жевахова53. Никакой материальной выгоды симпатии к русскому фашизму ему не принесли. Незадолго до смерти54 Первухин писал В.И. Немировичу-Данченко:
Мы — я и жена — едим раз в день, да и то столько, что и воробья не накормишь. Изо дня в день, из года в год живем надеждой на «близкое» падение большевиков. А они, канальи, почему-то не хотят «рухаться»55.
О русской колонии на Капри, будучи ее общепризнанным старейшим членом, Первухин писал неоднократно. При этом все его высказывания о Горьком пронизаны резко отрицательным отношением к этому писателю.
Здесь уместно отметить, что отношение к Максиму Горькому у И.М. Троцкого всегда было настороженным, писатель, по всей видимости, отталкивал его своим «красивым цинизмом»56. В то же время «русскословец»-либерал И. Троцкий, как и его антагонист М. Меньшиков из консервативного Суворинского «Нового времени», а вместе с ним многочисленные горячие поклонники Горького — одного из самых знаменитых европейских писателей начала XX в., явно ждали, что «Он что-то должен сказать новое, большое...»57
Точка зрения Ильи Троцкого на «раннего» Горького ясно высказана им в театральной рецензии, написанной после дебюта писателя в качестве драматурга на берлинской театральной сцене58:
Театральный сезон Берлина открылся драмой Горького «Последние», поставленной дирекцией Макса Рейнгарда в известной «Kammerspiele»59.
Премьера у Рейнгарда — такое же событие для берлинцев, как для москвичей новая постановка в Художественном театре. Не берусь сказать, что, собственно, влекло фешенебельное берлинское общество в театр, — сама ли пьеса, или простое любопытство увидеть «живого» знаменитого писателя. Может быть, и то, и другое. Впрочем, каковы бы ни были побудительные причины переполнения театра, публика горько разочаровалась: Горький, несмотря на присутствие в Берлине, благоразумно не показывался в театре, а пьеса...
Далее журналист выражает сожаление по поводу выбора Рейнгардом, которого он комплиментарно аттестует как «берлинский “Станиславский”», именно этой пьесы Горького. По его мнению, она представляет собой:
Драматическое произведение, где почти отсутствует драматическое творчество, и где в одну кучу свалены политический сыск, революция, полиция и слабые намеки на высшую правду. <...> в ней все слишком отвлеченно, схематично и слишком мало напоминает реальную жизнь. Из каждого диалога, из каждой реплики проглядывает плохо спрятанная указка социал-демократа-«отзовиста»60. <...> Почему <публика, да еще немецкая,> должна верить автору, заявляющему, что все русские полицейские — непременно негодяи, а революционеры — идеалисты и апостолы высшей справедливости? А в «Последних», — пьесе, символизирующей обреченное на смерть современное буржуазное общество, — именно, заявляется это, притом почти без всякой аргументации.
Затем идет краткое изложение сюжетных коллизий в пьесе, которая, хотя И. Троцкий утверждает, что о сюжете «Последних» «в свое время достаточно говорила русская критика», была мало известна русской публике:
Старик Иван Коломийцев, бывший полицейский, его сын Александр и зять доктор Лещ, служащие при полиции, — негодяи, развратники, пьяницы, вымогатели и взяточники. Дочь Коломийцева, Надежда, только лишь потому, что она супруга Леща, — тоже мелкая и дрянная женщина. Семейный разлад в доме Коломийцева, изгнанного со службы за воровство и превышение власти, создан, конечно, разгульным деспотом-отцом. Гимназист Петя и подросток Вера, под влиянием озлобленной сестры-горбуньи Любы и товарищеских разговоров в школе, «разгадывают» отца. Люба, дочь жены Ивана Коломийцева от связи с его братом Яковом Коломийцевым, глубоко ненавидят своего «номинального» отца. Она видит, как хищные, алчные, развратные Иван, Александр и Лещ обирают больного шурина Якова, грабя остатки былого крупного состояния. На этой почве, а главное — ввиду непримиримого различия политических взглядов, и разыгрывается семейная драма. Гнилая атмосфера «полицейской семьи» отравляет Петю и Веру. Петя бросает гимназию и спивается, а Вера отдается околоточному надзирателю Якореву, тоже, разумеется, трусу и подхалиму. Больной Яков, глубоко любящий невестку, неспособен перенести развала ее семьи, и умирает в тот момент, когда его брат Иван, благодаря «протекции» Надежды, снова получает место. «Последние», как видите, хотя и обречены на духовное вымирание, однако цепко держатся и даже побеждают в реальной жизни.
В заключении своей рецензии И. Троцкий утверждает, что берлинская публика ни тематики пьесы не поняла, ни саму постановку не приняла. Более того, у него сложилось впечатление, что
исполнители дружно проваливали пьесу, абсолютно не понимая ролей. Грим, костюмы и инсценировка оставляли желать многого. Со стороны могло показаться, будто дирекция умышленно готовила провал.
Такого умышленного неуважения к произведению Горького, конечно, нельзя ожидать от Рейнгарда. <...> Но такт и художественное чутье должны были ему подсказать, что нельзя слабое драматическое произведение отдавать дилетантам на окончательный провал.
«Последние» не пользовались особой популярностью ни в дореволюционной России, ни в советское время. Интерес к этой пьесе возник лишь в конце 1990-х, когда ее стали ставить ведущие российские театры. Революционный пафос пьесы при этом уже не воспринимается как нечто достойное внимания, привлекала именно «бытовуха», где жизнь предстает «огромным бесформенным чудовищем, которое вечно требует жертв ему, жертв людьми».
Однако в литературно-театральной критике начала XX в. считалось, что, словами И. Троцкого,
Горький — великий художник, поэт природы и певец прекрасной жизни, но очень слабый драматург и плохой знаток сцены.
В зарубежной печати Горького даже называли «наименее искусным из драматургов», а о его и по сей день не сходящей со сцены пьесе «На дне» немецкие театральные критики писали, например, следующее:
«Нет более плохой драмы, более невозможного литературного произведения!» («Der Tag»). «В общепринятом смысле эти сцены <...> нельзя назвать драматическим произведением» («Magdeburg Zeit»). «Горький не драматург...» («Berl. Neueste Nachrichten»). «С точки зрения искусства и эстетики это произведение стоило бы отодвинуть на задний план» («Germania»). «Максим Горький <...> доказал самым неоспоримым образом, как мало значит техника в искусстве» («Der Tag»)61.
Естественно, эти высказывания не могли не сыграть своей роли в формировании восприятия И.М. Троцким-рецензентом драматургии Горького. Кроме того, по своим литературным вкусам Троцкий был сугубый «реалист» и к литературным новациям своего времени интереса не выказывал. Для него осталось незамеченным тяготение театральных опытов Горького к жанру «философской драмы» с синтезом «реалистической», «этико-психологической» и «символистской» линий художественного воплощения своих идей62. Последнее, видимо, и обусловило высокую оценку прозы и драматургии «реалиста» Горького западными писателями-модернистами, такими, например, как Август Стриндберг. Об этом свидетельствует в частности и сам И. Троцкий. Вспоминая о своей встрече со Стриндбергом, состоявшейся в 1911 г. (см. ниже в разделе «Скандинавская нота» в публицистике Ильи Троцкого: Август Стриндберг), он цитирует его дифирамбы Горькому:
Я люблю Горького. Слышал, будто в России начинают охладевать к творчеству Горького. Напрасно! У него есть бессмертные вещи. «Мальва», «Челкаш», «На дне» переживут нас. Горькому давно пора получить Нобелевскую премию63.
В более поздней статье Троцкого о Стриндберге64 к вышеприведенным высказываниям великого шведского писателя добавляется фраза с политическим подтекстом, демонстрирующая, что всегдашнее настороженное отношение автора к социальному пафосу Горького было вполне оправданным:
Герои Горького не надуманы. Они угроза обществу и когда-нибудь его одолеют.
По-видимому, в далеком 1910-м искушенные в различных новациях берлинские театралы все же увидели в новой пьесе Горького нечто большее, чем политический памфлет или «пошлейшую карикатуру» на русскую жизнь, поскольку, по словам Ильи Троцкого, отнеслись к ее постановке «благосклоннее, нежели можно было ожидать».
И.М. Троцкий, как русский демократ и либерал, всегда относился к Горькому настороженно, но и никогда не демонизировал его личность. Дальше отдельных саркастических выпадов в адрес «великого пролетарского писателя», чей ангажированный «наступающим классом» талант противопоставлялся им в статьях общечеловеческому литературному гению Ивана Бунина, и иронических замечаний, касающихся поддержки, оказываемой Горькому со стороны Кремля, он, как правило, не заходил. Даже в середине 1930-х И.М. Троцкий все еще видел в Горьком — близком друге Ленина и Сталина, — «признанного писателя», ведшего «открытую публичную жизнь».
Впрочем, такой точки зрения придерживались многие интеллектуалы русского Зарубежья. Показателен скандал, разгоревшийся после публикации в журнале «Литературные записки» статьи З. Гиппиус
«Литературная запись. Полет в Европу»65, в которой она непочтительно отозвалась о Горьком (что она, впрочем, делала еще и в Петербурге в начале века). <...> в редакцию <журнала> (и к самой Гиппиус) посыпались письма-протесты по поводу оскорбления ею «чтимого по всей России гения». <Редактор журнала > Вишняк опубликовал в газете «Последние новости» объяснение-сожаление-извинение, что был допущен «недосмотр Гиппиус». <Сама> она была вынуждена сделать «необходимые поправки» и затем следовало примирительное, заключительное послесловие П.Н. Милюкова»66
Немаловажную роль в наличии у самого И.М. Троцкого «положительной составляющей» по отношению к личности Горького, без сомнения, играет факт юдофильства писателя. Максим Горький по жизни неизменно декларировал свою симпатию и даже любовь к евреям. В истории русской культуры он, как никто другой, подходит под определение «искренний друг еврейского народа»67. Ни один из русских писателей не сказал так много задушевно-теплых слов о евреях и в защиту евреев, как Горький68.
Первая его публикация о евреях в России появилась в 1896 г. в газете «Одесские новости», последняя — статья «Об антисемитах», в газете «Правда» 24 июня 1931 г.. В 1900 г. под редакцией Горького вышел сборник «Погром». В нем резко осуждался воинствующий антисемитизм и подчеркивалось, что погромы позорят русский народ. В сборнике вместе с Горьким приняли участие и другие известные русские писатели и ученые, в том числе один из наставников Ильи Троцкого на литературном поприще С.И. Гусев-Оренбургский. Все они, к слову сказать, объявлены были черносотенной прессой «скрытыми евреями и врагами русского народа»69.
На протяжении всей своей творческой жизни Горький обращался к еврейской теме, в которой у него красной нитью проходит кровно близкий И.М. Троцкому тезис о том, что русский еврей — это, прежде всего, русский гражданин.
Однако с конца 1920-х почитание гения Горького в эмиграции резко пошло на убыль. А с началом ожесточенной борьбы за «русского Нобеля» (см. ниже раздел в Гл. 5 «Буниниана Ильи Троцкого») Илья Маркович от своего имени высказал в печати общее мнение эмигрантского сообщества в отношении «Буревестника революции», навсегда угнездившегося в большевистской Москве:
Пресмыкательство Горького перед большевиками оттолкнуло от него не только друзей, но и поклонников его таланта70.
Градус неприязни по отношению к Максиму Горькому достиг своего максимума к середине 1930-х, когда тот «воспел большевицкий террор, НКВД и ГУЛАГ как культурные явления»71.
И все же в воспоминаниях, опубликованных им на закате жизни72, И.М. Троцкий, отпустив за давностью времени Горькому политические грехи, пишет о нем с теплотой и даже слащавостью73:
Атмосфера предельной непринужденности, широкого хлебосольства и простоты, царившая в окружении Горького, располагала к общению и близости. Не замечалось и тени «олимпийства» или превосходства в обращении писателя с простыми смертными. Уже один его мягкий и густой басок звучал столь приветливо и обнадеживающе, что словно ключом открывал чужие сердца.
В культурологическом и историческом планах интересно сравнить портретные характеристики Горького у И.М. и Л.Д. Троцких — двух современников писателя, между собой, как уже отмечалось выше, являвшимися непримиримыми политическими антагонистами. Лев Давидович Троцкий создал весьма экспрессивные и одновременно лаконичные по форме литературные портреты соратников по борьбе «за освобождение рабочего класса»: Ленина, Сталина, Луначарского, Красина и др. Как ни странно, среди его «портретов революционеров» не встречается имя Горького — литератора, наиболее, казалось бы, близкого ему по духу и партийному товариществу. Только лишь в статье-некрологе, написанной 9 июля 1936 г. — через три недели после смерти Горького, — Лев Троцкий очерчивает свое видение образа усопшего писателя:
Незачем говорить, что покойного писателя изображают сейчас в Москве непреклонным революционером и твердокаменным большевиком. Все это бюрократические враки! К большевизму Горький близко подошел около 1905 года, вместе с целым слоем демократических попутчиков. Вместе с ними он отошел от большевиков, не теряя, однако, личных и дружественных связей с ними. Он вступил в партию, видимо, лишь в период советского Термидора. Его вражда к большевикам в период Октябрьской революции и гражданской войны, как и его сближение с термидорианской бюрократией слишком ясно показывают, что Горький никогда не был революционером. Но он был сателлитом революции, связанным с нею непреодолимым законом тяготения и всю свою жизнь вокруг нее вращавшимся. Как все сателлиты, он проходил разные «фазы»: солнце революции освещало иногда его лицо, иногда спину. Но во всех своих фазах Горький оставался верен себе, своей собственной, очень богатой, простой и вместе сложной натуре. Мы провожаем его без нот интимности и без преувеличенных похвал, но с уважением и благодарностью: этот большой писатель и большой человек навсегда вошел в историю народа, прокладывающего новые исторические пути74.
В целом же Лев Давидович критиковал Горького куда более жестко, чем Илья Маркович. В статье «Верное и фальшивое о Ленине: Мысли по поводу горьковской характеристики»75 он обвинял его, помимо уже отмеченной склонности придумывать небылицы, еще и в интеллигентской мягкотелости и двурушничестве:
...в России, в те трудные годы, Горький жестоко путался и рисковал запутаться окончательно, а за границей, лицом к лицу с капиталистической культурой, он мог и выпрямиться. В нем могл<о> пробудиться <...> настроение <...> куда более плодотворн<ее>, чем душеспасительные ходатайства за культурных работников, пострадавших только потому, что они, бедняжки, не успели затянуть петлю на шее пролетарской революции.
Что касается И.М. Троцкого, то смягчив со временем, но все же сохранив до конца жизни свою неприязнь к Горькому-большевику, он не мог не чувствовать всей глубины духовной трагедии писателя. Давая характеристики его личности, например: «Мастер рассказа он был исключительный»76, —
И.М. Троцкий в своих воспоминаниях конца 1960-х не без иронии приводит ряд любопытных деталей. Так, услышав из уст И.М. Троцкого лестное мнение Стриндберга о своем творчестве, Горький, второй после Льва Толстого русский претендент на Нобелевскую премию по литературе, высказался по этому вопросу весьма оригинальным образом77:
Сознаюсь, что не слышал мнения Стриндберга о моем творчестве... Не скрою и того, что охотно принял бы лавры лауреата. Быть носителем Нобелевской премии — честь большая не только для ее избранника, но и для народа, который он представляет. Это — в общем. В частности, лично я благодарен судьбе за вспыхнувший конфликт между Стриндбергом и Гедином78, предотвративший выдвижение моей кандидатуры в лауреаты... Будь я — Горький, облечен премией Нобиля, факт этот, может, стоил бы жизни одному из ныне здравствующих русских писателей, чье имя я не вправе назвать. Он не скрывает жажды мировой славы, искренне убежденный, что с его уходом из жизни в мировой литературе останутся считанные имена, и в том числе Шекспира и его. В кого Горький метнул острую стрелу осуждения, русская общественность узнала лишь в первые годы советского лихолетья. Это был Леонид Андреев, скончавшийся в эмиграции в 1919 году, в прошлом интимный друг Горького.
Постоянное стремление Горького непременно пнуть Леонида Андреева:
Гадости про «единственного друга» Горький произносит как бы между прочим, прикрывая комплиментами.
— отмечают и историки литературы, подчеркивая, что
После того как они разошлись, Андреев <тоже> критиковал Горького. А после Великой Октябрьской так вообще страстно обличал. Но, в отличие от Горького, он не придумывал про него небылиц79.
Вот один из примеров «обличений» Горького со стороны Леонида Андреева:
Он из тех проповедников мира и любви, которые невнимательных слушателей отечески бьют книгой по голове; это ничего, что переплет тяжел и углы железные. Если и прошибется непрочная голова, то в этом повинна она же, а не пламенеющий учитель80.
И.М. Троцкий вспоминает81, как будучи с Сытиным на Капри, застал его однажды за письменным столом отельной комнаты с пером в руке.
— Вдохновение снизошло — шутливо заметил он, показывая рукой на лежащую перед ним записную книжку. — Записываю сказанное Горьким о Толстом. И почему Лев Николаевич все о бабах с ним говорил — никак не пойму! Не похоже на него. В моем архиве имеется и другая запись о Толстом — разговор с Алексеем Максимовичем после его посещения Ясной Поляны. Он тогда восхищался величием и гениальностью Толстого, но тут же заметил, что жить с ним в одном доме, не говоря уже об общей комнате, никак не мог бы. Это, как бы жить в пустыне, где все выжжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью. <...> Мне, говоря по совести, кажется, что Горький имеет какой-то зуб против Толстого.
— Не проще ли было бы, Иван Дмитриевич, спросить Горького, чем теряться в догадках?
— Не в моих это правилах. Предпочитаю доходить до сути собственным умом. Неоднократно предлагал Алексею Максимовичу ближе познакомиться с издательством «Посредник», обогащающим книжный рынок всем лучшим, что есть в нашей литературе. Там бы он узрел неискаженный лик Толстого, олицетворяющий душу издательства. В.Г. Чертков — работник беспримерный, шагу не сделает без совета или указания Льва Николаевича. Воображаю, как вскипел бы Чертков, рискни кто-либо в его присутствии сравнить Толстого с «догорающим солнцем и угрожающей темной ночью»!?
Несомненно, «Горький — личность безмерная, неохватная»82, по этой причине в своих статьях И.М. Троцкий избегает давать ему характеристику ad hominem83. Однако, скорее всего, вполне разделял мнение Владислава Ходасевича84:
Великий поклонник мечты и возвышающего обмана, которых, по примитивности своего мышления, он никогда не умел отличить от самой обыкновенной, часто вульгарной лжи, он некогда усвоил себе свой собственный «идеальный», отчасти подлинный, отчасти воображаемый, образ певца революции и пролетариата. И хотя сама революция оказалась не такой, какою он ее создал своим воображением, — мысль о возможной утрате этого образа, о «порче биографии», была ему нестерпима. Деньги, автомобили, дома — все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он, в конце концов, продался — но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни. <...> В обмен на все это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. <...> Сознавал ли он весь трагизм этого <...>? Вероятно — и да, и нет, и вероятно — поскольку сознавал, старался скрыть это от себя и от других при помощи новых иллюзий, новых возвышающих обманов, которые он так любил и которые, в конце концов, его погубили85.
Лев Толстой, Герхард Гауптман и Герман Зудерман в публицистике И. Троцкого
И.М. Троцкий никогда не писал литературных портретов современников. Даже его статьи-некрологи носят повествовательный характер, не содержат тонких психологических характеристик, ярких, запоминающихся образов. Нет у него и отдельной статьи, посвященной Льву Николаевичу Толстому, с которым лично он, по всей видимости, знаком не был. Однако фигура Толстого, так или иначе, — в отсылках, примерах, упоминаниях — присутствует практически во всех очерках Троцкого литературной тематики. Лев Толстой для И.М. Троцкого — альфа и омега русской литературы. Его авторитет — вне критики и сомнений. От Толстого отталкиваются и на него равняются в своем творчестве все русские писатели «первого ранга» в иерархическом ряду Троцкого: Чехов, Бунин, Куприн, Алданов. Даже Горький выглядит у него нелепым на фоне толстовского величия.
Символическим началом приобщения И.М. Троцкого к «культу Льва Толстого» можно считать 1910-1911 гг., когда «Русское слово» решило сделать отдельный выпуск, посвященный великому писателю.
Широко задуманный «толстовский проект», к сожалению, не был осуществлен, хотя, как видно из приводимых ниже текстов, И.М. Троцкий с поручением редакции успешно справился. Его контакты с европейскими литераторами в рамках этого проекта были столь разнообразны и интересны, что воспоминания о них служили ему сюжетами для статей, которые он писал на протяжении более 45 лет.
В одном из своих первых очерков из серии «Воспоминания журналиста»86 И.М. Троцкий пишет:
Это было в 1911 году. «Русское слово», в котором я сотрудничал, готовило юбилейный номер к пятидесятой87 годовщине литературной деятельности Л.Н. Толстого. Мне было поручено привлечь к выступлению в юбилейном издании выдающихся германских <...> писателей. Мне удалось заручиться согласием Герхарда Гауптмана, Германа Зудермана, Альфреда Керра, Бернгарда Келлермана и многих других германских писателей и критиков.
В более поздней статье88 И.М. Троцкий называет иную дату начала «толстовского проекта» и своей встречи с Зудерманом — 1910-й. Что же касается Германа Зудермана, то первой статьей Ильи Троцкого о нем лично была критическая рецензия на постановку в берлинском королевском театре его пьесы «Нищий из Сиракуз» в 1912 г.89 Статья начиналась нелестной характеристикой этого писателя:
Герман Зудерман, недавний властитель дум и литературный корифей, переживает теперь тяжелый период упадка. Его последние драматические произведения одно другого слабее и неудачнее. Нет былого огня, таланта, захвата. Поблекли краски, исчезла яркость, и вместо прекрасного чеканного стиля появился тягучий, скучный, паточный язык.
От реальных, жизненных тем Зудерман отказался. После сантиментально-сладкой трилогии «Розы», провалившейся в Вене и Берлине, он уклонился в сторону исторического сюжета, черпая вдохновение в исторических сказаниях.
Но и здесь ему не везет... Вслед за прошлогодней чрезвычайно слабой драмой «Дети берега» Зудерман выступил с пятиактной трагедией: «Нищий из Сиракуз», поставленной на днях в королевском театре.
Пьеса эта если не лучше, то, во всяком случае, не хуже всего написанного автором в последнее время. Претенциозная, длинная, выдержанная в стиле шекспировских трагедий, она рассчитана на невзыскательный вкус широкой публики. Основная мысль писателя, его желание ярко изобразить трагедию забытости, охватить контраст между героем и толпою — расплывается и совершенно теряется в массе действий. Чувствуется, что Зудерман великолепно владеет техникою сцены, знает психологию немецкой публики, умеет угодить ее вкусам. В пьесе нет настроения, но зато она изобилует эффектами, неожиданностями, а главное — «действием».
Сюжет интересный, и фабула недурна. Развитие действия идет ускоренным темпом. Картина сменяет картину, внося что-то кинематографическое в характер пьесы. Мелодраматическое доминирует над подлинно драматическим. Короче — трагедия написана в немецком вкусе, и отсюда ее успех у публики.
Описав далее сюжетную канву пьесы, И.М. Троцкий делает весьма скептическое заключение о ее художественных достоинствах:
В сценическом отношении пьеса эффектна, но в литературном — она новых лавров не вплетает в венок писателя90.
В 1910 г. Герман Зудерман был еще в зените славы. Однако когда к нему обратился И.М. Троцкий, он, выказав полное уважение к личности Льва Николаевича, заявил:
«— К сожалению, мне придется отказаться от столь лестного предложения вашей газеты. <...> Я слишком высоко ценю и ставлю Толстого как художника, чтобы о нем писать. Философию непротивленства Толстого не приемлю, а о Толстом, художнике, написать несколько избитых истин и банальностей считаю неприличным. На меня, лично, скорее влиял Достоевский, чем Толстой. И вообще мне кажется, что трудно писателю критиковать писателя. И к тому же еще здравствующего. Это дело присяжных критиков. Говорить затасканные трюизмы — неловко, а сказать всю правду — немыслимо. Как бы писатель не был велик, он, прежде всего, писатель. И страдает общечеловеческими слабостями. Я думаю, что и Толстому не чужды горечь, обида и самолюбие. Скажу больше — тщеславие. Вы, вероятно, знаете, что самые тщеславные люди — это писатели, артисты, певцы и художники. <...>
Все мы, если не в равной мере таковы. Не любим, когда нас критикуют, анализируют и выставляют на суд общественный. Проще, не переносим всей правды. Да и кому она, в сущности, нужна? Разве только святым.
Не знаю, что в своих статьях о Толстом написали Брандес, Гамсун и Ришпен91, но думаю, что нового о нем они много не скажут. Гений вашего великого писателя общепризнан. Что к этому прибавить? Изощряться в склонении прилагательного «великий» мне не дано. Все, что я мог написать о Толстом, мною вам сказано. Гонорара мне за это не нужно. Хотите, можете этим свободно воспользоваться. Если русскому читателю ценно мое мнение о Толстом, он помирится и на моем коротеньком, но искреннем интервью.
Так Герман Зудерман о Толстом и не написал. Я его понял и не настаивал.
Беседа с ним, конечно, была опубликована в «Русском слове», а номер <газеты> послан <...> писателю. Впоследствии как-то при встрече он мне лукаво сказал:
— Вот видите, мнение мое о Толстом появилось в вашей газете, и стоить ничего не стоило. Дешево и сердито!
В этой же своей статье Троцкий описывает, как Зудерман среагировал на то, что в начале беседы с ним он:
Упомянул о полученной уже статье Герхарда Гауптмана.
— Вот как, и Гауптман участвует. Поздравляю! К чему же я вам нужен?
И.М. Троцкий посетил Герхарда Гауптмана летом 1910 г. О поездке к всемирно известному немецкому драматургу он написал красочный очерк «В гостях у Герхардта Гауптмана», опубликованный затем в «Русском слове»92. Начинается очерк с описания местечка Гермедорф:
Маленькая станция, застрявшая в отрогах Судетских гор, на прусско-богемской границе. Свежевыкрашенный и чистенький вокзал, словно только что отстроенный. На платформе толкотня, шум и говор. Десятки туристов в костюмах альпинистов, в мягких фетровых шляпах, грубых башмаках, с котомками за плечами и длинными остроконечными палками в руках, осаждают начальника станции. <...>
После шестичасовой тряски в курьерском поезде езда в удобном экипаже, по великолепному шоссе, являлась истинным наслаждением. Дорога все время идет в гору, капризно извиваясь, окруженная с обеих сторон гигантскими хребтами Судетских отрогов. Мы пробираемся в Ризенгебирге (Riesengebirge), в одной из долин которых расположен Агнстендорф, — резиденция Герхардта Гауптмана. Густой, сосновый лес на склонах гор, не растаявший еще снег в ущельях, угрюмые облака, отдыхающие на вершинах, — придают местности какой-то особый колорит спокойствия и торжественности.
Затем читателя радует забавное недоразумение. Возница, узнав, что его пассажир едет к «герру Гауптману», дал ему весьма нелестную аттестацию:
К Гауптману? Да он вас не примет. Это большой чудак! С утра до вечера работает в саду То же самое заставляет делать и свою единственную дочь. Продает втридорога клубнику и землянику держит презлую собаку и почти ни с кем не разговаривает. По вечерам играет на своем корнет-а-пистоне так, что на всю деревню слышно.
Услышав от Троцкого, что
у Гауптмана нет взрослых дочерей, и фруктами он не торгует. Да и зачем бы писателю заниматься этим?
<...> Возница разом остановил лошадей, перевернулся ко мне всем корпусом, быстро осмотрел меня с головы до ног, и лицо его расплылось в улыбку.
— Так вам, значит, к господину доктору Гергардту Гауптману!.. Ха-ха-ха!.. А я вообразил, что вы приехали погостить к «Гауптману» Липинскому. Есть у нас такой чудак, отставной офицер. (Hauptmann — капитан). <...>
Еще не видев Гауптмана, я уже знал, что он — виновник расцвета маленькой горной деревушки, что на него молятся все 720 семейств Агнетендорфа; что его жена — высокая шатенка и прекрасно играет на скрипке, сын — прелестный блондин, с каким-то мудреным старогерманским именем, а он сам — милый и простой господин, охотно входящий в интересы и нужды местного населения.
Далее Троцкий подробно описывает виллу Гауптмана, устроенную «с любовью и вкусом», на которой писатель проводит «большую часть своей жизни»:
Расположенная на высоком холме, она вся теряется в зелени и со стороны шоссе кажется слегка запущенной и хмурой старогерманской крепостью. Круглые башни с остроконечными шпицами, громадные венецианские окна, решетчатые просветы и серые глыбы гранита как-то недружелюбно смотрят на окружающий мир. Нужно пройти громадное расстояние по крутой дороге, чтобы добраться до этого орлиного гнезда. Зато внутренняя обстановка виллы совершенно сглаживает странное впечатление от внешности ее. Трудно представить себе такое сочетание стильности, красоты, изящества, простоты и комфорта.
Вестибюль напоминает по богатству картин, статуй и статуэток — преддверие какого-нибудь музея. Красивые своды и потолки, по стенам деревянные колонны в стиле «Renaissance». Стены почти до самого верха отделаны деревянными рельефами на мотивы германской мифологии. Со стен глядят картины, акварели, пастели, — все оригиналы лучших художников. В углах, на особых постаментах, стоят статуи и статуэтки. К потолку прикреплены модели древних судов, гондол, лодок, в полной оснастке и с сохранением всех мелочей эпохи. Грандиозные окна с цветными стеклами, напоминающие окна храмов, лишены гардин и пропускают ровный и спокойный свет. Он мягко расстилается по массивным дубовым книжным шкафам, удобной мебели, картинам; красиво освещает десятки оленьих рогов на карнизах и не оставляет в тени ни одного уголка комнаты. Мягкий ковер заглушает шаги.
Рабочий кабинет, выходящий тремя окнами в сад, отделен тяжелой портьерой от библиотеки-приемной.
Резкими мазками Троцкий дает описание внешности Гауптмана, которую, по его словам достаточно увидеть раз, чтобы никогда не забыть. Немного выше среднего роста, блондин, с высоким лбом, писатель останавливает на себе внимание с первого взгляда. Изборожденный глубокими морщинами лоб придает лицу и голубым глазам Гауптмана какое-то страдальческое выражение. Лишь временами глаза зажигаются живым и искрящимся огоньком, сразу изменяя и молодое лицо.
В течение всего пребывания в обществе знаменитого писателя между ним и русским журналистом шел интереснейший разговор, затянувшийся до глубоких сумерек.
— Что, Горький все еще живет на Капри? — спрашивал меня Гауптман. — Ему, кажется, нельзя возвратиться в Россию? Жаль!.. Такому бы человеку только в России и жить. С ним мне, к сожалению, не удалось познакомиться, а хотелось бы! Я приехал в Берлин уже после его отъезда оттуда. Громадный талант... Правда, я его последних произведений не читал, и не знаю, как на нем отразилась оторванность от родины. Но уже тех произведений Горького, которые я читал и видел на сцене, достаточно, чтобы судить об его таланте.
Вот со Станиславским и Вл. Немировичем-Данченко я, к удовольствию своему, познакомился. Обаятельные люди, и какие художники! Вообще, должен сказать, московский Художественный театр произвел на меня неотразимое впечатление. Ничего подобного я ни до, ни после него не видел. Такой подбор сил редко где можно найти! Мне Станиславский рассказывал, что мои произведения шли у него с успехом. Крайне обидно, что я не мог присутствовать при их постановках. Представляю себе, как они были прекрасно исполнены! Очевидно, за что Станиславский ни берется, он все проводит талантливо. Я слыхал, что «Синяя птица» Метерлинка прошла с громадным успехом. Воображаю, чего стоила постановка этой фантастической вещи.
Вот у нас совершенно не могут ставить Чехова. Наши художественные вкусы еще слишком грубы, чтобы понимать красоту и настроение чеховских произведений.
В моих «Одиноких людях», которые, как мне рассказывал Станиславский, имели большое влияние на Чехова, я пробовал было ввести настроение вместо действия, но скоро понял несвоевременность подобной попытки.
У нас, в Германии, и сцены нет для чеховских пьес. Два наших театра большой художественной ценности: «Лессинг-театр» — Брама и «Немецкий театр» — Рейнгардта, диаметрально противоположны друг другу по направлению и задачам. Брам — консерватор, твердо держащийся старых традиций и ни в чем не уступающий духу времени. <...> Рейнгардт — художник совершенно иной складки. Он — какой-то беспокойный дух. Все ищет новых путей. Его напрасно обвиняют в подражании Станиславскому. Может быть, кое в чем и есть сходство, но в главном Рейнгардт, несомненно, идет своим путем. <...> И все-таки,
повторяю, этих двух театров недостаточно. Нам нужен средний между ними тип — золотая середина. Короче, такой театр, который мог бы ставить произведения Чехова. Ставить так, чтобы публика его почувствовала, критика поняла. А то ведь у нас теперь каждая постановка Чехова — несомненный и обязательный провал. Нет игры, нет действия, нет настроения! Этого у нас не понимают. <...>
Много у вас в России есть интересного и ценного. Вот, например, балет. В этот раз мне не удалось его видеть, но в прошлом году я им искренно наслаждался. Сколько грации, красоты, техники у исполнителей!
Здесь также чувствуется свежая струя, новые пути. <...> успех вашего балета в этом году в Берлине прямо поразителен!
Далее следует описание вечерней прогулки по саду:
Гауптман шагает слегка согнувшись. Он не только прекрасно говорит, но умеет и слушать. Я ему рассказываю про Москву и Петербург, про русские литературные нравы, и он с большим вниманием слушает и расспрашивает.
— Почему бы вам, г. доктор, не съездить в Москву? У вас в России столько почитателей!..
Гауптман на минуту задумывается, как бы подыскивая соответствующее выражение, затем медленно говорит:
— Я, знаете ли, большой консерватор в своих привычках и привязанностях. Да и к тому еще не человек общества — люблю уединение и покой. Лето провожу здесь, а зиму вблизи Генуи. И так уже много лет подряд!.. Всякая поездка сопряжена с неудобствами, а это выбивает из колеи. Русская же жизнь, по вашим собственным словам, значительно разнится от нашей, а это на мне отразилось бы неважно. Я и в Берлин не большой охотник ездить. Не имею даже там собственной квартиры. <...>
Гауптман, несмотря на свое отшельничество, прекрасно осведомлен о всех мелочах современной политической жизни Европы. Он высказывает верные и меткие мысли и определения о политических деятелях нашего времени.
— Громадный ум — князь Кропоткин. Я много читал из его произведений. Ему тоже нельзя в Россию? Мне кажется, он мог бы принести стране большую пользу. Правда, я далеко не во всем с ним согласен. <...>
Было уже совершенно темно, когда я оставил виллу Гауптмана.
Когда я приближался к своему отелю, меня невольно остановили звуки корнет-а-пистона, разносившиеся по окрестности.
Это играл «гауптман» Липинский, тот самый «чудак», которого мой возница так грубо смешал с тонким и прекрасным Гергардтом Гауптманом.
Статья И.М. Троцкого о встрече с Гауптманом — это, несомненно, культурно-исторический артефакт. Что же касается темы «Лев Толстой и немецкие литераторы», то статьи Гауптмана о нем в портфеле материалов неосуществленного «толстовского проекта» не обнаружено. Да и вообще за все годы литературной деятельности Гауптман написал о Льве Толстом лишь краткий сопроводительный текст — «Zum Geleit» к немецкому переизданию «Крейцеровой сонаты» 1924 г.93, который с большой натяжкой можно посчитать за «статью». Поэтому, упоминая о «полученной уже статье», И.М. Троцкий, скорее всего, выдавал согласие Гауптмана написать таковую за уже имеющийся в реальности его литературный текст. 21 ноября 1910 г. Герхард Гауптман делает запись в своем дневнике94: «Известие Толстой. Смерть. Несколько слов Тагеблатт». Согласно комментарию к этой записи95:
В вечернем выпуске «Берлинер Тагеблатт»96 от 21 ноября 1910 г. (№ 591) опубликован некролог Гауптмана97. Однако уже в утреннем выпуске этой газеты (№ 590) приведено под заголовком «Герхард Гауптман о Толстом» изложение интервью корреспондента московской газеты «Русское слово», которое до сих пор остается не замеченным в библиографиях по Гауптману: «Бегство Толстого не было неожиданностью, оно явилось прямым следствием его учения. Это бегство Толстого для уединения было наипрекраснейшим порывом его живой души. С уходом Толстого Россия потеряла своего Лютера. Он, несомненно, принадлежит к числу величайших реформаторов современности». Далее Герхард Гауптман отметил, что он отнюдь не во всех вопросах разделял точку зрения Толстого. Тем не менее, в силу своей личности, своего гения и величия души Толстой оказал на него очень сильное влияние. Не страх перед смертью, а некий мистический страх явился побудительной причиной его бегства для уединения. Не погрешив против истины, можно сказать, что он решился на побег из-за чрезмерной известности.
Но уже 20 декабря 1910 г. «Русское слово» сообщает со ссылкой на своего берлинского корреспондента, который беседовал с возвратившимся из Италии Герхардтом Гауптманом.
Сообщение о смерти Льва Николаевича произвело на писателя удручающее впечатление. «Россия потеряла своего Лютера, — сказал Гауптман, — а человечество — великого художника и редкую личность. Бегство Толстого из мира меня не поразило, ибо вся его философия основана на отрицании житейской суеты и повседневности. Его уход — прекраснейшее побуждение, дополнившее духовную красоту души его. По моему убеждению, Толстой предчувствовал смерть. Одержимый мистическим страхом, он решил последние минуты провести наедине с душою. Этот заключительный факт ставит его наряду с Буддой и Лютером и другими великими реформаторами. Я во многом расхожусь с Толстым, однако преклоняюсь перед титаническим обаянием его гения. Для России его смерть, несомненно, незаменимая утрата, ибо Толстые не рождаются каждое столетие. Я негодую по поводу кощунственных сплетен о рекламности ухода. Нужно низко пасть, чтобы сметь гиганту духа приписать подобное98.
Итак, совершенно очевидно, что статьи о живом Толстом написать Гауптман не успел. Однако он откликнулся на его кончину некрологом, текст которого первоначально был опубликован в виде интервью И.М. Троцкому. Затем Гауптман выступил с большой статьей в десятилетнюю годовщину смерти русского писателя", а еще через два года, возвращаясь к осмыслению личности Льва Толстого, Гауптман в своем «Zum Geleit»100 пишет, что Толстой раскрывается своими многочисленными сторонами в самых различных проявлениях жизни нашей эпохи.
Мы славим его величие как художника и человека! Его человеческое величие проявлялось в борьбе с самим собой. Для того чтобы достигнуть просветления Шакьямуни или духовного уровня первых христиан он был слишком универсален, и в своем законченном состоянии как художника и человека — слишком велик. Потому ему мешала его сила, а не его слабости <...>. Деяния Толстого — это то, что им было написано; но на всех его произведениях лежит печать гения, оттого они не могут быть примером для подражания. Таким примером является человечность Толстого, его мужество, явленное в этой человечности, его образ мыслей. Живи он сегодня и возвысь он свой голос, слово его услышано было бы даже там, где не слышат ничего. И этот голос звучал бы как призыв к миру, как призыв к действительному непротивлению злу насилием. Если бы вдруг и в наши дни прозвучал подобный голос, он мог бы содействовать успокоению страстей и всеобщему миру.
В 1945-м, подводя итоги своего жизненного пути, Гауптман писал101:
Моя драма «Перед восходом солнца» написана под очевидным влиянием Толстого. На ней лежит явный отпечаток его «Власти тьмы», ее своеобразной, смелой трагедийности.
Затем более категорично: Толстой — мой единственный «крестный отец».
Примечательно, что сам Лев Толстой, ревниво относившийся к сторонним литературным талантам, в целом характеризует произведения Г. Гауптмана как «что-то загадочное и неприятно раздражающее»102.
В 1911 г. И.М. Троцкий опубликовал рецензию103 на постановку Отто Брамом в Берлине новой пьесы Гауптмана «Крысы», и это была, пожалуй, последняя его статья о знаменитом немецком драматурге104, вскоре (1912) ставшем нобелевским лауреатом по литературе:
Каждые два года Герхард Гауптман выступает с новой пьесой на суд берлинского общества и критики. По традиции, новое произведение идет в «Lessing-Theater» <«Лессинг-театр»>, — одном из лучших и серьезнейших театров Германии. Постановка Гауптмана — такое крупное литературное событие, что его не могут ослабить ни слегка померкший талант писателя, ни возмутительные цены на места. За месяц вперед поклонники таланта записываются на билеты, и на первые представления нет никакой возможности достать билет. Даже для печати в этом случае не делается исключений. Поэтому легко себе представить, какой ажиотаж разгорается в последние дни вокруг торговли билетами. Быть на премьере Гауптмана — значит не только познакомиться с новым произведением писателя, но и лицезреть весь литературно-художественный Олимп Берлина. Все, что имеет имя, — налицо. Наконец, сам Гауптман, этот скромнейший из современных писателей, — тоже здесь. Он прячется за кулисами, ожидая приговора. <...> Три последних неудачных произведения автора поставили на этот раз вопрос о таланте писателя. Быть или не быть ему властителем дум?
И Гауптман как будто вышел победителем. <...>
Свое новое детище Гауптман окрестил «Крысами» и назвал трагикомедией. Название нельзя признать удачным; неправильно также назвать эту пьесу трагикомедией. Это — драма, в широком значении слова. В пяти актах перед зрителем проходят сцены жизни современного, большого города, со всеми ея положительными и отрицательными сторонами. Вопиющее социальное неравенство, борьба за кусок хлеба, порок и красота, преступность и жажда подвига, чувства и страсти, — все это яркая картина жизни. Смешное и трагическое идут рука об руку. Нежнейшие душевные эмоции сплетаются с отталкивающей жестокостью. На фоне этих противоположностей разыгрывается драма матери, захватывающая по глубине изображения чувств бездетной женщины.
Далее по тексту журналист пересказывает, «в общих чертах», содержание пьесы, которую, при всем своем уважении
к имени автора, оценивает как весьма среднюю для его драматургии.
Гауптман дал заглянуть за театральные кулисы простым смертным. Но эта сторона пьесы, скак раз>, наиболее слабая. В тех местах, где Гауптман психолог, драматург, — он прекрасен. Стоит ему перейти в область юмористики, — он слаб, бледен и бесцветен.
В общем же, по его мнению «пьеса имела успех средний». Возвращаясь к имени Льва Толстого, отметим, что И.М. Троцкий опубликовал в «Русском слове» от 20 декабря 1910 г. еще несколько корреспонденций из Берлина с откликами деятелей немецкой культуры на смерть великого русского писателя105:
Профессор Людвиг Штейн, лучший в Германии знаток Льва Николаевича Толстого, написавший о нем прекрасный труд106 сказал нашему корреспонденту: — Смерть философа меня не ошеломила. Толстой бежал от самого себя, предчувствуя смерть, которая для него виделась переходом в высший мир. Он боялся, что, под давлением родных, совершит шаг, идущий в разрез с его «святая святых». Он отрекся от мира ради того Бога, которого всю жизнь носил в своей душе. Упрекать Толстого в бессердечности к семье — глупо, он бессилен был справиться с доминировавшей над ним idée fixe. С его смертью человечество потеряло апостола, святого, которого бы в древние времена церковь канонизировала. Ницше, Бьернсон, Ибсен бледнеют перед светлым образом величайшего из современников — Льва Николаевича Толстого. <...>
«Berl<iner> Lok<al>-An<zeiger>»107 в экстренном выпуске первый сообщил печальную весть о кончине великого писателя. Известие произвело тем большее впечатление, что в утренних изданиях сообщалось о перемене к лучшему в здоровье Л<ьва> Н<николаевича>. Телеграммы берутся нарасхват, редакции осаждаются желающими узнать о правдивости этой вести. Зудерман, Левенфельд108, Шпильгаген, Керр, Гарден и многие другие писатели и литераторы просили вашего корреспондента высказать русскому обществу их глубокую печаль по поводу кончены величайшего из современных писателей. Они единодушно говорят, что Толстой умер как пророк, провидец, гений, в полной гармонии с внутренним «я», в согласии с совестью. <...> Старейший публицист Фридрих Дернбург, отец министра и друг Бисмарка, деятель эпохи «Sturm und Drang»109, пишет в газете «Berl<iner> Tagebl<att>«, что произошла трагедия в судьбе Толстого, который не мог освободиться от двойственного существования и которого с одной стороны, преследовали мир, слава, величие, которых Л.Н. Толстой избегал, а с другой — требования семьи, компромиссы с совестью. Эта двойственность вводила многих в заблуждение, будто Толстой живет противно своим взглядам и верованиям. Однако, тот, кто присматривался к нему ближе, убеждался, что основным принципом жизни Толстого было христианство в высоком значении этого слова. Подводя итоги жизни Толстого, нужно признать, что величайшее в Толстом, это — то обаяние, которое он производил на современников. Одновременно с ним жили писатели, равные ему по гению — однако личность его выше других по силе, стойкости и импозантности. Толстой принадлежит к великим освободителям духа. Пошлая повседневность ложной культуры, ненавидимая философом, преследовала его до края могилы, не давая спокойно умереть. Романтик и идеалист при жизни, Толстой таким и умер.
«Скандинавская нота» в публицистике: Георг Брандес и Кнут Гамсун
С личности Льва Толстого произошло вхождение Ильи Троцкого и в скандинавский литературный мир. Как культуртрегер — в самом положительном смысле этого определения, И.М. Троцкий, несомненно, явление уникальное. На протяжении полувека он был деятельным посредником между литературами России и Скандинавии, осуществляя деловые контакты русских писателей со скандинавскими издателями и критиками, представляя русскому читателю информацию «свидетеля времени» о литераторах скандинавских стран. В очерке «Август Стриндберг»110 И.М. Троцкий пишет, что в 1911 г.111 в рамках «толстовского проекта» ему было поручено привлечь к выступлению в юбилейном издании и скандинавских писателей. С этой целью он посетил Георга Брандеса, Хенрика Понтопидана, Иоганесса Йенсена, Сельму Лагерлеф, Кнута Гамсуна и Августа Стриндберга.
В другой, уже цитированной статье112, И.М. Троцкий вспоминает:
От редактора «Русск<ого> слова», беспримерного по своей широте Ф.И. Благова, я имел наказ — платить любой гонорар иностранцам, как бы высоки его размеры не были. Помню, как сейчас, изумление покойного Георга Брандеса, когда на его вопрос, сколько редакция ему уплатит, я ответил — сколько пожелаете.
— А если я скажу пятьсот крон? — Пожалуйста, профессор.
Брандес развел руками и, указывая на горы книг на полках, сказал:
— Знаете, молодой человек, свыше сорока лет пишу, а такого гонорара за статью не получал. К сожалению, привык к другому — к обкрадыванию. Иностранные издатели меня без спроса переводят, но реже платят. Не имей я университетской пенсии, жить не на что было бы. Охотно напишу о Толстом. На гонорар съезжу в Карлсбад.
Статья Г. Брандеса «Толстой как критик» была опубликована в «Русском слове» 17(30) ноября 1910 г., в виде некролога. Однако сам текст был подготовлен Брандесом еще при жизни Льва Толстого по просьбе редакции газеты и являлся расширенной и дополненной версией статьи, написанной им к восьмидесятидвухлетию писателя («Лев Толстой», 1910):
Утверждая, что Толстой «разбудил к мысли великий русский народ», Брандес закончил свою статью словами, признающими огромное воздействие Толстого на развитие всей мировой культуры: «Общий итог его жизни есть и будет: Толстой — мировая сила»
«Скандинавская нота» звучала в литературных и общественных деяниях Ильи Марковича на протяжении всей его последующей жизни. Особую симпатию вызывали у Троцкого шведы, точнее сказать, неприятие шовинизма, терпимость к инакомыслию и доброжелательность, которые демонстрировало тогдашнее шведское общество. В статьях И.М. Троцкого, написанных в эмигрантский период, в адрес шведов сказано много теплых, глубоко уважительных слов.
С другой стороны, для русских интеллигентов поколения «Серебряного века» скандинавская культура имела особое значение, на рубеже ХІХ-ХХ вв. она стала ярким фактом русской культурной жизни. Книги Ханса-Кристиана Андерсена, Бьернстьерне Бьернсона, Сельмы Лагерлеф, Германа Банга, Йенс-Петер Якобсена, Георга Брандеса активно переводились на русский язык и издавались солидными тиражами, а Генрик Ибсен, Кнут Гамсун и Август Стриндберг были культовыми фигурами русской интеллектуальной элиты.
Лев Толстой называл Стриндберга глубоким, «основательным» психологом и, по-видимому, имел с ним личный контакт. Так, в письме Биргеру Мернеру от 19 ноября 1885 г. Стриндберг, предложив перевести на шведский язык роман Чернышевского «Что делать?», добавил: «В случае, если Вы найдете издателя, я охотно напишу предисловие или попрошу это сделать Толстого, с которым я имею связь»114.
Максим Горький со свойственной ему категоричностью утверждавший (в 1910 г.), что «вообще скандинавы — интереснее и серьезнее всех в наши дни»115, в телеграмме, посланной им в «Петербургскую газету» в связи с кончиной Стриндберга (14 мая 1912 г.), однозначно заявил: «Никто никогда не имел на меня такого сильного влияния, как Стриндберг»116.
Что касается Гамсуна, то историки литературы солидарны в том, что в 1907-1910 гг. в России царил настоящий культ Гамсуна117, он «завоевал русскую литературу» до такой степени, что между Гамсуном
и издательством «Знание» был подписан договор, согласно которому издательство приобретало на трехлетний срок (1908-1911) исключительные права на издание произведений писателя (новые произведения Гамсуна должны были выходить в России по крайней мере на два месяца ранее, чем в какой-либо другой стране, включая Норвегию), общие суммы гонораров были оговорены на каждое издание, но при этом должны были выплачиваться регулярно как ежемесячное жалованье как своего рода штатному сотруднику118.
Огромным влиянием и популярностью пользовался в России уже упоминавшийся выше датский литературный критик Георг Брандес, стоявший у истоков российской культурно-исторической школы. Он олицетворял новое слово в критике, способное освежить и оплодотворить русскую критическую методологию119. Интересно, что из русских писателей именно Иван Бунин «с подчеркнутой демонстративностью оставался верен Брандесу на протяжении всей жизни», хотя с середины 1910-х для молодых европейских литераторов эстетические представления этого «настоящего европейца и миссионера культуры» — по выражению Ф. Ницше120, представлялись уже анахронизмом.
Говоря о Брандесе как о поклоннике русской культуры и ее пропагандисте на Западе, нельзя не привести забавную историю, касающуюся его представлений о российской жизни и рассказанную И.М. Троцким в одном из его «путевых очерков» начала 1930-х:
Это было незадолго до <Первой мировой — М.У.> войны121. Я впервые приехал в Копенгаген и посетил Брандеса. Знаменитый писатель уже тогда был семидесятилетним старцем, но чрезвычайно живым и импульсивным. Принял меня Брандес отлично, что, <между прочим>, с ним не всегда бывало.
В качестве гостеприимного хозяина повел показывать столицу. Забрели мы в какие-то довольно грязные и старые улицы, с древними и много на своем веку видавшими домами.
— Здесь селились когда-то евреи. Отсюда вышел и наш знаменитый Гольдшмидт, автор романа «Еврей»122. Сейчас датское еврейство абсолютно равноправно и играет большую роль не только в духовной, экономической и политической жизни Дании, но и в государственной. Мой брат Эдуард — министр финансов...
Я воспользовался случаем, чтобы осветить перед Брандесом бесправное положение евреев в России. Рассказал ему о черте оседлости, процентной норме123, пресловутых желтых билетах124 и прочих прелестях <...> царского режима.
Брандес меня внимательно слушал, но вдруг остановился и, стуча сердито палкой по асфальту, сказал:
— Послушайте, молодой человек, неужели вы полагаете, что я настолько стар и глуп, что поверю всему тому, что вы мне рассказываете? И кто поверит басне, что будто собаке в Киеве, Москве и Нижнем жить можно, а еврею нельзя?
Мне стоило немалых трудов убедить знаменитого критика и историка литературы в том, что я не лжец и не клеветник.
Впрочем, вскоре Брандес на личном опыте убедился в правдивости моих слов.
В 1912 году Брандес решил предпринять литературное турне по России. Русская прогрессивная печать встретила это известие с энтузиазмом. Вот, дескать, узреем Брандеса — человека, открывшего Европе Тургенева, Толстого, давшего непревзойденную оценку Достоевскому. Но, увы, восторгам передового общества прежней России не удалось осуществиться. Охранка распорядилась по-иному. Еврею Брандесу, уже однажды побывавшему в России125, въезд был запрещен.
«Die räche ist süß» — говорил Гейне126. Я написал тогда из Берлина письмо Брандесу, в котором напомнил нашу первую встречу и не без злорадства спросил: «Верит ли он теперь, что собаке жить в Киеве можно, а еврею — нельзя?» <...> мне кажется, что инцидент этот, сильно оскорбивший Брандеса, сказался в дальнейшем и на перевороте во взглядах писателя на еврейство127.
Эту историю И.М. Троцкий через одиннадцать лет пересказал в своей большой немецкоязычной статье «Братья Брандесы (К столетию со дня рождения Георга Брандеса)»128.
Первая часть статьи — панегирик выдающейся роли, которую сыграли Эдвард и Георг Брандес — два датских еврея (на этом факте их биографии Троцкий в трагический период Холокоста делает особый акцент), не только в «истории датского народа и его культуры», но и всей Скандинавии. Троцкий пишет, что в течение более полувека братья Брандесы были ярчайшими представителями либерально-позитивистского, антиклерикального направления общественной мысли в скандинавском обществе.
В частности Эдвард Брандес был известен еще как необыкновенно успешный министр финансов. За четыре года его пребывания на этом посту государственные финансы датского королевства были подняты на «немыслимый уровень» стабильности, валюта обрела статус «наиболее надежной во всей Скандинавии», небывалого расцвета достигла сельскохозяйственная отрасль датской экономики, превратившаяся в крупнейшего европейского экспортера продуктов питания.
Эдвард Брандес в представлении И. Троцкого был также ярким политическим оратором, демократом-идеалистом и патриотом, не искавшим ни титулов, ни почестей, а работающим «за совесть» на благо нации. Вместе с братом он основал газету «Политика», ставшую наиболее авторитетным органом либерально-демократической печати в скандинавских странах и площадкой для старта молодых литературных талантов. Целая плеяда выдающихся скандинавских писателей — Йенс Петер Якобсен, Кнут Гамсун, Хенрик Понтопидан, Сельма Лагерлеф... — своим успехом в начальный период литературной деятельности многим обязаны братьям Брандес. Далее И.М. Троцкий рисует подробный портрет одного из властителей дум конца XIX — начала XX веков Георга Брандеса:
Маленький, худощавый, подвижный как ртуть, брызжущий энергией, он смотрелся всегда гораздо моложе своих лет. Коротко стриженная бородка клинышком, темные пронзительные глаза, проблескивающие всполохами из-под кустистых бровей, придавали его оригинальному лицу, обрамленному седыми волосами, мефистофельское выражение. Он имел даже в Копенгагене прозвище «демоническая личность». <...> Его острого языка боялась вся Скандинавия. Его афоризмы мигом становились популярными и передавались из уст в уста. Язычник, эстет, эпикуреец он боготворил все, что относилось к области литературы и духовной культуры. Он поддерживал личные отношения со многими выдающимися зарубежными деятелями культуры своего времени; его близкими друзьями были братья Гонкуры, Золя, Тургенев, Толстой, Клемансо...
При всех своих многосторонних общественно-политических и культурных интересах и активности Георг Брандес большую часть жизни демонстрировал полное равнодушие к еврейской проблематике. Троцкий рассказывает такой, например, анекдот. Когда младшего Брандеса пригласили участвовать в работе только что образованного Копенгагенского Палестинофильского комитета, где сотрудничали видные представители еврейской и христианской общин Дании, его старший брат Эдвард воскликнул с улыбкой:
Что вы хотите от бедного Георга? Он ведь истинный датчанин и эллин, который ничего общего не имеет с еврейством. Его притягивают Афины, а вы хотите «затащить» его в Иерусалим.
Рассмотрение интересной темы «Георг Брандес и еврейство» выходит за рамки проблематики настоящей книги, но в контексте высказывания И.М. Троцкого необходимо подчеркнуть, что и в либеральной Дании Георгу Брандесу кололи глаза его «еврейской чужеродностью», о чем свидетельствует письмо в редакцию «Франкфуртской газеты» («Frankfurter Zeitung») 1908 г., в котором он писал:
«Если бы мне беспрерывно не напоминали о моем еврейском происхождении, я мог бы и забыть об этом. Удивительное дело! Я слышал тысячу раз о том, что я еврей, и все-таки всякий раз это утверждение является для меня новостью». Б<рандес> утверждает, что «во всей Дании он недавно был единственным неевреем; между тем, того из датчан, который раньше всех и упорнее всех стремился в Афины, без устали влекут обратно в
Иерусалим, которого они сами не в силах выбить себе из головы». Этот упорный и странный отказ от еврейства объясняется тем, что, как «эллин» по своему мировоззрению, Б<рандес> считает еврейство противоположностью эллинизма и одну из своих задач видит в борьбе против «иудаизма, видоизмененного некоторой примесью христианства, коим пропитаны Дания и Финляндия»129.
Однако после дела Дрейфуса, в защиту которого Брандес активно выступал, его взгляды эволюционировали в сторону признания духовной правомерности сионизма130. Этот факт И.М. Троцкий особо подчеркнул в своей статье «Братья Бранд есы»131.
Итак, с конца XIX по двадцатые годы XX столетия в литературном мире России наблюдался «скандинавский бум». Однако сами русские и скандинавские литераторы между собой практически не общались. Известно, что из-за отвратительного характера Гамсуна ни один из русских переводчиков не сумел договориться с ним о личной встрече132.
То же самое можно сказать и о российских журналистах. Пожалуй, единственным из их среды, кто имел в первой половине XX в. активные личные контакты с представителями литературы скандинавских стран, был Илья Маркович Троцкий.
Устанавливать прямые контакты с литераторами скандинавских стран И.М. Троцкий начал с Георга Брандеса, который рекомендовал его затем другим скандинавским литераторам:
Мне было известно о личном знакомстве Брандеса с Толстым, его двукратном посещении «Ясной поляны»133,
— пишет И.М. Троцкий в статье «Кнут Гамсун»134:
— Идея издать монографию, посвященную Толстому, его буквально зажгла. Он с жадностью ловил каждое имя, которое я ему называл, как участника проектируемого издания.
Вскоре русский журналист также перезнакомился со многими наиболее яркими фигурами норвежской литературной богемы,
— в том числе и с Кнутом Гамсуном, который в те годы восхищался Георгом Брандесом. Считал его великим радикалом, провозвестником европейского духа, высшей литературной инстанцией135.
И.М. Троцкий утверждает — и это его замечание вполне совпадает с мнением «гамсуноведов», что Гамсун:
В частной жизни <...> был крайне неуживчив, а по характеру замкнут, упрям, малодоступен и заносчив. <...> Его презрение к людям, самомнение и гордыня росли по мере роста его известности и материального благополучия. К пятидесяти годам его жизни, в эпоху, когда он был в зените славы, Гамсун успел основательно перессориться со многими корифеями скандинавской литературы.
Несмотря на «малодоступность» писателя, их личное знакомство все же состоялось. Как вспоминает Илья Троцкий в своей статье о Гамсуне136,
С Гамсуном меня свел <...> Квидамсон. Встреча произошла в кафе, где-то вдали от шумного центра столицы.
В комнате, насквозь прокуренной табачным дымом, с потолком, низко висящим над головами, сидели за круглым столом Кнут Гамсун, Андреас Хаукланд137, Бьерн Бьерсон и еще несколько человек из писательского мира. Квидамсон представил меня Гамсуну. Беседа велась на немецком языке, на котором, кстати сказать, Гамсун очень плохо говорил138. Зато выделялся Бьерн Бьерсон, на редкость интересный собеседник и талантливый рассказчик. Гамсун больше молчал.
Мое предложение написать статью о Толстом он выслушал с интересом.
— Но что Кнут понимает в Толстом? Это задание по плечу Квидамсону! — съехидничал Андреас Хаукланд, недолюбливавший Гамсуна.
Тот метнул в сторону Хаукланда гневный взгляд, процедив сквозь зубы: «Меня знает в России каждый интеллигентный читатель, но кому там ведомо имя Квидамсона?»
После такого обмена комплиментами для присутствовавших не оставалось сомнений в готовности Гамсуна дать статью для монографии. Окончательный ответ он обещал прислать в ближайшие дни <...>. Два дня спустя в моем распоряжении был этот ответ. Но каково было его содержание? Трудно себе вообразить нечто более наглое и возмутительное.
«О сумасшедшем старичке Толстом не желаю писать. Подпись. Кнут Гамсун».
Естественной реакцией на эту оскорбительную выходку мог быть крупный скандал. А поскольку русское общественное мнение, как правило, крайне болезненно реагирует на неуважение со стороны Запада к своим культовым фигурам, Гамсуну это грозило потерей имиджа. Ведь именно в это время русская критика весьма неодобрительно встретила выпущенную на русском языке книгу его путевых очерков о России139, увидев в ней «немало наивностей, неточностей, а иногда и просто ошибок». Даже такой горячий поклонник Гамсуна, как А. Куприн, сетовал: «Увы! талантливый писатель все-таки не избежал здесь исторической клюквы и самовара»140.
Судя по рассказу И.М. Троцкого, норвежские литераторы были шокированы выходкой Гамсуна не менее, чем сам журналист:
Возмущенные его недостойным поступком, они меня буквально умоляли не оглашать письма и избавить литературную семью Норвегии от скандала.
Лишь много лет спустя я рассказал в печати об этом позорном инциденте, который Гамсун, кстати, никогда не опроверг.
В статье «Каприйские досуги» И.М. Троцкий пишет,
что Бьерн Бьерсон, авторитетный журналист и театральный деятель, и вдобавок сын знаменитого писателя, классика норвежской литературы, ознакомившись с содержанием письма Гамсуна, умолял меня не предавать его гласности.
Однако из упоминавшейся выше статьи И.М. Троцкого141 следует, что о выходке Гамсуна он все же вскоре рассказал писателю Зудерману, который отреагировал на это словами «Нехорошо! Очень нехорошо!».
Но в печать, благодаря порядочности И.М. Троцкого, информация об этом не просочилась и скандал удалось замять.
Однако Илью Троцкого, для которого Лев Толстой являлся символом величия русской литературы, а то и культуры в целом, выходка Гамсуна задела буквально за живое. Он всю свою жизнь не мог ее ни забыть, ни простить. К тому после Второй мировой войны Гамсун однозначно стал персоной нон грата142.
И вот спустя полвека, стоя уже «у гробового входа», он вновь вспоминает этот инцидент в статье «Каприйские досуги»:
Произведениями <Кнута Гамсуна> русский читатель в ту пору упивался. Московский художественный театр удостоил Гамсуна постановкой двух его пьес: «У врат царства» и «У жизни в лапах». И этот потенциальный наци и предатель <sіс!> позволил себе в такой обидной и недостойной имени Толстого форме отклонить <свое> участие в антологии.
В наши дни антитолстовский выпад Гамсуна смотрится банальной акцией художника-модерниста, демонстративно низвергающего очередного классика «с парохода современности».
Молодой Гамсун позиционировал себя как бунтарь, ницшеанец, ниспровергатель авторитетов и борец с фальшивой моралью, процветающей в насквозь прогнившем и, по его мнению, вырождающемся индустриальном обществе. Его буквально бесило, что Толстой — превозносимый во всем мире классик русской литературы, вдобавок ко всему стремился быть вождем, «мыслителем и учителем жизни». «В сказочном царстве» он запальчиво объявляет:
Что мне, насколько я понимаю, не нравится, это — попытки великого писателя стать философом. Это превращает его творчество в позу. ...Философия Толстого является смесью старых банальностей и его собственных, удивительно несовершенных затей143.
Отметим еще несколько «знаковых» фактов.
Во-первых, в эпоху ницшеанского и скандинавского бума «в России был и человек — и очень даже известный человек, — который никогда не восхищался ни Ницше, ни Ибсеном, ни Гамсуном. Это был Лев Толстой»144.
Во-вторых, Гамсун всю жизнь активно отстаивал концепцию субъективной прозы, утверждая при этом, что писатель — это своего рода психоаналитик, занимающийся скрупулезным исследованием души современного человека. Из русских писателей, по его мнению, с этой задачей блестяще справился только Достоевский:
Никто не проник так глубоко в сложность человеческой натуры, как Достоевский, он обладал безупречным психологическим чутьем, был ясновидцем. Нет такой меры, которой можно было бы измерить его талант, он — единственный в своем роде145.
В-третьих, Гамсун в молодости был способен на всякого рода эксцентричные выходки, и на этот счет существовало много анекдотов. В своих же оценках писатель часто руководствовался сиюминутным настроением. Так, в одном из писем Дагни Кристенсен он — человек, публично заявлявший: «Достоевский — единственный художник, у которого я кое-чему научился, он — величайший среди русских гигантов», — с пафосом восклицает:
Меня поражает, какой плохой мыслитель Достоевский, такой же плохой, как и Толстой. Нашим европейским мозгам трудно понять болтливое несовершенство этих двух великих гениев146,
— а в 1928 г., когда в Советском Союзе отмечалось 100-летие со дня рождения Толстого, Гамсун в ответ на просьбу от Министерства культуры высказаться по этому поводу сразу же направил телеграмму, в которой говорилось:
Я глубоко чту память о Толстом147.
«Скандинавская нота» в публицистике: Стриндберг и Эллен Кей
Что же касается Августа Стриндберга — человека еще более конфликтного и склонного к эпатажу, чем Гамсун148, страстного полемиста, умевшего, как никто другой, наживать себе врагов, то И.М. Троцкий, будучи в личном плане его полной противоположностью, тем не менее испытывал к нему симпатию. Это чувствуется из тона его статей «Август Стриндберг» и «Встреча со Стриндбергом», в которых он описывает свою встречу с ним в 1910 г., состоявшуюся в связи с тем же заданием редакции «Русского слова» в рамках «толстовского» проекта, о котором речь шла выше.
Статья «Август Стриндберг» начинается с забавного анекдота из серии «Истории о писателях»:
В Христиании, на Театральной площади, у входа в Национальный театр высятся два великолепных памятника: Бьернстьерне Бьернсона и Генриха Ибсена.
Еще при жизни писателей благодарные норвежцы поставили им памятники. <...>
Норвежцы рассказывают, что жизнерадостный и кипучий Бьернстьерне Бьернсон, проходя мимо своего памятника, неизменно снимал перед ним шляпу, приветствуя возгласом: «Здорово, старина!»
Нелюдимый и угрюмый Ибсен, наоборот. Только один раз посмотрел на свое бронзовое отображение, круто повернулся и ушел, и с тех пор далеко обходил свой памятник. <...>
Мне вспомнились Бьернсон и Ибсен лишь по ассоциации, когда я в Стокгольме разыскивал следы внимания шведов к их не менее знаменитому корифею скандинавской и мировой литературы — Августу Стриндбергу. Тщетны были мои поиски.
Скоро десять лет, как Стриндберг умер, но ни шведская общественность, ни шведский литературный мир ничем не проявили желания увековечить имя крупнейшего из скандинавских художников пера. В прежней квартире Августа Стриндберга на Drottninggattan (улица Королевы) <...> живет сейчас какой-то мирный шведский купец, имеющий очень смутное представление о значении и творчестве покойного писателя, а на фасаде дома, не видно хотя бы скромной дощечки с надписью, — что здесь, мол, жил, творил и скончался Август Стриндберг149. <...> Меня изумило такое отношение к Стриндбергу. Шведы не только дорожат своими выдающимися людьми, но и умеют их ценить. В Стокгольме, Гетеборге, Мальме не найдется ни одной свободной площади, на которой не красовался бы тот или другой монарх, государственный деятель, народный борец, писатель, художник или композитор.
Тем более поражает это сознательное забвение Стриндберга150.
Далее в этой же статье И.М. Троцкий с явным восхищением рисует обобщенный образ этого, по его определению, «мрачного художника»:
...рядом с поэтом, драматургом, беллетристом и едким сатириком в вулканической натуре <этого человека> уживался строгий мыслитель, химик и лингвист, <чья> эрудиция была всеобъемлюща. Он написал историю шведского народа, обнародовал работу по китайскому языку, написал труд об отношении Швеции с Китаем и татарскими народами, обративший на себя серьезное внимание Парижской академии наук. Стриндберг был превосходный садовод, исследователь, обладатель изумительных по разнообразию и богатству гербария и аквариума. Он работал по восемнадцать часов в сутки и мозг его как будто не знал усталости. <...>
После скитания по Франции и Италии и многих лет жизни в Германии Стриндберг доживал свои последние годы в Стокгольме. Он жил отшельником, никого почти не принимал, прекратил даже переписку со своими прежними друзьями <...>, <но> не мог отказаться от одного — резкой и страстной полемики со своими противниками. Полемики, отравившей закатные дни его бурной жизни и безмерно умножившей число его врагов. <...>
Мой приезд в Стокгольм случайно совпал с моментом, когда покойный писатель скрестил шпаги со своим соотечественником, популярным путешественником и исследователем Тибета — Свеном Гедином.
Суть конфликта состояла в том, что Стриндберг фактически обвинил ученого-путешественника в мошенничестве, утверждая, будто тот не сделал никаких открытий, а все его публикации о Памире — фантазии.
Со своей стороны Гедин,— не менее страстный полемист,
не остался в долгу и, со своей стороны, воздвигнул против Стриндберга гору обвинений в научном дилетантизме, сознательном извращении истины и преднамеренном желании скомпрометировать его во мнении научного мира Европы. <...>
Научный и литературный Стокгольм раскололся на два лагеря: гединистов и стриндбергистов. Последних было очень немного и ряды их с каждым днем таяли.
Газеты, за небольшим исключением, поносили Стриндберга на все лады и клеймили его, как клеветника и злостного инсинуатора.
Дальнейший текст, в котором описываются события тех лет, в обеих статьях Ильи Троцкого практически идентичен. Ниже цитируется более поздняя — «Встреча со Стриндбергом» (1929).
Для меня, человека со стороны, полемика эта казалась «в чужом пиру похмельем». Мне обидно и больно было за любимого писателя, и я всячески старался держаться в стороне от этого «домашнего спора», в котором, по правде говоря, и смыслил мало.
Я написал Стриндбергу письмо с просьбою меня принять и в тот же день получил приглашение его навестить.
Большинство моих литературных знакомых принадлежали к враждебному Стриндбергу лагерю <...> <и> не скрывали своих к нему чувств.
— <...> Этот человек в своей ненасытной ненависти к людям никого не щадит. Он опасный лицемер, страдающий манией величия, и его необходимо обезвредить. Да, мы знаем, что Германия и Россия от него в восторге, что на него там молятся. Все это прекрасно, но от этого нам не легче... Он оскверняет собственное гнездо...
Моя защита Стриндберга подливала лишь масла в огонь. <...> Корректные и гордые шведы не могли мириться с демоническим началом, определившим натуру Стриндберга151.
В статье «Август Стриндберг» (1923) И.М. Троцкий по памяти рисует подробный словесный портрет знаменитого шведского писателя:
И вот я в кабинете у Стриндберга. Как сейчас, хотя этому уже двенадцать лет, вижу высокого грузного старика с выпуклым лбом, стальными серыми глазами и нервным ртом, прикрытым седыми свисающими усами. Две поперечные складки на лбу, сходившиеся у переносицы, придавали лицу выражение глубокой трагичности152.
Как подчеркивает в своих статьях И.М. Троцкий, Стриндберг был категорически не согласен с клишированными определениями его личности как опасного смутьяна, человеконенавистника и скандалиста, сознательно очерняющего в своих писаниях образ человека, который согласно иудеохристианской духовной традиции является отражением Творца. Свою аргументацию, явно учитывая национальность собеседника,
Стриндберг строит на примерах из русской литературы, не забывая при этом — что весьма показательно! — в одном ряду с Достоевским, Толстым, Чеховым и Горьким поставить также имя своего норвежского коллеги Кнута Гамсуна:
«Достоевский, мир которого простирается между Богом и дьяволом, небом и адом, вылавливает из человеческого моря Карамазовых, Раскольниковых, Мышкиных, Свидригайловых и Смердяковых — людей с явным психопатологическим уклоном. А, между тем, все это живые люди. Они среди нас: на улицах, в домах, в ресторанах, в театрах, повсюду... Герои Достоевского — страдальцы. У них искаженные лица, они корчатся в судорогах мук, живут в лихорадочном бреду, губят свои и чужие жизни. Но разве кто-либо сомневается в подлинности этих людей, в их наличии в жизненном быту?
Толстой взирает с любовью на Анну Каренину, по-отечески грустит по рано погибшей маленькой княгине Болконской, недоволен Левиным, творит Нехлюдова. Чехов с сатирической улыбкой на устах зарисовывает своих обывателей и мещан. Горький устами Сатина утверждает, что «человек — звучит гордо». Гамсун в «Голоде» бросает вызов бездушному человечеству.
А я устами своего «фантастического звонаря»153 заставляю говорить так называемое «всечеловечество». В чем здесь усматривают ипохондрию и человеконенавистничество? Конечно, я не смотрю на мир через розовые очки и не пью подсахаренной воды. Рисую людей таковыми, каковы они суть. И если в моем изображении люди вырисовываются негодниками, лицемерами и обывателями, то такова, по-видимому, их природа».
Стриндберг говорил долго и страстно. <...> Его речь была беседою человека с самим собою, криком души в темной ночи. <...> Статьи о Толстом он не написал. Отказался»154.
Стриндберг с молодых лет страдал тяжелым психическим расстройством. С годами болезнь прогрессировала. Описывая и анализируя ее симптомы, философ Карл Ясперс, бывший и крупным психиатром, ставит диагноз «шизофрения». Когда Троцкий навещал Стриндберга, тот находился в крити
ческой фазе своей болезни. Сам факт, что писатель принял у себя дома русского журналиста и имел с ним продолжительную интеллектуальную беседу — пусть и состоящую в основном из его монолога, однако с глазу на глаз, уже был чудом. Вот, к примеру, описания нескольких попыток подобного рода общения со Стриндбергом в последние годы его жизни, приведенные в книге Ясперса.
<В 1907 г.> Стриндберга разыскал Макс Рейнхардт. «Стриндберг, однако, его не принял. Как он сказал, он никого не принимает, он просто не выносит, когда на него кто-то смотрит! Он даже отказался появиться на балконе по случаю большой манифестации рабочих в его честь, несмотря на то что депутация от них приходила трижды... Он, однако, был в эти дни словно бы чем-то возбужден. К большому удивлению немногих близких к нему людей, он даже прошелся со мной по улицам Стокгольма... Но поначалу наотрез отказался зайти ко мне в Гранд-отель — хотя бы в порядке ответного визита вежливости. «Я не умею тебе объяснить, почему я не хочу идти. Это словно какой-то злой рок!» В конце концов как-то вечером он все-таки пришел. Когда я подвел его к заранее заказанному столику, он сказал: «Смотри! Это тот стол, за которым мы последний раз сидели с моей женой. Я знал, что ты непременно выберешь этот стол. Потому и отказывался». Это было совершенно в его духе: его мистицизм цвел пышным цветом... Он дошел до того, что рассказал мне, как он своими ночными молитвами перед распятием замолил одного скверного человека до смерти». <...> Автор еще одного сообщения <...> попытался посетить Стриндберга в 1911 году. «Я знал, что получить доступ к Стриндбергу трудно... Он жил совершенно один, почти прячась от людей, и отворял дверь лишь нескольким близким друзьям... Собственно, почти никто не знал, где он живет; одни полагали, что Стриндберг серьезно болен, другие — и таких было большинство — что он страдает манией преследования и к нему не следует приближаться. <...> На следующий день я его разыскал. На двери не было никакой таблички, шнурок звонка был снят. Я трижды — словно по уговору — постучал в стену возле дверной рамы и стал ждать. По прошествии некоторого времени планка на щели почтового ящика, прорезанной всего в каком-нибудь метре от пола, осторожно приподнимается сизоватым пальцем, и в щели появляются глаза и седая бровь. «Я пришел, чтобы засвидетельствовать свое почтение одному из могущественнейших шведов», — говорю я и просовываю в щель мою визитную карточку. Снова проходит много времени. За дверью — мертвая тишина; я стою, не шевелясь, и жду; я чувствую, что этот одинокий поэт стоит по ту сторону двери, прикидывает так и этак и колеблется.... Наконец дверь тихонько отворяется, и появляется Стриндберг. Он пристально на меня смотрит. «Я болен, — говорит он шепотом, — Я, вообще-то, никому не открываю»155.
В заключение статьи «Август Стриндберг» И.М. Троцкий пишет:
Стриндбергу — художнику поставит памятник потомство, для которого герои его драм и романов будут не скопированные из шведской повседневности еще живые и знакомые люди, со всеми их слабостями и недостатками, а бессмертные стриндберговские образы156.
Это предсказание русского журналиста сбылось ровно через девятнадцать лет. В 1942 г. в стокгольмском парке Тегнерлунден (Tegnërlunden) Стокгольма был открыт памятник Стриндбергу работы Карла Эльда. Скульптор создал экспрессивный монумент, на котором Стриндберг символически изображен в виде отдыхающего обнаженного титана, прорвавшегося на волю из толщи огромной скалы. Следует отметить, что, относясь к Стриндбергу с большим пиететом, И.М. Троцкий, тем не менее, написал немало суровых строк в его адрес. Так, например, он сурово осуждает писателя за женоненавистничество и нападки на Эллен Кей157 — всемирно известную христианскую пацифистку и сугубо реалистического литератора, которая была по духу ему куда ближе, чем параноидальный экспрессионист и мистик Стриндберг.
Свою первую статью об Эллен Кей — репортаж о посещении писательницы на ее вилле в местечке Странд, И.М. Троцкий опубликовал еще в далеком 1910 г.158 Текст написан в характерной для журналиста импрессионистической манере, крупными мазками:
Обрывистые скалы, покрытые могучими соснами, крутые тропинки, извилистые серебряные ручейки, звонко падающие в шхеры и причудливо извивающиеся между камнями. Панорама первобытной красоты.
Тронулись в путь. Более часа блуждали мы по безмолвному и прохладному лесу, топкому мху, капризным дорожкам, пока достигли заповедной виллы, прилепившейся над обрывом горы. Из-за деревьев густого сада выглянул небольшой двухэтажный домик в старо-шведском стиле, с бельведерами, башенками и балкончиками, выкрашенный в красный цвет и покрытый черепицею.
Обстановка усадьбы до чрезвычайного скромна и изящна. Много прекрасных цветов, картин, бесконечное количество книг и море живых цветов.
— Очень, очень рада вас видеть, господа!.. Усаживайтесь... Добрались-таки... Ко мне не всякий отваживается пробраться. Отпугивают горы. Я уж привыкла...
Эллен Кей говорила не спеша, мягким, грудным голосом, и ее живые черные глаза искрились живой, мягкой улыбкой. Глядя на здоровый румянец писательницы, сохранившуюся фигуру и молодые глаза, как-то не верится, что ей уж скоро стукнет шестой десяток, и лишь совершенно седые волосы выдают ее преклонный возраст.
Подыскивать тему для разговора не приходилось. Эллен Кей, после первых обычных расспросов и обмена впечатлениями, заговорила о женском воспитании. <...>
— Я поставила себе целью жизни, по мере сил и возможности, пером и словом способствовать расширению тех социальных рамок, в которые втиснута женщина. Бороться против уродливости воспитания современной европейской женщины необходимо всеми доступными нам средствами. При высокой культуре Франции и Германии, эти две страны, например, не перестают культивировать ограниченных, самодовольных женщин-кукол и женщин-кухарок. <...>
Как это ни странно, но факт тот, что даже самый культурный европеец старается если не совсем обойти вопрос женского равноправия, то по возможности отодвинуть его на задний план. Эмансипация женщины, в широком значении этого слова, должна быть завоевана самою женщиною. Достичь же этого возможно лишь путем разумного, правильно поставленного воспитания. Необходимо с ранних лет убить в девушке мысль, будто она рождена лишь только для того, чтобы служить аппаратом, продолжающим род человеческий, и чтобы жить на иждивении у мужчины. Материнство ни в какой мере не мешает женщине работать на общественно-политической арене. Это так ясно и старо, что доказывать верность подобного тезиса значило бы ломиться в открытые двери. <...>
Сумбурность русской жизни, по-моему, принесла женщине громадную пользу. Пусть вам мои слова не покажутся парадоксом. В водовороте политических страстей русская женщина удивительно быстро отыскала свое место. Все это, заметьте, при условиях примитивнейшего воспитания. Теперь представьте себе, в какие формы при систематическом воспитании выльется общекультурная работа женщины, если с нее снимут цепи запретов и откроют двери ко всем отраслям политическо-общественной жизни... <...>
Долго еще на эту тему говорила симпатичная писательница, горячо доказывая право женщины на всестороннее развитие своего интеллектуального «я» и взывая к печати поддерживать ее в этом стремлении.
В некрологе же И.М. Троцкий, забыв, по-видимому, об этом своем первом посещении писательницы, писал:
С Эллен Кей мне <довелось — М.У.> встретиться несколько раз. Впервые я ее слышал в 1911 г. на пацифистском конгрессе в Стокгольме. Она выступала с речью на банкете делегатов конгресса <...>она говорила о мире и разоружении. Говорила со всей убеди-
тельностью гуманистки и противницы войны. В ее словах звучал подлинный пафос. <...> покойная писательница Берта Зутнер, автор романа «Долой оружие», <...> трепетала от волнения.
— Вот то, чего я не сумела высказать в своей книге. Вот кому следует проповедовать идеи мира!..
Впрочем, чего только не проповедовала Эллен Кей!? Она являлась неустанной поборницей женского социального и политического равноправия. Близко стояла к рабочему движению, боролась против огрубения литературных нравов, насаждала гуманизм в его чистейшем виде.
В своих исследованиях творчества Гете она обнаружила <...> недюжинные способности мыслителя. <...>
Стриндберговский роман-памфлет «Черные знамена» <...> вызвал незалечимый надрыв в душе Эллен Кей. В героине романа Пай, Стриндберг со всей мощью своего мрачного таланта <...> изобразил ее злым демоном и исчадием ада. <...> Ответом покойной писательницы на непростительную выходку Стриндберга явилось молчаливое удаление из Стокгольма. Она ушла из центра бурлящих литературных страстей <...> в провинциальную глушь, где тихо работала и творила.
И маленькое местечко Странд, куда Эллен Кей удалилась, стало помимо ее воли литературной «Меккой», шведской «Ясной поляной». Кто только не приезжал в далекое северное убежище <...> писательницы? Из каких стран света не наведывались туда интеллектуальные пилигримы, искавшие общения с престарелой мыслительницею? Шведы, французы, русские, англичане, американцы и даже японцы и китайцы находили в Странд дорогу. <...>
...культ обожания голого, — говорила мне в одну из <наших> встреч <...> писательница, — шокирует. <...>
Вечные ценности в литературе и искусстве определяются не модою и не успехом сегодняшнего дня. Бернард Шоу тоже борется против губительных условностей одряхлевшего английского общества. И ваши Толстой, Достоевский и Горький тоже против извращенной общественности. Но едкая сатира Шоу, религиозная этика Толстого и острый психоаналитический нож Достоевского проникают в самые глубины человеческого самосознания. Они не оскорбляют элементарного эстетического чувства, не заставляют отворачиваться, а действуют облагораживающе. Я сама всю жизнь искала новых путей. Но разве новаторство, реформизм и «богоискательство» требуют «оголения»?
С точки зрения характеристики личности самого И.М. Троцкого представляется важным отметить, что разделяя в целом нравственную и литературную позицию шведской писательницы и осуждая женоненавистника Августа Стриндберга, он, тем не менее, не склонен умалять величие его литературного гения. Более того, Троцкий всячески старается выставить поступки Стриндберга в лучшем свете, обращая внимание читателя на его оправдательные высказывания:
Мне не могут простить романа «Черные знамена». Утверждают, будто Густаф аф-Гайерстам покончил из-за этого романа с жизнью, а Эллен Кей ушла от людей. Вздор! Герой «Черных знамен» тип собирательный, а героиня Пай только по созвучию сродни Кей. Я не пишу памфлетных романов.
Весьма интересным в контексте «русской нобелианы»159 представляются приводимые И.М Троцким высказывания Стриндберга о том, что «Горький достоин Нобелевской премии». В более поздней статье «Каприйские досуги» он, развивая эту тему, цитирует слова Стриндберга, который заявляет, что
не задумался бы выступить с предложением о присуждении нобелевской премии Горькому. И если я этого не делаю, то виной тому мой конфликт со Свен Гедином. Он настолько обострен, что всякая инициатива, исходящая от меня, сразу же подвергается уничтожающей критике влиятельных поклонников Свен Гедина. К чему же обрекать Горького на роль жертвы наших внутренних распрей.
Как мы уже знаем (см. раздел «Максим Горький»), в 1912 г. И. Троцкий рассказал об этом Горькому лично во время своего визита к нему на Капри в компании с И.Д. Сытиным160.
Сам Горький высоко ценил Стриндберга. В своем кратком некрологе о нем (газета «Dagens Nyheter», Stockholm, 15 мая 1912 г.) он писал:
Август Стриндберг был для меня самым близким человеком в европейской литературе, писателем, наиболее сильно взволновавшим мое сердце и ум»161.
Стриндберг пытался трансформировать литературу в науку, цель которой — экспериментальное исследование «анатомии души»162. И.М. Троцкий приводит высказывания писателя на эту тему, в том числе и его слова о «человеческой сущности»:
По моему мнению, человек таит в себе столько звериного, атавистического и первобытного, что никакою цивилизациею из него этого не искоренить. Разумеется, исходя из подобной предпосылки, трудно мне изображать людей, как прообраз Божий.
В 1928 г., когда в Европе расцветал тоталитаризм, высказывания Стриндберга звучали как пророчества, и русский журналист, уверяя читателя, что
...шведская общественность Стриндберга-человека простила. Простила человеческие недостатки великого художника и драматурга, лично страдавшего от своей гениальности и недюжинности,
— причисляет его имя к списку «Толстой, Достоевский, Ибсен, Бьернсон, Сельма Лагерлев», — тех, кого принято называть «гуманистами», и кто, по мнению Эллен Кей, будут читаться и через двадцать и через тридцать лет, — ибо творчество этих писателей, — пребывает под знаком вечности.
Осип Дымов
Окончив Екатеринославское Высшее горное училище, И.М. Троцкий какое-то время проходил военную службу в Севастополе, в качестве вольноопределяющегося. В это же время он начал публиковать свои первые статьи в газете «Крымский вестник». Затем, как уже говорилось, он обретается в Петербурге, где заводит литературные знакомства и сотрудничает с газетой «Русь». Эти факты он сообщает в биографической справке, написанной им при вступлении в парижскую масонскую ложу «Свободная Россия» в 1937 г.163 В 1905 г. И.М. Троцкий уезжает из Петербурга в Вену, чтобы, как это было принято среди выпускников тогдашних русских высших учебных заведений, довершить свое образование в Европе. В то время столица Австро-венгерской монархии, претендовавшая на роль «культурного центра» немецкоязычной Европы, переживала свою «золотую осень».
И.М. Троцкий поступает вольнослушателем в Венский политехнический институт на факультет «Машиностроение» и одновременно — по свидетельству Осипа Дымова164, тоже в 1907 г. объявившегося в Вене, подвизается в качестве «сотрудника венских газет (больших)».
Фигура Осипа Дымова сегодня практически не появляется на литературном горизонте: как прозаик и драматург он прочно и незаслуженно забыт. И только солидное подробно комментированное Владимиром Хазаном издание Иерусалимского еврейского университета Осип Дымов «Вспомнилось, захотелось рассказать... Из мемуарного и эпистолярного наследия», дает представление об этом удивительном человеке, писавшем на двух языках (русский и идиш), дружившим с самым широким кругом выдающихся деятелей русской культуры, многие из которых — Леонид Андреев,
А.Н. Толстой, А. Волынский, Собинов, Шаляпин, А.С. Суворин, Мейерхольд, Вл. Ив. Немирович-Данченко... — не только считали его «своим», но и — что в художественно-артистической среде явление редкое! — по-настоящему любили.
От рождения он звался Иосиф Исидорович Перельман, но, решив быть русским литератором, посчитал необходимым дистанцироваться от своей «биографической данности» и обзавестись псевдонимом. Помог ему в этом Чехов со своим рассказом «Попрыгунья», в котором фигурирует некто «доктор Дымов» — человек милый, деликатный, трудолюбивый, но, по мнению ярких личностей, составлявших окружение его жены, ничем особо не примечательный. И лишь после его трагический смерти оказалось, что это «был великий, необыкновенный человек. Какие дарования! А какая нравственная сила! Добрая, чистая, любящая душа, — не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил...» Трудно судить, как глубоко персонифицировал себя Осип Перельман с любимым героем Чехова, но с псевдонимом он сжился настолько, что он стал фамилией его семьи: его жена, и дочка по жизни тоже были Дымовыми».
И.М. Троцкий писал165, что Имя Дымова появилось в литературе в ту эпоху, когда первые ряды на русском Парнасе, рядом с Л.Н. Толстым, занимали такие корифеи, как Чехов, Горький, Бунин, Андреев, Мережковский, Куприн, Сологуб, а в поэзии Бальмонт, Брюсов и Гиппиус.
В отличие от своих старших собратьев по перу и хороших знакомых Дымов не являлся ни «властителем дум» русского общества, ни глашатаем нового литературного направления. В его новеллах и рассказах царил камерный мир, стихией которого были «клочки» событий, настроений, переживаний, — «коротенькие образы, коротенькие мысли, коротенькие чувства и мелькание, мелькание, мелькание без конца»: суть этого мира К.И. Чуковский назвал «мистицизмом обыденности»166.
Многогранно и разнообразно одаренный Дымов оставил след в различных литературных жанрах: как тонкий импрессионист-прозаик (<сборник рассказов> «Солнцеворот»), как даровитый и плодовитый сатирик и юморист, как автор социальной повести в традициях классического реализма (<...> рассказ «Бунтов-щики»), наконец, как писатель романист167. Однако, возможно, наибольшую известность он приобрел как драматург, театральный деятель168.
В 1905-1913 гг. Осип Дымов был и одним из самых известных публицистов в России. Его имя как автора политических фельетонов было на слуху у читающей публики, ему даже начали подражать.
Замечательный рассказчик, обладавший даром подражания, талантливый рисовальщик-шаржист169:
Живой, остроумный и общительный, имевший обширный круг друзей и знакомых170,
— «Дымок», долгие годы студент, а затем выпускник Петербургского лесотехнического института, был завсегдатаем петербургских художественных салонов, театральных премьер и прочих мероприятий в столице Российской империи. Его любили, привечали:
Не потому, что он говорит особенно умные вещи или проводит необыкновенные идеи. Нет, он попросту умеет смеяться, умеет вызывать хороший бодрый незлобивый смех, а это большое качество в наше время171.
И.М. Троцкий вспоминает:
Искусством имитации он обладал в совершенстве. Ему легко удавалось улавливать смешные черты характера и заострять их до гротеска. Помнится сценка в доме князя Эристова172 в былом Петербурге, служившем подобием литературного салона, где Дымов, по просьбе гостей, демонстрировал искусство перевоплощения <...> — литературный диспут с участием Куприна, Арцыбашева, Пильского, Чирикова, Мужейля, Шолома Аша и издателя Ладыжникова, тут же присутствовавших. Шел разбор нового произведения Сергея Ценского. Дымов единолично изображал каждого из участников. Арцыбашев был туг на ухо и говорил бабьим голосом... Куприн, слегка навеселе, сыпал остротами. Ладыжников — страдал косноязычием, с трудом выдавливая фразу. Шолом Аш, ужасающе коверкая русскую речь, пытался сказать что-то свое о Ценском.
Мастерский показ в «кривом зеркале» каждого из мнимых участников диспута вызывал взрывы хохота. Громче всех смеялись живые оригиналы дымовских пародий173.
В другом месте174 И.М. Троцкий, вспоминая колоритную картину берлинской салонной жизни 1910-х, описывает вечера в доме знаменитого музыканта и дирижера Сергея Кусевицкого. Он рассказывает, как на знаменитых «четвергах» в берлинском особняке четы Кусевицких Осип Дымов потешал гостей и самих хозяев:
Сколько смеха и неподдельного веселья вносил он в эти вечера своим брызжущим юмором и даром имитатора! Как неподражаемо хорошо имитировал он Шаляпина, Собинова, Рейнгардта, художника Клевера, скульптора Судьбинина... Даже строгий Рахманинов или замкнутый Артур Никиш не могли удержаться от смеха.
Как литератор Дымов был на редкость плодовит, и, как отмечалось выше, повсеместно востребован. Он сотрудничал в таких значительных журналах, как «Театр и искусство» (его издатель и редактор Александр Кугель — крупнейший знаток русской сцены, эксперт и один из самых авторитетных русских театральных критиков первой трети XX в., — во многом способствовал становлению литературной карьеры молодого писателя), «Сигнал», «Сатирикон», «Аполлон», в газете «Русское слово», его пьесы и ставили на сцене московского Суворинского (иначе: Малого) театра, петербургского Нового драматического театра, в московском театре К. Н. Незлобина... Одновременно еще больший успех сопутствовал Дымову-драматургу за рубежом. Так, его самая знаменитая пьеса «Ню» впервые была показана на немецкой сцене: ее премьера состоялась 17 марта 1908 г. в берлинском камерном театре «Каммершпиле» (Kammerspiele), главным режиссером которого был знаменитый реформатор театрального искусства Макс Рейнгардт.
И. Троцкий впоследствии вспоминал, что эта постановка:
имела ошеломляющий успех. Немецкая критика безоговорочно и единодушно одобрила удачный выбор Рейнгарда, не скупясь на похвалы режиссеру и автору пьесы. Ню с легкой руки Рейнгарда обошла все германские и австрийские сцены.
Заинтересовались и скандинавцы драматическим творчеством Дымова. Георг Брандес <дал> очень лестный отзыв о писательском даровании Дымова.
— Из этого молодого человека выйдет толк! — пророчествовал Нестор скандинавской критики, не страдавший склонностью к похвалам175.
Став успешным литератором, Осип Дымов, тем не менее, постоянно сталкивался на этом поприще с неприятием своей личности со стороны кондовых русских почвенников. Его обвиняли — и не без основания — в «европеизме», стремлении следовать за европейской модой, в протаскивании стилистики венского модерна на русскую сцену и других «непатриотических» грехах. Нельзя не отметить, что в начале XX в. даже, казалось бы, вполне «приличные» русские литераторы выказывали явное недовольство по поводу вхождения большого количества евреев в русскую литературу, да и вообще их «засильем» в культурной жизни «Серебряного века».
Рациональные мотивы «юдобоязни» русских литераторов «Серебряного века» вполне поддаются критическому анализу. Основной посыл «почвенников», выступавших против появления евреев на русской культурной сцене в начале XX в., это двуязычие евреев, и, как следствие, неорганическое, поверхностное владение русским языком.
В этом отношении показательно высказывание Зинаиды Гиппиус середины 1890-х об Акиме Волынском:
Я протестовала даже не столько против его тем или его мнений, сколько... против невозможного русского языка, которым он писал. <...> Вначале я была так наивна, что раз искренне стала его жалеть: сказала, что евреям очень трудно писать, не имея своего собственного, родного языка. А писать действительно литературно можно только на одном, и вот этом именно, внутренне родном языке. ... Но этот язык, даже в тех случаях, когда страна — данная — их «родина», то есть где они родились, — им не «родной», не «отечественный», ибо у них «родина» не совпадает с «отечеством», которого у евреев — нет. ... Все это я ему высказала совершенно просто, в начале наших добрых отношений, повторяю — с наивностью, без всякого антисемитизма... И была испугана его возмущенным протестом. ... Кстати, об антисемитизме. В том кругу русской интеллигенции, где мы жили, да и во всех кругах, более нам далеких, — его просто не было176.
Характерно, что о своем приятеле, тоже двуязычном поэте-символисте Юргисе Балтрушайтисе, Гиппиус в таком контексте никогда не упоминала.
Итак, в исторической ретроспективе эксцессы юдобоязни со стороны русских писателей, опасавшихся конкуренции со стороны бойких еврейских авторов, понятны и на европейском фоне не оригинальны. И хотя в целом буйная еврейская литературная поросль конкурировать на равных с маститыми русскими писателями не могла, именно из ее среды вышли на первые роли Осип Мандельштам и Борис Пастернак.
Единственной литературной сценой, на которой евреи, как казалось многим современникам, задавали тон, была газетная публицистика и литературно-художественная критика. Но и здесь среди дореволюционных публицистов первого ряда, к которым, кстати говоря, относился и О. Дымов, этнических евреев раз-два и обчелся.
Имелась только одна область литературы, где, действительно, очень успешно подвизались литераторы-евреи — сатира и юмор. А.И. Куприн писал в статье-некрологе Саше Черному: «Что и говорить, у нас было много талантливейших писателей, составляющих нашу национальную гордость, но юмор нам не давался. От ямщика до первого поэта мы все поем уныло»177.
Так что «веселить» русскую публику стали евреи — конечно, не одни, а в компании с русскими собратьями по перу. Ярким примером такого содружества является журнал «Сатирикон», в котором вместе с Аркадием Аверченко, Тэффи, Потемкиным, О.Л. Д'Ором, Сашей Черным и др. активно трудился и Осип Дымов. В иллюстрированной «Всеобщей истории, обработанной “Сатириконом”» (1909), его перу принадлежит раздел «Средняя история» (иллюстрации художника К. Рудакова), в котором он бойко живописал события от падения Рима до падения Константинополя.
Не вдаваясь в детали, следует напомнить, что конфликт между охранителями (почвенниками) и прогрессистами (западниками) — типичный для России культурологический феномен. Еврейский фактор в нем всегда особенно выпирает, оказывается мишенью в полемике. Впрочем, аналогичное явление можно проследить и в западноевропейском культурном пространстве, ибо по умолчанию еврей — всегда космополит, а почвенная идеология типа «фелькиш»178 проповедует идею сугубо «народной общности», которая должна добиваться власти и проводить политику в интересах только своего этноса.
В условиях государственного антисемитизма русские «почвенники» начала XX в., как никогда в других европейских странах, могли позволить себе не стесняться в выражениях. Осип Дымов — первый еврей, ставший широко известным русским писателем и драматургом, по классификации «кусачего» В.П. Буренина однозначно принадлежал
к компании еврейских литературных клопов, загаживающих русскую литературу наглой и бездарной декадентской чепухой, которую теперь выдают за самое модное и за самое превосходное «творчество»179.
Таким образом, Дымов стал «невозвращенцем» и в силу подобной «почвеннической» риторики180. Оказавшись в США в весьма благоприятной для себя конъюнктурной и творческой ситуации, писатель, никогда не порывавший с идишистской культурой, свободно владевший несколькими языками, посчитал для себя за лучшее уйти из недружественного пространства русской культуры к своему исконному еврейскому «Я».
Этот поступок Дымова — удивительный и, пожалуй, единственный в своем роде прецедент. Писатель, без имени которого трудно представить себе историю русской литературы начала XX в., драматург, чьи пьесы на сценах крупнейших русских театров ставили такие выдающиеся режиссеры, как Мейерхольд и Марджанов, а в спектаклях были заняты крупнейшие русские актеры, оказавшись в Америке, в одночасье сменил гражданство, литературную ориентацию, а главное — язык. Из русского литератора, подвизавшегося во всех жанрах, он переквалифицируется в американского драматурга и новеллиста, в основном пишущего на идише. Дымов не оставляет русскую литературу совсем: печатается в русской эмигрантской прессе и, одновременно, до конца 1929-го (поразительный случай в истории эмиграции!) числится собственным корреспондентом ленинградской «Красной газеты».
Тем самым он, как и Илья Эренбург, после революции живший в основном в Германии и Франции, являлся советским журналистом на Западе. Это дало И.М. Троцкому повод публично объявить Дымова «красным».
Вторую половину 1920-х — начало 1930-х Дымов проводит в Европе. Он становится довольно известным как драматург и кинематографист181, его пьесы идут в Германии, во Франции, не говоря уже об Америке. Многие театры, причем не только еврейские, ставят его пьесы. Он достаточно хорошо владеет четырьмя языками — русским, английским, идишем и немецким, что открывает ему двери в различные литературные сферы. Илья Троцкий поддерживал с Дымовым дружеские отношения на протяжении всей жизни, благо после Второй мировой войны они оба жили в Нью-Йорке182. После скоропостижной кончины Дымова он написал о нем подробную и прочувственную статью-некролог183, где приводит интересные с точки зрения биографии обоих литераторов детали венского периода их жизни:
Вена, Петербург, Берлин, Копенгаген, Цюрих, Париж и Нью-Йорк — перекрестки, где жизненные пути Осипа Дымова и мои сталкивались. Мне суждено было быть свидетелем восхождения его литературной звезды на немецкой сцене, равно как и роста его популярности среди германской пишущей братии. <...>
Мое знакомство с Осипом Дымовым восходит к моим студенческим годам в Вене. Всплыл Дымов на поверхности австрийской столицы неожиданно, став сразу центром русской академической молодежи. Ему сопутствовало не только реноме будущего литературного корифея, но и какая-то романтическая история на почве ревности и дуэли184. Изящный, красивый остроумный, он сразу завоевал популярность. Мое положение сотрудника одной из крупных венских газет185, равно как и корреспондента некоторых столичных и провинциальных русских органов печати, были <sic!> Дымову известны. На этой почве завязалось наше знакомство, перешедшее впоследствии в дружбу. Приличное знание немецкого языка значительно способствовало Дымову в налаживании связи и с австрийским литературным миром. По тому времени два имени венских писателей царили в умах читательской массы — Артур Шницлер и Петер Альтенберг.
В орбите этих двух литературных светил обращались, словно планеты вокруг солнца, многие другие впоследствии прославившиеся писатели, завоевавшие мировую известность <...>
Быть приглашенным в дом к Артуру Шницлеру или сидеть за одним столом с Петером Альтенбергом в его «штамм-кафе» — считалось за большую честь. По характеру своей переводческой деятельности, в частности некоторых произведений Шницлера, мне приходилось бывать у него на дому. Велико было мое изумление, когда в одно из таких свиданий со Шницлером он спросил, знакомо ли мне имя Дымова? Спустя несколько дней Дымов уже был гостем четы Шницлеров, а затем и их частым посетителем. Сумел он завоевать симпатии и Петера Альтенберга и его писательского окружения.
Успех Дымова в приобретении знакомств объясняется его простотой и личным обаянием. Мастер рассказа, шаржа и подражания, он этим быстро завоевал сердца.
Здесь уместно прервать цитату из статьи-некролога И.М. Троцкого, чтобы отметить как факт истории литературы, что в России критики упорно причисляли Дымова к эпигонам П. Альтенберга, что его очень обижало. Об этом имеется свидетельство переводчика и архивариуса «Серебряного века» Ф.Ф. Фидлера:
...кто-то из рецензентов утверждал, что Дымов в одном из своих рассказов подражает Петеру Альтенбергу, — Дымов же уверяет, что даже понятия не имел о существовании Альтенберга186.
Несмотря на острую критику со стороны рецензентов, у Дымова в России начала XX столетия была прочная репутация «подающего надежды» таланта. И, делает итоговый вывод И.М. Троцкий в своей статье-некрологе:
Осип Дымов не обманул <возлагавшихся на него — М.У.> надежд. Его литературное наследство охватывает все почти жанры литературной словесности: беллетристику, драматургию, юмор, сатиру и даже мемуарные писания. На всем этом лежит печать своеобразного дарования, обвеянного настроениями его капризной музы. Некоторые из произведений Дымова, особенно в области драматургии, не утратили и по сей день актуальности и воспринимаются с интересом187.
В YIVO-архиве И.М. Троцкого имеются три письма Осипа Дымова. Первое, датированное 18 апреля, написано, скорее всего, в 1951 г. на личном бланке (Ossip Dymow, 625 West End Avenue. New York 24. N.Y., Tel. Endicott 2-2238):
Дорогой Илья Маркович,
В конце концов, я так и не знаю, где отыскать Вас! Будьте добры: протелефонируйте мне, надо повидать, о многом поговорить, вспомнить о многом. Пожалуйста, сделайте это в самом близком будущем. Я был очень, очень рад, что встретились, наконец.
Ваш искренне Осип Дымов.
Второе письмо датировано 20 апреля 1951 г. и является, Повидимому, после состоявшегося, наконец, свидания старых друзей:
Дорогой старый друг Илья Маркович,
Я потому и не телефонировал Вам, чтобы иметь возможность сказать Вам несколько слов письменно. Это крепче, это дружественнее.
Иногда хорошо взглянуть на себя в зеркале: каким ты был, и каким ты стал. Н<о> более близкого, более сердечного зеркала-друга я уж<е> долго <не> видел. Очень, очень волновался я, когда рассматривал отблеск, отзвук себя самого. Я несколько раз даже — простите! — плакал. О чем? Да вот именно о том, что Вы увидели сами.
Обнимаю Вас Осип Дымов.
Третье письмо Дымова от 22 июня 1957 г. — соболезнование по поводу кончины жены Ильи Марковича, Анны Родионовны Троцкой, с которой он счастливо прожил более полувека.
Дорогой друг, Илья,
Вы прошли долгую и порой суровую дорогу. Но через суровость и тьму жизни Вам светилась любовь, нежность, ласк<а>, крепкая привязанность. Это дала Вам верная — вернейшая подруга Вашей жизни. Это Вам никогда не забудется, останется навсегда в памяти сердца Ваше<й>. Вы не осиротели: у Вас Ваша милая семья с Вами. И она тоже с Вами.
С крепким нежным рукопожатием Ваши Осип Дымов и Анна Дымова188.
И.И. Колышко («Баян»)
В одном из своих писем И.М. Троцкому его старый знакомый русскословец С.И. Орем пишет:
мне вспомнилось наше московское «Русское слово». Собирались мы все в редакции к 1 часу ночи. В это время звонил петербургский телефон. Говорил обычно И.И. Колышко («Баян»)»189.
Илья Маркович Троцкий поддерживал отношения с Иосифом Иосифовичем Колышко долгие годы и написал о нем — единственном из своих коллег по работе в газете «Русское слово»! — несколько весьма ценных с исторической точки зрения очерков-воспоминаний190. Можно полагать, что Колышко был не только интересен ему как уникальный в своем роде типаж, но и достаточно симпатичен в личном плане. По крайней мере, во всех этих характеристиках и оценках И.И. Колышко, при их общей негативности, явно чувствуется снисходительность:
Собеседник Колышко был изумительный. Слушая его, казалось, будто для него не существует секретов ни в правительственных сферах, ни в думских кругах столицы. Журнальный мир Москвы и Петрограда он знает до мельчайших тонкостей, не стесняясь в классификациях и оценках. <Он> пользовался репутацией отменного гурмана и ценителя хороших вин191.
Подобного рода отношение к этому персонажу характерно и для других свидетелей времени:
В разговорах Колышко был очень интересен, остроумен и едок и в то же время мог расположить к себе, если хотел. Он очень нравился женщинам192.
Одновременно те, кто знал И.И. Колышко, также единодушно говорили о нем как об аморальной, авантюристической личности. К сожалению <...>, такие оценки имели под собой достаточно оснований, это видно и из текста его мемуаров. Но злобы на него не держали, скорее обличая — «отпущали»193.
Польский дворянин из военной семьи Иосиф Иосифович Колышко был заметной на общественно-политической и литературной сцене русского «Серебряного века» фигурой. В начале своего жизненного пути Иосиф пошел по стопам отца — офицера-кавалериста: 1878 г. он окончил Полоцкую военную гимназию, а в 1880 г. — Николаевское кавалерийское училище, и, выйдя из него корнетом, довольно быстро дослужился до по-ручика. Однако военная служба его мало привлекала и после знакомства в 1881 г. с князем В.П. Мещерским — крупнейшим представителем русского охранительского консерватизма, личным другом Александра III и многолетним советником Николая II, Колышко начинает печататься в его журнале «Гражданин» под псевдонимом «Серенький». Интересно, что в своих мемуарах, особо выделяя как негативную характеристику «юдофобство Александра III (переданное им сыну)», он одновременно подчеркивает, что в этом пункте его покровитель:
кн<язь> Мещерский, ратовавший в своем «Гражданине» против погромов, черты оседлости и за еврейскую бедноту194,
— будучи ментором царя, не мог внушать тому подобного рода чувства.
Князь же составил ему протекцию в бюрократическом мире, после того как начинающий автор сменил офицерский мундир на фрак, став в 1883 г. чиновником для особых поручений при министре внутренних дел. <...> Сразу после назначения С.Ю. Витте министром путей сообщения (1892 г.) И.И. Колышко объявился под его крылом, и новоиспеченный министр послал его на ревизию Могилевского округа путей сообщений. Чистка ведомства была в интересах С.Ю. Витте, начавшего свою недолгую карьеру в путейском ведомстве с искоренения непорядков. И.И. Колышко выявил значительные злоупотребления, начальник округа был предан суду, несмотря на противодействие Сената. <...> При <приемнике Витте — М.У.> положение И.И. Колышко в Министерстве путей сообщения еще более укрепилось, он стал членом Совета временного управления казенных дорог. Но ненадолго: в каком-то деле И.И. Колышко проворовался. По слухам, проступок даже грозил судом. <...> В результате этого скандала в декабре 1894 г. <ему> пришлось покинуть службу. Позднее, семь лет спустя, он поступил в Министерство финансов, опять к Витте, и продолжал числиться там до 1917 г., дослужившись до чина действительного статского советника. <...> Стремительный взлет молодого чиновника можно объяснить лишь влиятельнейшей протекцией (почему В.П. Мещерский так покровительствовал своему сотруднику <злые языки объясняли это их гомосексуальной связью — М.У.>) и взятками. В любом случае, его деятельность с конца 188о-х была окружена атмосферой грязи, злоупотреблений и скандалов195.
Одновременно с блестящей карьерой Колышко сумел прославиться как публицист. Под разными псевдонимами он активно сотрудничал в нескольких изданиях: журнале «Гражданин», «Санкт-Петербургских ведомостях» («Рославлев»), «Русском слове» («Баян») и «Биржевых ведомостях» («Вох»)». Сам И.И. Колышко дал себе следующую характеристику:
Судьба поставила меня близко к людям, делавшим эпоху — на рубеже между государственностью и общественностью. Далекий по удельному весу от «вождей» типа Милюкова, далекий по таланту от Горького, Бунина, Розанова, Мережковского, в свое время я обладал и убедительностью, и темпераментом. Я и впрямь писал в газетах разного «направления», но писал я об одном и том же196.
Но здесь интересна не столько идейная беспринципность Колышко-русскословца, сколько позиция Власа Дорошевича, обычно не подпускавшего публицистов охранительского толка к своей газете.
По воспоминаниям И.М. Троцкого:
Популярность И.И. Колышко как публициста и драматурга была известна всей читающей <...> России. Имя Баяна не сходило со страниц руководящих петербургских и московских газет, а его <...> мастерски написанные статьи читались с огромным интересом. Покойный И.Д. Сытин, издатель «Русского слова», привлек Баяна в качестве постоянного сотрудника своей газеты и очень гордился этим литературным приобретением.
Участвуя как литератор в политических интригах, Колышко, будучи «человеком Витте», играл роль его наемного пера.
После отставки графа Витте политическая журналистика Колышко приказала долго жить, зато он
небезуспешно выступил как драматург. По всей России прогремела его пьеса «Большой человек», где под именем В.А. Ишимова публика без труда признала С.Ю. Витте. Опальный сановник предстал выходцем из низов, космополитом, болеющим за развитие империи. Фигуре С.Ю. Витте был присущ трагизм: И.И. Колышко изобразил его как человека, прорвавшегося к большой власти, после чего сохранение полученного влияния превратилось в единственную цель. Пьеса не была шедевром драматургии, <но> Колышко неплохо на ней заработал: в 1917 г. он утверждал, что получил от постановок этой и еще двух других пьес (которые, впрочем, были неудачны) 200 тысяч рублей. С.Ю. Витте вроде бы не обиделся, но незадолго до его смерти они поссорились. Летом 1914 г. отставной сановник открыто говорил, что закрыл для И.И. Колышко двери своего дома, и обещал со временем вывести его «на чистую воду»197.
Неизвестно, успел сановник выполнить свою угрозу, но по свидетельству И.М. Троцкого, «имя Баяна с середины 1915 года исчезло со страниц “Русского слова”». Сам Колышко жаловался, что:
Все его обращения <по этому поводу — М.У.> Сытину, Дорошевичу и Благову остаются без ответа. Жалованье ему продолжают аккуратно платить, но статей не помещают. Он теряется в догадках, не зная чем объяснить подобное поведение редакции198.
Судя по воспоминаниям И.И. Колышко199, он прямо или косвенно участвовал во многих сомнительных политических интригах Российской империи. Последней политической аферой оказался эпизод, связанный с переговорами о сепаратном мире в 1916 — начале 1917 гг.
После начала Первой мировой войны он, из-за своей очередной спутницы жизни, имевшей немецкое подданство и вынужденной поэтому покинуть Россию, перебрался с коммерческим поручением — покупать сталь для российских заводов, — на жительство в Стокгольм. И.М. Троцкий часто появлялся в столице нейтральной Швеции, а И.И. Колышко, в свою очередь, был частым гостем в Копенгагене — столице тоже нейтрального Датского королевства, где находился скандинавский корпункт «Русского слова», возглавлявшийся И.М. Троцким. Оба журналиста поддерживали между собой отношения.
Как вспоминал И.М. Троцкий, его коллега давно подозревался сотрудниками русской миссии и журналистами в тайных связях с немцами, но200:
Сорвать маску с Колышко было нелегко. Он в последнее время <1917 г. — М.У.> был осторожен.
Вывела его из душевного равновесия Февральская революция и, особенно, быстро образовавшееся Временное правительство. Не принимал он участия в ликовании, охватившем многочисленную русскую колонию Копенгагена. Отсутствовал и на торжественных службах в посольской церкви с провозглашением многолетия новой власти. Колышко явно пребывал в состоянии полной прострации. <Журналистами — М.У.> решено было пригласить его на обед и попытаться вызвать на откровенность. Приглашение <им> было принято без колебаний.
Встреча состоялась в одном из лучших ресторанов датской столицы. Колышко обычно <...> учтивый <...> и занимательный собеседник на этот раз был неузнаваем. Он совершенно потерял контроль над своими эмоциями. С каждым выпитым стаканом вина возбуждение его росло. <...> Негодуя и понося на все лады членов временного правительства, он клеветал на них, обливая их грязью. <...>
— Иосиф Иосифович, умерьте свой пыл! Могут подумать, будто мы ссоримся! — увещевали мы разбушевавшегося Колышко.
Смягчался его гнев и мнения обретали более снисходительную оценку, едва они касались германских или австрийских государственных деятелей. Трудно было слушать без внутреннего возмущения расточаемые Колышко панегирики по адресу сомнительных германских миролюбцев. Лопнуло, по-видимому, терпение Полякова-Литовцева.
— Теперь и для меня ясно, — заметил он, — почему Дорошевич перестал печатать ваши статьи. — Погодите, Соломон Львович, не злорадствуйте, скоро вернусь в Петроград и создам собственный орган печати. Мне никто рта не закроет! — парировал Колышко.
Обед закончился в атмосфере плохо скрываемого «недружелюбия».
В такси, везшем нас домой, и у Литовцева и у меня одновременно <...> вырвалось восклицание «германский агент».
Справедливость требует отметить, что Колышко нас не обманул. Он нисколько не преувеличивал, говоря о создании собственного органа. <Еще> в 1916 г. он заключил с <немцами> договор <...> о создании издательства в Петрограде, которое должно было служить целям прогерманской пропаганды. Договор заключен был в Стокгольме. <Один> известный по тому времени германский промышленник <...> согласился ассигновать на эту цель два миллионов рублей.
Колышко не погрешил против правды, сообщая о своем скором возвращении в Россию. Со скандинавского горизонта он исчез так же бесшумно и таинственно, как и появился.
В Петрограде публицист появился 18 апреля (1 мая) 1917 г. Однако по-настоящему развернуться он не сумел, так как сразу попал в поле зрения русской контрразведки. Скорее всего, о нем сообщил А.Р. Кугель, известный журналист и фактический хозяин газеты «День». Вероятно, И.И. Колышко сгубило хвастовство: перед А.Р. Кугелем он бахвалился большими деньгами, настойчиво уверяя собеседника, что их происхождение «чистое». Он также стал убеждать А.Р. Куге-ля в необходимости пропаганды мира. Уже этого было достаточно, чтобы у петроградского газетчика возникли вполне обоснованные подозрения, и он обратился в контрразведку. Связи И.И. Колышко и его деятельность оказались «под колпаком», они отслеживались более полутора месяцев, а когда журналиста и его подельников внезапно арестовали в ночь с 22 на 23 мая (4-5 июня), в руки контрразведчиков попали еще и некоторые документы, крайне неприятные для Колышко, в том числе его корреспонденция в Швецию201 и
<...> печатный проект сепаратного договора России и Германии на 12 листах большого формата. Контрразведчики обратили внимание, что по этому проекту предусматривалась независимость Финляндии и Украины (как и у В.И. Ленина), а также на обещание выплатить публицисту аванс в 20 тысяч рублей. Еще одной существенной уликой стало длинное письмо И.И. Колышко своей подруге-немке. В нем он с удовлетворением сообщил, что подготовлена почва для удаления из правительства П.Н. Милюкова и А.И. Гучкова. Он также повторил просьбу перевести полмиллиона рублей через Стокгольм и столько же — через Христианию, <т.к.> намеревался приобрести «Петроградский курьер» (попытка восстановить сотрудничество в московском «Русском слове» не удалась)202.
Арестованный контрразведкой по поручению министра юстиции Временного правительства как немецкий шпион, Колышко провел несколько месяцев в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Однако в итоге следствие в те на редкость либеральные времена постановило, что:
Захваченные документы ничего не сообщали о шпионаже И.И. Колышко в пользу Германии. Поэтому позднее, когда журналист отчаянно отбивался от обвинения, надо признать, что никаких доказательств этому так и не было обнаружено. Но вот о контактах с немцами они свидетельствовали однозначно. Причем, по данным контрразведчиков, получалось, что И.И. Колышко стал частью единой цепи, действующей в пользу сепаратного мира, куда входили и большевики203.
После 1918 г. неудачливый «агент влияния» посчитал за лучшее переселиться на Запад. И.М. Троцкий пишет в «Новом русском слове», что ему:
Встречаться с И.И. Колышко <...> приходилось и позднее, в первые эмигрантские годы в Берлине. Уже тогда он производил впечатление бывшего человека, стоявшего у последней черты, где от былого Баяна оставался лишь биржевой спекулянт и маклер по продаже советских долговых обязательств.
Этот эпизод из бурной биографии И.И. Колышко настораживает. Дело в том, что подобными операциями в Берлине занимались, как правило, люди, связанные с советскими спецслужбами. Если еще вспомнить и о том, что в Петрограде-Ленинграде благополучно проживала прежняя семья И.И. Колышко (а он был женат на княжне В.С. Оболенской), а сам журналист не только регулярно переписывался с родственниками, но и посылал им средства для жизни, неизбежно возникает вопрос: не сотрудничал ли он с новой властью в России?204
На этот риторический вопрос ответа у И. Троцкого, естественно, не было. Обошел он своим вниманием и тот интересный факт, что Колышко к началу 1932 г. напечатал в том же «Новом русском слове» 12 больших очерков об известных писателях (Розанов, Мережковский, Гиппиус) и политических деятелях (Витте, Столыпин, Распутин) предреволюционной России205.
Однако состояния на бумагах сомнительной ценности И.И. Колышко не нажил. К началу 1930-х он перебрался в Ниццу, там жил очень бедно, в основном на зарплату очередной своей подруги-француженки, перебиваясь случайными литературными заработками и выступлениями. <...> в 1934-1935 гг., он сотрудничал в берлинской фашистской газете «Новое слово». Восхваляя фашизм как разновидность национализма, И.И. Колышко, вероятно, оказался недостаточно пропитан антисемитскими взглядами, и его имя вскоре исчезло из числа авторов. Скончался он в безвестности 1о апреля 1938 г. в Ницце206.
Подводя итог жизни Иосифа Иосифовича Колышко, нельзя не отметить, что, засветившись в истории Первой мировой войны как авантюрист-неудачник, он остался в русской литературе автором значительного числа произведений, представляющих непреходящий интерес: критические статьи — сборник «Мысли и образы» (1897, 1898), публицистика — сборники «Маленькие мысли Серенького» (1898), «Пыль» (1913), пьесы — «Большой человек» (1909); «Поле брани» (1911); роман «Волки и овцы» (1901) и, конечно же, своих мемуаров «Великий распад» (написанных, по-видимому, в 1930-1932 гг.).
Надо отдать должное И.И. Колышко: он мастерски владел пером, его рукопись <«Великий распад»> содержит яркие зарисовки, образы, парадоксальные выводы, меткие наблюдения, ее легко и интересно читать. <...> Привлекают внимание сделанные им портретные зарисовки известных писателей и литераторов начала XX в. — это, конечно, не их биографии, а зоркий взгляд талантливого публициста, пытающийся ухватить у каждого из своих героев самую яркую его черту. Разумеется, его наблюдения субъективны, но нередко — метки. Очень важно, что И.И. Колышко уделил немало внимания закулисной стороне жизни литературно-газетного и плутократического мира (гонорары, «дачи» и т.п.). Из других источников об этом известно не так уж много, а ряд сведений автора — уникален.
Работа автора над мемуарами не была завершена, это можно заключить уже из сбоев при нумерации глав, а также многочисленных повторений одних и тех же сюжетов207.
А вот другое авторитетное мнение: известный современный литератор полагает, что:
В «Маленьких мыслях» Колышко-Серенького отражался скорее общий, обывательский страх перед «чрезмерностью» эпохи. Зачем все эти Марксы, Ницше, Ломброзо, Шопенгауэры, декаденты и прочее? Даже Чехова он обвинил в чрезмерном идеологизме: «...не мстит ли он жизни за перенесенные невзгоды? Но жизнь сильнее и умнее Чехова».
Можно смеяться над страхами Колышко, которые отчасти были, конечно, чисто журналистским приемом, как и явно эпатажный псевдоним. Но инертная обывательская масса тоже обладает правом голоса, так как она не только не всегда не права, но и, наоборот, права почти всегда, являясь надежным килем государственного корабля, не позволяющим ему во время общественного шторма раскачаться и затонуть208.
В контексте современного интереса к фигуре Иосифа Колышко представляется важным обратить внимание на то, что первым, кто в конце 1960-х напомнил русскому читателю об этом колоритном типаже «серебряного века», был именно Илья Троцкий.
Примечания
1 Летом 1905 г. он жил в курортном местечке Критцендорф (Kritzendorf), неподалеку от Вены (www.kritzendorf.at/is/ artikel/90o_krido/dorfwandrg_o8/Dorfwanderung_2oo8_Zusfsg. pdf).
2 «Союз освобождения» — нелегальное политическое движение русских либералов (1903-1905 гг.), в 1905 г. насчитывавшее более 16оо членов в 22 наиболее крупных городах Российской империи. В работе Союза принимали участие выдающиеся русские мыслители и общественные деятели: Н.А. Бердяев, В.В. Водовозов, Н.И. Гучков, Е.Д. Кускова, В.А. Маклаков, С.Н. Прокопович, П.Б. Струве, С.Л. Франк, Г.С. Хрусталев-Носарь и др. 15-18 октября 1905 г. на съезде, созванном Союзом, была учреждена Конституционно-демократическая партия (кадеты). С этого момента «Союз освобождения» прекратил свое существование.
3 Троцкий И. И.Д. Сытин (Из личных воспоминаний) // Новое русское слово. 1966. № 19612. 11 ноября.
4 Без сомнения, немаловажную роль в «значимости» предложения Сытина играло и то обстоятельство, что в массе своей «венские газеты <...> жалко оплачивают литературный труд». См.: Хазан В. Миры и маски Осипа Дымова //Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать... Из мемуарного и эпистолярного наследия. Т. 1. / Общая ред., вступит, статья и комментарии
В. Хазана. Jerusalem, 2011. С. 67.
5 Троцкий И. Гениальный самородок. Памяти И.Д. Сытина // Сегодня. 1934. № 218. 7 декабря.
6 Троцкий И. Иван Дмитриевич Сытин. К столетию со дня рождения // Новое русское слово. 1951. № 14318.; И.Д. Сытин (Из личных воспоминаний).
7 Здесь И. Троцкого подводит память. Он уехал в Берлин, повидимому, в начале октября 1907-го, а первая его статья, как берлинского корреспондента газеты, была напечатана в декабре: Троцкий Иа. Бюлов и поляки // Русское слово. 1907. № 271. 8 декабря. С. 3-4. За ней последовало еще четыре, также на политическую тему: Троцкий И. Бюлов и блок // Русское слово. 1907. № 275. 13 декабря. С. 2; Свобода собраний. № 279. 18 декабря. С. 2; Процесс Гардена. 1907. № 285. 25 декабря. С. 2; Трудная задача // Русское слово. 1907. № 288. 28 декабря. С. 3. Всего в 1908 г. И. Троцкий опубликовал в «Русском слове» 24 статьи.
8 Рууд Ч. Русский предприниматель московский издатель Иван Сытин. М., 1993 (гл. 9, «Издатель в годы войны»).
9 Там же.
10 Чумаков В. Русский капитал. От Демидовых до Нобелей. М.,
2008 ( href="http://www.litmir.co/br/?b=i39i73&p=49)-">www.litmir.co/br/?b=139173&p=49).
11 Гиляровский В.А. «Русское слово» // Москва газетная. М., 1999.
12 Рууд Ч. Русский предприниматель московский издатель Иван Сытин (гл. 9).
13 Гиляровский В.А. «Русское слово».
14 Троцкий И. Зудерман и Толстой (Из воспоминаний журналиста) // Сегодня. 1928. № 328. 2 декабря.
15 Бакунцев А. «Вокруг» Бунина. Газета «Сегодня» в «нобелевские дни» 1933 // Новый журнал. 2010. № 260. С. 156-166.
16 Там же.
17 Яковлева Е.П., Чернобаева А.Ю. А.В. Руманов Аркадий Вениаминович // Русские писатели, 1800-1917. Т. 5. М., 2007. С. 386-389; Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать. Jerusalem, 2011. Т. 2. С. 329, 334; Обухова-Зелиньска И. Забытые классики: случай О. Дымова (переписка О. Дымова и А. Руманова, 1902-1914) // РЕВА. Кн. 5. Иерусалим; Торонто; СПб., 2011. С. 72-114.
18 Руманов А.В. Штрихи к портретам // Время и мы (Тель-Авив). 1987. № 95. С. 231-232.
19 В эту группу входят такие выдающиеся имена, как Иннокентий Анненский, Николай Гумилев, Всеволод Рождественский, Николай Оцуп.
20 Они учились вместе в одной гимназии.
21 Померанцев К. Сквозь смерть: Воспоминания. London, 1986.
С. 117-123.
22 Яковлева Е. Корней Чуковский и Аркадий Руманов: к истории взаимоотношений // Звезда. 2008. № 3. С. 149-162.
23 Пяст В. Встречи. М., 1997. С. 145, 214.
24 Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать. Т. 2. С. 330.
25 Там же. С. 330-332.
26 Померанцев К. Сквозь смерть: Воспоминания. С. 123.
27 В.В. Розанов: Pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. Т. 1-2. М., 1999.
28 Букчин С. «Смейтесь, чтобы не плакать»: Корней Чуковский и Влас Дорошевич: история отношений // Всемирная литература (Минск). 2005. № 4 (www.chukfamily.ru/Kornei/Biblio/Bukchin. htm).
29 Троцкий И. Гениальный самородок. Памяти И.Д. Сытина.
30 Динерштейн ЕЛ. Иван Дмитриевич Сытин и его дело. М., 2003.
31 Рууд Ч. Русский предприниматель московский издатель Иван Сытин (гл. 9).
32 Троцкий И. Гениальный самородок: Памяти И.Д. Сытина.
33 Розничный скупщик мяса и рыбы.
34 Троцкий И. Бесконечные русские споры (Из личных воспоминаний) // Новое русское слово. 1967. 7 января. С. 5
35 Троцкий И. Гениальный самородок. Памяти И.Д. Сытина.
36 Первым, кто в этот день поздравил Сытина с юбилеем, был сам Николай Второй.
37 Рууд Ч. Русский предприниматель московский издатель Иван Сытин (гл. 9).
38 Троцкий И. Гениальный самородок. Памяти И.Д. Сытина.
39 Седых А. Памяти И.М. Троцкого.
40 Троцкий И. Бесконечные русские споры (Из личных воспоминаний); Каприйские досуги (Из личных воспоминаний) // Новое русское слово. 1966. № 19 634. 11 декабря. С. 3-4; 1966. № 19661. С. 5; № 19676. С. 2, 7; 1967. 22 января. С. 2, 7.
41 Визит Сытина к Горькому на Капри состоялся в начале октября 1913 г., см.: Горький М. Полн. собр. соч.: письма в 24-х томах. Т. и. С. 297-298; в этом томе также опубликовано много других сведений о контактах Горького с издательством Сытина.
42 Троцкий И.М. Гениальный самородок. Памяти И.Д. Сытина.
43 См.: Тардзонио С. Михаил Первухин — летописец русской революции и итальянского фашизма // Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация. Тарту, 1997. С. 38-53.
44 Накануне приезда Сытина, 14 мая 1913 г., Горький писал Ладыжникову, что отдает «Русскому слову» предпочтение перед «Нивой», поскольку «иметь связь с органом столь распространенным — недурно» (Горький А.М. Письма к писателям и И.П. Ладыжникову. (Архив Горького. T. VII). М., 1959. С. 223). Горький добавлял, что «в этот орган можно ввести немножко своих людей»; вскоре с «Русским словом», помимо Горького, Бунина и Телешова станут сотрудничать Владимир Короленко, Валерий Брюсов, Александр Куприн.
45 Троцкий И.М. Зудерман и Толстой (Из воспоминаний журналиста).
46 Троцкий И. Каприйские досуги (Из личных воспоминаний).
47 Троцкий И. Иван Дмитриевич Сытин (К столетию со дня рождения).
48 Гардзонио С. Михаил Первухин — летописец русской революции и итальянского фашизма. С. 48-53.
49 Все цитируемые тексты М. Первухина приводятся по статье М. Ариаса «Одиссея Максима Горького на “острове сирен”» (www. utoronto.ca/tsq/17/arias17.shtml).
50 Ариас М. Одиссея Максима Горького на «острове сирен».
51 Там же.
52 Одним из первых теоретиков расового антисемитизма, а в политическом отношении — фашизма национал-социалистического толка, стал Эмилий Метнер.
53 О нем см.: Тольц В. Русский фашист князь Николай Жевахов; Письма М. Первухина к В. Бурцеву // Гардзонио С., Сульпассо Б. Осколки русской Италии. С. 11.
54 Скончался М.Г. Первухин от туберкулеза 30 декабря 1928 г. в Риме.
55 Ариас М. Одиссея Максима Горького на «острове сирен».
56 «Красивый цинизм» — название статьи известного консервативного публициста и литературного критика Михаила Меньшикова, посвященной творчеству Горького (Новое время. 1900. № 76).
57 Там же.
58 Троцкий И. «Последние» (от нашего Берлинского корреспондента) // Русское слово. 1910. № 199- 29 августа. С. 5-6.
59 Берлинский камерный театр.
60 Горький закончил работу над пьесой, получившей в окончательной редакции название «Последние», весною 1908 г. В «Сборнике товарищества “Знание”» пьеса появилась с цен-
зурными купюрами, изъято было следующее место: «Соколова. Он, конечно, революционер, как все честные люди в России. Софья (повторяет, ударяя на слове „честные“). Как все честные люди? Соколова. Да. Вам это кажется неправдой? Софья (не сразу). Я не знаю». К представлению в России на сцене пьеса была запрещена Главным управлением по делам печати. В Архиве А.М. Горького хранится цензорский экземпляр с резолюцией: «К представлению признано неудобным. СПБ. 10 июня 1908 г.»
61 Николаева А. Ранняя драматургия М. Горького в историкофункциональном изучении: проблема интерпретации жанра пьес «Мещане», «На дне», «Дачники». Диссертация... канд. филология, наук. Самара, 2000 (www.n02000.nar0d.ru/c0ntent. html).
62 Там же.
63 Троцкий И. Август Стриндберг (Скандинавские воспоминания) // Дни. 1923. № 232. С. 9.
64 Троцкий И. Встреча со Стриндбергом // Сегодня. 1929. № 179. 20 февраля. С. 3.
65 Крайний А. Литературная запись. Полет в Европу // Современные записки. 1924. XVIII. С. 123-138.
66 Пахмусс Т. Из архива Мережковских: письма З.Н. Гиппиус к М.В. Вишняку // Cahiers du monde russe et soviétique. 1982. Р. 418.
67 Горький M. Из литературного наследия: Горький и еврейский вопрос. Иерусалим, 1986.
68 Агурский М., Шкловская М. Максим Горький 1868-1936 (из литературного наследия). Иерусалим, 1986.
69 Тельман И. Горький боролся с антисемитизмом (www.jewish. ru/history/press/2oo9/o8/news994276864. php); Шумский А, Левин П. Еврейская тема в творчестве Горького // Лехаим. 1999. № 10(90) (www.lechaim.ru/ARHIV/90/gorkiy.htm).
70 Троцкий И. Оскорбленная литература (По поводу Нобелевской премии) // Сегодня. 1929. № 319. 17 ноября. С. 3.
71 Парамонов Б. Пантеон: демократия как религиозная проблема // Парамонов Б. Конец стиля. М., 1997. С. 186-187.
72 Троцкий И. Бесконечные русские споры (Из личных воспоминаний).
73 Троцкий И. Каприйские досуги.
74 Троцкий А. Максим Горький // Литературное обозрение. 1991. № 8. С. 70-71.
75 Там же.
76 Троцкий И. Иван Дмитриевич Сытин (К столетию со дня рождения).
77 Троцкий И. Каприйские досуги // Новое русское слово. 1967. 22 января. С. 2, 7.
78 В ходе яростной публичной полемики Стриндберга со Свеном Гедином — любимцем и гордостью шведов, общественное мнение было на стороне последнего, и как личность Стриндберг в начале 1910-х стал в Швеции персоной нон грата. Кроме того, Гедин входил в состав членов Нобелевского комитета, поэтому номинирование Стриндбергом кандидатуры Горького подверглось бы, как полагал шведский писатель «уничтожающей критике влиятельных поклонников Свен Гедина. К чему же обрекать Горького на роль жертвы наших внутренних распрей» — (Там же).
79 Муратова К.Д. Максим Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка // Литературное наследство. Т. 72. М., 1966. С. 9-60.
80 Андреев Л. Неосторожные мысли. О М. Горьком (http://andreev. org.ru/biblio/Ocherki_Fel/Neostor m.html).
81 Троцкий И. Бесконечные русские споры (Из личных воспоминаний).
82 Басинский П. Горький. М., 2005. С. 440.
83 ad hominem (лат.) — как человеку.
84 Владислав Фелицианович Ходасевич в 1922-1925 гг. (с перерывами) жил в семье М. Горького в Сорренто. Однако в 1925 г. он решительно разошелся с Горьким, занимавшим все более просоветские позиции.
85 Ходасевич В.Ф. Горький (2) // Ходасевич В.Ф. Собр. соч. в 4 тт. Т. 4. М., 1997. С. 374-375.
86 Троцкий И.М. Август Стриндберг (Скандинавские воспоминания) // Дни. 1923.
87 Здесь И. Троцкий явно ошибается: пятидесятилетие литературной деятельности Л. Толстого отмечалось в 1902 г. Речь может идти об аналогичном 6о-летнем юбилее, до которого Толстой не дожил.
88 Троцкий И.М. Зудерман и Толстой (Из воспоминаний журналиста).
89 Троцкий И. «Нищий из Сиракуз» (от нашего берлинского корреспондента) // Русское слово. 1912. № 234. 12(23) октября. С. 6.
90 В Германском литературном архиве (Deutsches Literaturarchiv Marbach am Neckar) хранится письмо И.М. Троцкого к Г. Зудерману от 16 июля 1912 г. из Берлина (Brief von Ilja М. Trotzki an Hermann Sudermann — http://kalliope-verbund.info/de/query?q= ead.creator.gnd%3D%3D “22117425036”).
91 Текст своей статьи о Толстом Ришпен заканчивает так: «Несмотря на то, что наши души в настоящее время непроницаемы друг для друга, несмотря на наше незнание русского языка, благодаря которому нам остается печальная необходимость читать его творения только в переводе, мы достаточно их читали и прониклись ими, чтобы поставить Льва Толстого в ряду гениев, обогативших умственную и эстетическую сокровищницу мира. Среди тех гениев, которые истолковали жизнь своего времени и своей расы и, следовательно, мировую жизнь, мы видим, как он блистает, как один из самых выразительных, самых мощных, как один из мастеров. И как маленькие дети Равенны показывали друг другу Данте, говоря: „Вот тот, кто возвратился из ада“, — мы воскликнем от всей души во славу Льва Толстого: „Вот тот, кто возвратился из жизни“. И <...>, быть может, оба эти восклицания имеют одинаковый смысл» (Ришпен Ж. Лев Толстой // Русское слово. 1910. 8(21) ноября).
92 Троцкий И. В гостях у Гергардта Гауптмана // Русское слово. 1910. № 147. 12 июля. С. 6.
93 Tolstoi Leo [Nikolajewitsch]. Die Kreutzersonate. 2. Ausgabe. Berlin, 1922.
94 Hauptmann G. Tagebücher 1906 bis 1913. F.a.M.-Berlin, 1994. S. 273.
95 Там же. S. 610-611.
96 «Берлинер тагеблатт» (Berliner Tageblatt) — ежедневная газета, выходившая в 1872-1939 гг. в Берлине. Одна из двух наиболее важных немецких либеральных газет этого времени. Принадлежала концерну медиамагната Рудольфа Моссе (Mosse; 1843-1920).
97 Hauptmann G. Centenar-Ausgabe. Bd. VI. F.a.M.-Berlin-Wien, 1963. S. 915.
98 Ланской Л.Р. Уход и смерть Толстого в откликах иностранной печати // Литературное наследство. Том 75; кн. 2. М., 1965. С. 415.
99 Hauptmann G. Centenar-Ausgabe. Bd. XL. S. 950-960.
100 Hauptmann G. Zum Geleit // Tolstoi L. Die Kreutzersonate.
101 Reichart WA. Ein Leben für Gerhard Hauptmann: Aufsätze aus den Jahren 1929-1990. Berlin, 1994. S. 97.
102 Толстой Л.Н. Полy. собр. соч. в 90 тт. Т. 30. С. 335.
103 Троцкий И. Новая пьеса Герхарда Гауптмана (от нашего берлинского корреспондента) // Русское слово. 1911. № 4. 6(19) января. С. 5.
104 В своих многочисленных воспоминаниях о деятелях мировой культуры Илья Троцкий никогда не возвращался к своей встрече с Гауптманом. Возможно, это объясняется тем, что Гауптман был единственным нобелевским лауреатом среди немецких писателей, который не занял последовательно антинацистской позиции и остался жить в Германии (хотя и писал втайне антифашистские стихи).
105 См. в обзоре: Ланской Л.Р. Уход и смерть Толстого в откликах иностранной печати. С. 413-417.
106 Имеется в виду статья, написанная в 1904 г. (Stein L. Tolstois Stellung in der Geschichte der Philosophie // Archiv fur Geschichte der Philosophie. 1920. № 32 (3-4). S. 125-141), поскольку других работ о Толстом у этого автора нет.
107 «Berliner Lokal-Anzeiger» — ежедневная газета, выходившая в 1883-1945 гг. в Берлине.
108 Рафаэлю Левенфельду принадлежит самая первая биография Льва Толстого из числа написанных на немецком и изданных в Германии. Ее русское издание: Левенфельд Р. Первая биография Льва Толстого. Разговоры о Толстом и с Толстым. Лев Николаевич Толстой, его жизнь, его творчество, его миросозерцание.
109 Здесь явная ошибка корреспондента, т.к. эпоха «Sturm und Drang» («Буря и натиск») — период в истории немецкой литературы (1767-1785), связанный с отказом от культа разума, свойственного классицизму, в пользу предельной эмоциональности и крайних проявлений индивидуализма, интерес к которым характерен для предромантизма.
11о Троцкий И.М. Август Стриндберг (Скандинавские воспоминания).
111 На самом деле эти события происходили в 1910 г.
112 Троцкий И. Зудерман и Толстой (Из воспоминаний журналиста).
113 Моричева М.Д. Георг Брандес о Толстом. Забытая статья в русской газете (www.imli.ru/litnasledstv0/T0m75-1/Том 75-1-12_Моричева.pdf).
114 Strindberg А. Briefwechsel. Bd. V. Stockholm, 1956. S. 209.
115 Шатков Г.В. М. Горький и скандинавские писатели // Горький и зарубежная литература. М., 1961. С. 82-107.
116 Газетные старости (http://starosti.ru/archive.php?y=1912&m= 05&d=17).
117 Nilsson N.Â. Hamsun och Dostojevskij // Hamsun og Norden: ni fordrag fra Hamsun dagene pâ Hamaroy. Наташу, 1992. P. 56; Эгеберг Э. Кнут Гамсун в России (www.norge.ru/hamsun_cdl_ egeberg/).
118 Панкратова Э. Гамсун и Россия (www.norge.ru/pankratova_ hamsun_og_russland/).
119 Ловецкая Т.Ю. Переписка И.А. Бунина с Г. Брандесом (1922-1925) // И.А. Бунин: Новые материалы. М., 2004. Вып. 1. С. 220-231.
120 Из письма Ницше Брандесу от 2 декабря 1887 г. Переписка Фридриха Ницше с Готфридом Келлером, Георгом Брандесом и Августом Стриндбергом (www.nietzsche.ru/works/letters/keller-brandes-strinberg/brandes/).
121 Точнее — в 1910 г.
122 Роман М.А. Гольдшмидта «Еврей» — одно из наиболее ярких и значительных произведений европейской литературы XIX в., в котором дано изображение еврейской жизни; имел в свое время большой читательский успех и был переведен с датского на иврит, идиш, русский и многие другие языки.
123 «Процентная норма» — система дискриминационных мер по отношению к евреям, проводимая образовательными государственными учреждениями, в соответствии с которой численность евреев в средних и высших учебных заведениях не могла превышать десяти процентов от общего контингента учащихся в черте оседлости, пяти процентов — вне ее и трех процентов — в Петербурге и Москве (www.eleven. co.il/?mode=article&id=13338& query=).
124 «Желтый билет» — удостоверение, выдававшееся женщине в обмен на паспорт и обязательство проходить регулярные врачебные проверки. Давал право официально заниматься проституцией, в том числе вне черты оседлости. Тысячи еврейских женщин меняли паспорт на «желтый билет», вовсе не собираясь работать проститутками, лишь только бы выбраться из «черты оседлости».
125 В 1887 г. Брандес посетил Россию, где прочитал на французском языке цикл лекций о литературе. Он побывал в Петербурге, Москве и Смоленске.
126 «Die räche ist süß», т.е. «Месть сладка» — подобного афоризма у Гейне не встречается, однако существует немецкая пословица: «Rache ist süß, aber vollzogen bitter» — месть сладка, но горько отмщение.
127 Троцкий И. Скандинавское еврейство (Путевые очерки) // Сегодня. 1931. № 55. 5 марта. С. 3-4.
128 Trotzky I. Die Brüder Brandes (Zum hundertjärige Geburtstag von Georg Brandes) // Jüdische Wochenschau. 1942. № 142. 4 Aug.
129 Шейнис А. Брандес, Георг Морис Коген // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Т. 4. Стлб. 898-901.
130 Brandes G.M.K. Meine Stellung zum nationalen Judentum // Der Jude (eine Monatsschrift, Berlin) 1917-1918. H. 9. S. 592-595.
131 Trotzky I. Die Brüder Brandes (Zum hundertjährigen Geburtstag von Georg Brandes).
132 Эгеберг Эрик. Кнут Гамсун в России.
133 Брандес писал о Толстом в своей книге «Впечатления от России» еще в 1888 г.: Brandes G. Indtryk fra Rusland. Kobenhavn, 1888. S. 457-479.
134 Троцкий И. Кнут Гамсун // Новое русское слово. 1952. № 14651.
С. 3.
135 Гамсун Т. Кнут Гамсун — мой отец . М., 1999 (www.norway-live. ru/library/knut-gamsun-moy-otec7.html).
136 Троцкий И. Кнут Гамсун // Новое русское слово. 1952.
137 К Хаукланду И.М. Троцкий также обращался с предложением принять участие в толстовском проекте, и, судя по всему, получил согласие.
138 Это наблюдение И.М. Троцкого подтверждается из других источников, например: Будур Н.В. Гамсун. Мистерия жизни. М., 2008. С. 19.
139 Книга Гамсуна «В сказочной стране. Переживания и мечты во время путешествия по Кавказу» (М., 1910), была написана в 1903 г. по итогам путешествия Кнута Гамсуна с женой по маршруту Петербург — Москва — Кавказ (и далее в Турцию).
140 Будур Н.В. Путешествие Гамсуна в «сказочное царство» (www. norge.ru/hamsun_eventyrrejse/).
141 Троцкий И. Зудерман и Толстой (Из воспоминаний журналиста).
142 Гамсун безоговорочно встал на сторону нацистов. Он отослал свою нобелевскую медаль Геббельсу, указав в сопроводительном письме, что «Нобель учредил свою премию для награждения „идеалистических“ произведений, а я не знаю никого, кто был бы более идеалистичен в своих речах и статьях о будущем Европы и человечества, чем Вы». В 1943 г. он был удостоен личной встречи с Гитлером, а после его самоубийства написал некролог , в котором назвал нацистского лидера «борцом за права народов» (Будур Н.В. Гамсун. Мистерия жизни. С. 19). «Выступление Гамсуна в поддержку нацистского режима не было вызвано ни болезнью, ни существеным изменением личностных черт, ни резким проявлением старческих процессов, ни давлением со стороны... Он сам построил свой политический корабль и суверенно, последовательно направлял его в течение полувека» (Коллоен И.С. Гамсун. Мечтатель и Завоеватель. М., 2009).
143 Будур Н.В. Гамсун. Мистерия жизни. С. 37.
144 Эгеберг Э. Кнут Гамсун в России.
145 Гамсун К. О духовной жизни современной Америки. М., 2011. С. 7; Наг М. Гамсун — норвежский Достоевский // Наг М., Коксвик М. Мартин и Марион. М., 2011. С. 86-114.
146 Будур Н.В. Гамсун. Мистерия жизни. С. 1о.
147 Наг М. Как Гамсун завоевал русскую литературу, и как русская литература завоевала Гамсуна (www.norge.ru/nag_m_hamsun_ rus_lit/).
148 Между Гамсуном и Стриндбергом существовали вполне дружеские отношения, «но поскольку они оба были люди неврастеничные, то и не могли подолгу выносить общество друг друга», см.: Лангслет А.Р. Параллельными путями: Гамсун и Мунк (www.n0rge.ru/langslet3/).
149 В настоящее время в доме № 65 по ул. Дроттниггаттан (Drottninggattan), в «Голубой башне» («Blä tornet»), где находилась последняя квартира Стриндберга, располагается его музей, а на асфальте уличного тротуара золотыми буквами впечатаны цитаты из его произведений.
150 Троцкий И. Август Стриндберг (Скандинавские воспоминания).
151 Троцкий И. Встреча со Стриндбергом.
152 Троцкий И. Август Стриндберг (Скандинавские воспоминания) // Дни. 1923.
153 По-видимому, имеется в виду герой повести А. Стриндберга «Романтический пономарь», которая впервые была опубликована по-русски в 1910 г. (перевод Елены Благовещенской).
154 Троцкий И. Встреча со Стринбергом.
155 Ясперс К. Стриндберг и Ван Гог: Опыт сравнительного патографического анализа с привлечением случаев Сведенборга и Гельдерлина (http://ksana-k.narod.ru/Book/jaspersi/index.html).
156 Троцкий И. Август Стриндберг (Скандинавские воспоминания).
157 Троцкий И. Венок на могилу (Памяти Эллен Кей) // Дни. 1926. № 996. С. 2.
158 Троцкий И. У Эллен Кей (От нашего корреспондента) // Русское слово. 1910. № 191. 20 августа / 2 сентября. С. 2.
159 Об этой эпопее см.: Марченко ТВ. Русские писатели и Нобелевская премия. Köln; München, 2007.
160 Троцкий И. Каприйские досуги // Новое русское слово. 1967. 22 января. С. 2, 7.
161 Юнгренн М. Осколки. (Из разысканий о русской культуре прошлого века) // От Кибирова до Пушкина: сборник в честь 60-летия Н.А. Богомолова. М., 2001. С. 721-722.
162 Бальзамо Е. Август Стриндберг: лики и судьба. М., 2009.
163 Серков А.И. История русского масонства первой половины XIX века. СПб., 2000. С. 810.
164 Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать. Т. 2. С. 503.
165 Троцкий И. Вместо венка на могилу О. Дымова // Новое русское слово. 1959. № 1676. 18 февраля. С. 3
166 Чуковский К.И. Осип Дымов // От Чехова до наших дней: Литературные портреты, характеристики. СПб., 1908. С. 52-56.
167 Единственный роман О. Дымова, написанный им в российский период, — «Бегущие креста» (1911) или, под другим названием — «Томление духа», был прохладно встречен критикой и, несмотря на переиздания, читательского успеха не имел.
168 Хазан В. Миры и маски Осипа Дымова // Вспомнилось, захотелось рассказать. Т. 1. С. 49, 53.
169 В петербургском музее А. Ахматовой находится его альбом шаржей О. Дымова, датированный 1900 г.
170 Хазан В. Миры и маски Осипа Дымова. С. 33.
171 Высказывание литературного критика О. Норвежского об Осипе Дымове (Там же).
172 По всей видимости, князь Георгий Дмитриевич Эристов-Сидамон — адвокат, меценат, культурный и общественный деятель, один из основателей клуба «Бродячая собака».
173 Троцкий И. Вместо венка на могилу О. Дымова.
174 Троцкий И. Венок на могилу Кусевицкого // Новое русское слово. 1951.
175 Троцкий И. Вместо венка на могилу О. Дымова.
176 Гиппиус 3. Дмитрий Мережковский (http://royallib.com/read/ gippius_zinaida/dmitriy_meregkovskiy.html#173728).
177 Куприн А.И. Саша Черный // Возрождение. 1932. № 2625. 9 августа. С. 3.
178 См.: http://traditio-ru.org/wiki/фeлькиш
179 Буренин В. Критические очерки // Новое время. 1907. № 11 303. 31 августа (13 сентября). С. 3 (в позднейших републикациях этого текста — ошибочное «зажигающих» вместо «загаживающих»). Интересно, что Буренин, в отличие от не менее одиозного из-за нападок на либералов и антисемитских выходок М.О. Меньшикова — его собрата по перу в Суворинском «Новом времени», расстрелянного большевиками в 1918 г., в Совдепии мирно скончался в своей постели в 1926 г. Более того, похоже, что именно объекты его постоянных издевательств Буренина и «прикрыли». Самый влиятельный из них при новом режиме — Горький, способствовал назначению пайка для Буренина, как «заслуженного литератора». «Злопамятные» евреи тоже не вредничали, см., напр.: «Буренина я видел только один раз. Было это в Петербурге, в начале двадцатых годов. Аким Львович Волынский числился тогда председателем Союза писателей, а принимал посетителей в Доме искусств, где жил. Однажды явился к нему старик, оборванный, трясущийся, в башмаках, обвязанных веревками, очевидно, просить о пайке — Буренин. Теперь, вероятно, мало кто помнит, что в течение долгих лет Волынский <Хаим Лейбович Флекснер — М.У.> был постоянной мишенью буренинских насмешек и что по части выдумывания особенно язвительных, издевательских эпитетов и сравнений у Буренина в русской литературе едва ли нашлись бы соперники <...>. Волынский открыл двери и, взглянув на посетителя, молча, наклонив голову, пропустил его перед собой. Говорили они долго. Отнесся Волынский к своему экс-врагу исключительно сердечно и сделал все, что в его силах. Буренин вышел от него в слезах и, бормоча что-то невнятное, долго, долго сжимал его руку в обеих своих» (Адамович Г. Table Talk I // Новый журнал. 1961. № 64. С. 101-116 (www.litmir. co/br/?b=128o94).
180 Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать. Т. 1. С. 477-482.
181 Дымов сделал блестящую карьеру в кинематографе — немецком, английском, американском. По его сценариям в 1930-1939 гг. было поставлено несколько десятков фильмов.
182 Осип Дымов и Илья Троцкий покоятся на одном нью-йоркском кладбище — Бейт Давид (Beth David Cemetery) в Лонг-Айленде.
183 Троцкий И. Вместо венка на могилу О. Дымова.
184 Об этом инциденте см.: Хазан В. Миры и маски Осипа Дымова. С. 62.
185 Речь идет о «Ноес винер Тагсблат» («Neues Wiener Tagblatt»).
186 Хазан В. Миры и маски Осипа Дымова. С. 12.
187 Троцкий И.М. Вместо венка на могилу О. Дымова.
188 Анна Николаевна (урожд. Смирнова) — вторая (с 1927 г.) жена О. Дымова. О ней см. Хазан В. Миры и маски Осипа Дымова. Т. 1. С. 101, 106, 699.
189 Уральский М.Л., Кадаманьяни Ч. «Среди потухших маяков»: письма С.Н. Орема и Т.С. Варшер И.М. Троцкому // РЕВА. Кн. 1о. Торонто; СПб., 2015. С. 15-38.
190 Троцкий И. Обесчещенный талант; Со ступеньки на ступеньку (к портрету И.И. Колышко) // Там же. 1962. 2 ноября. С. 3; Со ступеньки на ступеньку (из записных книжек журналиста) // Там же. 1967. 3 июля. С. 5
191 Там же.
192 И.И. Колышко-Баян // Крымов Вл. Портреты необычных людей. Париж, 1971. С. 151-157.
193 Лукоянов И.В. Иосиф Иосифович Колышко и его «Великий распад» // Колышко И.И. Великий распад: Воспоминания. СПб., 2009. С. 4.
194 Колышко И.И. Великий распад: Воспоминания. С. 28.
195 Лукоянов И.В. Иосиф Иосифович Колышко и его «Великий распад». С. 5.
196 Колышко И.И. Великий распад: Воспоминания. СПб., 2009. С. 17-18.
197 Лукоянов И.В. Иосиф Иосифович Колышко и его «Великий распад». С. 7—13.
198 Троцкий И. Обесчещенный талант.
199 Колышко И.И. Великий распад: Воспоминания.
200 Троцкий И. Со ступеньки на ступеньку (из записных книжек журналиста).
201 Лукоянов И.В. Иосиф Иосифович Колышко и его «Великий распад». С. 12.
202 По утверждению И.М. Троцкого, осенью 1916 г. Колышко говорил ему, что планирует войти в руководство «Петроградского курьера», который собирается приобрести некая «группа общественников и финансистов», см.: Троцкий И. Со ступеньки на ступеньку (из записных книжек журналиста).
203 Лукоянов И.В. Иосиф Иосифович Колышко и его «Великий распад». С. 12.
204 Троцкий И. Со ступеньки на ступеньку (из записных книжек журналиста).
205 Лукоянов К.В. Иосиф Иосифович Колышко и его «Великий распад». С. 14.
206 Там же. С. 14-15.
207 Там же. С. 14-15.
208 Басинский П. Памятник Колышко-Серенькому // Новый мир. 1995. № 1.
Глава 3 Русская жизнь в кайзеровской Германии
Итак, с конца 1905 г. русский журналист И.М. Троцкий по большей части жил заграницей. В нотариально заверенном документе — ходатайстве № 170128 от 22 октября 1952 г., поданном им на основании «Закона о возмещении убытков жертвам национал-социализма»1 Троцкий ставит датой начала своей жизни в Берлине 1908 г. Однако в статьях он указывает, что как собственный иностранный корреспондент «Русского слова» по Германии он прибыл в кайзеровский Берлин в конце 1906 г. Таким образом, его первый «берлинский период» и продолжался почти полных 8 лет (до осени 1914 г.). Можно полагать, что Илья Маркович довольно часто бывал наездами в Москве, где находилась центральная редакция его газеты. Как свой и в то же время западноевропейский человек, живо интересующийся литературой, он, естественно, являлся желанным собеседником для писателей, сотрудничавших с «Русским словом». В Германии русская литература вызывала живой интерес, переводы книг Тургенева, Л. Толстого, Достоевского, Чехова, а также находившихся в зените своей славы Мережковского и Горького, издавались солидными тиражами.
Как зарубежный корреспондент «Русского слова», И.М. Троцкий заявляет себя в нескольких журналистских амплуа: политический обозреватель, художественный критик и бытописатель. Если политические события тех лет сегодня интересуют лишь специалистов-историков, то живые зарисовки Троцкого культурных явлений, особенностей менталитета и характера тогдашних немцев не потеряли свою остроту и в наши дни. Сообщая об очередном съезде Германского колониального общества2, И.М. Троцкий пишет3:
Звучали громкие речи о национальном величии Германии, о германской расе, с неизменным рефреном: «Вся Средняя Африка должна быть германской». Утверждалось, что «без колониальных приобретений будущее экономическое благосостояние метрополии немыслимо, и что они только обеспечат Германии почетное положение в Европе». <...> «Выступили с протестом против разрешения рейхстагом смешанных браков с туземцами. Негр должен остаться негром! Его необходимо держать на положении рабочей скотины. Если негр не будет чувствовать, что он — существо низшей расы, тогда всей колониальной политике грозит крах. Смешанные браки — преступление против родины и посягательство на чистоту германской расы.
Нетрудно себе после этого представить, как живется туземцам под властью немецких «культуртрегеров».
Сегодня, экстраполируя развитие подобных настроений на последующие 20 лет, можно более объективно оценить, где крылись корни идеологии и практики немецких национал-социалистов. Трагические страницы немецкой истории XX столетия предстают тем самым не только как цепь политических просчетов и случайностей, а еще и как культурологический феномен, неразрывно связанный с духовной жизнью великой европейской нации. Ибо, как писал Томас Манн:
...Гитлер не случайность, не несвойственное складу этого народа несчастье, не промах истории... Он — явление чисто немецкое4.
Газета «Заграничные отклики» и артистический салон Кусевицких в Берлине
Обосновавшись в кайзеровской Германии, — а это был самый счастливый, полный радужных надежд и ожиданий период его жизни, — Илья Троцкий обзавелся большой семьей. Старший сын Дан (Даниэль) Марк родился в России (1903 г.), дочь Татьяна — в Вене (1905 г.), а младшие дети, Ольга и Евгений, появились на свет в Берлине (в 1908 и 1911 гг. соответственно).
Хотя в «Русском слове» платили хорошо, при столь большой семье приходилось думать и о дополнительных заработках. Поэтому, видимо, И. Троцкий писал статьи также для некоторых провинциальных газет юга России, организовал на паях издание в Германии многотиражной русской газеты «Заграничные отклики» («Das ausländische Echo»).
Детище Ильи Троцкого было изданием, рассчитанным на самый широкий круг проживавших на чужбине россиян. Пищей для «Зарубежных откликов» служила в первую очередь актуальная информация, слухи, сплетни. Газета поставляла всякого рода развлекательное чтиво, до которого охочи люди на отдыхе и, конечно, рекламу, которой ее обеспечивали и самые престижные немецкие фирмы, например, крупнейшие в Европе концерны по продаже готовой одежды С&А и Реек & Cloppenburg, издательства Ульштайн и Моссе.
«Зарубежные отклики» продавались во всех газетных киосках, в т.ч. и привокзальных, по всей стране. Естественно, возникает вопрос: откуда у И.М. Троцкого и его двух коллег взялись деньги на такую мощную раскрутку своего издания? Ответ на него прячется под спудом пыли в малодоступных архивах, но факт, как говорится, налицо — еженедельник «Зарубежные отклики» был по существу общегерманским русскоязычным изданием. Вполне возможно, что за спиной этой русской газеты, имевшей, однако, выраженный — тематически5 — еврейский акцент, стояло семейство Ульштайн, владевшее одним из крупнейших германских издательств конца XIX — первой трети XX в. (Ullstein Verlag)6. В пользу этого предположения говорит тот факт, что в 1920-х «Ульштайн» активно сотрудничал с русским эмигрантским издательством «Слово»7 и лично с И.М. Троцким (об этом речь пойдет ниже). Девизом «Ульштайна» был: «политический либерализм и современная культура»8, что вполне определяло и направление газеты «Заграничные отклики», которая, являясь «прогрессивной русской газетой», имела при этом «левый» уклон.
Впрочем, официально газета выпускалась никому не известным издательством X. Крунника (Verlag Ch. Krunnik), чья контора и редакция располагалась в фешенебельном доме одной из самых престижных улиц в центре Берлина — Фридрихштрассе 120. Здесь следует отметить еще два знаковых момента. Первый — имя И.М. Троцкого, как одного из издателей газеты, в ней не фигурирует, он всего лишь один из ее корреспондентов, и второй — некрологов и светской хроники в еженедельнике не печатали, хотя такого рода информация для любой газеты — прибыльная статья. В первом случае, повидимому, издатели стремились не омрачать настроение своих читателей, а во втором отсутствие интереса к жизни высших классов общества подчеркивало демократизм и «левизну» еженедельника. Газета «Зарубежные отклики» выходила в Берлине по воскресеньям с июня 1912-го по август 1914-го9. 8 июля 1912 г. И.М. Троцкий писал Дымову из Берлина10:
Дорогой Осип Исидорович! <...> У меня даже наготове были два фельетона о Вашем романе «Томление духа», которые печатались в Юж<ном> Кр<ае> и Юж<ной> Мысли <...>11. Отыщу и пришлю. Как видите, пишу на бланке Загр<аничных> откл<иков>. Эта газета, отчасти, мое детище. Открыл ее еще с двумя коллегами. Вышли уже шесть №№, которые Вы на днях получите. Прошу Вас, дорогой Осип Исидорович, прислать нам кое-что для печати. Мы платим к<ак> никто. Целых семь пфеннигов со строки. Не откажите в духовной поддержке.
В 1912 г. за 1о немецких марок давали 4,6 рубля12, соответственно 7 пфеннигов составляли 3,22 копейки. Много это было или мало по тогдашним русским расценкам для пишущей братии? Как вспоминал о своей встрече с Миррой Лохвицкой Бунин,
Мы случайно сошлись в редакции «Русской мысли» — оба принесли туда стихи, — познакомились и вместе вышли. Все было очень бело, валил крупный снег, впереди ничего не было видно, — только очаровательная белизна. Она тотчас же весело начала:
— Послушайте, а про мужиков это тоже вы пишете? — Я не про одних мужиков пишу. — Но все-таки — вы? — Я. — Зачем? —
А почему бы не писать и про мужиков? — Ну вот! Пусть себе живут и пашут, нам-то что до них? Удивительнее всего то, что за них тоже. Говорят, платят. Вам сколько платят? — Рублей семьдесят пять, восемьдесят за лист. — Боже мой! А за стихи сколько? — Полтинник за строчку. Она даже приостановилась: — Как? А почему же мне всего четвертак? — Не знаю. — Значит, я хуже вас? — Помилуй Бог, что вы! — Но в чем же тогда дело? Вам сколько лет? — Двадцать четыре. — Ну, тогда, очевидно, только потому, что я по сравнению с вами еще ребенок...13
Конечно, речь здесь идет о расценках в крупной российской газете для весьма именитых литераторов, в среднем же простой русский журналист получал 10-12 копеек за строчку. Так что в «Заграничных откликах» платили буквально «копейки», но все же платили! К тому же сотрудников в газете было мало, а значит, и издательские расходы невелики.
По этой, или же по какой другой, более существенной причине (имеются в виду солидные инвестиции), но дела газеты за все время ее существования шли отлично. Об этом свидетельствуют следующие, определяющие рентабельность любого периодического издания факторы: газета, будучи берлинской, продавалась по всей Германии, а на ее рекламных страницах красовались имена знаменитых и по сей день фирм: Реек & Cloppenburg, С&А, Ullstein и др.
Однако журналистский состав еженедельника именами не блистал. За исключением самого И.М. Троцкого и А.Д. Коральника, большинство статей в газете писалось неизвестными лицами: Я. Неволин (политический обозреватель), Вильгельм Бельский, Станислав Вольский... и авторами, скрывавшимися за анаграммами типа «М-с». Скорее всего, и приведенные имена тоже являлись псевдонимами, а весь авторский коллектив газеты состоял из трех-четырех человек. Изредка в газете печатались мелкие рассказы из «золотого запаса» — например, «Брикки» Александра Куприна.
В полиграфическом отношении еженедельник выглядел вполне солидно, и содержание его номеров полностью отвечало заявляемому в его названии статусу: «общественная, политическая, литературная и экономическая газета». Это издание было строго ориентировано на две русскоязычные группы германских читателей — оседлых россиян: студентов, коммерсантов, политических эмигрантов, среди которых доля евреев была весьма внушительной, если не преобладающей, и приезжих: курортников и всякого рода путешественников.
Из всех отечественных событий тех лет наиболее активно и страстно в газете обсуждалось «дело Бейлиса», которое стало самым громким судебным процессом в дореволюционной России, привлекшим к себе пристальное внимание международной общественности14.
«Оправдание Бейлиса встречено с восторгом. Экстренные выпуски вырывались у продавцов из рук», — информировала газета своих читателей о реакции на это сообщение берлинцев. 8 ноября 1914 г. в «Заграничных откликах» был напечатан текст телеграммы на имя Грузенберга — адвоката, защищавшего Бейлиса на процессе, подписанный группой российских еврейских литераторов, проживавших в то время заграницей — Авраамом Каминским, И.М. Троцким, Шолом-Алейхемом и Шоломом Ашем, в котором в частности говорилось: «защищая оклеветанное еврейство, защитники отстаивают интересы русского народа».
Газета публикует и подборку высказываний видных германских и австрийских культурных и общественных деятелей на тему «дела Бейлиса», собранную, судя по именам, И.М. Троцким: Карла Каутского («скандал и показатель культурной дикости»), знаменитого криминалиста Франца фон Листа, ученого и писателя Вильгельма Бельше (о нем И.М. Троцкий впоследствии напишет большую статью15), Герхарда Гауптмана и Генриха Зудермана. Ко всему этому присовокуплялись цитаты из авторитетнейшей берлинской газеты «Берлинер тагеблатт» («Berliner Tageblatt»). Согласно заключительному слову редакции «Заграничных откликов», судя по стилистике и некоторым оборотам, написанному И.М. Троцким,
...русская интеллигенция оправдала свое призвание. <...> Дело
Бейлиса вызвало в России великий процесс очищения. Однако нельзя быть оптимистом и поверить, будто приговор остановит подлую травлю со стороны негодяев, которые будут продолжать свое гнусное дело — возбуждать массы. Положительная сторона скандального процесса — объединение демократии в борьбе с черными силами.
Помимо «Дела Бейлиса», среди тем предвоенных месяцев 1914 г. освещается правовое положение русских студентов в Германии, рассказывается о неудавшемся побеге из ссылки «бабушки русской революции» Брешко-Брешковской с акцентом на то, как корректно и вежливо вела себя с пойманной «бабушкой» царская администрация (sic!), а также жестко критикуется работа русских консулов в Германии, не оказывающих помощи эмигрантам из России — евреям и украинцам, которые в рамках одобренной русским правительством программы перебирались через Германию (Гамбург) в США на постоянное место жительства. В качестве положительного примера описывалась трогательно-заботливое отношение итальянского консула к своим соотечественникам-эмигрантам, составлявшим второй по мощности поток переселенцев в Новый свет, проходивший через гамбургский порт.
Рефреном статьи являлся типично русский исполненный горечи вздох: «Ну, так это ж Италия!»
Большое место уделялось повседневной культурной жизни. Так, например, сообщалось: в осеннем берлинском салоне, организованном журналом «Штурм»16, среди прочих выставляются произведения русских художников: Д. Бурлюка,
В. Кандинского, Н. Гончаровой и др.; берлинский Оперхаус, готовящий постановку «Бориса Годунова», предполагает пригласить на гастроли Федора Шаляпина, а в Камерном театре (Kammerspiele) Макса Рейнхарда в его постановке с успехом прошла премьера последней пьесы Стриндберга.
Из раздела «скандальная хроника» можно отметить конфликт И.М. Троцкого с Б.Н. Рубинштейном, бывшим тогда директором «Издательства И.П. Ладыжникова», из-за невыплаченных полностью денег наследникам Л.Н. Толстого от продажи его книг, выпущенных издательством. И.М. Троцкий представлял сторону истца — графини А.Л. Толстой, дочери покойного писателя17. По ее поручению Троцкий выступил в печати с обвинениями в адрес издательства. Б.Н. Рубинштейн, в свою очередь, отрицая какую-либо задолженность издательства наследникам Толстого, попытался через знакомые ему журналистские круги бросить тень на личность И.М. Троцкого.
Вы помчались к моим коллегам по перу, прося их разоблачить меня в их органах печати. <...> Издательство не представило полного отчета о порученных ему действиях и не уплатило всех денег, которые получило и обязано было уплатить. <...> <Поскольку> «Издательство Ладыжникова» и Вы, г. Рубинштейн — это синонимы18 <...>, в одном лишь смею вас уверить: за Вашим спором с наследниками Л.Н. Толстого я особенно тщательно слежу. Будьте уверены, что никакие угрозы не остановят меня сказать правду русскому обществу об этом печальном конфликте.
Конфликт был исчерпан, по-видимому, благодаря соглашению между сторонами, поскольку и после революции берлинское «Издательство И.П. Ладыжникова» продолжало издавать произведения Толстого и книги о нем. Чтобы понять, почему И.М. Троцкий стал столь рьяно представлять интересы наследников Толстого, обратим внимание на объявление, напечатанное в газете «Заграничные отклики» в начале 1914-го:
Московское общество драматургов, писателей и композиторов в виду заключения российско-германской конвенции и для охраны авторских прав русских драматургов, а также для сношения с немецкими авторами, избрало своим представителем в Германии берлинского корреспондента «Русского слова» И.М. Троцкого.
Здесь тоже не обошлось без склоки: журналист Оскар Норвежский печатно заявил, будто И.М. Троцкого никто не избирал, на что последний опубликовал письмо Общества за подписью его секретаря, снимающее все сомнения по поводу его полномочий.
Другим событием, возмутившим «Зарубежные отклики» была высылка из Германии А.В. Луначарского, последовавшая после прочитанной им лекции о Максиме Горьком, по всей видимости, по негласной просьбе русского посольства. А 19 июля 1914 г. газета публикует передовицу Я. Неволина о варварском разгоне мирного протестного выступления рабочих в Петербурге:
Страшное озлобление, порожденное не только отчаянием, но и сознанием необходимости отстоять свои человеческие права, возбудили в них <рабочих — М.У.> необыкновенное напряжение энергии, настойчивости и героического упрямства.
Читайте описание кровавых столкновений на Выборгской стороне и в других пунктах города и вы поразитесь стойкости рабочих масс, не отступающих не только перед татарским орудием пытки — нагайкой, но и перед расстрелом.
Бросается в глаза, что из всех политических событий, которым газета уделяет внимание в горячие предвоенные месяцы 1914 г., меньше всего места отводится темам, непосредственно связанным с грядущей войной. Балканский кризис и даже сараевское убийство эрцгерцога Фердинанда и его супруги освещаются на удивление скупо, как бы между прочим! Откуда можно сделать вывод, что политический нюх не был сильной стороной редакции «Заграничных откликов». Да и впоследствии И.М. Троцкий вспоминал, что русские в Германии жили беспечно и благодушно и меньше всего на свете ожидали, что вот-вот разразится Мировая война19.
Что касается информации о культурной жизни, то она представлена в газете в изобилии, причем в основном на эти темы пишет сам Илья Маркович. Диапазон его культурных интересов достаточно широк. Например, статья о скончавшемся 2 апреля 1914 г. в Мюнхене немецком лауреате Нобелевской премии по литературе Пауле Хайзе. В этом, по определению Г. Брандеса, продолжателе гетевской классической линии (Хайзе родился за два года до смерти Гете), властителе умов немецкого бюргерства второй половины XIX столетия — главным образом его идеалистически настроенной женской половины, Троцкий видит только хорошо забытое прошлое:
Молодое поколение, предводительствуемое Гауптманом и Зудерманом, отвернулось от дамского кумира. Социальная драма и реалистический роман «молодой Германии», натуралистическая школа Золя и Мопассана, быстро вытеснили выспренного Пауля Хайзе, витавшего мыслями в голубом небе Италии. <...> Даже поднесенная ему в 1910 г. Нобелевская премия за литературу не могла воскресить его былого обаяния на умы и сердце читателей.
Куда более высокую оценку заслуживает у И.М. Троцкого предшественник немецкого экспрессионизма Франк Ведекинд. При этом, однако, Илья Маркович, будучи сугубым реалистом, относился к его художественным новациям с опаской. Недаром же он свою раннюю статью в «Русском слове» о Ведекинде назвал «Провал пьес Франка Ведекинда»20, хотя, судя по всему, речь могла идти не более как об очередном эстетическом эпатаже и связанном с ним скандале. Потому, видимо, свою вторую статью о писателе, опубликованную за две недели до начала Первой мировой войны в газете «Заграничные отклики», журналист заканчивает словами:
Теперь, когда Ведекинду уже минуло пятьдесят лет, трудно от него ждать экстравагантностей и философских экспериментов. Возраст, как известно, обязывает.
Особый интерес представляют статьи Троцкого в «Заграничных откликах», касающиеся восприятия немецкими читателями и зрителями литературных и драматических произведений писателей из первого эшелона русской лите-ратуры — Достоевского, Толстого, Чехова, Горького и др. Например, в большой статье «Чехов в Германии» от 05(18) июля 1914 г. он пишет:
На днях исполнилось десятилетие со дня смерти незабвенного Антона Павловича Чехова <...>. Как это ни печально, но Чехова в Германии еще не понимают. Его пьесы терпят в большинстве фиаско и редкий театр рискнет сейчас выступить с произведениями нашего безвременно ушедшего таланта. <...>
Спросите рядового немецкого читателя из среднего интеллигентного круга — знает ли он Чехова, и вы получите в ответ: «А как же? Знаю!» Но поговорите с ним на эту тему и вы убедитесь, что он знает не Антона Чехова, а Антошу Чехонте. Ни один писатель за исключением Горького, Достоевского и Мережковского не имел в Германии такого успеха, как Антоша Чехонте.
Блестящий юмор, искристый смех и неподдельный стиль чеховских миниатюр <...> встречены были в Германии с распростертыми объятьями. Не было журнала и газеты, где Чехов не появлялся бы. <...> Одно время за чеховскими вещицами положительно гонялись. Немецкие газеты, <...>, где за место в тексте чуть ли не дерутся, увидели в Чехове спасителя. Короток, остроумен, захватывающ!.. Настоящий клад! <...>
Переводчики делали золотые дела. Маленькие рассказы появлялись в десятках переводов, один другого хуже, но это нисколько не останавливало издателей. Ажиотаж вокруг чеховских произведений разрастался; однако он не вплетал лавров в его венок славы. В то время как у нас на Антона Павловича смотрели, как на носителя нового слова, создателя новой школы, здесь в нем видели лишь веселого и шаловливого фельетониста, <...> с сильно развитым импрессионистическим чутьем, тонко улавливающим прозу жизни со всей ее пошлостью и мещанством. Такое отношение отразилось крайне отрицательно на драматических произведениях Чехова. Переводчики, нажившиеся на Антоше Чехонте, не сомневались в успехе чеховских пьес. Опьяненные успехом юмористических рассказов и неиссякаемым на них спросом, они набросились на драмы. <...> Увы, ни один из берлинских театров не захотел поставить «Чайку».
Нет игры, движения, жизни! Слабый замысел, имитация «дикой утки» Ибсена — таков был стереотипный ответ. <...> Дерзнул на постановку пьесы <лишь один> театр, но и он потерпел крушение. Ни спасли «Чайку» ни прекрасная игра актеров, ни дивная постановка. Критика отнеслась к ней больше чем жестоко, а публика зевала и ничего не понимала. Здесь сказалось давнишнее отношение к Чехову.
— Помилуйте, как же так? Прекрасный юморист, недурной новеллист и, вдруг, в драматурги. Это не годится!
Такими словами можно было бы охарактеризовать общий отзыв критики о Чехове-драматурге. Разумеется, что и другие пьесы подверглись той же участи. <...>
Не доросли до Чехова — вернейшее определение немецкого понимания. Я эти слова когда-то слышал из уст Артура Шницлера. Помню, слышал с какой любовью и теплотой говорил мне современный немецкий писатель-драматург о нашем Антоне Павловиче. Это было в Вене в одно из моих посещений Шницлера.
Он тогда заканчивал свой роман «Путь к свободе» и с особенной гордостью подчеркивал, что многие знакомые, читавшие его произведение вчерне, находили в нем много чеховских красок и настроений.
— Меня сравнивают с Чеховым. Что может быть лестнее?
Как видите, Чехова умеют ценить. Но кто? Писатели, драматурги, литераторы — люди, стоящие выше рядовой массы, выше самодовольных посредственностей.
Большой читатель <...> если и знает, то лишь Антошу Чехонте, а не великого Антона Чехова. Стоит прибегнуть к простому сравнению, чтобы в этом убедиться. Горький и Чехов!.. О первом написаны целые тома, его произведения вышли в сотнях тысяч экземпляров, портреты появились и появляются во всех иллюстрированных журналах, издатели насчитываются десятками. На Горьком некоторые молодые литераторы и рецензенты сделали себе имя. Горький читается сейчас в Германии не меньше, а может быть даже и больше, чем у себя на родине. Горький создал вокруг себя не только критическую литературу и круг почитателей, но и культ горькоманов. Не то что Чехов! Его издания на немецком языке насчитываются единицами. <...> Критика говорила о Чехове как-то урывками и нехотя, будто делала ему одолжение. <...>
Земля, где Чехова не знают и не понимают. Правда, великому русскому писателю и при жизни слава казалась лишь мишурой. Но все-таки... Вот уж поистине к кому можно применить некрасовское:
Братья-писатели, в вашей судьбе Что-то лежит роковое.
Роковой была жизнь, роковым был конец Антона Павловича.
Его упреки в людском непонимании как нельзя лучше подходят к Германии. Может быть, немцы его еще откроют, как это происходит сейчас с Достоевским. Но пока его мало знают.
Чужд Чехов немцам! Чужды им его герои с их бескрылыми надеждами, далека их психология и непонятны их порывы.
В этом сказывается разница культур, миросозерцаний и общественных настроений.
С последнего десятилетия XIX в. и вплоть до начала Первой мировой войны (28 июля 1914 г.) число русских граждан, длительное время проживающих в Германии, непрерывно росло. Наиболее представительной группой россиян были учащиеся. Только в одном Берлинском университете число русских студентов в 1913 г. составляло 8% от общей численности всех учащихся (большинство из них числилось на медицинском факультете). В Берлинском высшем техническом училище (TH-Schule) процент русских студентов был почти в два раза меньше21.
По свидетельству И.М. Троцкого, берлинская русская колония помимо студентов состояла из людей, давно и прочно осевших в Берлине, — частью из представителей литературного, научного и художественного мира, приехавших в Германию работать и учиться. Жила она мирно, спокойно и довольно солидарно. Отношения ее с берлинскими властями не внушали никаких опасений за возможность осложнений. Даже небольшая группа политических эмигрантов, державшихся особняком от прочей колонии, чувствовала себя в сравнительной безопасности от поползновений царской охранки22.
Нельзя не отметить, что, рассказывая о «солидарности», И.М. Троцкий явно смотрит в прошлое через розовые очки. В русских колониях, являвшихся своего рода калькой русского социума тех лет, существовали свои структурные уровни, и не только политические эмигранты держались особняком. Консервативно настроенные русские студенты, например, дистанцировались, а часто и конфликтовали с еврейскими соотечественниками, как правило, либералами, вольнодумцами, а то и социал-демократами. В столкновениях на этой почве под раздачу попадал и сам И.М. Троцкий, выказывавший на страницах «Русского слова» либерально-демократические взгляды, которые часто задевали представителей правого лагеря. Так, например, в 1911 г. российское посольство подало на него в суд, обвинив в клевете и оскорблении. Истца возмутило, что в своих корреспонденциях журналист назвал «Землячество русских студентов»23 в Берлине «черносотенным землячеством», — фактически так и было — и вдобавок утверждал, что его деятельность финансово поддерживается посольством. На суде защитником И. Троцкого выступал Карл Либкнехт. Процесс был проигран, и И.М. Троцкий уплатил штраф24. Однако, освещая этот процесс в «Русском слове», Троцкий описал совсем иной финал этой истории25:
Кстати сказать, землячество, стоящее близко к посольству и консульству, никогда не пользовалось симпатиями широких студенческих кругов. <...>
Депутаты Либкнехт и Корфанти, обрушившись на правительство за царящие в университете порядки, не пощадили и землячества».
Они обрисовали его очень нелестно, назвав членов его попрошайками и указав, что они существуют за счет «истиннорусских» покровителей, преследуют антисемитские тенденции, отмежевываются от прочего нуждающегося студенчества.
Я предал по телеграфу в «Русское Слово» содержание парламентских прений и в своей депеше, реферируя речи Либкнехта и Корфанти, употребил выражение «далее ораторы разоблачили черносотенное землячество, субсидируемое посольством».
Землячество усмотрело в этой фразе оскорбление и прислало ко мне депутацию из нескольких членов с предложением отказаться от своих слов и реабилитировать его во мнении читателей «Русского Слова». Я, разумеется, от этого наотрез отказался, указав землячеству, что оно обратилось не по тому адресу, ибо реабилитировать его могут лишь Либкнехт и Корфанти, а не я.
Однако землячество рассудило иначе и привлекло меня к ответственности за оскорбление в печати. Моим защитником выступил депутат-адвокат Либкнехт, а землячество пригласило себе в защитники известного антисемитского деятеля, адвоката Бредерека, подчеркнув этим лишний раз свое политическое мировоззрение.
В первый раз процесс разбирался пред шарлоттенбургским судом. Инкриминируемую фразу суд признал оскорбительной и приговорил меня к 150 маркам штрафа, с заменою в случае несостоятельности пятнадцатью сутками ареста, и несению всех судебных издержек. Торжеству землячества не было пределов... Но депутат Либкнехт, по моей просьбе обжаловал приговор в высшую инстанцию — Landesgericht.
Ко второму разбору, который состоялся в среду, 17-го (4-го) апреля, мой защитник, как и вызванные по его настоянию эксперты явились во всеоружии данных по вопросу о «черносотенстве».
Тут фигурировали статьи Меньшикова26, думские отчеты о союзе «истиннорусских людей», парламентские стенограммы ландтага и еще уйма другого материала, доказывающего однородность понятий: «черносотенцы» и так называющие себя «истиннорусские люди».
Дело, однако, до разбора не дошло.
Суд, по формальным причинам, постановил дело за неясностью прекратить.
Таким образом, землячеству придется теперь нести довольно значительные судебные издержки.
Андрей Седых в своей статье-некрологе27 особо подчеркивает, что:
Влияние заграничных корреспондентов столичных русских газет в эти годы было очень велико, — с ними считались и министры и дипломаты и нередко через журналистов, неофициальным путем, в Петербург давали знать то, что нельзя было сказать в официальных нотах. И.М. Троцкий много раз участвовал в этой закулисной игре. Он знал германского премьер-министра фон Бюлова, встречался с Бетман Гольвегом и кайзером Вильгельмом II28, с русскими министрами, приезжавшими в Германию.
Сам Илья Маркович рассказывает в одной из своих статей-воспоминаний29 забавную историю на тему «политическая закулиса», связанную с визитом в 1912 г. в Германию британского военного министра лорда Холдейна. Из этой статьи можно судить и о его личном авторитете как «серьезного» журналиста и о внимании, с каким русское правительство относилось тогда к политическим новостям, публикуемым в «Русском слове».
Итак, И.М. Троцкий пишет, что по прибытию лорда Холдейна германский МИД опубликовал заявление о цели его визита, в котором «кратко, но малоубедительно» сообщалось:
Лорд Холдейн как бывший студент Лейпцигского университета, любя и ценя германское искусство, решил освежить свои познания и осмотреть некоторые берлинские музеи и картинные галереи. <...>
Я, состоя тогда берлинским корреспондентом «Русского слова», догадывался приблизительно, зачем почтенный британский муж пожаловал в Берлин и решил добиться свидания с ним. Редакция «Русск<ого> слова» и, особливо, ее беспримерный редактор Ф.И. Благов на расходы по информации не скупились. На информацию читателя можно было тратить любые деньги.
Я послал лорду Холдейну городскую депешу, прося меня принять.
На другой день состоялось свидание. Лорд Холдейн, <...>, отлично говорящий по-немецки, принял меня чрезвычайно приветливо.
Не ожидая обычных вопросов интервьюера, он стал рассказывать о своих заданиях в Берлине.
Говорил о том, что конферировал с тогдашним премьер-министром фон Бетман-Гольвегом, с фон Тирпицем и другими тогдашними политическими деятелями Германии. Рассказывал о сделанном им предложении о взаимном сокращении англо-германских морских вооружений, не преминул упомянуть о трудностях переговоров и о чинимом фон Тирпицем в этом направлении противодействии.
Короче, рассказывал такие интимные подробности, которые журналисту редко приходилось слышать от дипломата.
Слушая Холдейна, я решительно не понимал, чем я ему обязан подобной откровенностью.
Загадка, однако, скоро разъяснилась. Прощаясь Холдейн, улыбаясь сказал: «Пожалуйста, не звука об этом в газете. Вся, что я сообщил, это только для Вашей личной информации». <...> Вот тебе и сенсационное интервью!
Но я решил спасти положение и <...> рассказал лорду Холдейну следующий пикантный факт <...> из жизни одного германского журналиста в эпоху Бисмарка:
«Однажды “Железный канцлер” пригласил к себе покойного редактора “Берзен-курьера”30 доктора Клаузнера, игравшего видную роль в германской публицистике.
Бисмарк любезно принял журналиста и сообщил ему известие большой государственной важности, предварив, однако, что об этом в газете и заикнуться нельзя.
— Помните, доктор, я вам доверил государственную тайну.
<...>
Клаузнер, польщенный доверием “Железного канцлера”, крепко держал язык за зубами.
Через несколько дней Бисмарк снова зовет к себе журналиста, опять рассказывает ему то же самое и опять напоминает об обете молчания. Клаузнер остается верен данному обещанию.
Проходит неделя, и Клаузнер сызнова у Бисмарка:
— Почему в вашей газете нет ничего из того что я вам рассказал? — Ваше сиятельство!.. <...> Вы говорили о государственной тайне... — Эх, вы! Неужели вы полагаете, что государственную тайну я доверю именно вам?!»
— Я рассказал вам, милорд, этот эпизод в надежде на то, что вы не захотите меня поставить в такое же глупое положение. Все вами сообщенное я сегодня же опубликую, а заодно расскажу читателям и эпизод Бисмарк-Клаузнер.
Лорд Холдейн рассмеялся, но ничего не сказал.
Разумеется, я немедленно все это напечатал в «Русском слове».
Беседа с Холдейном всполошила Петербург. Бывший министр Сазонов потребовал от «Петербургского телеграфного агентства»31 проверить через своего берлинского корреспондента аутентичность беседы. <...> Британский лорд и министр не опроверг подлинности беседы. <...> он только спросил, была ли статья <...> подписана моим именем. Ему ответили утвердительно.
— Если джентльмен подписывает статью своею фамилией, значит ее содержание аутентично.
И все же на основании анализа всего корпуса публицистического и эпистолярного наследия И.М. Троцкого можно с уверенность утверждать, что политика никогда не была его «коньком». Он отдавал ей дань «по обязанности», а настоящие интересы его всегда были связаны с миром искусства, главным образом с жизнью литературной среды. Как и в российских столицах, в Берлине он был вхож в литературные салоны, «куда доступ открыт был лишь для приглашенных». В одном из таких салонов И.М. Троцкий познакомился, а затем и сдружился с «младшим графом Хюзлер-Хезлером» (о нем см. ниже) — бывшим прусским офицером, оставившим военную карьеру ради занятий литературой:
Мы обменивались письмами, строили всякого рода издательские планы, из которых ровно ничего не вышло. Они рухнули в огне вспыхнувшей мировой войны32.
В начале XX в. наблюдалась резкая активизация русско-немецких культурных связей. Значительное число молодых русских художников училось в Мюнхене (И. Грабарь, В. Кан-динский, Д. Кардовский, А. Явленский и др.). Из них наибольшую мировую известность получил Василий Кандинский — один из крупнейших художников-модернистов XX столетия.
Русскую музыкальную культуру в Берлине 1910-х представлял артистический салон супругов Кусевицких, который уже упоминался в разделе Гл. 2 «Осип Дымов».
В довоенной русской колонии Берлина салон знаменитого дирижера Сергея Кусевицкого играл большую культурную роль. Барский особняк в Тиргартене, в котором жил Кусевицкий, сочетал в себе две стихии: подлинное искусство и непревзойденное московское хлебосольство.
Девятьсот десятый год — заря его феерической артистической карьеры. По тому времени Кусевицкий был известен как исключительный мастер контрабаса, чаровавший музыкальный Берлин игрой на этом второстепенном инструменте. <...>
<Однако> Кусевицкий мечтал о дирижерской палочке. В его салоне, где постоянно были Никиш, Скрябин, Рахманинов, Глиэр, Рейнгардт, Станиславский, Шаляпин, Собинов и другие звезды литературного и артистического миров, нетрудно было подыскать себе достойного учителя.
И мэтром Кусевицкого оказался не кто иной, как покойный Никиш.
Меня в дом Кусевицкого ввел <...> один из сотрудников «Русского слова». С С.А. Кусевицким и его умной и тонкой супругой Натальей, урожденной Ушковой, мы быстро сошлись и часто друг у друга бывали. Для меня, юного тогда журналиста, стремившегося к завоеванию шпор в русской журналистике, дом Кусевицких являлся настоящим кладом.
Попасть в салон Кусевицкого могли только избранные.
Видеть Никита33 за дирижерским пультом, слышать произведения Скрябина и Рахманинова в оркестровом исполнении, восторгаться Шаляпиным в концерте или опере — великое наслаждение. Но значительно интереснее встречаться с этими людьми запросто, в домашнем кругу за чашкой чая или стаканом вина. А этого достичь можно было только в доме у Кусевицких. Сюда признанные артисты, художники и писатели являлись не во фра-ках и с казенной улыбкой на устах, а запросто, как к себе домой. Здесь не перед кем было надевать маску обязательной вежливости, изощряться в комплиментах и говорить пустые слова. Тут все друг друга знали, равно как знали художественную ценность каждого в отдельности. Вечера у Кусевицких (а сколько их было!) кончались на заре. Ночи пролетали незаметно. Одно время над умами салона царил безраздельно Скрябин. Стихия его могучего музыкального творчества с трудом прокладывала себе дорогу в насквозь вагнеровской Германии.
Маленький, застенчивый и на редкость скромный Скрябин неохотно говорил о своих творческих планах. Беседам о музыке он предпочитал развитие своих взглядов на теософию. Теософ по мировоззрению, он всюду и везде вербовал прозелитов. Как сейчас, вижу его рядом с огромным холодным и замкнутым Рахманиновым, которого <он> пытается обратить в свою теософскую веру.
И сколько бедному Скрябину приходилось выслушивать колких шуточек от смешливого и острого на язык талантливого пианиста Леонида Крейцера34.
— Тише, господа! Не шутите! Скрябин говорит об астральном теле и собирается вызвать дух Бетховена...
<...> Осип Дымов имитирует тут же Скрябина, вызывая дружный хохот35.
Сергей Александрович Кусевицкий — выдающийся дирижер, музыкально-общественный деятель, основатель первого в России государственного симфонического оркестра и первого русского музыкального издательства, начинал свою деятельность как исполнитель. Инструментом, который чуть ли не впервые стал солирующим именно в его руках, был контрабас. В 1920 г. он стал невозвращенцем, пополнив своим именем список великих деятелей русской культуры среди эмигрантов первой волны. Знаменитый виолончелист Григорий Пятигорский писал36:
Там, где пребывал Сергей Александрович Кусевицкий, законов не существовало. Все, что препятствовало выполнению его за-мыслов, сметалось с дороги и становилось бессильным перед его сокрушающей волей к созданию музыкальных монументов... Его энтузиазм и безошибочная интуиция прокладывали путь молодежи, ободряли опытных мастеров, нуждающихся в этом, воспламеняли публику, которая, в свою очередь, вдохновляла его к дальнейшему творчеству... Его видели в ярости и в нежном настроении, в порыве энтузиазма, счастливым, в слезах, но никто не видел его равнодушным. Все вокруг него казалось возвышенным и значительным, каждый его день превращался в праздник. Общение было для него постоянной, жгучей потребностью. Каждое исполнение — фактом исключительно важным. Он обладал магическим даром преображать даже пустяк в настоятельную необходимость, потому что в вопросах искусства для него пустяков не существовало.
Жизни и деятельности Кусевицкого посвящено немало книг. Мы же приведем здесь лишь несколько важных в культурно-историческом плане замечаний и характерных деталей, относящихся к раннему берлинскому периоду жизни музыканта, «в те счастливые годы, когда на европейском континенте царил нерушимый мир» — из числа тех, что сохранил в своей памяти И.М. Троцкий:
Берлин эпохи Гогенцоллернов пользовался в художественном мире Европы репутацией духовного центра и носителем немецкой музыкальной традиции. <...> Подмостки берлинских опер и эстрады концертных зал <были> для многих служителей искусства трамплином для мирового признания и славы. Попытал счастья на этих подмостках прославленный в Москве, но незнакомый Берлину контрабасист Сергей Кусевицкий. <...>
Уже первое выступление Кусевицкого на столь необычайном для солиста инструменте, как контрабас, обратило на себя внимание серьезной берлинской критики. Его последующие концерты буквально завоевали берлинцев, вызвали среди них искренний энтузиазм и создали Кусевицкому реноме непревзойденного мастера контрабаса.
Но молодой <...> Кусевицкий мечтал о дирижерском пульте, дирижерской палочке. <...> Соблазн ступить на новый путь дирижера велик, но цена его слишком дорога. Отказаться от лестного звания виртуоза и облечь себя на несколько лет упорного труда — шаг смелый и рискованный. <...> Колебаниям и внутренним терзаниям Кусевицкого кладет конец его тогдашняя спутница жизни — Наталья <Константиновна> Ушкова37. Женщина большой воли, она побуждает мужа идти на риск.
Чета Кусевицких селится в Берлине. Барский особняк в тихом и очаровательном некогда Тиргартене38 становится их домом. <...>
Первый дебют С.А. Кусевицкого в роли дирижера Берлинского симфонического оркестра способен был усугубить одолевавшие его сомнения. Программа концерта, посвященная почти полностью творчеству Скрябина и первый публичный дирижерский опыт — были встречены публикою и критикой весьма сдержанно. Последующий концерт в той же филармонии, с участием в программе Шаляпина и Собинова, умножил лавры прославленных певцов, но не поднял престиж молодого дирижера. Гастроль в Москве тоже не прибавила славы С.А. Кусевицкому. Избалованная московская публика критически встретила его интерпретацию классического репертуара и стиль дирижирования. Только два человека никогда не сомневались в таланте С.А. — его собственная жена и Артур Никиш.
Феерическая карьера С.А. Кусевицкого началась значительно позже и по оставлению им <гогенцоллерновского> Берлина. <...>
Дом Кусевицких как-то незаметно стал адресом и для представителей русского искусства, приезжавших на гастроли в Германию, или направлявшихся дальше на Запад. Его двери широко открыты были для всех деятелей искусства, равно как и для работников мысли и пера.
«Четверги» в доме Кусевицких почитались как наиболее привлекательные в тогдашнем интеллектуальном Берлине. В салоне Кусевицких можно было встретить и робких начинающих и громкие имена. Целая плеяда знаменитых русских имен прошла через его гостеприимные двери. Рахманинов, Скрябин, Глиэр, Глазунов <...> тут были свои люди.
Голоса Федора Шаляпина и Леонида Собинова часто звучали в стенах особняка, вырываясь победными звуками через окна и останавливая изумленных прохожих. <...>
Если «четверги» Кусевицких были интересны, то еще интереснее в художественном смысле были их интимные вечера. Здесь в тесном кругу друзей собирались только избранные и близкие люди. Не знаю, уцелел ли особняк на Дракештрассе, но если он сохранился, то его стены могли бы многое рассказать про те годы, когда в них жила чета Кусевицких. <...> <А> сколько смеха и неподдельного веселья вносил в эти вечера <Осип Дымов> своим брызжущим юмором и даром имитатора! <...>
Особенностью дома Кусевицких служила их горничная — прехорошенькая испанка. Почему в немецком Берлине, где слуг можно было иметь в любом количестве, горничной в русской семье служила испанка, не говорившая ни по-русски, ни по-немецки — оставалось загадкою.
Не меньшею загадкой являлась любимая собачка Натальи Константиновны — маленький японский бульдог, существо на редкость злое и коварное. <...> Не сосчитать количества штрафов, которые Кусевицкие уплатили из-за каверзной натуры своей любимицы.
— Выбрось, Сергей, этого дьяволенка, или я его раздавлю!.. — гремел Федор Иванович Шаляпин.
Но над собакой довлела любящая рука хозяйки дома. А кто мог перечить воле всесильной Натальи Константиновны?39
Еще одним оригинальным «внешним заимствованием» на немецкой культурной сцене XX в. была деятельность русских евреев-литераторов, перебравшихся в Германию (П. Бархан, А. Элиасберг и др.). Успешно ассимилировавшись в благодушно настроенной по отношению к подобного рода «чужакам» среде, эти талантливые и широко образованные люди стали играть роль «превосходных посредников» — по определению Томаса Манна, связующих русскую и немецкую культуры40.
И.М. Троцкий в свой «русскословский» период тоже пытался подвизаться на этой почве. Однако в отличии, скажем, от Бархана, который, заявляя себя на немецкой литературной сцене в основном в трех качествах: автором очерков из русской жизни (потом и из немецкой жизни), переводчиком (сначала с идиш, потом с русского языка) и автором очерков о современных художниках (прежде всего выходцах из России). <...> не стремился при этом переводить свои произведения на русский и сотрудничать с периодическими и книжными издательствами в России, полагая, что «нет России вне России»41,
— наш герой отнюдь не горел желанием натурализоваться, стать просвещенным немцем при всей своей приспособляемости и наличии обширных деловых связей на самом высоком уровне германского общества. И все же, вопреки мнению В. Жаботинского о том, что еврей легко приобретает личину того народа, которому служит и где ему хорошо:
Где переночевали, там и присягнули, а выйдя вон — наплевали? Эх, вы, патриоты каждого полустанка...42,
— И.М. Троцкий не сделал ни малейшей попытки онемечиться, ибо был не только горячим патриотом России, но и на редкость цельной личностью, в которой три составляющих — еврей, русский интеллигент и литератор — образовывали гармоничное единство.
Увы, к концу XX в. этот яркий и разносторонний тип личности сошел с исторической сцены.
Граф С.Ю. Витте и Первая мировая война
До начала Первой мировой войны отношения между двумя империями внешне были вполне нормальными, и русские отдыхающие валом валили в Германию. А «в год войны», как пишет И.М. Троцкий:
Русский сезон в Германии <...> войны был по многолюдности совершенно исключительный. Русские приезжие положительно наводнили Германию. Берлин, Дрезден, Мюнхен, лечебные курорты, бады43 и просто дачные места кишмя кишели русскими. Люди, никогда за границу не ездившие, по какому-то фатальному наитию понеслись в Германию. <...> Россияне, ушедшие с головой в покупки, лечение и наслаждения «за границею», слышать не хотели о войне и не верили в ее возможность44.
Хотя Первая мировая война началась после затяжного политического кризиса, в целом в большинстве стран Европы даже весьма искушенные в политике и информированные люди надеялись, что все обойдется, и дипломаты за столом переговоров найдут компромиссные решения. Увы, эти ожидания были похоронены 28 июля 1914 г., когда Австро-Венгрия объявила войну королевству Сербии. Затем, 1 августа Германия объявила войну России, а 3 августа — Франции. Великобритания вступила в войну 5 августа, после вторжения немцев в нейтральную Бельгию. С этого момента, по существу, уходит в прошлое эпоха европейского модерна, в которой сложился феномен русской культуры «Серебряного века». Начало Первой мировой войны знаменует новый исторический период — затяжного лихолетья, принесший войны, революцию, изгнание... и, как следствие, крушение надежд и амбициозных планов Ильи Троцкого.
Статьи, написанные И.М. Троцким по случаю десятилетней45 и пятнадцатилетней46 годовщины начала Первой мировой войны, —интересные исторические свидетельства, в которых с точки зрения русского очевидца событий подробно описывается атмосфера, царившая в Германии на момент объявления войны, когда:
«Европа, словно сорвавшись с петель, вздыбилась и понеслась с головокружительною быстротою навстречу собственной катастрофе».
В начале статьи «С.Ю. Витте и мировая война» И.М. Троцкий рисует контрастную обстановку «затишья перед бурей» — накаленного до предела политическими страстями:
Неподалеку от Франкфурта <...> лежит небольшой курорт Зальцшлирф47. Укрывшись в тени зеленых, гор пирамидальных тополей и стройных елей, этот малоизвестный курорт, удачно конкурирует с Карлсбадом, давая приют ревматикам, подагрикам и больным почками. С.Ю. Витте, бывший не у дел, облюбовал Зальцшлирф и жил летом 1914 года в его тихом уединении в обществе своего внука маленького Нарышкина48. <...>
Курортная повседневность Зальцшлирфа монотонна, однообразна, протекает в рамках строгого режима и редко нарушаемого ритма. Один день похож на другой, словно две половинки яйца. С раннего утра аллеи перка вокруг целебных источников заполняются курортными гостями, фланирующими со стаканом в руках, глотая горькую воду. Одни устремляются к фосфорно-иодистым баням, пытаясь пораньше покончить с процедурой принятия ванн, другие заполняют террасы отелей и кофеен в ожидании утреннего завтрака. В промежутках курортный оркестр развлекает публику49.
Директором курорта состоял некий Хеселер, очень интересный человек, философски и литературно глубоко образованный <...>. С Хеселером я хорошо знаком был по частным встречам в берлинских литературных кругах50.
Далее И.М. Троцкий рассказывает, что весной 1914 г. он неожиданно получил от этого своего знакомого телеграмму с приглашением приехать в Зальцшлирф «по неотложному и важному делу». В дальнейшем, по прошествии более чем сорока лет со дня написания первой статьи о встречах с графом Витте, Троцкий подробно характеризует личность директора курорта, относя его — в положительном смысле — к «странной разновидности прусской аристократии». Он именует его при этом не иначе, как граф Хюльзен-Хеселер (Hulsen-Haeseler), и сообщает читателю51:
В прошлом гвардейский офицер с крупными связями при дворе императора Вильгельма Второго граф Хюльзен-Хеселер неожиданно для своих однополчан снял военный мундир, сменив службу Марсу служением Аполлону. На новом поприще служителя пера он ушел с головой в стихию морей, рек и озер, чей подводный мир с его немыми обитателями он мастерски литературно живописал. Социальную метаморфозу в личной карьере графа Хюльзен-Хеселера объясняли влиянием его старшего брата — видной по тем временам фигурой в берлинских литературных и артистических кругах.
Бывший офицер-аристократ, приближенный кайзера Вильгельма II, и в тоже время большой знаток музыкальной культуры старший граф Хюльзен-Хеселер, выйдя в отставку (1893 г.), возглавил «Новый королевский дворцовый театр» («Neues königliches Hoftheater») в Висбадене, где под патронажем кайзера организовал Первый международный майский музыкальный фестиваль (1896). Впоследствии он стал генеральным директором всех королевских театров в Пруссии и Ганновере.
Оба брата отличались исключительной простотой, внимательностью и доброжелательностью <в общении с людьми — М.У.>, не в пример спесивым прусским аристократам из чьей среды они вышли.
Почему младший граф Хюльзен-Хеселер согласился администрировать курорт <Бад> Зальцшлифт, казалось мне еще более загадочным, нежели его уход из армии.
Осенние и зимние месяцы года титулованный директор <Бад> Зальцшлифта неизменно проводил в Берлине, просиживая целые ночи в излюбленных литературной и артистической братией кофейнях и ресторанах. Бывал он частым гостем и в тех литературных салонах, куда доступ открыт был только для приглашенных. Мое знакомство с младшим графом Хюльзен-Хеселером, переросшее впоследствии в более дружеские отношения, завязалось в одном из таких салонов. Мы обменивались частыми письмами, строили всякого рода издательские планы, из которых ровно ничего не вышло. Они рухнули в огне вспыхнувшей мировой войны.
К вышеизложенному рассказу И.М. Троцкого можно добавить, что оба брата Хюльзен-Хеселер были сыновьями директора прусского Придворного театра графа Бодо фон Хюльзена и его супруги немецкой писательницы графини Хелены фон Хеселер, бывшей также владелицей знаменитого в последней трети XIX в. берлинского литературно-художественного салона — «Чайная Хелены» или «Кофейня художников» («Helene-Tees» oder «Künstler-Kaffees»), частым посетителем которого в частности был Рихард Вагнер. В честь графини Хелены фон Хеселер в 1857 г. военным музыкантом Фридрихом Люббертом был написан один самых популярных немецких военных маршей «Хелененмарш» («Helenenmarsch»), который используется в наше время в качестве музыкального сопровождения скетчей в популярных телевизионных сериалах «Лориот» («Loriot»).
Самым старшим из братьев фон Хюльзен-Хеселер был граф Дитрих, который сделал блестящую военную карьеру при дворе, став сначала флигель-адъютантом Вильгельма II, а затем дослужившись до чина генерала от инфантерии и поста руководителя Военного кабинета, ответственного за персональные дела прусского офицерского корпуса.
Средний брат — граф Георг, будучи приближенным императора Вильгельма II, предпочел прервать свою военную карьеру и, выйдя в отставку в чине капитана, полностью посвятил себя театральной деятельности, оставив на этом поприще заметный след в истории немецкого театра52.
Что касается приятеля И.М. Троцкого — Цезаря Георга Хюльзен-Хеселера, то он, выйдя в 1899 г. в отставку в чине обер-лейтенанта, пристроился на курорте Бад Зальцшлирф, директором которого, судя по архивным документам, проработал вплоть до 1933 г. Интересно, что в этой своей должности он не пользовался ни графским титулом, ни второй частью родовой фамилии, а скромно именовался Ц.Г. Хеселер (C.G. Haeseler). Под этим именем он издал сборник стихов «Раннее утро» («Morgengrauen» // Zürich: Stern-Verlag, 1896) и богато иллюстрированную книгу прозы «Что же нам говорит обнаженное тело?»53.
Приглашение от Хеселера посетить курорт Бад Зальцшлифт пришло в очень напряженное время. Европа стояла на пороге войны, и журналисту было явно не до курорта. Однако в телеграмме Хеселера сообщалось также о желании находящегося в Бад Зальцшлифте на отдыхе графа Витте — одного из самых авторитетных государственных мужей Европы своего времени, лично встретиться с И.М. Троцким. По всей видимости, имя этого журналиста было известно сановнику с самой лучшей стороны. Заручившись согласием редакции «Русского слова», Илья Троцкий поспешил в Бад Зальцшлирф на встречу с бывшим главой правительства России. Впервые рассказав об этом свидании в 1924 г., когда отмечалась десятилетие с момента начала Первой мировой войны, И.М. Троцкий спустя сорок лет в своих воспоминаниях о днях минувших вновь вернулся к этой теме, вводя в свои статьи много новых, весьма любопытных с исторической точки зрения подробностей.
Приехав на курорт Бад Зальцшлирф, И.М. Троцкий был в тот же день представлен своим приятелем Хюльзен-Хеселером чете Витте: графу Сергею Юльевичу, его супруге Матильде Ивановне и их внуку — «молодому Нарышкину».
После отъезда графини Сергей Юльевич и я остались как бы наедине, предоставленные самим себе. Линии наших взаимоотношений нетрудно было наметить. И этого достиг граф Витте с редкой деликатностью. <...> От первой беседы с Витте с глазу на глаз у меня не оставалось сомнений в меткости диагноза душевной настроенности портсмутского героя, поставленного <...> графом Хюльзен-Хеселером <в его пригласительном письме — М.У.>. Граф Витте воистину являл собою олицетворение «ущемленного вельможи»54.
Далее Витте поведал журналисту «о ряде событий и фактов в нашей политической жизни, едва ли знакомых широкой общественности или ложно ею истолкованных». По его словам, кампания «гнуснейших нападок» на него открылась «в 1901 году, во время моего пребывания на посту министра финансов». Поводом послужил приезд в Петербург маркиза Ито Хиробуми — японского сановника и крупного политического деятеля, стремившегося к «заключению русско-японского договора по Дальнему Востоку». Условия, предлагаемые японским дипломатом, казались Витте вполне приемлемыми, поскольку, не ущемляя русских интересов в Китае, закладывали основу для прочного мира в регионе. От России требовалось лишь вывести оккупационные войска из Маньчжурии и признать за Японией право единолично управлять Кореей.
Однако группа «высокопоставленных авантюристов, лично заинтересованных в корейских лесных концессиях», обретя большое влияние на молодого императора Николая II, сорвала подписание этого договора и таким образом ввергли Россию в позорно проигранную ею войну с Японией.
Согласно мнению Витте, покойный император Александр III — человек прямодушный, честный, но грубоватый в обращении,
был в подлинном смысле слова самодержец, искренне веровавший в свое избранничество и помазанничество. Его слово — было слово, а его решения не подлежали изменению под влиянием того или другого фаворита, случайно добравшегося до подножия трона.
— Когда император российский удит рыбу — Европа может подождать! — Это крылатое словечко, пущенное в свое время в оборот Александром Третьим <...> не звучало в его устах фразой. Он верил в величие своей монархии и в несокрушимую мощь русской армии. <...>
Нынешний государь <не> унаследовал от отца, увы, почти ничего из его мужественного и стойкого характера. <...> Он внимателен, приветлив и предельно вежлив. За ним сложилась репутация нерешительного, но очень доброго и податливого монарха. <Но все это> — притворство и маска. Николай Александрович <...> хитер, скрытен и коварен».
Кажется весьма сомнительным, чтобы столь осторожный и тонкий политик и к тому же ярый монархист, каким был граф С.Ю. Витте, позволил себя подобного рода высказывания в беседе с незнакомым ему журналистом. Скорее всего, И.М. Троцкий приукрасил свои статьи выдержками из мемуаров Витте, изданных уже после смерти сановника и гибели самой Российской империи в Берлине гессеновским издательством «Слово». Сразу ставшие бестселлером55, впоследствии они не раз переиздавались в СССР.
Воспоминания Витте <... > не носят ни характера обычных воспоминаний, ни печати хоть бы маленькая добродушия. Это, скорее, очень пространное посмертное «последнее слово» подсудимого перед судом истории, когда он, как очень умный человек, учитывая в чем, главным образом, его может обвинять история, заранее припрятал собранные за всю свою долгую государственную службу документы и затем составил на основании этих документов свое «последнее слово», а попутно, как говорится, «под сердитую руку», досталось и «всем сестрам по серьгам». Как личность, выявляющая себя из записок, Витте особых симпатий к себе не внушает, но <...> в громадном уме, больших знаниях и людей государственная аппарата, в темпераменте, ловкости, силе и той огромной роли, которую он играл в России последних десятилетии, головой стоя выше всех своих современников, — во всем этом отказать ему никто не может. Витте не любили, но все отдавали должное его уму и все его боялись56.
Однако вернемся к воспоминаниям И.М. Троцкого:
Свидание это продлилось целых три дня. <...> Часами гуляли мы с ним <С.Ю. Витте> по чудесному парку курорта и он не уставал развивать мне свои взгляды на международное положение дел.
— Вы думаете, что война неизбежна? Ошибаетесь!.. Убежден, что до этого не дойдет. <...> Николай II, правда, очень ограничен и недалек, но войны он боится. Из его памяти не изгладились еще события 1905 года. Когда в дни революции у Невы стола под парами яхта, готовая по первому тревожному зову увезти его заграницу. И знаете чья это была яхта? Императора Вильгельма... <...> Единственный выход из нынешнего международного тупика — это создание франко-русско-германского союза.
Я развивал эту мысль императору Вильгельму еще в 1905 году, гостя у него в Ромитгене, по пути из Портсмута в Россию. Император горячо ухватился за эту идею.
Он даже выказал готовность уступить Франции Лотарингию, оставив за Германией только немецкий Эльзас. <...>
Конечно, сейчас говорить о союзе поздно. Германская, как и французская и русская дипломатия наделали за последние годы массу с трудом поправимых ошибок. <...> Теперь весь вопрос в том, захотят ли в Берлине взять на себя роль «честного маклера» и успокоить Вену. А успокоить ее необходимо. Уж очень австрийские волки рвутся в бой. <...> Конечно, Вена вправе требовать кары за убийство Франца-Фердинанда. Но неужели никто не подскажет старому Францу-Иосифу мысль о грозящей, с объявлением войны, опасности для династии?!.. Локализовать войну на Австрии и Сербии немыслимо. А вмешательство России немедленно принудит Германию и Италию выполнить свои союзнические обязательства по отношению к Австро-Венгрии. Франция не сможет уже <...> оставаться в стороне. <...> Вы себе представляете, что из этого получится?!.. Это конец Европе и новая семилетняя война!57 <...> Европа обескровит себя и разорит. Она станет рабою данницею Америки. Все европейское золото уплывет за океан.
<...> Витте не столько не верил в возможность войны, сколько ее не хотел. Он болел душою за Россию и предсказывал ее поражение.
— Нет у нас людей!.. Война — смерть для России. <...> Я не вижу ни надежных генералов, ни государственных умов, способных организовать тыл и обеспечить фронт. <...> Попомните мои слова: Россия первая очутится под колесом истории. <...> Она станет ареной чужеземного нашествия и внутренней братоубийственной войны. Сомневаюсь, чтобы уцелела династия! Россия не может и не должна воевать58.
Не один И.М. Троцкий в эти дни был принят Витте.
А.И. Браудо59 тенью пронесся по Зальцшлирфу — всего лишь одни сутки, однако впечатление от знакомства с ним осталось неизгладимым в памяти. С.Ю. Витте, сдержанный по натуре и заметно соблюдавший дистанцию в отношениях с людьми, чутко прислушивался к его словам, как бы взвешивая их значимость, <т.к.> А.И. Браудо — возглавитель государственной публичной библиотеки, дышал еще политическим климатом Петербурга и насыщен был богатейшей информацией, <...> вплоть до тщательно охраняемых дворцовых кулис. Говорил он медленно, спокойно.
— Четвертая Дума не пользовалась большим престижем. Власть ее игнорировали, а охранители трона — презирали. <...> Влияние «темных сил», теснившихся у трона и мечтавших о ликвидации «куцей» конституции, заметно сказывалось на настроении государя. Распутин и фрейлина государыни Вырубова влияли на царскую чету. Среди многочисленных отпрысков романовской династии господствовали зависть, склоки и интриги. Дворцы великого князя, женатого на черногорской принцессе и герцога Лейхтенбергского — мужа другой черногорской принцессы60, служили центрами сплетен и клеветы, не щадившими имени государыни Александры Федоровны в ее роли жены и матери. Помню словно сейчас, хотя миновало уже более полустолетия, как граф Витте вознегодовал при этих словах <...>.
— Один лишь человек — Григорий Распутин, успешно лечит наследника. И государь, и государыня, мистически настроенные, считают Распутина ниспосланным богом для защиты династии от грядущих зол. Делать, однако, из этого другие выводы и что хуже того — набрасывать тень на личную репутацию Александры Федоровны — беспримерная низость. На это, по-видимому, способны только черногорские принцессы — «злые духи» царствующей династии! В своей личной жизни царская семья являет собой образец редкой душевной гармонии и обоюдной любви, с которой многие из их хулителей могли бы взять пример...
<...> я не поклонник государыни и не очень высоко ценю качества ее державного супруга, но и не могу молчаливо мириться с распространяемой по их адресу клеветой...61
Здесь уместно напомнить, как сам Витте описал роль императрицы в своих мемуарах:
<Николай ІІ> женился на хорошей женщине, но на женщине совсем ненормальной и забравшей его в руки, что было нетрудно при его безвольности. Таким образом, императрица не только не уравновесила его недостатки, но напротив того в значительной степени их усугубила, и ее ненормальность начала отражаться в ненормальности некоторых действий ее августейшего супруга. Вследствие такого положения вещей с первых же годов царствования императора Николая II начались шатания то в одну, то в другую сторону и проявления различных авантюр. В общем же направление было не в смысле прогресса, а в сторону регресса62.
При столь негативном мнении об Александре Федоровне и ее влиянии на императора последующая реакция Витте на петербургские новости А.И. Браудо свидетельствует о его личной преданности престолу. Залетный гость рассказал собеседникам, что в Петербурге «переходит сейчас из рук в руки дневник А.С. Суворина издателя “Нового времени”», с компроматом на государственную власть и великих князей. И это написано человеком, «чья газета кормится государственной субсидией и коей присвоен обидный эпитет: “Чего изволите?”»63
На самом деле, речь, по-видимому, шла об отдельных выдержках из дневника, скандалезного содержания. Дневник
А.С. Суворина, в отличие от мемуаров графа Витте, писался «для себя», без оглядки на будущих читателей. Многие слова и выражения в дневнике неразборчивы или сокращены до такой степени, что нуждались в текстологической расшифровке; его научное издание появилось лишь в самом конце XX в.64 В тексте дневника действительно немало неприятных для царя Николая II и его сановников замечаний. Ничего хорошего не говорит Суворин и о тогдашней власти в целом, хотя и был для нее «свой»: «...она не стоит того, чтоб ее поддерживать». Тем, кто разделяет модные нынче в «патриотических» кругах внеисторические, инфантильно-розовые — но отнюдь не «розановские»! — взгляды на дореволюционную Россию, стоит прочесть страницы «Дневника», посвященные
Ходынке, антисемитизму Александра III, пессимистические характеристики нового царя Николая II:
«государь окружен глупцами или прохвостами», «государь сидит между стульями очень неловко», «Александр III русского коня все осаживал. Николай II запряг клячу. Он движется и не знает куда». Есть выражения и покрепче: «Можно спросить: есть ли у правительства друзья? И ответить совершенно уверенно: нет. Какие же могут быть друзья у дураков и олухов, у грабителей и воров». <А больше всего жуликов и воров было в царской семье, среди великих князей (десятки записей по всему «Дневнику»65>.
<...> «Только похвалы печатаешь с легким сердцем, а чуть тронешь этих «государственных людей”, которые, в сущности, государственные недоноски и дегенераты, и начинаешь вилять и злиться в душе и на себя, и на свое холопство, которое нет возможности скинуть»66.
И, наконец, подлинный вопль отчаяния, во всей своей трагической полноте отразивший духовное состояние русского общества «Серебряного века», жаждавшего бури:
Мне жаль затравленного зверя (революцию). Не то чтобы я жалел его острых зубов, его хищного наскока, его безумной ярости — помилуй Бог! Мне жаль улетевшей красоты этого единственного в своем роде русского медведя, столь много обещавшего и столь мало давшего. Мне жаль моих ожиданий, моей грусти, моих восторгов, моей веры и ошибок, жаль пролетевшей, как сон, молодости. Подкрадывается что-то старое, склизкое, корявое. Перед зрелищем затравленной революции я испытываю что-то среднее между тошнотой и раскаянием. Смелость сознавшей свою силу и отвагу задорной юности, наглость реакции, наглость торжествующей, злобно-сладострастной, импозантной, но похотливой энергии старости.
В дневнике записано, причем с явным удовольствием, много сплетен и эпизодов, касающихся не только власть имущих. Это эпизоды забавные, но часто далеко не лестные для многих известных людей из писательской и артистической среды — т.н. интеллектуальной элиты, ярчайшим представителем которой являлся и сам Алексей Сергеевич Суворин.
Граф Витте, по всей видимости, недолюбливавший Суворина и его «Новое время», часто критиковавшее с крайне правых позиций его политику реформ, тем не менее, отнесся к рассказу Браудо с осторожностью.
«Я дневника не читал и не могу судить, насколько правдивы и убедительны его обвинения... Я знал Суворина до того, когда его газета окрестила меня ироническим титулом “Граф Полу-сахалинский”, подхваченным всей черносотенной печатью. <...> Я равнодушен к интригам, хотя не скрою, что черносотенная травля мне по горло надоела...» <...>
Он говорил открыто, без обиняков и дал волю страстям, обуревавшим его сердце.
«Драма России в том, что нашу могущественную империю возглавляет монарх с мировоззрением рядового обывателя и духовным багажом пехотного полкового командира. Николай Второй осознает свою интеллектуальную неполноценность, вследствие чего не терпит людей, умственно его превышающих, окружая себя, по преимуществу, посредственностями. <...>
Не знаю, как подлинный образ государя выглядит в Суворинском освещении и не хитрит ли Суворин в оценке монарха, как он это делал, льстя другим сановным лицам? Моя десятилетняя деятельность на посту министра финансов, а впоследствии возглавителя Совета министров, дает мне право думать, что психология государя мною глубоко постигнута... Нерешительность, слабоволие, в сочетании с упрямством. Сознавая, совершенные им лично ошибки или крупные промахи, он нередко сваливает вину на других»67.
Для иллюстрации своей характеристики царя граф Витте, по словам И.М. Троцкого, привел ряд примеров, когда в вопросах государственной важности Николай II действовал исподтишка за спиной своего первого министра, а попадая, как правило, впросак, трусливо обвинял в неудаче своих приближенных и «широко разветвленную великокняжескую родню», которую, по словам Витте, он «с трудом переносил».
«Не счесть сходных явлений, печально отражавшихся на ходе государственных дел и приводивших, почасту, меня в отчаяние. Поразила меня, словно удар грома, одна из судьбоносных ошибок, допущенная государем во время моего пребывания в Портсмуте. Не будь эта ошибка своевременно ликвидирована <...>, имя России было бы покрыто в истории несмываемым пятном предательства. Я подразумеваю печальной памяти соглашение, заключенное государем и Вильгельмом Вторым в Бьерках <...>. По пути из Портсмута в Петербург мне, по воле государя, пришлось быть гостем кайзера в его летнем замке Роминтен. Кайзер обнаружил по отношению ко мне много внимания, одарил орденом, который традиционно подносят лишь членам династий, и много говорил о бьернском соглашении, не оглашая, однако, его сущности. Аналогичное повторилось и по возвращению в Петербург. Государь благодарил меня за удачный договор с Японией, подписанный в Портсмуте, возвел в графское достоинство; упомянул он и о бьернском соглашении, не посвятив, однако, в его содержание»68.
Бьеркский русско-германский союзный договор69 и по сей день привлекает внимание историков. Он был подписан тайно во время встречи императора Николая II с германским императором Вильгельмом II 11(24) июля 1905 г. у балтийского острова Бьерке (недалеко от Выборга) на борту императорской яхты «Полярная звезда». Инициатива заключения договора принадлежала германской дипломатии, стремившейся разрушить русско-французский союз. С этой целью предполагалось превратить российско-германский союз в тройственный российско-германско-французский, направленный против Великобритании, традиционной соперницы России (в Азии) и Франции (в Африке). Бъеркский договор состоял из 4 статей и содержал обязательства сторон о взаимопомощи в Европе в случае нападения на одну из них какой-либо европейской державы (ст. 1-я), незаключения сепаратного мира с одним из общих противников (ст. 2-я). Договор должен был вступить в силу сразу после заключения мира между Россией и Японией. Срок действия не был ограничен, в случае денонсации договора одной из сторон предусматривалось информирование другой за год (ст. 3-я). Ст. 4-я гласила, что российский император после вступления в силу договора «предпримет необходимые шаги к тому, чтобы ознакомить Францию с этим договором и побудить ее присоединиться к нему». Под нажимом своих министров В.М. Ламздорфа и С.Ю. Витте в ноябре 1905 г. Николай II направил Вильгельму II письмо, в котором действие Бъерского договора обусловливалось согласием на присоединение к нему Франции. Формально Бъеркский договор не был расторгнут, но фактически в силу не вступил. В то же время, как полагают современные историки, он порядком напугал французское правительство и ускорил предоставление России крупного французского кредита.
Далее граф Витте поведал ошеломленным его откровениями Браудо и Троцкому, что, как он выяснил у министра иностранных дел графа Ламздорфа, «текст договора прятали от него три месяца» (sic!), а между тем статья 1-я договора обязывала стороны «защищать друг друга в случае войны с какой-либо европейской державой, стало быть и с Францией», что по существу было «ничем не оправдываемым предательством» по отношению к этой дружественной державе, уже имевшей с Россией договор о взаимопомощи.
Граф Ламздорф меня заверял, будто государь, апеллируя к его монархическим чувствам, заставил подписать этот договор, не читая,
— такой подробностью заключил Витте рассказ о «Бьеркском договоре» в изложении И.М. Троцкого.
Эта история, косвенно способствовавшая началу Первой мировой войны, подробно отражена и в мемуарах самого Витте. В последний день пребывания И.М. Троцкого в Бад Зальцшлифте в честь графа Витте стараниями директора курорта Хюльзен-Хеслера был устроен импозантный музыкальный вечер.
Музыкальный и вокальный репертуар подобран был из произведений известных русских композиторов. Среди исполнителей фигурировали лучшие имена германской художественной элиты. Стол графа Витте, украшенный русскими и германскими национальными флажками, за которым сидели мы только вдвоем, был предметом всеобщего внимания. Внешне Сергей Юльевич виду не подавал, будто догадывается, для кого вечер устроен <...> Едва ли, однако, графу Витте могло тогда прийти на ум, что идея использовать подобный вечер в политических целях зародилась в недрах Вильгельмштрассе — германского министерства иностранных дел70.
Далее И.М. Троцкий повествует о том, что когда Витте отошел на время позвонить по телефону, его пригласил к своему столику бременский сенатор Филипп Хайнекен, по «странному» стечению обстоятельств, оказавшийся в числе гостей музыкального вечера.
С бременским сенатором, кстати, одним из приближенных кайзера, меня связывало давнее знакомство. Уклониться от приглашения я считал неудобным. Странным показался мне сам факт пребывания Филиппа Хайнекена в Зальшлирфе <...> человек средних лет, пышущий здоровьем и энергией, словно сошедший со страниц романа Томаса Манна «Будденброки», <он> никак не походил на ревматика. <...> После краткого приветствия и представления прочим гостям стола, сенатор Хайнекен, со свойственной немцам бесцеремонностью, сразу же ошарашил меня просьбою представить его графу Витте.
— Вы этим окажете большую услугу и своей родине и Германии!
Я был застигнут врасплох и мне ничего другого не оставалось, как обещать сенатору посредничество — не предрешая его исхода.
Когда Витте вернулся к столу, он поведал И.М. Троцкому, что из своего телефонного разговора с женой он вынес ощущение: «в Париже чувствуется напряженность и назревание тревоги <...> вследствие обостряющихся отношений между Австро-Венгрией и Сербией». Воспользовавшись удобным моментом, Троцкий после тирады Витте о том, что ему «не по душе балканские события, грозящие вовлечь Россию в конфликт с бряцателями оружия в Вене, Берлине и Петербурге», сообщил о просьбе Хайнекена:
Он заметно насторожился, внимательно, прислушиваясь к моим словам. Особенно <за>интересовала его личность сенатора Хайнекена — <...> политического деятеля и пароходного магната, с чьим мнением Вильгельм Второй серьезно считался <...>, польз<уясь его> услугами в особенно деликатных случаях, когда деловой человек скорее способен достичь положительных результатов, нежели профессиональный дипломат.
— Что ж, готов принять этого немца. Не пойму только, чем смогу быть ему полезным? Жду его завтра к трем часам пополудни в моем салоне. Желательно и ваше присутствие при нашей беседе...
<...> Радости сенатора Хайнекена не было предела, когда он услышал о готовности С.Ю. Витте принять его. Он горячо пожимал мне руку, заверяя в решимости реваншироваться при первом подходящем случае. Грешно было бы скрывать: свое обещание сенатор честно сдержал! В первый раз, вскоре после вспыхнувшей войны, когда меня арестовали по обвинению в военном шпионаже, он помчался из Бремена в Берлин, чтобы свидетельствовать перед властями мою лояльность и выручать меня. Не забыл сенатор Хайнекен оказанной ему услуги и в послевоенные годы. Ему я обязан был честью быть представленным президенту Гинденбургу во время банкета, данного бременским сенатором во время спуска парохода «Бремен».
<...>Ровно в три часа пополудни мы стучались в двери салона графа Витте. Сергей Юльевич наперекор этикету и, презирая формальности, встал навстречу гостю с протянутой рукой. Беседа на французском языке завязалась быстро и непринужденно, тем более, что у обоих оказались в Берлине общие знакомые. <...> Улучшив удобный момент, я попросил разрешения удалиться. Граф Витте не сделал не малейшей попытки меня удержать. С сенатором Хайнекеном мы условились встретиться позже в парке.
Добрых два часа пришлось его ждать. О чем посланец кайзера беседовал с графом Витте, он не обмолвился ни словом. С лицом, пылающим от восхищения, сенатор буквально захлебывался словами, не скрывая восхищения от знакомства с портсмутским героем.
— Теперь я понимаю. Почему Россия, проиграв войну с Японией, выиграла мир... Граф Витте — гениальный государственный деятель. <...> Наши Бетман-Гольвег и фон Ягов ему и до плеча не доросли. Переоценивают у нас и таланты австрийских руководителей внешней политики <...>.
Сказавшись очень занятым и поблагодарив вторично за знакомство с Сергеем Юльевичем, сенатор Хайнекен поспешно удалился71. <...>
И Витте остался доволен новым знакомством:
— Умный немец, этот Хайнекен. И вообразите, он также считает, что если, храни Бог, разразится война, то она окончится порабощением Америкою Европы...
Какие политические последствия имело свидание Хайнекена с Витте мне неизвестно. <...> Хайнекен стремительно оставил Зальцшлирф и умчался в Берлин.
Вслед за ним уехал и я. мой отъезд совпал с роковым днем, когда в германской печати появился первый смутный слух о предстоящем австрийском ультиматуме Сербии. Прощаясь с С.Ю. Витте, я сообщил ему это известие. Он как-то грустно улыбнулся, прошелся грузными шагами по своей огромной веранде и тихо сказал:
— Ничего, авось, еще образуется.
Витте ошибся. Его оптимизм не оправдался. Ничего больше не «образовалось». Факел войны уже незримо зажегся над обезумевшей Европой.
Следует отметить, что общий тон высказываний И.М. Троцкого о Витте и рисуемый им портрет этого поли-тического деятеля носят подчеркнуто уважительный и даже пафосный характер, что вызывает у читателя законное удивление.
Ведь Витте был монархист, искренний защитник режима, который социалист И.М. Троцкий презирал и считал анахронизмом, мешающим продвижению России в сторону либеральной демократии. Кроме того, в воспоминаниях современников о личности графа сохранились самые противоречивые и часто резко негативные отзывы, которых хорошо информированный журналист не мог не знать.
В этом смысле показательна обобщающая характеристика, данная этому без сомнения выдающемуся государственному мужу историком Евгением Тарле:
Основная черта Витте, конечно, — жажда и, можно сказать, пафос деятельности. Он не честолюбец, а властолюбец. Не мнение о нем людей было ему важно, а власть над ними была ему дорога. Не слова, не речи, не статьи, а дела, дела и дела — вот единственное, что важно. Сказать или написать можно, если нужно, все, что заблагорассудится, лишь бы расчистить перед собой поле, устранить препятствия и препятствующих и начать строить, создавать, переменять, вообще действовать. Один уже покойный публицист <...> когда-то выразился так: «Витте не лгун, Витте — отец лжи». До такой степени это свойство казалось ему неразрывно сросшимся с душой графа Витте. Но это свойство происходило именно от полного презрения к словам. Сказать ложь или сказать правду — это решительно все равно, лишь бы дело было сделано, лишь бы царь согласился на водочную монополию, лишь бы Клемансо разрешил заем, лишь бы Комура уехал из Портсмута с разбитыми горшками, лишь бы вовремя одурачить еврейских (а также христианских) банкиров, лишь бы Вильгельм два месяца подряд верил, что Витте будет его поддерживать в бьоркской программе. Это ничего, что на третий месяц Вильгельм поймет, как его провели: дело будет сделано. Слова, высказываемые «истины» — все это само по себе ни малейшей ценности не имеет. Точно так же не имеют ни малейшей самостоятельной ценности и люди. Хорош тот, кто помогает графу
Витте; худ тот, кто мешает или вредит графу Витте; безразличен (как муха) тот, кто не нужен графу Витте. Читая три тома его воспоминаний, мы постоянно наталкиваемся на беззаветно воcторженные суммарные характеристики разных встреч графа на его жизненном пути: «чуднейший человек! благороднейший человек! чистейшая личность! честнейший человек!» и т.д. И всегда в превосходной степени. Это происходит вовсе не потому, чтобы Витте можно было так легко очаровать — просто ему некогда с ними всеми возиться и еще тратить мысль и время на анализ натуры того или иного человека, подвернувшегося графу под руку. Ты чего хочешь? Помочь мне? Значит, чудеснейший и идеальнейший, хоть бы ты был даже великим князем Сергеем Александровичем или Рачковским. Ты намерен мешать мне? Значит, негодяй, вор, тупица, ничтожество72.
Итак, «Витте ошибся» и 15 июня 1914 г. разразилась Первая мировая война, к которой русские, всегда надеющиеся на «авось, обойдется», были подготовлены меньше, чем кто-либо из их союзников по Антанте. Состояние инфантильного благодушия и безразличия к тревогам мира сего, в котором пребывали русские, находившиеся на тот момент в Германии, И.М. Троцкий воссоздает в статье «В Берлине в дни объявления войны». Он начинает ее с подробного описания того «жуткого» послеполуденного воскресенья, когда
Охваченный сонной одурью лежал я на балконе, прячась от жары и духоты. Слышал, как в кабинете надрывается телефонный звонок.
Нехотя подошел... Взял трубку.
— Страшная катастрофа. Убит эрцгерцог австрийский. Кажется, с женою. Только что получил телеграмму из Сараева. Приезжайте скорее в город. Жду... — узнаю голос американского коллеги. Не верю своим ушам. Сонливость будто рукою снята. Звоню к редактору «Берлинер тагеблатт» <...>, но он ворчит за нарушение воскресного отдыха и рекомендует не верить вздору. Звоню в «Аокал-Анцайгер»73 и получаю подтверждение рокового известия.
Через час я на Унтер ден Линден. Здесь творится нечто невообразимое. Десятки продавцов газет без шляп на головах, с раскрытыми воротами рубах и широко вытаращенными глазами мчатся по улице, громко выкрикивая:
«Покушение в Сараево... Эрцгерцог и эрцгерцогиня... Фердинанд...»
Русский сезон в Германии в год войны был по многолюдности совершенно исключительный. Русские приезжие положительно наводнили Германию. Берлин, Дрезден, Мюнхен, лечебные курорты, бады и просто дачные места кишмя кишели русскими. Люди, никогда за границу не ездившие, по какому-то фатальному наитию понеслись в Германию. Легкомыслие обнаруживали они чрезвычайное. Особливо прекрасная половина путешествующих россиян, совершенно газет не читавшая <...>. Война, носившаяся уже в воздухе и с каждым днем принимавшая все более реальные очертания, их не в какой степени не тревожила. Россияне, ушедшие с головой в покупки, лечение и наслаждения «за границею», слышать не хотели о войне и не верили в ее возможность.
— Какая там война?! Ерунда!.. Все это газеты раздувают. У нас в Питере ничего про войну не слышно...
Впрочем, так рассуждали не только «наши за границею» и не одни лишь обыватели. Даже люди с политическим и общественным стажем недалеко ушли в правильной оценке момента от рядового обывателя.
Вспоминаю, что дней за десять до начала войны, в Берлине гостили редактор «Русского слова» Благов и сотрудники этой газеты профессор Иосиф Гольдштейн и бывший священник Григорий Петров.
Занятый по горло текущей работой по информации газеты, я мог им отдавать совсем немного времени, но каждую свободную минуту проводил с ними.
— Уезжайте, господа, домой! Война неизбежна. <...> Психологический момент таков, что дипломатическим посредничеством катастрофы не предотвратить. Не сегодня — завтра, ружья заговорят сами!
Коллеги подтрунивали над моим преувеличенным пессимизмом, а Георгий Петров, бывший тогда в расцвете публицистической славы, побился даже со мною об заклад, что дипломатия сумеет в последний момент уладить грозный конфликт. И только когда Ф.И. Благов неожиданно получил из Москвы срочную телеграмму с просьбой прервать отпуск и вернуться немедленно к своим редакторским обязанностям, им стала ясна грозность положения.
Таковой, согласно воспоминаниям И.М. Троцкого, выглядела обстановка в столице Германской империи в самый канун Первой мировой. Русская колония в Берлине даже после объявления войны была в целом настроена весьма благодушно:
«Какое нам дело до войны? Пускай себе военные дерутся. Нас хорошо знают и не тронут. Да и как долго может война длиться? Повоюют три-четыре месяца и помирятся. Не бросать же дела и насиженных мест ради прихоти перессорившихся дипломатов...»
Дорого поплатилась русская колония за свое легкомыслие. Началось с того, что Берлин в последние три дня до официального открытия военных действий стал наводняться устремившимися в Россию курортными россиянами. Перепуганные, оголтелые, растеряв вещи и документы, они метались по Берлину, наводя панику и штурмуя уходящие на восток поезда. На вокзалах стоял стон. Места брались с бою. Уезжали чуть ли не на крышах вагонов. И поступали правильно. В Берлине жизнь для русских становилась невмоготу. С момента объявления в Германии угрожающего по войне положения отношение немцев к русским резко изменилось. Печать, особенно националистическая, открыла жестокую кампанию против русской колонии.
— Берегитесь русских шпионов! Следите за русскими! Выдавайте властям каждого подозрительного русского!
Этот клич печати, брошенный в наэлектризованную массу, встретил громкий отклик. А тут еще кем-то был пущен провокаторский слух, будто какой-то русский покушался на кронпринца. Паника росла. <...> говорить по-русски на улицах и в общественных местах Берлина стало опасным. Кое-где русских избили и оплевали. Русское посольство в Берлине стало объектом враждебных демонстраций.
Русские аборигены Берлина начали терять головы. Их охватила паника.
— Что делать? Бросить все и бежать, пока не поздно, или оставаться?
Никто не рисковал давать определенного ответа.
В субботу ночью стало известно, что Россия не ответила на поставленный ей Германией ультиматум. В воскресенье <1 августа 1914 г. — М.У.> рано утром появилось первое сообщение германского штаба о переходе русскими казаками прусской границы.
Этим был дан сигнал к началу репрессий против русских.
Русские журналисты, считавшие своим долгом оставаться на постах до последнего момента, собрались на совещание. Решено было в тот же день покинуть Берлин и перебраться в нейтральный Копенгаген. Заседание наше происходило в популярном тогда кафе «Метрополь» у вокзала Фридрихштрассе. Едва нами было принято решение об отъезде, как в кафе влетел какой-то потерявший голову россиянин с перекошенным лицом, дико блуждающими глазами и, дрожа всем телом, пролепетал:
— Сейчас в отеле «Метрополь» арестовали всех русских. Спасайтесь!..
Угрожаемость положения стала очевидной. Мы бросились на Штеттинский вокзал, запасаться билетами на Копенгаген. Билеты мы получили, но уехать, увы, удалось немногим.
Меня арестовали в тот же вечер, в момент, когда я собирался садиться в ждавший меня автомобиль. Арестовал меня сосед-офицер, с которым мы прожили пять лет на одной лестнице и который считался моим приятелем.
— Куда вы собираетесь?! — остановил меня офицер.
— В Копенгаген...
— Никуда вы не поедете!..
— Ошибаетесь, мои бумаги в порядке...
— Вы арестованы. Предлагаю вам немедленно вернуться в квартиру.
— Но, позвольте, на каком основании?!
— Повторяю, вы сию же минуту оставите автомобиль, или...
В руках у моего «приятеля» сверкнул матовым блеском браунинг. Пришлось подчиниться. Через четверть часа моя квартира была наводнена агентами криминальной и наружной полиции, подкрепленной собаками-ищейками, а через полчаса меня в сопровождении двух агентов на том же автомобиле везли в шарлотеннбургскую тюрьму.
Назавтра освободили, но по истечении нескольких часов снова арестовали. На этот раз надолго. В течение двух месяцев германского плена меня четырежды арестовывали и дважды интернировали.
Так началась для меня, как и для других русских в Германии, мировая война.
В биографической справке И.М. Троцкого от 1937 г., написанной им при вступлении в масонскую ложу «Свободная Россия» (Париж), также указано:
С начала первой мировой войны, после отказа сотрудничать с немцами, был арестован, провел два месяца в заключении. Впоследствии еще четырежды арестовывался немецкими властями, дважды был интернирован. В 1914 уехал в Скандинавию74.
Тем не менее, неприятности, причиненные чиновниками кайзеровской Германии русскому журналисту И.М. Троцкому, не были чем-либо экстраординарным в подобных обстоятельствах. Иначе немцы не сочли бы возможным впоследствии обратиться к нему за содействием в важном политическом деле (см. ниже).
Осенью 1914 г. И.М. Троцкий покинул Германию. Он перебрался с семьей на жительство в Копенгаген — столицу нейтрального Датского королевства, где прожил до 1923 г., оставаясь вплоть до 1917 г. главным иностранным корреспондентом газеты «Русское слово» по Скандинавии.
Одновременно с журналисткой деятельностью И.М. Троцкий вел большую общественную работу как еврейский активист, организатор системы помощи еврейскому населению, оказавшемуся в черте военных действий, которые шли на территориях, где проживала большая часть восточноевропейского еврейства. Он возглавлял Скандинавский центральный комитет помощи пострадавшим от войны евреям, его имя значится в списке членов Объединенного комитета еврейских центральных организаций (United Committee of Jewish Central Organisations) Дании75.
Естественно, что как журналист и общественник он пересекался с самыми разными политическими фигурами той эпохи, среди которых было немало ультралевых социал-демократов, устроивших впоследствии Октябрьский переворот, а затем и Гражданскую войну в России. Многие из них стали затем персонажами его мемуарной публицистики.
Среди литературных портретов политических деятелей, написанных И.М. Троцким за полвека журналистской деятельности, образы большевицких вождей всегда подаются в грязно-серых тонах. Но даже среди этой «чернухи» бросается в глаза его явная неприязнь и даже враждебность к фигуре Александра Парвуса — человека, который до сих пор считается одной из самых загадочных политических фигур начала XX в.
Александр Парвус и потаенные фрагменты истории Первой мировой войны
Итак, с конца 1914 г. И.М. Троцкий с семьей уже жил в Копенгагене. При этом, будучи главным корреспондентом «Русского слова» по Скандинавии, все государства которой сохраняли в этой войне нейтралитет, он весьма часто посещал столицу Швеции — Стокгольм. В Скандинавии застали его известия о Февральской революции и последующем Октябрьском перевороте. Вспоминая об этих годах, И.М. Троцкий писал76:
Октябрь обычно будит в русском человеке воспоминания и воскрешает в памяти лица, явления и события дней давно ушедших. Для одних он — начало небывалого эксперимента, для других — месяц роковой. «Великий Октябрь», преломленный через при-зму истории, больше трагическая явь, нежели отвлеченный символ. С его именем ассоциируется мысль о цепях диктатуры, в которые <...> закованы могучая страна и великий народ.
В русском революционном движении Скандинавия играет роль этапа, значение которого еще недостаточно освещено. Если Швейцария вошла в историю русской революции, выражаясь образно, как одна из кузниц, в которой выковалась бунтарская мысль, то и Скандинавия вправе претендовать на положение некоего оплота, давшего приют ряду известных революционных борцов. Во время первой мировой войны и на протяжении трех лет предшествовавших Февралю 1917 г., Копенгаген служил средоточием для значительной части русских революционеров, имена которых уже вошли в историю. <...> Но и после Февральской и Октябрьской революций столицы Дании и Швеции продолжали долгое время оставаться этапами на страдальческих путях русской эмиграции, где, словно далекие зарницы российских бурь, пылали политические страсти и кипели идейные разногласия. <...> Урицкий, Суриц, Бухарин, Воровский, Радек, Ганецкий — жили в Копенгагене и Стокгольме. Обосновались на время войны в Датской столице известные соц<иал>-демократы Далин, бывший депутат Думы Зурабов, именитый социал-революционер Борис Камков и десяток других менее популярных революционных борцов. <...> Самой загадочной фигурой среди группы политических эмигрантов являлась личность Парвуса-Гельфанда. Вся его деятельность с первого дня появления на копенгагенском горизонте и вплоть до конца войны была окружена какой-то таинственностью. Признанный теоретик марксизма, блестящий публицист, старый социалистический борец, бывший депутат первого Совета рабочих77, активный член германской социал-демократической партии — таков был официальный статус Парвуса.
Александр (Израиль) Лазаревич Гельфанд (Парвус, Молотов, Москович) родился в 1867 г. в местечке Березино Минской губернии в семье еврейского ремесленника. Учился в одесской гимназии. В Одессе примыкал к народовольческим кружкам. 19-летним юношей Парвус уехал в Цюрих, где познакомился с видными членами «Группы освобождения труда» — Плехановым, Аксельродом и Засулич. Под их влиянием молодой Гельфанд-Парвус стал марксистом. В 1887 г. он поступил в Базельский университет, который окончил в 1891 г., получив степень доктора философии. Вскоре переехал в Германию и вступил в немецкую социал-демократическую партию, не порвав, впрочем, отношений с русскими социал-демократами.
Когда началась русско-японская война, Парвус опубликовал в «Искре» несколько статей под общим заглавием «Война и революция». В своих статьях автор предрекал неизбежное поражение России в войне с Японией и как последствие этого — неминуемую революцию. Ему казалось, что «русская революция расшатает основы всего капиталистического мира и русскому рабочему классу суждено сыграть роль авангарда в мировой социальной революции». <...> Предсказания Парвуса насчет исхода русско-японской войны сбылись, что способствовало усилению его авторитета как аналитика в рядах русских и европейских социал-демократов.
За организацию революционных выступлений в России Парвус был осужден и приговорен к ссылке на поселение в Туруханск, но по дороге бежал и сумел затем перебраться в Германию. Здесь он пользовался большим авторитетом в кругах немецкой социал-демократии и какое-то время издавал партийную газету. Однако его репутация сильно пострадала из-за аферы с гонорарами Максима Горького, о чем речь пойдет ниже. По решению партийного суда ему даже «возбранялось участие в русском и германском социал-демократическом движении». По этой причине он перебрался в Турцию, где сумел войти в доверие правительства «младотурок» и, будучи его политическим и финансовым консультантом, вскоре очень разбогател.
Сразу же после объявления Германией войны России константинопольское телеграфное агентство опубликовало его воззвание, в котором он, обвинив Г. В. Плеханова и других русских социал-демократов, выступивших против Германии, в «национализме» и «шовинизме», призывал российских социалистов и революционеров способствовать поражению России в интересах европейской демократии.
В 1915 г. Парвус обратился к немцам с заявлением:
Российская демократия может достигнуть своей цели только через окончательное свержение царизма и расчленение России на мелкие государства. С другой стороны, Германия не будет иметь полного успеха, если ей не удастся вызвать в России большую революцию. <...> Интересы германского правительства и интересы русских революционеров таким образом идентичны.
Германское правительство заинтересовалось планом Парвуса и пригласило его в Берлин, куда он привез с собой пространный меморандум «Подготовка политической массовой забастовки в России». Меморандум содержал подробные рекомендации относительно того:
каким образом вызвать беспорядки в России и подготовить революцию, которая заставит царя отречься от престола, после чего будет образовано временное революционное правительство, которое готово будет заключить сепаратный мир с Германией. В первую очередь Парвус рекомендовал германскому правительству ассигновать большую сумму на развитие и поддержку сепаратистского движения среди различных национальностей на Кавказе, в Финляндии, на Украине, затем на «финансовую поддержку большевистской фракции Российской социал-демократической рабочей партии, которая борется против царского правительства всеми средствами, имеющимися в ее распоряжении. Ее вожди находятся в Швейцарии».
Парвус также рекомендовал оказать финансовую поддержку «тем русским революционным писателям, которые будут принимать участие в борьбе против царизма даже во время войны».
Немецкое правительство, по-видимому, не очень охотно, но все же решилось использовать в своих закулисных играх фигуру Парвуса. Он получил германский паспорт, а вслед за ним 2 млн. марок «на поддержку русской революционной пропаганды».
У главных большевицких вождей отношение к Парвусу было весьма переменчивым. Долгое время он являлся авторитетным «товарищем» и единомышленником. И только со временем это отношение эволюционировало от почтительного ученичества (в случае Л.Д. Троцкого), взаимопонимания и сотрудничества (у В.И. Ленина) до гадливости, шельмования и остракизма.
В 1915 г. в своей пацифисткой газете «Наше слово», издававшейся им вместе с Мартовым в Париже, Лев Троцкий призывал социалистов порвать всякие отношения с Парвусом и не участвовать в работе организованного им в Копенгагене института. В это же время Ленин также окончательно и навсегда разошелся с Парусом.
Судя по воспоминаниям И.М. Троцкого, в Копенгагене 1916-1917 гг. представители местного истеблишмента относились к этому революционеру доброжелательно:
Влиятельные датские социалисты, и особенно их вожди <...> приняли Парвуса с широко раскрытыми объятьями. Иметь в своей среде столь признанную и проминентную в социалистическом мире фигуру они почитали за честь и за подлинное приобретение. Несколько по-иному и с гораздо меньшим энтузиазмом отнеслись к появлению Парвуса те немногие члены русской колонии, которые были осведомлены о моральной стороне жизни этого сомнительного индивидуума. Особенно насторожились русские журналисты, <ранее — М.У.> жившие в Германии и перекочевавшие из-за разрыва отношений между Германией и Россией в Копенгаген78.
Далее И.М. Троцкий не жалеет черной краски, рисуя образ Парвуса и его деяния:
Внешность Парвуса вызывала отвращение. В ней было что-то сродни другой фатальной фигуре русской революции — пресловутого Евно Азефа. <...>
Он был чудовищно безобразен <...>: приземистая почти квадратная фигура, с большой головой, лишенной шеи и казавшейся ввинченной в плечи, <...> выпученные глаза, широкий жабий рот, прикрытый торчащими во все стороны усами.
У многих <в русской колонии — М.У.> был жив в памяти его каверзный поступок по отношению к Максиму Горькому. После провала первой русской революции Парвус скрылся из России и поселился в Мюнхене. В бытность свою в Петербурге он близко сошелся с Горьким. Слава Горького стояла тогда в зените. В западной Европе им восторгались и увлекались не меньше, чем в России. Его пьеса «На дне», поставленная впервые Рейнгардом не сходила со сцен германских театров79. Горький из дружбы к Парвусу доверил ему защиту своих литературных интересов в Германии. Между Россией и Германией не существовало еще по тому времени литературной конвекции. Каждый писатель или драматург должен был лично заботиться о том, чтобы не быть духовно ограбленным. Дорого Горькому обошлась его дружба с Парвусом и тяжело он поплатился за чрезмерную доверчивость. Парвус покаялся Горькому в растрате доверенных ему денег — суммы чуть ли не в тридцать тысяч марок, и на коленях молил о прощении.
Не то ли из добросердечия, не то ли потому, что Горький считал себя марксистом и идейным единомышленником Парвуса, но он его простил. Инцидент замяли, не дав ему разрастись в скандал с уголовной подкладкой. Скрыть его, однако, труднее было80.
Другой причиной настороженности русских журналистов в связи с появлением Парвуса в Копенгагене были, по утверждению И.М. Троцкого, его открытое германофильство и закулисная деятельность по укреплению тройственного союза (Германия-Австро-Венгрия-Турция). Имея тесные контакты с турецкими властями, Парвус занимался вербовкой антирусских элементов среди политических эмигрантов-кавказцев и военнопленных в Софии и Константинополе, где находились большие кавказские общины:
Грузинам сулили реставрацию их национальной независимости и создание новой Грузии под турецким протекторатом. Черкесам тоже обещали <что-то> вроде черкесской автономии. Не делали никаких посул только армянам. < Турки — М.У.> держали даже от своих союзников в секрете их гнусный план зверски вырезать анатолийских армян. <...>
Февральская революция сорвала маску с Парвуса и разоблачила других меньших по калибру «парвусов», работавших на пользу Германии. Если до февральских дней <они> оправдывали свое сотрудничество с <немцами> какими-то якобы идеологическими мотивами, то с приходом Февраля эти «фиговые листки» сами по себе отпали.
Царский режим рухнул, династия Романовых низвергнута, а имена П.Н. Милюкова и А.Ф. Керенского, украшавшие состав временного правительства, служили как бы символами новой власти и залогом нарождающейся свободы в преображенной России.
Поэтому усилия Парвуса, направленные на заключение сепаратного мирного договора между Россией и Германией (см. ниже раздел «Дела давно минувших дней»), его «особый» интерес к деятельности «Русского общественного комитета», созданного Временным правительством для работы с эмигрантами, желающими возвратиться на родину, его статус «закадычного друга» Турции, которая также находилась в состоянии войны с Россией стали однозначно восприниматься русскими журналистами в Скандинавии как прямые доказательства шпионской деятельности этого одиозного «социалиста-интернационалиста» в пользу Германской империи.
Что касается И.М. Троцкого, то точку в этом вопросе для него поставил один старый знакомый — голландский корреспондент влиятельной газеты «Новый роттердамский курант» («Nieuwe Rotterdamsche Courant») в Берлине Маркус ван Бланкенштейн. Этот весьма информированный и авторитетный журналист однозначно характеризовал Парвуса как «агента Вильгельмштрассе»81. Кроме того, он сообщил Троцкому, что встретил у Парвуса коллегу по «Русскому слову» И.И. Колышко, который, как и хозяин дома, распространялся на тему неизбежного распада России в случае, если она не заключит сепаратный мир с Германией. Для людей лояльных Временному правительству России, декларировавшему верность союзническим обязательствам продолжать войну с Германией до победного конца, подобного рода разглагольствования воспринимались как демонстрация изменнических настроений. Немцы же, со своей стороны, не оставляли попыток найти верный путь к началу переговоров с Россией о сепаратном мире.
В этой связи особый интерес представляют свидетельские показания Ильи Троцкого, ныне хранящиеся в Архиве Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфордском университете82.
8 июня 1957 г. Илья Маркович Троцкий — секретарь Литфонда, член Союза русских евреев и член Совета директоров ОРТ, проживающий в Нью-Йорке в центре Манхеттена, неподалеку от Бродвея, по адресу: 215 West 83 Street 24 N.Y., посчитал своим долгом посетить контору нотариуса Теодора Каплана, чтобы дать под присягой письменные показания («Affidavit»), касающиеся событий 40-летней давности.
Свои показания он изложил по-русски на трех листах стандартного размера. После нотариального заверения они приобрели форму официального документа и были переданы заявителем на хранение в Архив Гуверовского института.
Показания И.М. Троцкого — ценный исторический документ, проливающий свет на некоторые закулисные события Первой мировой войны, — интересны и в плане его личной биографии, поскольку выявляют некоторые теневые аспекты политической активности этого незаурядного человека.
В своих «Affidavit» он сообщает:
Я, Илья Троцкий, под присягой удостоверяю нижеследующее.
В начале октября 1914 г. я переехал в Копенгаген из Берлина, где в течение восьми лет состоял корреспондентом московской ежедневной газеты «Русское слово»83.
В Копенгагене я был представителем «Русского слова», в качестве главного корреспондента для скандинавских стран.
В конце марта — начале апреля 1917 г. ему домой неожиданно позвонил по телефону
Георг Клейнов, которого я знал по Берлину <Он> был видным германским журналистом, жившим многие годы в России и превосходно владевши<м> русским языком. До первой мировой войны 1914 года Георг Клейнов редактировал <газету> «Die Grenzboten», <уделявшую> много внимания русско-германским отношениям. С началом войны <...> Клейнов был привлечен к работе германским министерством иностранных дел в качестве эксперта по русским делам. <...>
Георг Клейнов сообщил мне, что приехал «повидаться со мной» по важному делу и что посетит меня в пять часов пополудни. Не выжидая моей реакции, Георг Клейнов повесил трубку».
Георг Клейнов — немецкий публицист84, политик, издатель национал-либеральной газеты «Die Grenzboten» («Посланцы с границы»), фигура в наши дни полностью забытая, имел в те годы титул «государственного тайного советника» и был весьма авторитетной личностью, пользовавшейся доверием правительства кайзеровской Германии. В Веймарской республике он активно выступал как публицист, неоднократно посещал Советский Союз, где его принимали на самом высшем уровне. Когда к власти пришли национал-социалисты, он поддержал новый режим и стал преподавать в берлинской Высшей политической школе, где вел «Евразийский семинар».
По утверждению И.М. Троцкого, звонок Клейнова его:
Поразил, так как никаких сношений между русскими журналистами и германскими журналистами или чиновниками не существовало.
Он тотчас посетил русскую миссию, где встретился с бароном М.Ф. Мейендорфом — в годы империи первым секретарем российской дипломатической миссии в Дании, а после
Февральской революции — и.о. посланника. В Архиве Министерства иностранных дел сохранилась характеристика, данная ему российским посланником в датском королевстве бароном Карлом Карловичем Буксгевденом в связи с награждением его орденом ко дню Св. Пасхи 1912 г.:
...Привыкший к светской жизни в больших центрах, барон Мейендорф, равно как и его жена, очень скучают в Копенгагене, где они уже находятся четвертый год. В погоне за развлечениями, барон предается довольно рассеянному образу жизни, не вполне соответствующему ни его возрасту (ему теперь 51 год), ни семейному его положению. К сожалению, некоторые смешные подробности этих развлечений сделались известными датчанам, несмотря на меры, принятые для сохранения тайны, и создали, еще до моего прибытия сюда, несколько насмешливое отношение к нему со стороны местного общества, очень, впрочем, ценящего его многочисленные приемы.
К этому жуиру и обратился журналист И.М. Троцкий, сообщив ему о случившемся и «прося указаний, как поступить». Не исключено, что он поставил в известность и первого секретаря российской дипломатической миссии в Дании Б.В. Дерюжинского, с которым поддерживал дружеские отношения85.
Мейендорф, несмотря на свое реноме «легкомысленного человека», проявил должную активность.
Барон снесся с посланниками Великобритании, Франции и Италии и было условлено встретиться в великобританской миссии немедленно после завтрака с тем, чтобы мне было дано указание до пяти часов пополудни.
Бароном Мейендорфом мне сообщено было, что признано желательным, чтобы я принял и выслушал Клейнова, сообщив <затем ему> результаты <разговора>.
В пять часов по полудня явился ко мне Георг Клейнов. Разговор он начал с вопроса, думаю ли я, что Временное правительство пойдет на сепаратный с Германией мир? На мой ответ, что он с этим вопросом обращается не по надлежащему адресу, Клейнов возразил, что сейчас <в России — прим. М.У.> стоят у власти мои единомышленники Милюков и Керенский, и что я могу сыграть большую роль в деле умиротворения Европы. Он взывал ко мне, подчеркивая, что если мне дороги судьбы России и будущее революции, то я должен содействовать заключению мира.
Я спросил Клейнова, как объяснить то, что он сначала говорил о сепаратном мире, а теперь, как будто, имеет в виду общий мир? «Очень просто! — ответил Клейнов. Добившись сепаратного мира с новой Россией, <мы> легко откроем путь к общему миру».
Далее он стал меня уверять в злостном искажении союзнической пропагандой продовольственного кризиса в Германии и Австро-Венгрии86, в бесцельности дальнейшего кровопролития, ибо победить державы тройственного союза — Англия, Франция и Италия бессильны. В дальнейшем Клейнов подчеркнул, что Германия готова предложить России такие условия, которые нисколько не умалят престиж России как великой державы. Он прибавил, что детальные условия будут им сообщены лишь по получению согласия Време<нного> пр<авите-льст>ва на прямые мирные переговоры. Сказал он также, что Германия, не претендуя на части русской территории, хотела бы получить только некоторые концессии в <При>балтике.
Прощаясь <...>, Клейнов заметил, что через несколько дней он <мне> позвонит. Все вышеизложенное я тотчас же сообщил барону Мейендорфу, который потом сказал мне, что он послал об этом шифрованную телеграмму в Петроград, сообщив ее копию союзным политикам. Спустя некоторое время барон Мейендорф пригласил меня к себе и сообщил, что из министерства получен ответ, в котором мне разрешается впредь встречаться с Клейновым, его выслушивать, но не давать ему никаких обещаний. Клейнов, однако, больше не звонил и не являлся ко мне.
Чтобы понять всю подоплеку этого сюжета, напомним, что Германия внимательно следила за развитием событий в России после Февральской революции и, пытаясь противодействовать влиянию стран Антанты, стремилась установить контакты не только с радикальным крылом социалистов, но и с социалистами в целом. На одной из телеграмм, полученной из Стокгольма о событиях в Петрограде в марте 1917 г., кайзер Вильгельм II сделал замечание на полях: «...Мы должны поддержать социалистов (Керенского и др.) против Антанты и Милюкова и как можно скорее войти с ними в контакт»87.
2 апреля 1917 г. германский посланник в Копенгагене Брокдорф-Ранцау, координировавший из Скандинавии различные каналы связи с Россией и потому хорошо осведомленный, направил в МИД Германии меморандум, в котором рассматривались различные варианты участия немецкой стороны в событиях в России. В нем, в частности, он отмечал:
Но если до конца этого года мы не в состоянии продолжить войну с перспективами на успех, то следовало бы попробовать пойти на сближение с находящимися у власти в России умеренными партиями и привести их к убеждению, что если они будут настаивать на продолжении войны, они тем самым будут обеспечивать только интересы Англии, прокладывать путь реакции и, таким образом, сами поставили бы под угрозу завоеванные свободы. В качестве добавочного аргумента следовало бы внушить Милюкову и Гучкову, что Англия в связи с неустойчивым положением в России могла бы попытаться договориться с нами за ее счет88.
Итак, германское правительство посчитало возможным использовать русского журналиста И.М. Троцкого — человека, по имеющимся у него сведениям, авторитетного среди деятелей временного правительства, в своих дипломатических интригах. Однако после первого зондирования почвы дальнейших шагов с немецкой стороны не последовало.
Ситуация случайным образом прояснилась лишь через четыре года, когда И.М. Троцкий уже снова жил в Берлине.
В 1921 году я из Копенгагена снова переехал в Германию. Однажды на одной из улиц Берлина я случайно натолкнулся на Георга Клейнова. Клейнов мне поведал, что поехал он в 1917 году в Копенгаген по поручению Германского министра иностранных дел, который, однако, не предупредил об этой миссии германского посланника в Дании, графа Брокдорф-Ранцау. Последний, узнав о посещении меня Кленовым, резко протестовал против его миссии <...>. Граф Брокдорф-Ранцау <...> подготовил поездку в Россию, с целью зондирования почвы о сепаратном мире, одного из вождей датской социал-демократии Боргбиерга <...>, <и> считал, что параллельные действия Клейнова могут повредить <его> миссии, имеющей большие шансы на успех. В результате протеста графа Брокдорф-Ранцау, Георг Клейнов получил приказ из министерства немедленно вернуться в Берлин. По моим сведениям поездка Боргбиерга в Россию своевременно состоялась, однако миссия его успеха никакого не имела.
В Гуверовском архиве вместе с «Affidavit» И.М. Троцкого хранятся показания его близкого друга, Якова Григорьевича Фрумкина, касающиеся попытки немецкого зондирования через А.Ф. Керенского вопроса о сепаратном мире с Германией. Он свидетельствовал (по-английски)89, что во время его пребывания в санатории Гранкула неподалеку от Хельсинки (Финляндия) в конце мая — июне 1917 г., где в 1916 г. весьма успешно поправлял свое здоровье А.Ф. Керенский, он близко сошелся с его главврачом доктором Рунебергом90. Известный ученый и врач, в свое время очень много сделавший для восстановления здоровья А.Ф. Керенского, Рунеберг проявлял и большой интерес к истории и политике. В июле 1917 г. доктор Рунеберг познакомил Фрумкина с неким «усатым господином», которого представил как психиатра из Стокгольма, только что посетившего Петербург, где тот якобы виделся с господином Керенским, который просил его передать Фрумкину привет. Из разговора последний понял, что в Петербурге были оба врача, хотя сам доктор Рунеберг ему об этом прямо не сказал. Много лет спустя Я.Г. Фрумкин, беседуя с Керенским о событиях лета 1917-го, напомнил ему этот эпизод.
Керенский подтвердил, что доктор Рунеберг действительно был у него в Петербурге и предлагал организовать встречу со «шведским психиатром», будто бы уполномоченным вести переговоры о сепаратном мире. Однако он, А.Ф. Керенский, на это предложение ответил отказом и заявил, что если данный господин объявится в городе, он отдаст приказ об его аресте.
Итак, правящие круги Германии были готовы ради выведения России из войны на стороне Антанты использовать в качестве посредников самых разных людей, так или иначе знакомых с представителями новой власти. Они же щедро финансировали противников как царского, так и Временного правительства. В конечном итоге кайзеровская Германия совершила роковую ошибку, сделав ставку в своей подрывной работе против России на крайне левых радикалов во главе с Лениным. Добившись своей цели — вывести Россию из войны, — немцы одновременно поспособствовали победе большевиков. В результате вспыхнувших по всей Европе революций погибли как Российская, так и Германская империи, и на их месте с интервалом в 15 лет возникли тоталитарные режимы, пополнившие историю человечества такими понятиями, как ГУЛАГ и Холокост.
Примечания
1 Antrag auf Grund des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus vom 10.01.1951.
2 В Германский колониальный союз (Deutsche Kolonialgesellschaft — DKG), созданный в 1887 г., входили крупные торговые, судоходные и экспортные фирмы, прежде всего из Гамбурга и Бремена, а также представители промышленности, юнкерства и политических партий.
3 Троцкий И. «Германские африканцы» // Русское слово. 1912. № 126. 2(15) июня. С. 3.
4 Манн Т. Дневник от 19 октября 1937 г. // Манн Т. О немцах и евреях. Иерусалим, 1990. С. 198. Прим. 1.
5 Газета, уделяла повышенное внимание фактам дискриминации и преследования евреев в России и другим событиям, так или иначе касающихся еврейской проблематики.
6 После прихода к власти нацистов издательство Ульштайн было «ариизированно», а в начале 1960-х выкуплено концерном Шпрингер и в настоящее время является его дочерней фирмой.
7 Оно было основано в 1919 г. известным деятелем кадетской партии Иосифом Гессеном на паях с издательством «Ульштайн».
8 Определение австро-британского писателя и журналиста Артура Кестлера (Koestler; 1905-1983).
9 См. журнальную базу данных (Zeitschriftendatenbank, ZDB (http://dispatch.opac.d-nb.de) Немецкой национальной библиотеки (Deutschen Nationalbibliothek): IDN:o15419843, Zagranicnye otkliki: obscestvennaja, politiceskaja, literaturnaja i ekonomiceskaja gazeta, vychodjascaja v Berline po Voskresenjam = Das Ausländische Echo, 02.Juni.1912 —02.Aug.1914=Nr. 1-113).
10 Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать. Jerusalem, 2011. Т. 2. С. 504. Роман «Томление духа», изображающий бессмысленную суету петербургской интеллигентской среды, печатался в петербургском альманахе «Шиповник» (1912. Кн. 17).
11 «Южный край» — одна из крупнейших провинциальных газет консервативного направления, издававшаяся на русском языке в Харькове в 1880-1918 гг.; «Южная мысль» — газета, издававшаяся Одессе бароном И.С. Ксидиасом, главой одноименного банкирского дома.
12 Анфимов А.М. Народное хозяйство в 1913 году. Пг., 1914. С. 632.
13 Бунин И.А. Из записей (www.mirrelia.ru/memoirs/?l=memoirs-1).
14 Дело Бейлиса — судебный процесс по обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса (1874-1934) в ритуальном убийстве 12-летнего ученика Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского 12 марта 1911 г. Обвинение в ритуальном убийстве было инициировано активистами черносотенных организаций и поддержано рядом крайне правых политиков и чиновников. Местные следователи, считавшие, что речь идет об уголовном убийстве из мести, были отстранены от дела. Сам процесс состоялся в Киеве 23 сентября — 28 октября 1913 г. и сопровождался, с одной стороны, активной антисемитской кампанией, а с другой — общественными протестами всероссийского и мирового масштаба. Бейлис был оправдан. См.: Лурье А.Я. Андрей Ющинский. 22 смерти, 63 версии; Самюэл М. Кровавый навет: странная история дела Бейлиса. Нью-Йорк, 1975.
15 И.М. Троцкий несколько раз писал о своих посещениях Бельше в доэмигрантский период своей журналистской деятельности, а также в 1930-е. См.: Троцкий И.М. Вильгельм Бельше о будущем земли (К 70-летию знаменитого биолога) // Сегодня. 1931. № 8. 8 января. С. 1.
16 «Штурм» («Der Sturm») — немецкий литературный журнал, издававшийся в 1910-1932 гг. писателем Гервартом Вальденом; одно из главных изданий немецких и австрийских экспрессионистов.
17 22 июля 1910 г. Л. Толстой подписал завещание, по которому А.Л. Толстая стала распорядительницей его литературного наследия. В семейной драме родителей она полностью приняла сторону отца. Единственная из семьи была посвящена в планы ухода Толстого из Ясной Поляны, 30 октября присоединилась к нему в Шамордине и находилась с ним до последней минуты его жизни.
18 Судя по записи в Торговом реестре Б.Н. Рубинштейн в издательстве Ладыжникова («I. Ladyschnikow Verlag», HRB, 9382 // DRA, 155, 4. Juli 1911) уже с 1911 г. имел право единоличной подписи, а с 1913 г. стал единоличным собственником издательства. См.: Кратц Г. Русское книгоиздание «золотого века» в Берлине (www.domrz.ru/data/library/Kratz_Russkoe_knigoizdanie_v_ Berline%20%28%CA%F0%E0%F2%F6%20%C3.%29.pdf).
19 См.: Троцкий И. С.Ю. Витте и мировая война // Дни. 1924. № 522. 27 июля. С. 2; Накануне Первой мировой войны. 1964. № 18 751. С. 4; Со ступеньки на ступеньку (Из записных книжек журналиста) // Новое русское слово. 1967. 3 июля. С. 5.
20 Троцкий И. Провал пьес Франка Ведекинда // Русское слово. 1910. № 226. 2(15) октября. С. 4.
21 Heidborn Т. Russländische Studierende an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität und der Technischen Hochschule Berlin 1880-1914. S. 15.
22 Троцкий И. В Берлине в дни объявления войны // Сегодня. 1929. № 207. 28 июля. С. 4.
23 «Землячество русских студентов» (Landsmannschaft russischer Studenten) в Берлине — крайне правая, с антисемитским уклоном организация, основанная в 1908 г. и получавшая финансовую поддержку русского посольства.
24 Heidborn Т. Russländische Studierende an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität und der Technischen Hochschule Berlin 1880-1914- Bonn, 2009. S. 418, 419.
25 Троцкий И. Мой процесс (Берлин, от нашего корреспондента) // Русское слово. 1912. № 85. 12 мая. С. 3.
26 Имя известного сотрудника Суворинского «Нового времени» М.О. Меньшикова стало в те годы нарицательным обозначением человека с крайне правыми «черносотенными» взглядами.
27 Седых А. Памяти И.М. Троцкого. 1969.
28 См.: Троцкий И. Встречи с Вильгельмом II // Сегодня. 1934. № 28. 29 января. С. 4.
29 Троцкий И. Страничка истории (Из воспоминаний журналиста) // Сегодня. 1928.
30 «Берзен-Курьер» (Der Berliner Börsen-Courier) — в 1868-1933 гг. влиятельная газета леволиберального направления. Макс Адольф Клаузнер (Klausner) был редактором политического отдела этой газеты.
31 Петербургское телеграфное агентство — с 1904 г. и по 1917 г. официальное информационное агентство российского правительства.
32 Троцкий И. Накануне Первой мировой войны (Из личных воспоминаний).
33 О популярности Артура Никиша в русской музыкальной среде конца XIX в. см.: Юнггрен М. Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмиля Метнера. СПб., 2001. С. 10-12.
34 Л.Д. Крейцеру принадлежит одна из первых систематических работ об использовании педали в игре на фортепиано — «Обычная фортепианная педаль с акустической и эстетической точки зрения» («Das normale Klavierpedal vom akustischen und ästheti-schen Standpunkt», 1915). Он также редактировал издание сочинений Шопена в Германии.
35 Троцкий И. Первые шаги Шаляпина в Берлине // Сегодня. 1928. № 130. 15 мая. С. 3.
36 Пятигорский Григорий. Виолончелист (www.mmv.ru/gooten-berg/gregor/29.htm).
37 И.М. Троцкий неверно указывает отчество Кусевицкой — «Николаевна». Жена музыканта была дочерью московского миллионера-мецената Константина Капитоновича Ушкова. Об этой незаурядной личности см.: Анциферов А.А. К атрибуции произведения А.С. Голубкиной «Дама» // Третьяковские чтения, 2010-2011. М., 2012. С. 264; Оссовский С.В. С.В. Рахманинов (http://senar.ru/memoirs/Ossovsky/).
38 Tiergarten (буквально «сад животных», т.е. «зоосад») — район Берлина, вилла Кусевицких (не сохранилась) располагалась по адресу: Дракестрассе (Drakestraße) 1.
39 Троцкий И. Венок на могилу С.А. Кусевицкого // Новое русское слово. 1951. № 14 290. С. 2
40 Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать. Т. 2. С. 477-478.
41 Кратц Г. «Тень Тургенева» над столыпинской Россией: Павел Бархан и его немецкая книга «Петербургские ночи» // Тургеневские чтения. 2009. № 4. С. 253.
42 Чуковский и Жаботинский: История взаимоотношений в текстах и комментариях / Сост. Евг. Иванова. М.; Иерусалим, 2005. С. 147.
43 Бад (Bad) — нарицательное обозначение водолечебного курорта, частая приставка в наименованиях многих курортных немецких городов.
44 Троцкий И. В Берлине в дни объявления войны.
45 Троцкий И. С.Ю. Витте и мировая война. Эта статья через три дня после ее публикации газетой «Дни» была перепечатана в изложении на немецком языке под названием «Беседы с графом Витте» одной ведущей берлинской газетой: Trotzky Jlja М. Gespräche mit dem Grafen Witte // Berliner Tageblatt. 1924. Nq 359(30 Juli). S. 3.
46 Троцкий И. В Берлине в дни объявления войны.
47 Зальцшлирф, точнее Бад Зальцшлирф (Bad Salzschlirf) — город-курорт неподалеку от г. Фульда федеральной земли Гессен в ФРГ. В городском архиве, к сожалению, никаких подробностей о личности и деятельности Ц.Г. Хюльзен-Хеселера, за исключением самого факта его директорства на курорте, не сохранилось.
48 Лев Кириллович Нарышкин (1904-1963), сын приемной дочери графа Витте Веры Сергеевны Витте (1883-1963) и князя Кирилла Васильевича Нарышкина (1877-1950). После революции вся семья Витте-Нарышкиных эмигрировала в Европу.
49 Троцкий И. Граф С.Ю. Витте преподает мне урок истории // Новое русское слово. 1964. № 18 766. С. 3.
50 Троцкий И. С.Ю. Витте и мировая война.
51 Троцкий И. В Берлине в дни объявления войны.
52 О нем см.: Reichel H.-G. Das Königliche Schauspielhaus unter Georg Graf von Hülsen-Haeseler (1903-1918). Berlin, 1962.
53 «Was aber sagt der Akt?» Mit dreizehn Kreidezeichnungen von Jan Nils. Wiesbaden, 1927. Поскольку сведений о существовании «третьего брата» в графской фамилии Хюльзен-Хеселер не обнаружено, не исключено, что Илья Маркович ошибался, полагая своего приятеля младшим отпрыском этих влиятельных аристократов. Скорее всего, Ц.Г. Хеселер просто состоял с ними в родстве.
54 Троцкий И. Граф С.Ю. Витте преподает мне урок истории.
55 Kratz G. Der berliner russische Verlag Slovo (1920-1935) // Archiv für Geschichte des Buchwesens. Berlin-New York, 2009. Bd. 64. S. 193-205.
56 Петров С. Граф С.Ю. Витте. Воспоминания. Царствование Николая II // Белый архив (http://whitearchive.ru/graf-s-yu-vitte-vospominaniya-carstvovanie-nikolaya-ii-tom-2-oj-knigoizdatel-stvo-slovo-berlin/).
57 «Семилетняя война» (1756-1763) —один из самых масштабных конфликтов Нового времени. Шла как в Европе, так и за океаном: в Северной Америке, странах Карибского бассейна, Индии, на Филиппинах. В войне приняли участие все европейские великие державы того времени, а также большинство средних и мелких государств Европы, некоторые индейские племена.
58 Троцкий И. С.Ю. Витте и мировая война.
59 Александр Исаевич Браудо — видный российский историк, библиограф, в 1909-1914 гг. статский советник, одна из ключевых фигур еврейского национального движения в России.
60 Родные сестры, великие княгини Милица (1866-1951) и Анастасия (1868-1935) Николаевна Черногорские (урожд. княжны Негош), бывшие замужем за внуками императора Николая I — великим князем Петром Николаевичем (1864-1931) и светлейшим князем Георгием Максимилиановичем, 6-м герцогом Лейхтембергским (1852-1912), а с 1906 г. великим князем Николаем Николаевичем (1856-1929).
61 Троцкий И. С.Ю. Витте рассказывает... // Новое русское слово. 1964.
62 Витте С.Ю. Царствование Николая Второго. Т. 2. Глава 45. С. 290.
63 Насмешливая кличка, навечно приставшая к верноподданнической газете Суворина с легкой руки Салтыкова-Щедрина. Ни один литератор, писавший до настоящего времени о Суворине, не упустил возможности повторить эту кличку, трактуя ее как обвинение в угодливом пресмыкательстве.
64 Дневник Алексея Сергеевича Суворина / Текстологическая расшифровка Н.А. Роскиной, подготовка текста Д. Рейфилда и О.Е. Макаровой. London; М., 1999.
65 Парамонов Б. Театр Суворина // Звезда. 2014. № 1.
66 Там же.
67 Троцкий И. С.Ю. Граф С.Ю. Витте преподает мне урок истории.
68 Там же.
69 Сборник договоров России с другими государствами, 1856-1917. М., 1952; Молодяков В.Э. Первая мировая: война, которой могло не быть. М., 2012.
70 Троцкий И. С.Ю. Витте в Зальцшлирфе // Новое русское слово. 1964. № 18 792. С. 2.
71 Там же.
72 Тарле Е.В. Граф С.Ю. Витте. Опыт характеристики внешней политики // Тарле Е.В. Собр. соч. в 12 тт. Т. 6. М., 1959. С. 509-566.
73 «Локал-Анцайгер» («Berliner Lokal-Anzeiger») — ежедневная газета, выходившая в 1883-1945 гг. в Берлине. Принадлежала концерну медиамагната Августа Шерла (Scherl; 1849-1921).
74 Серков А.И. Русское масонство, 1731-2000 гг. М., 2001. С. 810.
75 The National Library of Dänemark and Copenhagen University Library (www.kb.dk/da/soeg/?query=Enter+search+terms).
76 Троцкий И.М. Потонувший мир (Странички былого. Личные воспоминания). Рукопись YIVO-архива, Box 3.
77 В октябре 1905 г. вспыхнула Первая русская революция, Парвус приехал в Петербург и здесь вместе со Л. Троцким вошел в Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов.
78 Троцкий И.М. Потонувший мир (Странички былого. Личные воспоминания). Рукопись YIVO-архива, Box III.
79 И.М. Троцкий здесь не вполне точен. «На дне» впервые в Германии была поставлена в берлинском Немецком театре (Deutsches Theater Berlin) 23 января 1903 года под названием «Ночлежка» — режиссер Рихард Валлентин (Vallentin; 1874-1908), т.е. практически сразу после премьеры во Московском художественном театре 18 декабря 1902 г.
80 Троцкий И.М. Потонувший мир (Странички былого. Личные воспоминания). Рукопись YIVO-архива, Box III.
81 Вильгельмштрассе (Wilhelmstraße) — улица в центре Берлина, где располагались правительственные учреждения Пруссии и Германской империи; до 1945 г. «Вильгельмштрассе» — нарицательное обозначение имперского правительства.
82 Hoover Institution Archives, Stanford University, CA 94305-6010.
83 Эти же сведения приведены И.М. Троцким в данной под присягой биографической справке от 15 мая 1959 г., хранящейся в архиве берлинского Отдела компенсаций государственного агентства по вопросам гражданского регулирования (Entschädigungsbehörde des Landesamtes für Bürger— und Ordnungsangelegenheiten: Ilja Trotzky, Akten Reg. 170 128).
84 Автор актуальной в свое время книги: Клейнов Г. Граф С.Ю. Витте. СПб., 1906.
85 Троцкий ИМ. Памяти Б.В. Дерюжинского // Новое русское слово. 1955 (вырезка из статьи-некролога, хранящаяся в архиве И.А и В.Н. Буниных в Русском архиве Андского университета, MS 1066/9768).
86 2 мая 1917 г. русский военный агент (атташе) в Копенгагене генерал-майор Потоцкий С.Н. (1877-1954) сообщал: «Установлено: в настоящее время почти во всех городах Германии, Австро-Венгрии не хватает хлеба, мяса, картофеля, муки, вообще съестных продуктов. Повсюду продовольственный кризис и всеобщее неудовольствие народных масс. Германское правительство, желая вывести Германию из тяжелого положения, во что бы то ни стало хочет заключить мир с Россией. С этой целью высылает социал-демократов из нейтральных стран в Россию, платя большие деньги» (Александров К. Октябрь для кайзера. Заговор против России в 1917 г // Посев. 2004. № 2. С. 3).
87 Соболев ГЛ. Тайный союзник. Русская революция и Германия. СПб., 2009. С. 194.
88 Хальвег В. Возвращение Ленина в Россию в 1917 году. М., 1990. С. 63.
89 Этот документ впервые был опубликован в сборнике: The Russian Provisional Government 1917: Documents. Vol. 1. Stanford, 1961. P. 1161.
90 По-видимому, речь идет о профессоре Йохане Вильгельме Рунеберге (Runeberg, 1843-1918).
Глава 4 Европейский период эмигрантской жизни И. М. Троцкого
«Великий Октябрь» разрушил надежды И.М Троцкого на «светлое будущее» в свободной и демократической России. Не питая ни малейших иллюзий относительно большевиков, он предпочел возвращению на родину статус «вечного эмигранта». В совершенстве владея немецким, а также французским, он намеревался пустить корни в одной из европейских стран.
Вполне понятно, что основным вопросом в этой ситуации было — на что жить? По-прежнему добывать себе хлеб насущный одним журналистским трудом в его положении (жена и четверо детей) было невозможно. По всей видимости, контактный и энергичный Илья Маркович решил заняться предпринимательской деятельностью, опираясь на свои связи в еврейских благотворительных организациях. Об этом свидетельствует письмо некоего доктора Фридлендера из копенгагенского отделения «Джойнт» от 16 марта 1920 г. на имя исполнительного директора парижского отделения этой еврейской благотворительной организации, доктора Юлиуса Гольдмана, где сообщается:
За ужином я познакомился в доме профессора Симонсена1 с господином Ильей Троцким, председателем «Скандинавского еврейского комитета помощи», журналистом, ранее сотрудничавшим в русской прессе, а теперь ставшим коммерсантом и в настоящее время живущим в Копенгагене. Несмотря на его фамилию, он известен как антибольшевик, и поэтому является персоной нон-грата <в России — М.У.>. Профессор Симонсен очень высокого мнения о нем. Лично я склонен думать, что из-за его бывшей журналистской деятельности и его настоящих интересов, он не принадлежит к <большевистской — М.У.> партии, и, вероятно, будет очень ценным приобретением для нашей работы2.
Однако впоследствии свою общественную деятельность И.М. Троцкий в сфере еврейской благотворительности и просвещения связал исключительно с ОРТ-ОЗЕ, о чем мы еще скажем.
Из Скандинавии в Веймарскую республику
Семь лет, с 1914 по 1921 гг., И.М. Троцкий прожил в Дании, в ее столице Копенгагене, но следов его пребывания там практически не сохранилось. Более того, он очень мало писал о датчанах, хотя относился к ним с симпатией:
Люблю скандинавцев и особенно датчан. Симпатичный и приятный народ. Демократичны, сердечны и гостеприимны. В них нет ни корректной чопорности шведов, ни угрюмой сосредоточенности норвежцев. Недаром Копенгаген считается «Парижем» Скандинавии, а датчане — скандинавскими «французами». Они толковы, ловки и оборотисты.
За всем этим, однако, датчане самый увлекающийся и беспечный из всех скандинавских народов. И в этом отношении они русским — очень сродни. Былое российское «авось» и «как-нибудь» присуще и датчанам3.
Это, пожалуй, единственная достаточно подробная характеристика национальных черт датчан во всей публицистике И.М. Троцкого. Остальные замечания, носящие такой же эскизный характер, касаются люксембуржцев4, голландцев, швейцарцев5 и шведов. Например,
Голландцы в частной жизни живут замкнуто и обособленно. Идеал голландской семьи — иметь собственный дом. <...> Английский девиз «Мой дом — моя крепость» присущ и голландцам. <...>
Голландцы по праву гордятся национальной и вероисповедальной терпимостью. Религиозная толерантность прививается ребенку чуть ли не с молоком матери. <...>
...специфические черты национального характера голландцев — спокойствие, невозмутимость и уравновешенность. Нервность немцев и импульсивность французов чужды голландцам. По характеру голландцы скорее сродни англичанам, с тою лишь разницей, что голландцы лишены британской чопорности и черствости. И благодаря этому очень симпатичны6.
Если говорить о «национальном лице» в публицистике И.М. Троцкого, то помимо, естественно, русских, больше всего он высказывался о шведах. Швеция, так же как Дания, Голландия и Люксембург являлась для него «образцовым» государством, в котором процветают свободомыслие, терпимость и доброжелательное отношение к иностранцам. Хотя Дания, где Троцкий много лет жил, была ничуть не менее просвещенной и либеральной, чем Швеция, которую он посещал наездами, в его эмигрантских очерках прослеживается только лишь «шведская» тема. Она начинается в 1926 г. со статьи «Опять в Стокгольме»7, в которой автор поэтически воспевает изысканный облик шведской столицы:
И все же Стокгольм прекрасен! Люблю эту холодную северную столицу. Любуюсь ее закованными в цемент и гранит набережными, строгой архитектоникой зданий, суровостью площадей и монументальностью памятников. Незаметно простаиваю долгое время на массивах мостов, наблюдая извечную борьбу сталкивающихся течений двух встречных зундов8 и следя за шумным роем белых чаек, оглашающих центр столицы резкими криками. <...>
Сочетание воды, холмов и гранита. Всякий раз, приезжая сюда, мне кажется, будто вижу город впервые. В нем, что ни площадь — то история, что ни улица — то традиция. Историей Стокгольм богат. Он царил когда-то чуть ли не над всем балтийским морем. Его власть простиралась до Ревеля, Штральзунда и Бергена. В узких, словно щели, улицах старой столицы Карла XII комплектовались грозные полки воинов, запрудившие Пруссию и Польшу и докатившиеся до Полтавы.
Завершается «шведский цикл» в 1938 г. статьей «Русская эмиграция (Письмо из Скандинавии)»9 — одной из последних публикаций Троцкого в европейской эмигрантской печати. Всего удалось обнаружить 20 статей И.М. Троцкого, так или иначе связанных со Швецией. Основной «пакет» — это корреспонденции из Стокгольма, освещающие торжественную церемонию вручения Ивану Бунину Нобелевской премии по литературе, о чем речь пойдет ниже.
Во всех очерках И.М. Троцкого из серии «Путевые наброски» красной нитью проходит тема русской эмиграции. Основной вопрос, задающийся И.М. Троцким от лица русского эмигранта первой волны: «Где в Европе жить хорошо?» Ответ на него гласит: «Всюду плохо, но в Скандинавии лучше всего»:
Среди мест русского эмигрантского рассеяния Скандинавия стоит особняком. Положение русской эмиграции здесь несоизмеримо лучше и обеспеченнее, нежели в прочих европейских государствах. В Дании, Швеции и Норвегии не слышно обычных эмигрантских жалоб на безработицу, нужду и отсутствие крова...
<...> немногочисленная русская эмиграция крепко срослась со скандинавским бытом, пустила глубокие корни и ассимилировалась. И если ее что связывает с прочей эмиграцией, то это неискоренимая любовь к России и общность культуры.
Русских неоскандинавцев и эмигрантов встречаешь на всех ступенях социальной лестницы: от директора страхового общества до надсмотрщика в порту. <...> Бывший императорский посланник и сенатор, занимавшийся на досуге историческими исследованиями, довольно удачно оперирует ныне импортными товарами. Даровитый литератор и режиссер, успешно подвизавшийся в скандинавской публицистике и театре, сейчас занимает крупный и ответственный пост в датской тяжелой промышленности. Русский журналист, отличный знаток Скандинавии, отлично сочетает работу пера с возглавлением собственного мехового предприятия. Есть и такие русские литераторы, которые за невозможностью печататься в русских эмигрантских изданиях совершенно ушли в скандинавскую журналистику. Нередко русские неоскандинавцы на научных и академических постах. В старейшем шведском университете, в Упсале, кафедру лектора по русской литературе занимает православный священник и литератор10 из натурализовавшихся11.
Из всех скандинавских стран особой похвалы И.М. Троцкого удостаивается опять-таки Швеция:
Швеция широко раскрыла двери в свое гражданство русским эмигрантам, лишившимся родины. Среди скандинавских стран Швеция оказала русским изгоям самое широкое гостеприимство. И это россиянам следует помнить!12
Никакой особой благодарности за оказанное шведами гостеприимство русским изгнанникам в исторической памяти россиян не осталось, по-видимому, в силу свойственной русскому сознанию забывчивости по отношению ко всему, что касается благодеяний со стороны всякого рода «варягов». По крайней мере, в исторической и мемуарной литературе свидетельств подобного рода нет.
«Русский Берлин»
Несмотря на столь благоприятную для русских эмигрантов ситуацию в скандинавских странах и свою симпатию к скандинавам в целом, И.М. Троцкий в этой части Европы не прижился. Почему? Что побудило его, человека вполне укорененного в Дании, лично знакомого с видными деятелями датской социал-демократической партии, братьями Брандесами, главным раввином страны доктором Симонсоном и другими представителями местного истеблишмента, покинуть эту страну? Ведь Дания, ко всему прочему, в начале 1920-х переживала период экономического расцвета.
Ответ прочитывается из тех же «путевых заметок и наблюдений» журналиста Троцкого. Кроме Парижа и Берлина,
ни в одном из европейских городов в начале 1920-х не было интенсивной русской культурной жизни: ни русских издательств, ни литературных и музыкальных обществ, ни русских газет. Берлин, превратившись из имперской столицы в главный город либерально-демократической Веймарской республики, по всей видимости, казался И.М. Троцкому и ближе, и роднее. Потому в 1921 г. он и перебрался сюда из Копенгагена.
Весь первый эмигрантский период жизни Ильи Троцкого так или иначе связан с Берлином, причем главным образом с его русской эмигрантской колонией, получившей в силу своей многочисленности название «Русский Берлин».
Русская колония существовала в Берлине уже в начале XX в., русские туристы в большом количестве приезжали в Германию на отдых и лечение. Московская газета «Раннее утро» в своем выпуске от 17 августа 1910 г. сообщала, например, о десятках тысяч русских приезжих, наполнявших улицы Берлина в разгар сезона. В 1905-1908 гг. в Берлине осело большое число выходцев из России: студентов, журналистов, предпринимателей, а также политических эмигрантов.
Однако «русское присутствие» в кайзеровской Германии — капля в море по сравнению с эмигрантским потоком, хлынувшим в Веймарскую республику по окончанию гражданской войны в России, значительная часть которого осела в Берлине. Так возник «русский Берлин» — «город в городе», место свободного, ожесточенного и непрерывного эмигрантского дискурса.
Отношение к Берлину 1921-1923 гг. со стороны интенсивного и компактного мира русской колонии косвенно отражалось в многочисленных анекдотах и остротах. Главная магистраль Берлина Курфюрстендамм, <где жил И.М. Троцкий — М.У.> была шутливо окрещена в «Неппский проспект» (по аналогии с Невским проспектом, с одной стороны, и от немецкого Neep — обман, надувательство — с другой), а сам город получил ироничное название «Шарлоттенграда» (от имени западного района «Шарлоттенбург», густо заселенного русскими) или «Берлинограда» (изобретение многочисленной диаспоры). У Андрея Белого мы находим переделку известного пушкинского выражения «и кюхельбекерно и скучно» в «и стало мне и курфюрстендаммно и томительно», что отражает своеобразную атмосферу «города в городе».
Определения одной из важных на карте Европы столицы как «большой вокзал», «Ноев ковчег» (И. Эренбург), «мачеха российских городов» (В. Ходасевич), «караван-сарай» (М. Шагал) отражают характеристику как бы не города, а некоего пункта, станции, площадки, принадлежать которым могла бы если Европа — то на границе с Азией, а если Азия — то довольно европеизированная. Они иллюстрируют весьма импульсивный, распыленный, непостоянный, бурлящий характер «после»: Европы в целом — после войны и Германии в частности — еще и после революции13.
В начале 1920-х русских в Берлине было так много, что издательство З.И. Гржебина выпустило русский путеводитель по городу. Жизнь русской колонии сосредоточивалась в западной части города, в районе Гедехнискирхе. Здесь у русских было 6 банков, 3 ежедневные газеты, 20 книжных лавок и, по крайней мере, 17 крупных издательств. В 1918-1928 гг. в Берлине функционировало 188 специализировавшихся в разных областях русских эмигрантских издательств. Подобного количества и разнообразия не было ни в одном из других центров русской диаспоры за все время ее существования, включая наши дни. Если в начале 1923 г. в Берлине насчитывалось 38 русских издательств, то в конце года их стало уже 86. В 1922 г. многочисленными русскими издательствами в Берлине, Мюнхене и Лейпциге14 было издано книг на русском языке больше, чем на немецком15.
Издательство «Слово» (1919-1924 гг.), основанное известным деятелем кадетской партии и редактором газеты «Руль» Иосифом Гессеном в сотрудничестве со знаменитым немецким издательством «Ульштайн», решившим заработать на русском книжном буме, рассчитывало распространять книги в советской России. Но эти надежды, из-за
непримиримо антисоветской позиции его руководства, не оправдались.
Тогда как «Издательство И. П. Ладыжникова», тесно сотрудничавшее с советскими государственными книготорговыми обществами «Книга» и «Международная книга», просуществовало вплоть до 1933 г. Оно опубликовало по-русски и в переводе на немецкий язык около 500 наименований книг. Среди них в серии «Русская библиотека» были выпущены собрания сочинений Льва Толстого, Тургенева, Достоевского, Гоголя, стихи А.К. Толстого, трилогия Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист».
Самым крупным русскоязычным книгоиздательским предприятием в Берлине (и во всем русском зарубежье) было «Издательство З. И. Гржебин». Издательство имело отделения в Петрограде и Москве, Берлине и Стокгольме. Оно, выпуская книги прежде всего для Советской России — русских классиков, научно-просветительскую и педагогическую литературу, декларировало неангажированность своей издательской политики. Сам З.И. Гржебин писал в феврале 1923-го:
Я готов печатать от Ленина до Шульгина и еще правее, если это будет талантливо и правдиво (вернее, искренно <...>) Я совершенно независим и печатаю то, что нахожу нужным. Я не могу оторваться от России, хочу, чтобы мои книги попали в Россию...
«Издательство З.И. Гржебин» начало публиковать серию «Летопись революции: библиотека мемуаров» (куда должны были войти воспоминания не только большевиков, но и их противников; в ней были выпущены в 1922-1923 гг. под редакцией Б. Николаевского воспоминания Н. Суханова, Ю. Мартова, В. Чернова, П. Аксельрода и других). Всего в 1922-1923 гг. было издано 225 названий книг. Наряду с классиками Гржебин издавал современных поэтов, в том числе Б. Пастернака, Н. Гумилева, В. Ходасевича, Г. Иванова, М. Цветаеву, прозаиков — Е. Замятина, А.Н. Толстого, Горького, Б. Пильняка, Б. Зайцева, А. Чапыгина, А. Ремизова, А. Белого, книги по искусству П. Муратова, С. Маковского, книгу воспоминаний об
Л. Андрееве, серию «Жизнь замечательных людей», а также научные издания. Было предпринято издание исторического журнала под тем же названием; в редакцию вошли меньшевистские и эсеровские лидеры-эмигранты. Однако политическая «беспринципность» Гржебина обошлась ему дорого. Большевики очень скоро объявили о запрещении ввозить в Советскую Россию книги, изданные заграницей, а затем их берлинское торгпредство расторгло договор с издательством Гржебина, что привело его к разорению. После финансового краха издательства он переехал в конце 1923 г. с семьей в Париж, где скоропостижно скончался в 1929 г. в совершенной нищете16.
В начале 1920-х в Берлине процветало русское газетное дело:
Кадеты выпускали ежедневную газету «Руль» (редакторы — И. Гессен и Каминка). Выходила независимая республикански-демократическая газета «Дни», ведущими авторами которой были Е. Брешковская («бабушка русской революции»), М. Осокин, Е. Кускова, С. Прокопович и др. Мнение эсеров в эмиграции отражала газета «Голос России». Российские социал-демократы (меньшевики) во главе с Ю. Мартовым и Р. Абрамовичем выпускали журнал «Социалистический вестник». Выходили и другие издания. Действовали (иногда кратковременно) и другие политические движения, вплоть до анархистов во главе с Эммой Гольдман, издававших журнал «Рабочий путь».
«Сменовеховцы», искавшие примирения с большевиками, группировались вокруг газеты «Накануне». «Евразийцы» выпускали журнал «Скифы», на страницах которого пытались найти корни особого пути России17.
После финансового кризиса 1923 г. русская издательская деятельность в Германии «сразу почти сошла на нет», замечает Г.П. Струве18, «к 1925 г. литературной столицей эмиграции становится Париж19. Следует отметить, что в самом СССР в 1920-х также издавали книги писателей-эмигрантов. Среди печатной продукции такого рода отметим сборник «Белые и цветные. Жизнь колоний в отражении художественной литературы», выпущенный в 1926 г. ленинградским частным издательством Н.С. Высоцкого «Сеятель»20. На его обложке значится: «Составители Н.С. Левин и И.М. Троцкий». Поскольку данных о существовании другого Троцкого с инициалами «И.М.», кроме Ильи Марковича, в среде русских литераторов того времени не имеется, можно с уверенностью полагать, что одним из составителей сборника является герой нашего повествования. Всего в сборнике представлено семнадцать имен, из них только три принадлежат русским писателям: Николай Тихонов (поэма «Сами»), Иван Бунин (рассказ «Рикша») и Илья Эренбург (рассказ «Трубка бога Кабалаша»). Остальные писатели, за исключением Джека Лондона и Рабиндраната Тагора, европейцы.
Итак, до первой половины 1920-х Берлин был и важнейшим центром российской художественно-культурной эмиграции. Здесь в те годы жил Максим Горький, издававший журнал «Беседа». В состав редколлегии входили Андрей Белый и Владислав Ходасевич. Илья Эренбург вместе с художником Эль Лисицким издавал конструктивистский журнал «Вещь» (печатавшийся на трех языках — русском, немецком и французском). Среди авторов журнала были Маяковский, Мейерхольд, а также Пикассо, Ле Корбюзье и другие представители левого искусства21.
В кафе «Ландграф», как вспоминала Нина Берберова,
...каждое воскресение в 1922-1923 собирался Русский клуб — он иногда назывался Домом Искусств. Там читали Эренбург, <...> Ходасевич, <...> Шкловский, Пастернак, <...> Белый, <...> Зайцев, Я и многие другие22.
Схожие картины рисовал в своих мемуарах И. Эренбург:
В Берлине существовало место, напоминавшее Ноев ковчег, где мирно встречались «чистые» и «нечистые»; оно называлось Домом Искусств. В заурядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели <и художники — МУ.>. Читали рас-сказы Толстой, Ремизов, <...> Пильняк, <...>. Выступал Маяковский. Читали стихи Есенин, Марина Цветаева, Андрей Белый, Пастернак, Ходасевич. Как-то я увидел приехавшего <...> Игоря Северянина23.
В 1922 г. прямо с «философского парохода» в Берлин прибыли изгнанные из Совдепии философы Николай Бердяев, Семен Франк, Николай Лосский, Федор Степун, Сергей Булгаков, Иван Ильин и др.; литераторы И. Матусевич и Михаил Осоргин; историки Александр Кизеветтер, Венедикт Мякотин, Питирим Сорокин, литературный критик Юрий Айхенвальд, экономист Борис Бруцкус и другие.
Отношения между про- и антисоветски настроенными эмигрантами — «чистыми» и «нечистыми», по определению Эренбурга — в целом были вполне дружеские.
Вспоминая о Берлине начала 1920-х, И. Троцкий пишет24:
Жизнь по тому времени огромной и социально пестрой русской колонии с преобладающим беженским элементом била ключом. Русские издательства и книжные магазины, русские журналы и газеты, всякого рода политические группировки множились и росли. Русский театр и кабаретное искусство пожинали лавры, пользуясь большим успехом и у немцев. Не было недостатка в русских ресторанах и кофейнях, привлекавших публику богатым выбором национальных блюд и ассортиментом напитков, где звучала русская песня и мягко звенели струны гитар.
Особое место в культурном плане русской колонии занимал тогда «Союз писателей и журналистов»25, насчитывающий около полутораста членов — в большинстве квалифицированных тружеников пера с солидным стажем и именами <...>.
Берлин <...> был наводнен русской писательской братией. Лишь немногие из них <...> прочно устроились в русских издательствах или выходивших тогда газетах. Большинство за незнанием немецкого языка сильно нуждалось. Материальную поддержку люди пера могли найти, по преимуществу, в «Союзе писателей и журналистов» — организации профессиональной и надпартийной. «<Председатель правления Союза — М.У.> А.А. Яблоновский, по доброте душевной, широкой рукою оказывал собратьям по профессии помощь, благо в запасе деньги числились.
Потом, как выяснилось, касса оказалась пуста. И.М. Троцкий, избранный новым казначеем и относившийся с большим уважением к Яблоновскому, вынужден был, чтобы не уронить в глазах общественности репутацию Союза, покрыть растрату своего предшественника частично из собственных средств, а частично благодаря своим связям среди филантропов и умению собирать деньги на общественные нужды. История этой «драмы», поведанная Троцким по прошествии более чем полувека, относится к 1923-1924 гг., поскольку в 1925 г. А.А. Яблоновский перебрался на жительство в Париж.
Что касается коллеги Ильи Троцкого, маститого русскоcловца Александра Александровича Яблоновского, то в середине 1920-х и начале 1930-х он был одним из самых кусачих и плодовитых публицистов русского Зарубежья. Яблоновский регулярно
Публиковался в газетах «Сегодня», «Руль», «Общее дело», в дальневосточной, американской эмигрантской периодике и других, но главным образом в «Возрождении», где был ведущим сотрудником с 1925 по 1934, работая в жанре политического фельетона. Он занял непримиримую позицию по отношению к большевистскому эксперименту, сатирический пафос его памфлетов направлен против советского образа жизни. <...> Его волнует положение литературы и писателей на его родине, он выступает против партийной цензуры, репрессивных нравов советской литературной критики. Особенно возмущен Яблоновский «прислужничеством» советских писателей. Он мечет сатирические стрелы в А. Белого, В.В. Маяковского, А.Н. Толстого, С.А. Есенина, В.В. Вересаева, <...>. Цикл памфлетов Яблоновский посвятил М. Горькому, который был раздражен его нападками <и даже> после смерти Яблоновского <...> не мог ему простить выпадов в свой адрес <...>.
Яблоновский в своих фельетонах осуждал французских писателей — А. Барбюса, А. Франса, приветствовавших советскую
власть как залог будущего процветания России. <...> В памфлете «Господа французы» Яблоновский, обращаясь к известному писателю, говорит, что и для него в большевистской России было бы только три выбора: «Или нищий, или арестант, или смертник». <...> на I съезде русских зарубежных писателей в Белграде (сент. 1928) <...> Яблоновский произнес речь, <которая> произвела большое впечатление на присутствующих26,
— и по окончанию съезда он был избран председателем совета объединенного Зарубежного союза русских писателей и журналистов, в чем, можно полагать, сыграла свою роль его успешная деятельность на посту руководителя Союза русских писателей и журналистов в Берлине (в нем И.М. Троцкий состоял членом Правления и ревизионной комиссии) и Париже (с 1926 г.).
Возвращаясь к теме «Русский Берлин», приведем сатирическую зарисовку поэта и журналиста Жака Нуара, описывающую типичную для тех лет журналистскую «акцию», с перечислением фамилий известных эмигрантских литераторов (Оречкин, Назимов, Офросимов, Троцкий, Лери-Клопотовский, Южный), с большинством из которых, включая самого автора стихотворения, «всамделишный» — т.е. И.М. Троцкий, сотрудничал в различных эмигрантских изданиях:
В своей данной под присягой декларации о профессиональной деятельности и доходах в период жизни в Германии с 1921 по 1933 гг. (Eidesstattlicheerklarung), поданной им в середине 1950-х на предмет получения трудовой пенсии от Федеративной республики Германии28, И.М. Троцкий так описывает свою литературную деятельность в Веймарской республике:
Я смолоду работал в качестве журналиста. Вскоре после окончания Первой мировой войны я был в Берлине корреспондентом многих зарубежных газет («Дни» — Париж, «Последние новости» — Париж, «Освобождение» — Париж, «Сегодня» — Рига, «Наша жизнь» — Рига и др.). Я не получал постоянной зарплаты, а работал на гонорарной основе, с учетом размеров каждой статьи и ее важности для газеты. Мой средний заработок в 1930-1932 гг. составлял 3000 рейхсмарок в год. В эти же годы в Берлине я работал и как писатель. Я переводил на немецкий язык и адаптировал различные иностранные тексты, которые публиковались в газетах, а затем и в качестве отдельных книжных изданий. Наибольший успех имел роман латвийского писателя Августа Гайлита29 «Ниппернат и времена года», за который я получил от «Фоссишен цайтунг»30 гонорар 6000 рейхсмарок и который затем в издательстве Ульштайн увидел свет в виде книги. Также и второй роман Гайлита «Жестокая земля»31 был приобретен издательством Ульштайн, за что мне был выплачен задаток в размере 2000 рейхсмарок.
И.М. Троцкий, «еврейский вопрос» и еврейская филантропия в эмиграции первой волны
В Берлине политическая активность И.М. Троцкого оставалась весьма умеренной. Поскольку в силу своей малочисленности энесы охотно входили в коалицию с родственными по духу партиями, члены Трудовой народно-социалистической партии с 1920 гг. главным образом участвовали в деятельности межпартийного Республиканско-демократического объединения (РДО). Окончательно же ТНСП как партия перестала существовать к середине 1930-х.
Известно, что И.М. Троцкий выступал на заседаниях РДО, но никакой активности как политически ангажированный публицист он не проявлял. Илья Маркович по складу характера являлся практиком-общественником. Этот тип еврейской интеллигенции весьма близок к русским подвижникам из народнической среды, потому, видимо, в руководстве ТНСП, имевшей крепкие народнические корни, подвизалось столь много этнических евреев. Еврейских подвижников в XIX в., когда набрало силу движение «Хаскала», представители которого стремились распространить в среде восточноевропейского еврейства светское знание, видя в нем залог их эмансипации и европеизации, называли «маскил», т.е. «просвещенный, уразумевший».
И.М. Троцкий, общественник-маскил, но никак не политик и не теоретик, в меру сил и способностей всегда стремился делать конкретное дело, от успеха которого люди имели вполне осязаемую пользу. В полемике на тему «Почему так вышло и что делать?», — а она не утихала в русском Зарубежье все годы, пока существовала эмиграция первой волны, он если и участвовал, то лишь эпизодически. По большому счету это была не его стихия.
Илья Маркович не был еврейским националистом, себя определял как человека русской культуры, но реалии эмигрантской жизни заставляли его чутко реагировать на любые проявления антисемитизма. А их было более чем достаточно.
Еврейские «богатеи» охотно спонсировали культурную и общественную жизнь русского Берлина. Политики и общественники из числа этнических евреев активно участвовали в работе не только Союза русских евреев (СРЕ) в Германии и других еврейских организаций (см. ниже), но и многих общероссийских объединений, из числа которых следует отметить Союз русской присяжной адвокатуры, РДО и Земгор32. Интеллектуальные элиты всех без исключения этносов, населявших бывшую Российскую империю, казалось бы, сознавали, что у них общее горе и одно общее дело. Тем не менее антисемитизм в широких эмигрантских кругах носил «прямо-таки болезненный характер — это была своего рода белая горячка»33.
Истории русско-еврейского Берлина и еврейской эмиграции первой волны посвящено немало специальных исследований34. Однако поскольку Илья Троцкий с самого начала своей карьеры был тесно связан с еврейским общественным движением, коснемся темы «Еврейский вопрос в русском Зарубежье».
Еврейский вопрос, в противоположность вопросу «о будущем строе», помимо совершенно иной своей природы, будучи искусственно вздуваемым, муссируемым и заостряемым в течение долгих лет самодержавным режимом в России, <...> мог бы <в эмиграции — М.У.> потерять всякое значение вообще, сойти на нет, уцелеть лишь в форме проблемы теоретической, не сопровождающейся практическими проявлениями. Но <...> этого не случилось, <...> еврейский вопрос в русской эмиграции не потерял своего былого смысла и остроты <...>, он остался действующим и раздражающим началом, болезненным и спорным фактором социальной жизни <...> эмиграции, <а это> доказывает, что причины его прежней нелепой заостренности и болезненности располагались не только в плоскости программы государственного режима, <и потому>, когда этот режим перестал существовать, кто-то и для чего то перенес их <эти причины — М.У.> за границу, в эмиграцию, и снова выдвинул наряду с самыми животрепещущими вопросами дня.
Очевидно, дело было не в системе, а в лицах, обслуживающих эту систему. Система уничтожена, но лица переселились в эмиграцию, они продолжают свое дело. <...>
В том состоянии замученности, отчаяния, безнадежности и нервной задерганности, в том состоянии истеричности, доводящей людей до вспышек массового психоза, в котором находится русская широкая эмиграция в Европе, <...>, когда борьбы уже нет, когда вскрылись обманы, когда заветные цели исчезли из поля зрения, естественно, возникло в массах стремление разыскать и покарать всех виновников бед и катастроф.
И вот этим психологическим моментом сумела воспользоваться та часть руководящей эмиграции, которая больше всех опасалась, как бы законное негодование масс не обрушилось на их голову, что, помимо всего прочего, окончательно бы разрушило белый идейный фронт <...> в качестве громоотвода, по старой привычке, <...> желательно и удобно было подсунуть еврейство, как постоянную причину всех бедствий и неудач русского народа.
В этом направлении использование эмигрантского гнева против виновников белых неудач и перенесение его в область еврейского вопроса и определялась работа юдофобских вождей эмиграции35.
Отражая эти настроения, В.В. Шульгин — монархист, активный участник Белого движения и один из духовных лидеров правой эмиграции, писал:
Тот, кто в условиях борьбы белых с красными не был антисемитом, тот, значит, не ощущал сущности дела, ибо он не способен был понять факта, выпиравшего совершенно явственно: организующей и направляющей силой в стане красных были евреи36.
Еврейский вопрос в эмиграции подогревался не только трагедией революции и Гражданской войны, но и сугубо бытовыми проблемами, в первую очередь — социальным расслоением русской диаспоры.
Евреи составляли почти четверть всех беженцев первой волны и среди них помимо деятелей различной политической ориентации — от монархистов до левых эсеров и меньшевиков, находилось немало представителей торгово-промышленной элиты, сумевших сохранить свои капиталы и деловые связи на Западе. Большая часть коммерческих предприятий «русского» бизнеса, особенно в финансовой, ювелирной, медицинской, издательской и юридической областях принадлежала эмигрантам еврейского происхождения. Как комментировал высказывание одного эмигранта первой волны А. Солженицын:
В сравнении с остальными эмигрантами из России эмигранты-евреи испытывали меньшую трудность акклиматизации в диаспоре, им жилось уверенней. Еврейская эмиграция проявила себя деятельней русской, эмигранты-евреи, как правило, избегли унизительных служб. Тот командир Корниловского полка Михаил Левитов, испытавший в эмиграции все черные работы, сказал мне: «А у кого мы в Париже имели приличный кусок хлеба? у евреев. А русские сверхмиллионеры скупились для своих37
В эмиграции даже некоторые евреи-социалисты весьма преуспели в бизнесе. Так один из бывших активных членов БУНДа — Френк Атран (о нем см. ниже в разделе И. Троцкий и Бунин), занимавшийся производством и сбытом текстиля, впоследствии стал владельцем фирмы «Etan», владевшей сетью из 50 магазинов женской одежды во Франции и Бельгии.
Весьма состоятельными людьми были бывшие эсеры Мария Самойловна и Михаил Осипович Цетлины — одни из самых видных деятелей культуры эмиграции (о них см. ниже в разделах, посвященных Ивану Бунину).
Вполне преуспевал в материальном отношении и другой эмигрант-еврей из славной когорты революционеров — Илья Исидорович Фондаминский-Бунаков. Хотя прямых свидетельств, характеризующих отношения двух «Илюш» — И. Фондаминского и И. Троцкого, найти не удалось, они относились к одному и тому же «кругу общения», а потому нет никаких сомнений в том, что были достаточно хорошо знакомы друг с другом. На фоне довоенного русского Зарубежья, столь богатого выдающимися личностями, Фондаминский — фигура воистину уникальная.
Как один из руководителей партии эсеров, до революции он лично курировал работу боевой группы Б. Савинкова. В Февральскую революцию Фондаминский-Бунаков, проявив себя как пламенный оратор и неординарный политический мыслитель38, стал комиссаром Временного правительства и депутатом Учредительного собрания от Черноморского флота. Эмигрировав в апреле 1919 г. из Одессы (где он подружился с Буниными) во Францию, Илья Фондаминский с начала 1920-х развил в Париже бурную деятельность, играя
большую роль в общественно-культурной жизни русской эмиграции. Он был одним из редакторов ведущего журнала эмиграции «Современные записки» (1920-1940). Благодаря Фондаминскому журнал был открыт для авторов различных направлений общественно-политической мысли и различных литературных течений. Так, в журнале публиковались работы Л. Шестова, С. Франка, Г. Флоровского, Д. Мережковского; художественные произведения И. Бунина, В. Набокова, А. Ремизова, М. Алданова. Фондаминский оказывал большую помощь деятелям русской культуры. Так, он оплатил издание книг (восемнадцать тысяч франков) тех авторов, чьи работы были напечатаны в журнале, помогал начинающим писателям, занимался организацией различных литературных вечеров, в том числе В. Набокова. По инициативе Фондаминского и во многом на его средства был создан Русский театр в Париже. В эмиграции Фондаминский постепенно стал консервативно-христианским мыслителем. В журнале «Современные записки» (с 1920 по 1940 г.) публиковалась серия из 17-ти статей Фондаминского под общим названием «Пути России», где, в частности, самодержавие названо «политической верой русского народа», а Московское царство — «высшим раскрытием русской идеи в прошлом». Фондаминский видел спасение России в своеобразном синтезе идей христианства, социализма, самодержавия и свободы. Он считал, что небольшая группа его единомышленников может изменить судьбу России, и мечтал о создании своеобразного «ордена» для осуществления этого. Фондаминский был инициатором и редактором журнала «Круг», объединившего молодых русских литераторов, многие из которых находились под влиянием идей Фондаминском, в том числе герой Сопротивления во Франции Б. Вильде, писатель Ю. Фельзен <...>, поэт Ю. Мандельштам <...>. Фондаминский был также редактором христианских религиознофилософских журналов «Путь» и «Новый град» и оказывал им финансовое содействие39.
По воле судьбы в эмиграции из пламенного социалиста-революционера Фондаминский с годами превратился в глубоко верующего православного христианина. Большую роль здесь сыграло его тесное дружеское общение с однопартийкой, поэтом и общественным деятелем Елизаветой Юрьевной Кузьминой-Караваевой40. После оккупации Франции немецкими войсками и Фондаминский, и мать Мария были отправлены нацистами в концлагеря, где и погибли41. Вспоминая Илью Исидоровича Фондаминского-Бунакова, даже скептичный, несклонный курить кому бы то ни было фимиам В. Набоков-Сирин, в своей книге «Память, говори» изобразил его как «святого, героического человека, сделавшего для русской эмигрантской литературы больше, чем кто бы то ни было»42. Вполне возможно, что именно к нему обращалась мать Мария в одном из своих стихотворений страшного 1942-го:
В большинстве своем крупные русские литераторы неизменно выступали против антисемитской риторики — как до революции, так и в изгнании43. Вплоть до начала Второй мировой войны в Париже продолжало свою деятельность «Общество борьбы с антисемитизмом в России» (ОБАР), объединявшее в своих рядах практически всех эмигрантов из числа литераторов и общественных деятелей либерально-демократического направления. О нем мы еще скажем.
Однако на интеллектуальном поле политики и публицисты правоконсервативного толка инициировали различного рода публичные дискурсы, так или иначе затрагивающие «еврейский вопрос». Наиболее известным из них является обсуждение «роли евреев в русской революции».
Первая серьезная дискуссия такого рода, происходившая в Берлине в 1922-1924 гг., завершилась выходом сборника «Россия и евреи» (Берлин, 1924). Книга вызвала громкий скандал, поскольку ее авторы — так называемые «кающиеся евреи», и в их числе хороший знакомый Ильи Марковича публицист и философ Г.А. Ландау, часть ответственности за революцию возлагали на еврейское население погибшей Российской империи.
Сам же И.М. Троцкий, активно участвуя в полемике с «кающимися евреями», считал необоснованными обвинения евреев в целом, как народа и религиозной общности, в гибели империи и поражении белого движения44, возлагая ответственность прежде всего на реакционно-консервативную часть белого движения:
По словам журналиста И.М. Троцкого <...> группа «кающихся» противопоставила себя еврейской общественности. «Будет ли власть в будущей России у Милюкова или Керенского, — говорил он, — неизвестно, но у Маркова или Масленникова45 она, безусловно, не будет и тем более постыдно быть у них на узде. Лишь 1917 год вывел евреев из их бесправного положения. Отрицание этого обрекает «кающихся» на полное одиночество.
Троцкий был, безусловно, прав: группа «кающихся» или «ответственных» евреев, как их стали называть в эмигрантской среде, вызвала отторжение, по большей части негодование еврейской общественности46.
Если И.М. Троцкий высказывал взгляды русско-еврейской интеллигенции либерального и социалистического толка — кадетов, меньшевиков, энесов, эсеров и иже с ними, то парижанин Д.С. Пасманник, принявший участие в берлинской полемике, выступал от имени евреев-монархистов.
Пасманник доказывал, что ничего общего между иудаизмом и большевизмом нет и быть не может и что обвинения евреев в том, что они сыграли решающую роль в русской революции, — нонсенс, хотя бы по чисто арифметическим основаниям. В то же время он писал: «Мы отвечаем за Троцкого, пока мы от него не отгородились, как весь русский народ отвечает за Ленина и Чичерина и всех предателей-генералов, пока он от них не отгородился»47.
В контексте данной темы следует отметить, что для И.М. Троцкого и его соратников вопрос «Евреи в коммунистическом движении» всегда оставался актуальным. В статье для сборника «Книга о русском еврействе (1980 -1917)», завершившего этот дискурс в кругу эмигрантов первой волны, Григорий Аронсон писал:
Нет оснований замалчивать тот факт, что в октябрьском перевороте приняла активное участие группа евреев-большевиков, примкнувших к Ленину и что они, в качестве его ближайших сотрудников, сыграли печальную роль в уничтожении зачатков демократической государственности, заложенных в февральскую революцию при Временном Правительстве, и в установлении, на смену ей, коммунистической диктатуры. Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Урицкий, Володарский и др. связали свои имена с разгоном Учредительного Собрания и с террористическим режимом первых лет советской власти. Из истории еврейства этих страшных лет нельзя вычеркнуть их имена, как нельзя не упомянуть о деятельности многочисленных евреев-большевиков, работавших на местах в качестве второстепенных агентов диктатуры и причинивших неисчислимые несчастья населению страны, в том числе и еврейскому населению.
Следует, однако, констатировать, что все эти лица еврейского происхождения не имели ничего общего с еврейской общественностью, отрицали существование еврейства как нации, и всячески отрекались от своей принадлежности к еврейству48.
В следующем сборнике «Книга о русском еврействе (1917-1967)»49 И.М. Троцкий в статье «Новые русско-еврейские эмигранты в Соединенных Штатах» еще раз касается этой темы:
Как это сейчас ни кажется странным, но после октябрьского переворота в среде еврейской интеллигенции, в студенчестве, среди людей свободных профессий и особенно среди журналистов и рабочих лидеров <США> стали распространяться просоветские иллюзии. В России все партии, кроме правящих большевиков, находились вне закона. Свободная и независимая печать была закрыта. Поэтому информация, идущая из России заграницу и, в частности, в Америку, была тенденциозной и давала совершенно ложное освещение деятельности большевистского правительства. С развитием гражданской войны в России это способствовало тому, что идущему из России коммунистическому соблазну одно время поддались даже деятели крупного калибра <в руководстве> социалистической партии. <...>
Еврейская социалистическая федерация в своем большинстве оказалась в руках прокоммунистов. Вся тяжесть борьбы с этими настроениями легла на плечи относительно небольшой группы людей, не изменявших идеям демократического социализма. Среди них мы должны отметить д-ра С.М. Ингермана (друга Плеханова и Аксельрода), <...> Д.Н. Шуба (впоследствии прославившегося своей книгой о Ленине) <и др.>. <...>
К середине 20-х годов коммунистическое поветрие в еврейских кругах Америки сошло на нет. С тех пор коммунисты представляют собой узкий сектантский центр со своей прессой и своими организациями, имеющими очень малое влияние на широкие эмигрантские массы. Выполняя поручения Москвы, они вынуждены питаться своими собственными соками, встречая отталкивание даже в тех элементах, которые в первые годы были захвачены просоветскими настроениями и иллюзиями, но уже успели в них разочароваться. Этому разочарованию способствовала все более проникавшая в Америку информация о действительном положении в стране Советов и, в частности, о бедствиях, понесенных еврейским населением в результате длительной полосы гражданской войны, погромов и всякого рода национализации и социализации, повлекших за собой разорение еврейских местечек и деклассирование торговцев и ремесленников.
Острота «еврейского вопроса» в эпоху Первой мировой войны и русской революции определялась еще и чисто демографическим фактором, ибо в начале XX в. в трех сопредельных империях — Австро-Венгерской, Германской и Российской — жило три четверти всех евреев мира (90% евреев Европы), причем «сосредоточены они были в театре назревающих военных действий, от Ковенской губернии (затем и Лифляндии) до австрийской Галиции (затем и Румынии)»50. Положение евреев в сравнении с остальным населением прифронтовой полосы было особенно тяжелым. Постоянные издевательства, унижения, а то и погромы со стороны военнослужащих русской армии — главным образом казачьих частей, — дополнялись кампанией по обвинению в шпионаже и симпатиях к врагу. Всего во время Первой мировой войны около 500 тысяч евреев было насильственно выселено из прифронтовых губерний и переселено во внутренние губернии России.
Итак, с самого начала Первой мировой войны значительная часть населения западной части Российской империи стала по причинам религиозно-национальной вражды жертвой произвола собственного правительства. В этой трагической ситуации, когда «просвещенные» и «высокогуманные» союзники России — правительства Англии, Франции и США, — почитали за лучшее не вмешиваться, списывая эту проблему на счет «естественных» издержек войны, особенно неоценимой представляется поддержка, оказываемая евреям со стороны общественных и, в первую очередь, еврейских организаций, взявшихся за помощь энергично и умело. Тут было действующее с 1880 (и в городах вне черты) хорошо налаженное ОРТ (общество ремесленного труда среди евреев). ОРТ работал в кооперации с <...> «Джойнтом» («Комитет по распределению фондов помощи евреям, пострадавшим от войны»)51. Все они широко помогали еврейскому населению России. Тут и — возникшее в 1912 ОЗЕ (Общество охранения здоровья еврейского населения); оно ставило своей задачей заниматься не только прямым лечением евреев, но и открытием санаториев и амбулаторий для евреев, также и общей сангигиеной, уменьшать коэффициент заболеваемости, вести «борьб[у] с физической деградацией еврейского населения» (подобной организации еще не было нигде в России). Теперь, с 1915, оно устраивало для еврейских переселенцев на их пути и местах назначения — питательные пункты, летучие врачебные отряды, госпитали, амбулатории, приюты, консультации для матерей. — А с 1915 возникло и ЕКОПО (Еврейское Общество помощи жертвам войны); <...> ЕКОПО создало разветвленную сеть уполномоченных, обслуживающих еврейских беженцев в пути и на местах, подвижные кухни, столовые, снабжение одеждой, занятиями (бюро труда, технические курсы), сеть детских учреждений и школ. Великолепная организованность! — ведь вспомним, что обслуживали они примерно 250 тысяч беженцев и переселяемых52.
И.М. Троцкий, находясь с 1914 г. в нейтральной Дании, также подключился к кампании помощи еврейским беженцам, возглавив «Скандинавский центральный комитет помощи пострадавшим от войны евреям» («Skandinawiske centralkomiteen for de ved Krigen ulykkelig stillede Jader»). Напрямую сотрудничая с «Джойнт» и ее руководителем, знаменитым филантропом и общественным деятелем Феликсом Варбургом, эта организация занималась поставками продовольствия для еврейского населения, проживавшего в зоне военных действий. В архиве «Джойнт» сохранились документы, свидетельствующие об интенсивности этого сотрудничества.
И.М. Троцкий был общественным деятелем «Божией милостью», — потребность служить людям была его второй натурой, — писал хорошо знавший его Андрей Седых53.
К этому определению можно добавить, что для Ильи Троцкого — русского социалиста и либерала по убеждениям, благотворительность (цдака — ивр. Пі?7Х) была, по-видимому, единственной иудейской заповедью, которую он свято чтил, и во имя которой всю свою жизнь посвятил общественному служению. Ибо «благотворительность по своей важности равна всем остальным заветам вместе взятым»54.
На благородной стезе взаимопомощи, еврейского образования и здравоохранения в эмигрантской среде подвизалась большая группа общественно-политических деятелей из бывшей Российской империи. Со многими из них у И.М. Троцкого сложились и на всю жизнь сохранились прочные дружеские и деловые отношения. Судя по сохранившейся переписке, особенно последних двух десятилетий жизни Ильи Марковича, можно с уверенностью утверждать, что он был по природе своей человек терпимый и не амбициозный, а потому ни с кем из своих друзей, соратников по общему делу и близких знакомых не ссорился. Для русского эмигрантского сообщества, за все время своего существования сотрясавшегося от громких скандалов и персональных конфликтов, подобный тип личности — явление исключительное, можно даже сказать, уникальное.
Основной общественной организацией, работе в которой И.М. Троцкий посвятил более 6о лет своей жизни, было ОРТ (ORT, в настоящее время WorldORT) — Общество распространения ремесленного и земледельческого труда среди евреев. Эта просветительская и благотворительная организация была основана в 1880 г. усилиями знаменитого русско-еврейского предпринимателя, железнодорожного магната и филантропа Самуила Полякова и до революции работала только в Российской империи. По всей видимости, И.М. Троцкий имел контакты с ОРТом, еще находясь в России. В 1912 г. возникло ОЗЕ (OSE) — Общество охранения здоровья еврейского населения.
Исторически ОРТ и ОЗЕ работали в тесном контакте друг с другом, и И.М. Троцкий внес большой личный вклад в их деятельность, способствовав возникновению национальных отделений ОРТ-ОЗЕ в странах Латинской и Северной Америке55.
Отмечая различные аспекты деятельности Ильи Троцкого как «еврейского общественника», нельзя обойти вниманием его отношение к сионистскому движению. Насколько известно, еще на заре своей журналистской деятельности в России И.М. Троцкий был близок к кругу публицистов, сотрудничавших в еженедельнике «Рассвет» — еженедельнике Сионистской организации России, выходившем в Москве с января 1907 г. по июнь 1915 г. (запрещен цензурой). Это было самое популярное еврейское издание на русском языке, чей тираж к 1915 г. достигал десяти тысяч экземпляров.
Однако Россия никогда не воспринималась И.М. Троцким как Галут — место изгнания и отчуждения. Напротив, как подвижник-маскил он верил в возможность интеграции евреев в российское общество при условии обретения им демократических свобод. Поэтому непосредственного участия в сионистском движении Илья Маркович не принимал, хотя был знаком с его активистами Жаботинским и Моцкиным. Последний в годы Первой мировой войны возглавляет копенгагенское отделение Сионистской организации. Более того, документы свидетельствуют о том, что 7 ноября 1933 г. в Копенгагене И.М. Троцкий выступал на вечере, посвященном памяти скоропостижно скончавшегося Лео Моцкина56, а в 1937 г. в качестве наблюдателя принимал участие в работе 20 сионистского конгресса в Цюрихе57.
Помимо уже упоминавшихся ОРТ-ОЗЕ основные общественные институции, с которыми сотрудничал И.М. Троцкий до начала Второй мировой войны — это Общественный комитет по организации помощи голодающим в России и
Союз русских евреев в Германии. Деятельность последней организации, с 1921 г. возглавлявшейся известным еврейским филантропом Я.Л. Тейтелем — «веселым праведником», по определению Максима Горького — была в 1920-1930 гг. исключительно активной и успешной58. Союз помогал детям русско-еврейских эмигрантов, опекал сирот с Украины, родители которых погибли при погромах, заботился об их профессиональном образовании. В Союз обращалось и Общество помощи русским гражданам, и «не было случая, когда перед лицом действительно безысходного горя Союз не откликался, не протягивал и свою, всегда более сильную руку помощи, не считаясь с вопросами вероисповедания и национальности»59.
Общественное служение Ильи Троцкого в эти годы было полезным не только для голодающих Поволжья и обездоленных еврейских беженцев, но и для русской культурной диаспоры в целом. В августе 1921 г. И.В. Гессеном в Берлине был создан Союз журналистов и литераторов, который просуществовал до 1935 г. И.М. Троцкий в разное время был в нем председателем ревизионной комиссии и членом правления.
Как отмечалось выше, эмиграция являлась в своих собственных глазах единственным оплотом русской духовности и видела в своем существовании провиденциальную Идею — сохранить в целости и сохранности русскую культуру. В этой связи вся огромная интеллектуальная работа, которая шла в русском Зарубежье, была направлена на строительство русского культурного пространства в Европе. Однако говоря об этом «мире горнем», не следует забывать и о «мире дольнем» — бытовой стороне повседневной жизни эмигрантского сообщества. В материальном плане большинство эмигрантов бедствовало, а писатели и художники, не шибко-то роскошествовавшие на любимой родине, и вовсе влачили полуголодное существование. Финансирование русской культурной жизни — от создания издательств печатной продукции до организации концертов, консерватории и библиотек, — исходило исключительно от отдельных лиц — российских богатеев-филантропов, радевших за русскую культуру. В этой достаточно закрытой и до сих пор не изученной области эмигрантской жизни имело место явление, на которое первым из исследователей того времени указал А.И. Солженицын. Речь идет о том очевидном факте, что этнические русские из числа промышленников и аристократов, сумевших сохранить и даже преумножить свои капиталы в эмиграции, как ни странно, не выказали особого рвения в поощрении культурных инициатив своих соплеменников. На этом поприще несравненно активнее проявляли себя русские евреи. А.И. Солженицын пишет по этому поводу:
Вообще русские евреи оказались в эмиграции несравненно активнее других во всех видах культурно-общественной деятельности. Это было настолько разительно, что вылилось в статье Михаила Осоргина «Русское одиночество», напечатанной в газете русских сионистов «Рассвет», возобновленной Вл. Жаботинским60.
В этой статье Осоргин, о котором М. Алданов писал: «Это был человек, на редкость щедро одаренный судьбою, талантливый, умный, остроумный, обладавший вдобавок красивой наружностью и большим личным очарованием. <...> Все хорошо знавшие его люди признавали его редкие достоинства, его совершенную порядочность, благородство, независимость и бескорыстие»61, — говоря о равнодушии и редкой инициативности этнических русских, как знаковый фактор эмигрантского бытия отмечал:
В культурной (и иной) деятельности российских эмигрантов первое место, лидерство и инициатива принадлежат евреям. <...> Все большие благотворительные организации в Париже и Берлине лишь потому могут помогать нуждающимся русским эмигрантам, что собирают нужные суммы среди отзывчивого еврейства62.
Вспоминая филантропов из среды «отзывчивого еврейства», нельзя забывать и о «культурных ходатаях», которым они доверяли эти суммы, чтобы те могли их с толком и по справедливости распределить. К таким фигурам, а их было совсем немного, принадлежал и И.М. Троцкий. Его собственное финансовое положение в 1920-е было вполне благополучным. Об этом свидетельствует, например, замечание старого коллеги И.М. Троцкого, русскословца А.Ф. Авреха, который в письме к М.С. Мильруду от 29 апреля 1933 г. по поводу сбора пожертвований в пользу бывшего редактора «Русского слова» Ф.И. Благова, сильно нуждавшегося в эмиграции, сообщал, в частности, о том, что:
Хотел было я написать в Берлин бывш<ему> корреспонденту «Русского Слова» И.М. Троцкому, всей своей карьерой обязанному Фед<ору> Ив<ановичу>чу и оставшемуся с деньгами (или нажившему их) после революции63.
Следует особо подчеркнуть — поскольку это является еще одной характеристикой личности И.М. Троцкого, что, узнав о сборах в пользу Благова, он тотчас откликнулся, хотя, вынужденный к тому времени срочно покинуть ставшей нацистской Германию, сам находился в весьма стесненном финансовом положении. Об этом и о ситуации, в которой оказался И.М. Троцкий после прихода Гитлера к власти, речь пойдет ниже.
Другой косвенной характеристикой материального благополучия Троцкого в Веймарской республике служит тот факт, что при тогдашнем крайнем дефиците и высокой дороговизне жилья в Берлине64 он мог позволить себе снимать четырехкомнатную квартиру в престижном районе Вильмерсдорф65, причем в роскошном доходном доме, расположенном на центральном бульваре Курфюстендам. В 1913 г. по статистике в доходных домах на Курфюстендам проживало 120 миллионеров66. После войны здесь располагались популярные среди артистической богемы кафе, театр, руководимый Максом Рейнгардом, размещавшийся в бывшем Доме выставок бер-айнского Сецессиона67, кабаре, варьете, кинотеатры. В Вильмерсдорфе жили знаменитые художники и писатели: Георг Гросс, Генрих Манн, Анна Зегерс и др. Все это делало район своего рода берлинским культурным центром «золотых двадцатых»68. Кроме того, Вильмерсдорф считался «еврейским» районом (свыше 13 процентов его населения были «немцами «Моисеева закона»69).
Проживая с семьей в роскошной по тогдашним берлинским стандартам съемной квартире, И.М. Троцкий, как явствует из архивных документов, имел в собственности дом, находившийся неподалеку, в историческом районе Шарлоттенбург, по адресу Яговстрассе (Jagowstrasse)1. По всей видимости, он сдавал его внаем70.
Официальный доход И.М. Троцкого, который он под присягой заявлял в своих обращениях в немецкие учреждения в середине 1950-х на предмет выплаты ему трудовой пенсии, составлял 1о ооо РМ71 в год — постоянная зарплата в ОРТ-ОСЕ, плюс гонорары от журналистской и писательской деятельности — около 4000 РМ в год. С учетом премиальных отчислений и командировочных можно говорить о сумме годового дохода в районе 15 ооо РМ, что совсем немало по сравнению, например, с аналогичным показателем для среднего служащего или квалифицированного рабочего, составлявшим примерно 3600 РМ72.
Итак, даже без учета доходов от предпринимательской деятельности, о которых можно лишь догадываться, а также сдаваемого в аренду дома, И.М. Троцкий относился к категории весьма преуспевших в Германии эмигрантов.
Помимо общественной деятельности по линии ОРТ-ОСЕ, И.М. Троцкий явно не чуждался личной благотворительности. Например, в рассылке просительного письма, составленного в 1932 г. Алексеем Гольденвейзером, который занимался поиском спонсоров для поддержки русской общегерманской газеты «Новый век», среди имен состоятельных берлинцев из числа русско-еврейских эмигрантов указано также и его имя73.
В письме Дон Аминадо к И.М. Троцкому от 17 июля 1951 г.74, поэт ностальгически вспоминает о его хлебосольстве, и о богатых приемах, которые Илья Маркович устраивал для симпатичной ему литературной братии у себя на квартире:
А еще прошу сердечно кланяться <...> Анне Родионовне, к<о-то>рую и по сей день вижу во главе длинного, уставленного яствами стола, на Kurfustendamm 191 в те баснословные года!
Как публицист И.М. Троцкий был не очень плодовит. В течение пятнадцати лет своего эмигрантского «сидения» в Европе (1922-1938 гг.) он опубликовал около 8о статей, примерно по 5 статей в год. Преимущественно его печатали в рижской газете «Сегодня». Таким образом, как уже отмечалось, основным источником его доходов была отнюдь не журналистика.
В статье-некрологе «Памяти И.М. Троцкого» Андрей Седых, говоря уже об «американском» периоде его жизни, особо отмечает, что в рамках своего литературно-общественного подвижничества он вел со многими литераторами, учеными, артистами постоянную переписку, — основной целью которой, помимо сугубо информационных и личных вопросов, являлась организация помощи нуждающимся деятелям культуры из эмигрантской среды.
С полным основанием эти слова можно отнести и к «европейскому эмигрантскому» периоду жизни Ильи Троцкого. Именно в эти десятилетия он стал ходатаем по делам русских литераторов, и эта форма общественной деятельности была для него не менее важной, чем работа на ниве еврейского просвещения и взаимопомощи.
Наиболее значительной в рамках этого рода деятельности явилась кампания по номинированию писателя-эмигранта Ивана Бунина на Нобелевскую премию в области литературы, в которой он принял самое активное и действенное участие, о чем речь пойдет ниже.
Л.М. Брамсон
Включившись в деятельность еврейской взаимопомощи, все институции которой координировали свои действия друг с другом, И.М. Троцкий особенно сблизился с рядом видных деятелей ОРТа, в первую очередь с Л.М. Брамсоном — выдающейся личностью как среди евреев-общественников XX в., так и российских политических деятелей дореволюционного периода.
Леонтий (Леон) Моисеевич Брамсон родился в Ковно (Каунас) 29 апреля 1869 г., там же обучался в гимназии, затем посещал юридический факультет Московского Университета, который закончил в 1890 г. Со студенческих лет выступал как публицист и общественный деятель, статистик.
По окончании университета Л.М. Брамсон переехал в Петербург (1892 г.), где вошел в адвокатуру и одновременно занялся активной общественной деятельностью, которая с годами углублялась, охватывая различные стороны общероссийской и еврейской действительности. Как политический и общественный деятель Л.М. Брамсон сформировался под знаком двух начал — еврейского и русского. Русская культура и идеалистические заветы русского освободительного движения, преломившиеся через еврейское самосознание, в своем симбиозе привели к появлению особого русско-еврейского типа личности, представители которого сыграли значительную роль как в истории России, так и Европы XX столетия в целом. Характерной чертой деятельности людей этого типа являлось стремление приложить свои силы к конкретной работе на пользу народных масс. Сразу же по приезду в Петербург Брамсон принял деятельное участие в работах бывшего Комитета Грамотности при Вольно-Экономическом Обществе, а в 1892 г. начал работать в «Обществе распространения просвещения между евреями», где в 1894 г. принял на себя непосредственное заведывание еврейским училищем. Во второй половине 1890-х он привлекается также к работе Еврейского Колонизационного Общества75, которое тогда создало свой Центральный Комитет в Петербурге. В 1899-1906 гг. он фактическим являлся руководителем всей практической работы ЕКО того времени. Помимо общественной работы Брамсон заявляет себя как публицист. Он автор работ и исследований по вопросам просвещения и эмансипации еврейского народа, по истории еврейского движения в России. При его непосредственном участии была организована перепись еврейского населения России.
Работа в еврейских организациях в период их становления была целиком сосредоточена в руках небольшой группы петербургских филантропов старого закала, и впоследствии молодым общественникам — «оппозиции» пришлось пядь за пядью отвоевывать себе место и влияние для того, чтобы ставить более широкие задачи и отстоять новые, более демократичные методы общественной работы. Так было в ОПЕ, а затем и в ОРТе, в работе которого Брамсон76 принимает руководящее участие с 1908 г.77
Первая русская революция 1905 г. резко политизировала деятельность Брамсона, который с 1905 г., помимо ряда еврейских демократических организаций, также входит в общероссийский «Союз Освобождения»78. В 1906 г. вместе с такими легальными народниками, как В.А. Мякотин, А.В. Пешехонов, В.Г. Богораз, С.Я. Елпатьевский и др., Брамсон участвует в создании народно-социалистической партии (НСП) — т.н. «энесы», которая «допускала переход российского общества к социализму только в государственно-правовой форме, путем длительной и постепенной эволюции»79.
В декабре 1905 г. Леонтий Брамсон арестовывается по распоряжению Департамента полиции и некоторое время содержится в петербургской тюрьме «Кресты». Кульминационным пунктом его общеполитической деятельности стали выборы в 1-ю Государственную Думу (1906 г.), куда он избирается от родной Ковенской губернии блоком евреев-горожан и крестьян-литовцев. В Думе он — единственный из депутатов-евреев — входит в состав Трудовой Фракции и фактически становится одним из лидеров крестьянского представительства. После роспуска 1-ой Государственной Думы Брамсон вместе с другими депутатами выезжает в Выборг и подписывает знаменитое «Выборгское воззвание»80, за что, как и другие «выборжцы», отбывает трехмесячное тюремное заключение и лишается права впредь быть избранным в органы российского парламентаризма. В течение последующих лет он принимает неофициальное, но заметное участие в работе Трудовой фракции 2, з и 4-й Государственных Дум. На этой работе Брамсон сближается с А.Ф. Керенским и другими лидерами демократической и социалистической оппозиции. В 1907 г. НСП практически прекратила свою политическую деятельность как партия и Брамсон работает главным образом по «еврейской линии». После начала Первой мировой войны он активно участвует в деятельности ЕКОПО — организации, занимавшейся распределением помощи беженцам и выселенцам. Однако наибольшее внимание Брамсон по-прежнему уделяет работе ОРТа, которому именно в годы войны удалось втянуть в сферу своего влияния и идей широкие кадры еврейской интеллигенции, рабочих, ремесленников и пр.
НСП возродилась после Февральской революции 1917 г., когда в нее влилась организация «трудовиков»81. Вместе они образовали Трудовую народно-социалистическую партию (ТНСП), которая, имея в своих рядах видных представителей интеллектуальной элиты, была широко представлена во Временном правительстве. Как энес Л.М. Брамсон вошел в Петербургский Совет Рабочих Депутатов. Партия делегировала его в состав Исполнительного Комитета и на этом посту он проявил себя также неутомимым работником. При этом он отказался от предложенного ему Керенским портфеля товарища министра юстиции и сенатора, как и от всяких «званий» и официальных постов в революционной России. Это не помешало ему, однако, стать одним из авторов закона о равноправии евреев, изданного Временным Правительством 22 марта 1917 г.
В конце 1917 г. энесы самым решительным образом выступили против большевицкого октябрьского переворота. Сразу же после захвата власти большевиками ЦК ТНСП издал прокламацию, в которой разъяснялся преступный характер свершившегося:
Захватчиками и насильниками — большевиками расстроены ряды революционной демократии в тот момент, когда ей особенно нужно было быть сплоченной перед угрозой внешнего врага и накануне выборов в Учредительное собрание.
В 1918 г. Брамсон, подвергавшийся преследованиям со стороны большевиков, вынужден покинуть Петроград и переселяется в Киев, где возвращается к практической работе на пользу ОРТа. Шла эпоха гражданской войны, кровавых погромов. Совещание еврейских общественных деятелей постановляет образовать Заграничную Делегацию ОРТа, в составе которой в 1920 г. Л.М. Брамсон выезжает в Западную Европу82, и в августе 1921-го на конференции общества ремесленного труда в Берлине было принято решение о преобразовании ОРТ во всемирную организацию <WorldORT>. С этого времени штаб-квартира ОРТ находилась в Берлине, его филиалы открылись в разных городах Германии. ОРТ стало не только благотворительной организацией, но и культурным, политическим и интеллектуальным центром русско-еврейской эмиграции в Берлине. <...> Деятельность организации в Германии в основном завершилась с приходом к власти нацистов, но и после установления нацистской диктатуры одна из мастерских ОРТ в Берлине продолжала функционировать еще около 10 лет83.
В последние 20 лет своей жизни Брамсон посвятил себя целиком и безраздельно созданию и укреплению мировой федерации организаций ОРТа. Он поддерживал время от времени свои старые связи с российской политической эмиграцией, входя в состав Центрального Комитета народных социалистов (вместе с В.А. Мякотиным, С.П. Мельгуновым, М.А. Алдановым и др.), но его время, его силы и его внимание были отданы ОРТу, председателем которого он был избран в 1923 г. На этом посту Брамсон стал не только признанным и авторитетным руководителем ОРТа для всех стран и материков, но и организатором и управителем его финансовой базы.
С огромной энергией и тщательностью он проводил труднейшие финансово-пропагандистские кампании в пользу ОРТа в Англии, Франции, Германии, США и даже Южной Африке. В самый разгар Второй мировой войны, страдающий тяжелой болезнью, Л.М. Брамсон после падения Парижа оказался в Марселе, в зоне, где и скончался 2 марта 1941 г.84.
По всей видимости, именно Леон Брамсон привлек И.М. Троцкого к участию в ТНСП. Однако как «политик» И.М. Троцкий себя в целом не проявил. Он имел «убеждения» и в соответствии с ними ориентировался на близкое ему по духу и кругу общения политическое движение, но не более того. В 1926-1933 гг. И.М. Троцкий, будучи секретарем ОРТа, работал рука об руку вместе с Л.М. Брамсоном, который, надо полагать, и направил его впоследствии (1935) в Южную Америку с целью организации там филиалов ОРТ и ОЗЕ. По свидетельству под присягой Я.Г. Фрумкина — в те годы заместителя Брамсона, И.М. Троцкий как официальный представитель этих организаций вел очень успешную работу по сбору средств для их деятельности в Голландии, Швейцарии, Чехословакии, Югославии и Балтийских странах.
Другими видными деятелями ОРТ, с которыми судьба в эти годы связала И.М. Троцкого на всю жизнь, были М.А. Алданов, Г.Я. Аронсон, А.Б. Гольденвейзер и Я.Г. Фрумкин. Трое последних в 1960-х участвовали в составлении и редактировании сборников «Книга о русском еврействе»: «От 186о-х годов до революции 1917 г». (1960) и «1917-1967» (1968), в которых среди прочих были опубликованы четыре статьи И.М. Троцкого.
М.А. Алданов
Марк Алданов (Ландау) — один из самых популярных русских писателей эмиграции, чьи книги издавались внушительными тиражами на многих европейских языках, был не только известным ученым, прозаиком и публицистом, но также активным политическим деятелем. Его жизненный путь типичен для русского эмигранта первой волны: он при-ветствовал Февральскую революцию, резко отрицательно отнесся к революции Октябрьской, затем эмигрировал, проделав известный маршрут Константинополь — Берлин — Париж — Нью-Йорк — Ницца. В его биографии не было столь ярких моментов, сколь, например, у Бунина или Набокова, он практически никогда не оказывался в центре всеобщего внимания, не был предметом сплетен, не был замешан ни в один громкий скандал; будучи одним из наиболее плодовитых эмигрантских романистов, никогда не был признан первым эмигрантским писателем, однако вклад Алданова в историю эмиграции трудно переоценить.
Многие факты алдановской биографии позволяют представить его общественную деятельность как постоянную борьбу за репутацию эмиграции:
... Алданов сознательно конструировал свою биографию, исходя из своеобразного кодекса эмигрантской чести и своих представлений об исторической роли эмиграции, чем было обусловлено его поведение в тех или иных значимых с этой точки зрения ситуациях. Известен, например, случай, когда он отказался при знакомстве пожать руку Нестору Махно. Столь же принципиальным стал разрыв отношений с А.Н. Толстым после его возвращения в Советскую Россию. <...> Осознание себя как объекта истории и как представителя эмиграции накладывало особую ответственность за свою репутацию, в первую очередь, политическую, а личная биография становилась политическим аргументом в борьбе большевистской и эмигрантской идеи. В этом смысле Алданов уподоблял себя дипломату, ежедневно в официальных выступлениях и в быту представляющего свою страну и являющегося ее лицом. С другой стороны, его деятельность вполне вписывалась и в масонские представления о жизнестроительстве , а он, как многие другие эмигрантские политики и общественные деятели, был масоном. В итоге ему одному из немногих эмигрантских общественных деятелей удалось сохранить свою биографию незапятнанной, заслужив таким образом репутацию «последнего джентльмена русской эмиграции»85.
В Париже Алданов окончил Школу социальных и экономических наук, работал химиком, сотрудничал с журналом «Современные записки» и газетой «Последние новости» и даже попытался наладить собственное издательское дело — журнал «Грядущая Россия» (1920), но безуспешно. В 1922 г., когда взошла звезда «русского Берлина», Алданов приехал в столицу Германии, жил здесь до 1924 г., а затем вновь перебрался в Париж, где вел кипучую общественно-политическую и литературную деятельность: член парижского Союза русских писателей и журналистов, впоследствии входил в его правление; заведующий литературным отделом газеты «Дни» (с 1925 г.) и литературно-критического отдела газеты «Возрождение» (с 1927 г., совместно с В.Ф. Ходасевичем); член редакционного комитета парижской газеты «День русской культуры» (1927); участник «воскресений» у Мережковских, собраний журнала «Числа», франко-русских собеседований (1929). Алданов был энесом. Вместе с Брамсоном входил в исполнительное бюро ТНСП и участвовал в работе РДО. Он также являлся членом-основателем масонских лож «Северная Звезда» (1924) и «Свободная Россия» (1931).
После оккупации Франции гитлеровскими войсками Алданов с женой в 1940 г. перебрались за океан и поселились в Нью-Йорке, где в 1942 г. писатель совместно с М.О. Цетлиным основал «Новый журнал», издающийся и по сей день. В 1947 г. Алдановы снова поселились во Франции, в Ницце. Здесь писатель скоропостижно скончался 25 февраля 1957. Здесь же он и похоронен в семейном склепе на русском православном кладбище Кокад.
Что касается личности Марка Алданова как мыслителя и писателя, то уместно привести мнение Александра Бахраха литературного критика эмиграции, обладавшего верным глазом, хорошим вкусом и отточенным слогом:
«Случай». Случай с заглавной буквы — его Алданов ставил в центр истории, в центр жизни каждого человека. Многие и очень по-разному пытались его определить. Были и такие, которые вообще это понятие решались отрицать, утверждая, что случаи только псевдоним незнания. Между тем, Алданов, порой даже с непривычной для него страстностью, верил, что все, что происходит в мире, включая само создание нашей планеты и возможное ее исчезновение, все, все — «дело случая», и он подчеркивал, что «всю историю человечества с разными отступлениями и падениями можно представить себе, как бессознательную, повседневную и в то же время героическую борьбу со случаем». В этом — основа его миросозерцания, и эти утверждения, эта борьба, собственно, является лейтмотивом всех его романов, да, пожалуй, всех его писаний, потому что можно было бы сказать, что ни о чем другом он по-серьезному не думал.
Оттого-то, по его глубокому убеждению, ходячее наставление — «ничего не оставляй на случай» кажется ему предельным выражением высокомерия и легкомыслия. Легкомыслия, потому что все наши знания основываются на вероятности, на случае и в конечном счете способны только доказать, что со всеми нашими открытиями и техническим прогрессом мы мало что знаем, притом не знаем главного. Более всего вероятно, что Алданов был агностиком и признавал, что не представляет возможности непессимистического атеизма. Пессимистом он был довольно крайним. Ну, а дальше... Никто не способен заглянуть в чью-либо душу. <...>
Какие бы критические замечания по адресу Алданова-прозаика ни высказывались, иногда, вероятно, в чем-то справедливые, какие бы упреки в «западничестве» к нему ни были обращены, все его книги были всегда повествованиями, написанными умным человеком, который, как всякий умный человек, умом своим не щеголяет, не выставляет его на первый план, им не любуется, но от него не отрекается, потому что сам его сознает86.
Из всех многочисленных знакомых Ильи Троцкого в литературных кругах русского Зарубежья именно с Алдановым его связывали отношения, которые можно охарактеризовать как доверительные. К личности Марка Алданова мы еще вернемся в Главе 6, в разделе, посвященном его переписке с И.М. Троцким.
Г.Я. Аронсон
Из всех сподвижников И.М. Троцкого на поприще общественно-политической деятельности «политиком» по большому счету был на протяжении всей своей жизни только Григорий Яковлевич Аронсон — идейный меньшевик, член ЦК Бунда в 1922-1951 гг., историк, публицист, многолетний (с 1922 г.) сотрудник «Социалистического вестника» и видный деятель ОРТ. Увлекшись социал-демократическими идеями еще в гимназические годы, Аронсон в 1908 г. вступил в Бунд, а с 1909 г. начал сотрудничать с ОРТ. После Октябрьского переворота он, как непримиримый противник большевиков и деятель правого крыла Бунда, был арестован и посажен в Бутырскую тюрьму (о чем рассказывает в своих воспоминаниях87), а в 1922 г. выслан из страны.
Приехав в Германию, Аронсон поселился в Берлине, работал в архиве Бунда, печатался в эмигрантских газетах и журналах. Возобновил сотрудничество с ОРТом, приняв участие в подготовке изданий этой организации. В 1926-1931 гг. Г.Я. Аронсон являлся генеральным секретарем Центрального правления Всемирного союза ОРТ. В 1930 г. написал исторический очерк «Возникновение ОРТа. Страница из истории русско-еврейской интеллигенции»88.
В 1933 г., после прихода к власти нацистов, Григорий Яковлевич перебирается в Париж, где продолжает вести активную общественно-политическую деятельность: член Комитета Парижского политического Красного Креста, Объединения русско-еврейской интеллигенции (1934-1937). После оккупации Франции гитлеровскими войсками Аронсон перебирается за океан и с 1940 г. живет в Нью-Йорке. Здесь он был сотрудником редакции газеты «Новое русское слово», печатался в «Новом журнале» и прессе на идише. Он автор многочисленных исторических, публицистических и мемуарных публикаций на русском языке и идише, среди которых «Еврейская проблема в Советской России» (1944.) и «Антисемитизм в Советской России» (1953), а также двух сборников стихов на русском языке (1916, 1923). Отрывки из мемуаров Г.А. Аронсона89, рисующие политическую жизнь русского общества революционной эпохи, звучат по-прежнему актуально:
Либерализм в России всегда имел и сейчас имеет плохую прессу Исследователи, историки, социологи, философы избирают полем своей деятельности изучение других, более характерных для русского общественного развития, экстремистских, максималистских направлений, — будь это в области политики, мысли, литературы, искусства. Демонические образы Бакунина и Ленина до сих пор привлекают к себе наибольшее внимание в области политических движений. А в области русской философской мысли и художественного творчества до сих пор доминируют страдальческие тени: от Достоевского и Владимира Соловьева до Александра Блока. Вероятно, этому есть оправдание, — и ключи к нему приходится искать в том, что над русской жизнью тяготеет, волнуя весь мир, проблематика русской революции, — призрак которой замаячил еще при жизни Бакунина и Достоевского, а жертвами трагических превращений которой являются современники, — свидетели крушения империи, двух революций и двух мировых войн...
К проблематике революции русские либералы имели свой особый подход. Взлеты революции их естественно не увлекали, ее максимализм их отталкивал, отпугивал и ужасал. Неудивительно, что широкое общественное мнение мало интересовалось либерализмом, — и в первые годы эмиграции даже первые книги либеральных мемуаристов не вызвали к себе сколько-нибудь пристального внимания. Об этом приходится пожалеть, ибо — нет сомнения, — что для уяснения русского прошлого трагическая судьба либерализма в России не менее поучительна, чем судьба, постигшая все другие общественные течения в России...
В.А. Маклаков, один из ретроспективных критиков либерализма и сам революционер поневоле, в одной из своих книг счел нужным выступить и в защиту либеральной формулы прогресса. «Идеи либерализма теперь не в фаворе, — писал он. — Сейчас отстаивают не «права человека», а «силу государственной власти»... Я не только не отрицал этих идей, но находил, что если бы даже должно было признать, что эпоха личной свободы в мире окончилась, и вернулось время управления сверху, или что прогресс состоит в том, чтобы человеческое общество превратить в улей или муравейник, в чем Муссолини, Гитлер и Сталин между собой солидарны, — то и в этом случае в России 20 века для таких взглядов не было почвы. Нападки на либерализм, как таковой, получили свой raison d'etre90 в государствах, где личная свобода все свои результаты дала и показала свою оборотную сторону... В России этого не было; она недаром была отсталой страной. Ей еще нужно было именно то, в чем многие уже разочаровались на Западе; была нужна самодеятельность личности, защита личных прав человека, ограждение его от государства. Прогресс для России был в этом. <...>
Делом революционеров была только октябрьская революция. <...> Но их большевистская революция была вредна потому, что ее цели были России не нужны. Во славу «теории» она осуществила их силой; но такая победа полезных результатов дать не могла. И, действительно, пока еще не достигнуто ничего из того, чего октябрьская революция добивалась, — ни народовластия, ни равенства, ни господства трудящихся, ни коммунизма.
В уродливой форме вернулась личная власть, привилегии «классов», хотя и других, всемогущество бюрократии, беззащитность народа и человека, т.е. все язвы старых порядков. Конечно, командные высоты оказались в руках партии, новых людей; сложилась новая аристократия, новый двор и «угодники»; трудящиеся сделаны были полными париями; честолюбивые люди стремятся выйти в бюрократию и властвовать над народом. Новые господа своей личной судьбой могут быть и довольны; но революция ставила не эти задачи и потому не она победила.
На общем несчастье выиграли только отдельные люди. <...>
Чем объяснить в таком случае загадку победы Ленина, от идей и лозунгов которого все отталкивались, все буквально шарахались? Ролью личности в истории, которая столь недооценивалась марксистской мыслью?
Или тем, что в революции Ленин оказался человеком одержимым, мономаном, обладал железным упорством, и был единственным характером среди претендентов на власть? Или не последнюю роль тут сыграла особенность психологии большевистской среды, того слоя профессиональных революционеров-большевиков, который облыжно называли «железной когортой», но который на деле отличался бесхребетностью и беспринципностью, и авторитарностью, и склонностью к беспредельному послушанию?
Как это ни покажется парадоксальным, но в большевизме издавна, — еще со времени уральских большевиков 1902-03 г., выразивших уже тогда готовность к вождизму, к подчинению личной диктатуре, — сложились предпосылки для образования слоя исполнителей с гибкой поясницей, впоследствии столь напоминавших собою готовых на все чиновников старого режима, а порой и превосходивших их своей лакейской психологией...
А.А. Гольденвейзер
Алексей Гольденвейзер — представитель известной в России фамилии, члены которой ярко заявили себя на поприще юриспруденции и культуры. Его отец Александр Соломонович — один из крупнейших русских правоведов-цивилистов, долгие годы бессменно возглавлял киевскую адвокатуру, автор работы «Преступление — как наказание, а наказание — как преступление» (1908), в которой, возлагая вину за преступление в первую очередь на общество, предлагал заменить наказание преступникам принципом попечения. Эта публикация была высоко оценена Толстым.
Двоюродным братом Алексея Александровича был входивший в 1895-1911 гг. в близкое окружение Л.Н. Толстого знаменитый пианист и композитор А.Б. Гольденвейзер (чья сестра была замужем за известным литературоведом, пушкинистом М.О. Гершензоном)
А.А. Гольденвейзер пошел по стопам отца и, проштудировав курсы юриспруденции в Киевском, Гейдельбергском и Берлинском университетах, стал к началу 1910-х киевским адвокатом и общественным деятелем. Человек русской культуры, как и большинство детей еврейской элиты того времени, он, однако, понимал и язык еврейской «улицы», хотя сам идиш оставался для него «малознакомым» языком91.
С самого начала своего «служения» Алексей Гольденвейзер заявлял себя как «общественник», а не политик. При этом, симпатизируя эсерам в студенческие годы, он затем становится левым либералом, близким к партии народной свободы (кадетам).
28 июля 1921 г. А.А. Гольденвейзер с женой бежали через российско-польскую границу из Совдепии и в октябре 1921 г. оказались в Берлине.
Будучи молодым адвокатом «без имени» — ему шел тридцать первый год, Гольденвейзер <...> первое время, естественно, имел проблемы с трудоустройством. Однако вскоре он завоевал себе имя и оброс клиентурой. В немалой степени профессиональному успеху сопутствовала его общественно-публицистическая деятельность. Он публиковал статьи на актуальные политические темы, а также исторического и историко-культурного характера, в крупных русскоязычных газетах — берлинской «Руль», парижской «Последние новости», рижских «Сегодня» и «Народная мысль»; последняя позиционировала себя как «орган демократического еврейства в Латвии».
Помимо этого А.А. Гольденвейзер часто выступал с чтением публичных лекций, например, по вопросу о демократии, которую он понимал в классическом, «токвилевском» смысле:
«Полнота и всеобщность политических прав — это не равенство выигрыша, это равенство шанса. Они являются функцией человеческой свободы. И поэтому в данном случае уместен парадокс о том, что именно демократия есть строй неравенства, где могут различно проявляться индивидуальности»92.
Апологет буржуазного индивидуализма, предполагающего примат частных интересов над коллективными установками, Гольденвейзер уже в середине 1920-х заметил рост антисемитизма в демократической Веймарской республике:
Изречение «Каждая страна имеет тех евреев, которых она заслуживает», едва ли применимо к нынешней Германии. Германия не заслуживает таких евреев, каких она имеет. Немецкие евреи — самые лучшие граждане новой Германии. Они преданы отечеству до полного национального самоотречения, они составляют могучий фактор его хозяйственного и культурного развития, они неудержимо сливаются с коренным населением путем крещения и смешанных браков. И, тем не менее, антисемитизм процветает в современной Германии, заражая все более широкие круги и принимая все более уродливые формы. Немецкие евреи — искренние патриоты. Для них родной язык — немецкий, родная культура — германская93.
Вершиной общественной деятельности Алексея Гольденвейзера явилось его активное участие в «деятельности двух берлинских организаций — Союза русской присяжной адвокатуры и Союза русских евреев (СРЕ) в Германии»94. Особо отметим огромный личный вклад Гольденвейзера в дело обустройства русских эмигрантов в Германии, обеспечение юридического равноправия между ними и коренными жителями страны, а с приходом к власти нацистов — в организацию кампании по предоставлению евреям, бегущим из Европы, аффидевитов, то есть документов, дающих право на въезд в США.
Не принадлежа формально ни к одной партии, Гольденвейзер принял активное участие в создании Республиканско-демократического союза в Праге (1923) и германского Республиканско-демократического объединения (1927), тесно связанного с милюковским РДО, образовавшимся в Париже еще в 1924 г. Возникновение РДО стало результатом соглашения широкого круга лиц, среди которых имелись деятели различных демократических партий, от левых кадетов до правых социалистов и энесов включительно, а также члены многих общественных организаций (в том числе ОРТа).
Интересно, что в вопросе о государственном устройстве будущей «свободной» России Гольденвейзер выступал за создание федеративной республики, в состав которой входили бы крупные автономные территориально-административные единицы. При этом предлагалось учесть «опыты, произведенные советской властью».
А.А. Гольденвейзер, прожив в Берлине около шестнадцати лет, эмигрировал в 1937 г. в США, где еще с дореволюционных времен обосновались его старшие братья. Один из них, профессор Александр Александрович Гольденвейзер, стал знаменитым американским антропологом, а другой — Эммануил Александрович — экономистом, заведующим исследовательским отделом Федеральной резервной системы Американского Центрального банка.
Сестры Алексея Александровича, не сумевшие вовремя уехать из Франции, были в декабре 1943-го арестованы нацистами в Ницце, депортированы и погибли в концентрационном лагере.
С 1938 г. Алексей Александрович жил в Нью-Йорке, где в 1942 г. основал «Общество русских юристов». В годы Второй мировой войны он помогал эмигрантам из оккупированной Европы, а после ее окончания защищал в юридических инстанциях интересы граждан, предъявлявших претензии к немецкому правительству. В частности, он вел дела В.В. Набокова-Сирина и его жены Веры Евсеевны Набоковой-Слоним95, а также И.М. Троцкого, дружеские отношения с которым поддерживал до конца его жизни. В 1944 г. А.А. Гольденвейзер выпустил книгу о Якове Тейтеле и сборник статей и речей «В защиту права».
А.А. Гольденвейзер долгие годы поддерживал теплые отношения с Буниным. В РАЛ, например, хранятся восемь его писем только за 1953 г.96
С.Л. Поляков-Литовцев
И.М. Троцкого и Соломона Львовича Полякова-Литовцева — одного из самых видных и авторитетных либеральных публицистов русского Зарубежья связывали и профессиональные и дружеские отношения. Личность этого незаурядного литератора, переводчика, мемуариста — до сих пор изучена мало97.
В дореволюционный период Поляков-Литовцев был аккредитованным корреспондентом газеты «Речь» при Государственной думе, т.е. имел допуск в знаменитую тогда «ложу прессы», которую В. Шульгин не без ядовитого остроумия назвал «чертой оседлости» — из-за обилия в ней журналистов-евреев. С 1915 г. Поляков-Литовцев был иностранным корреспондентом «Русского слова» в Англии, поэтому ему, в отличие от многих коллег по творческому цеху, «бежать» от большевиков не пришлось. Как и И.М. Троцкий, он приобрел статус «русского эмигранта» просто оставшись навсегда на Западе.
Деятельность Полякова-Литовцева в Лондоне не только как журналиста, но и как трезвомыслящего политического эксперта и при этом честного и порядочного человека, высоко оценил дипломат К.Д. Набоков (дядя писателя В.В. Набокова, с мая 1917-го руководивший российским посольством в Лондоне):
Наиболее ценными моими советниками, людьми, придававшими мне бодрость духа и ясность мысли за это время, людьми, которым я до конца жизни буду благодарен за оказанную ими мне нравственную поддержку, были: бывший корреспондент «Нового времени» Г.С. Веселицкий-Божидарович (82-х летний старик, человек совершенно исключительного ума, сердца и знаний), давний мой друг Г. А. Виленкин (бывший русский финансовый агент в Лондоне, Вашингтоне и Токио), С.Л. Поляков-Литовцев («Русское слово») и лейтенант Абаза — светлейший образец самозабвенного патриота98.
В 1920 г. Поляков-Литовцев перебрался в Берлин, где в качестве соредактора подвизался в издании газеты «Голос России» («демократического толка без определенной партийной принадлежности»; выкупленная затем эсерами, она изменила название на «Дни» (редактор — А.Ф. Керенский)99. В ней Поляков-Литовцев, как и его старый товарищ-«русскословец» И.М. Троцкий, был среди «залетных» авторов. С 1923 г. Поляков-Литовцев жил в Париже. Солженицын особо отмечает
его, перечисляя главных авторов газеты «Последние новости» (редактор — П.Н. Милюков):
Среди сотрудников и острый публицист С.Л. Поляков-Литовцев (а ведь научившийся «говорить и писать по-русски только в 15-летнем возрасте»)100.
В Париже Поляков-Литовцев вел бурную общественную деятельность. Он входил в состав руководства «Союза русских писателей и журналистов», участвовал в деятельности Республиканско-демократического объединения, различного рода литобъединений (например, «Зеленая лампа»101 и «Кочевье»102), многочисленных еврейских организаций. Состоял и в масонской ложе «Северная звезда», где выступал с докладами, участвовал в дискуссиях. 27 мая 1928 г. Поляков-Литовцев принимал участие в проходившем в Париже диспуте «Об антисемитизме в Советской России». Главный пафос его выступления сводился к тому, что евреям и их «оппонентам» — злобствующим, но по-своему «прямым и честным» юдофобам — следовало бы встретиться и предельно откровенно выяснить, что каждой из сторон «не нравится» друг в друге. В результате таких дебатов, несколько прекраснодушно предполагал он, могли бы разрешиться обоюдная ненависть, затаенные обиды, недоверие и предвзятость, накопившиеся в ходе долгой истории совместного существования русских и евреев на одной земле.
Через два дня после диспута, 29 мая, под псевдонимом Литовцев, он опубликовал в «Последних новостях» статью «Диспут об антисемитизме», которая по существу представляла собой текст его выступления и призывала к спокойному диалогу:
...Для того, чтобы беседа была плодотворной и действовала оздоровляюще, было бы необходимо привлечь к спору несколько честных людей, которые возымели бы мужество объявить себя антисемитами и чистосердечно объяснили бы, почему они антисемиты, не ссылаясь при этом на «проекции иудаистического мессианизма», до которых сто одному из ста антисемитов решительно нет никакого дела... Просто, без лукавства, сказали бы: «мне не нравится в евреях то-то и то-то». А вместе с ними должны бы выступить несколько не менее искренних евреев с ответами: «а в вас нам не нравится то-то и то-то»... Можно быть абсолютно уверенным, что такой честный и открытый обмен мнений, при доброй воле к взаимному пониманию, принес бы действительную пользу и евреям, и русским — России...
Выступление Полякова-Литовцева на диспуте и его статья в «Последних новостях», в которых поднималась крайне острая тема русско-еврейских и, шире, иудеохристианских отношений, не прошли незамеченными, вызвав разные реакции в эмигрантских кругах, в том числе заметки З. Гиппиус «Не нравится — нравится». Однако самой значительной реакцией и ответом того мира, которому Поляков-Литовцев бросал перчатку, стала книга В. Шульгина «Что нам в них не нравится» (1929) — тем самым появление одного из ключевых текстов, своего рода «декларации русского интеллектуального антисемитизма», было спровоцировано именно Поляковым-Литовцевым
В дискурсе русского Зарубежья Поляков-Литовцев находился на самом острие противостояния либерального лагеря, к которому кровно принадлежал, с консерваторами-охранителями и радикалами-монархистами. Один из представителей последних, писатель Н.Н. Брешко-Брешковский — сын «бабушки русской революции», эсерки Екатерины Константиновны Брешко-Брешковской (кстати, один из родоначальников русского шпионского и политического детектива и одновременно русский нацист),
идеологически объединяя Полякова-Литовцева и другого журналиста-еврея, П. Рысса, писал в предисловии к своему роману «Под звездой дьявола»: «В «Последних Новостях» <они> оба изощрялись в обливании клеветническими помоями русской армии, ее генералов, ее Верховного Вождя. Повторялась набившая оскомину пошлятина о реакционно настроенных ландскнехтах, о царских генералах, мечтающих о реставрации и удушении «завоеваний революции». Поднялась какая-то остервенелая травля. Травили с пеной у рта нескольких десятков тысяч мучеников-бойцов, к великому сожалению Рыссов и Поляковых-Литовцевых избежавших «стенки» и «чрезвычайки».
Весной 1926 года Поляков-Литовцев посетил Эрец-Исраэль и по возвращении в Париж описал это путешествие в серии очерков, напечатанных в «Последних новостях», а также выступил перед членами сионистской организации «Бней-Цион», делясь своими впечатлениями о Святой земле. Согласно отчету, помещенному в редактируемом В. Жаботинским еженедельнике «Рассвет», Поляков-Литовцев говорил о том, что <...> в Палестине, по его мнению, имеются огромные возможности для евреев. От самого еврейского народа зависит превращение страны в еврейский «дом»103.
После оккупации Франции немцами в 1940 г. Поляков-Литовцев перебрался в США, где сотрудничал с «Новым журналом» и газетой «Новое русское слово», входил в «Союз русских евреев», являвшийся продолжением в новых условиях деятельности парижского Объединения русско-еврейской интеллигенции. Он умер от саркомы в Нью-Йорке сразу же после окончания войны. Некролог ему в «Новом журнале» написал Андрей Седых104.
Я.Г. Фрумкин
Из всех сподвижников И.М. Троцкого, всю жизнь поддерживавших с ним близкие отношения, Я.Г. Фрумкин является наиболее «закрытой» фигурой. Сведения о нем в научной литературе крайне скудны, хотя он был весьма влиятельным «видным деятелем различных еврейских организаций», масоном, членом СРПА (Союза русской присяжной адвокатуры) в «русском» Берлине105.
Родившийся в один год с И.М. Троцким (1879) в Ковно (Каунас), в состоятельной еврейской и, по всей видимости, достаточно эмансипированной семье, Яков Фрумкин по окончанию гимназии учился в Гейдельбергском и Петербургском университете, окончив последний по юридическому факультету в 1903 г. В студенческие годы он занимался исследованиями еврейской местечковой жизни; публиковался в юридических и еврейских изданиях; принимал участие во всех съездах и конференциях Союза для расширения равноправия евреев в России, входил в состав Политического бюро при евреях — депутатах IV Государственной думы. С 1905-1907 гг. активно сотрудничал с ОРТ. В 1906 г. вместе с Брамсоном вошел в комитет по выработке нового устава этой организации. В общероссийской политической жизни Яков Фрумкин, также как Алданов, Брамсон и И.М. Троцкий участвовал в работе НТСП, т.е. был «энесом». До революции Фрумкин зарабатывал на жизнь как адвокатской практикой, так и управленческой службой на крупных капиталистических предприятиях.
После октябрьского переворота Фрумкин эмигрировал в Германию и жил в Берлине, где Брамсон привлек его к работе в ОРТе. В 1921 г. был секретарем съезда ОРТа в Берлине, на котором тот был преобразован во всемирную организацию. В своем заявлении под присягой от 11 декабря 1958 г.106, касающемся деятельности И.М. Троцкого в ОРТ-ОСЕ, Фрумкин сообщил, что являлся вице-президентом обеих организаций в 1920-1930 гг., а в настоящее время возглавляет нью-йоркское отделение ОРТа.
Берлинский период жизни Фрумкина был, по-видимому, весьма удачен. Он подвизался в крупнейшем немецком издательстве «Ульштайн», выпускавшем в начале 1920-х литературу на русском языке, сотрудничал с эмигрантским издательством «Слово», входил в руководство его книготорговой фирмы «Логос». И «Слово» и «Логос» по существу являлись дочерними фирмами издательства «Ульштайн».
Здесь, как пример сотрудничества Фрумкина и Троцкого, отметим, что Илья Маркович сумел издать в «Ульштайне» свой перевод романа эстонского прозаика-модерниста Августа Гайлита (о нем см. ниже), скорее всего, именно по протекции Якова Григорьевича.
Яков Фрумкин, слывший убежденным «германофилом», сидел в гитлеровской Германии «до предела», хотя «при его связях вполне мог уехать вскоре после прихода нацистов к власти». По свидетельству Гольденвейзера, который будучи «оптимистом» и германофилом сам уехал из Берлина лишь в 1937 г., деятельность Фрумкина была исключительно важной и хорошо отлаженной. Как юрисконсульт Берлинской еврейской общины по делам евреев — подданных иностранных государств он оказывал помощь самому широкому кругу нуждавшихся в ней людей. После роспуска нацистами СРЕ в Германии Фрумкин занимался своей деятельностью полулегально.
«Заменить его будет очень трудно, — сетовал Гольденвейзер в письме к Тейтелю от 21 сентября 1938 г., когда, повидимому, узнал, что Фрумкин все же решил перебраться в Париж, — <...> Он сумел войти в дело и фактически им управлять, а также информировать Вас толково и исчерпывающе»107.
Во Франции Я.Г. Фрумкин продолжал свою общественную деятельность. В 1939 г. он участвовал в вечере памяти Я.Л. Тейтеля, где выступил с большой речью. После оккупации Франции нацистами Я.Г. Фрумкин в 1941 г. переехал в США; живя в Нью-Йорке, с 1956 г. возглавлял СРЕ в Америке.
Владимир Гроссман
Владимир Гроссман на колоритном фоне русского Зарубежья фигура малозаметная: будучи русским евреем по происхождению (род. 1884 г. в г. Темрюк на Северном Кавказе), а по образованию агрономом и правоведом (учился в Берлинском и Петербургском университетах), он, с молодости посвятив себя журналистике, подвизался исключительно в еврейской печати. Впрочем, свою книгу «Паутина пангерманизма», посвященную экспансионистской политике кайзеровской Германии и угрозам, исходящим от нее для соседних народов — датчан, поляков, чехов, французов, — он издал в Канаде на английском.
С 1915 г. В. Гроссман представлял в Копенгагене петроградское отделение «Комитета защиты евреев». Здесь, сблизившись с видными представителями датской социал-демократической партии, всегда стоявшей на умеренных позициях, он стал публиковать свои статьи в крупнейшей датской ежедневной газете «Politiken»109, поддерживавшей в те годы датскую социально-либеральную партию, и издал на идише публицистическую книгу о датских евреях110. К этому времени относится и его знакомство с тогдашним корреспондентом «Русского слова» в Копенгагене, с которым Гроссман в дальнейшем тесно сотрудничал по линии ОРТ-ОЗЕ.
После окончания Первой мировой войны В. Гроссман перебрался в Париж, где возглавлял Еврейское Телеграфное Агентство111 во Франции и писал статьи на идише — главным образом для варшавской газеты «Haynt» («Сегодня», издавалась с 1908 по 1939 гг.). В массе его публицистики русско-еврейская тема занимает почетное место. Он публикует статьи об антисемитизме в России (и в данном контексте об образах русского человека у Максима Горького), о еврейской колонизации в Биробиджане112.
В 1939 г. В. Гроссман был делегирован ОРТ в Канаду. Здесь он занимался, как и И.М. Троцкий в Южной Америке (1935-1946, см. ниже), в основном вопросами профессиональной переподготовки и абсорбции евреев-беженцев из Европы и сотрудничал в местной еврейской периодической печати.
По окончанию Второй мировой войны В. Гроссман вернулся в Европу, где работал в администрации лагерей для перемещенных лиц в английской оккупационной зоне, а затем в скандинавском ОРТ. За исключительные заслуги был награжден датской медалью «Liberation» («Освобождение»), учрежденной королем Кристианом X.
С 1954 г. В. Гроссман жил в Женеве, продолжая свое тесное сотрудничество с ОРТ и публикуя свои статьи в крупных еврейских газетах на идише во Франции, США и Аргентине. Здесь он и умер 30 января 1976 г., на 92 году жизни.
Сохранившиеся в YIVO-архиве И. Троцкого письма
В. Гроссмана датированы 1955-1957 гг. Примечательно, что хотя оба журналиста свободно владели идишем, писали они по-русски. Тема писем — главным образом финансовые вопросы, связанные с публикацией книги В. Гроссмана — повидимому, «Один раз в день» («Amol un haynt»), а также сборника статей об истории ОРТа, куда, судя по письмам, должна была войти и работа Ильи Троцкого. Отметим, что в вопросах видения исторического пространства между старейшим руководителем ОРТ Ароном Сингаловским и многими его коллегами из числа активных деятелей этой организации имелись серьезные разногласия.
<...> все делает и решает Сингаловский. Вы это можете видеть из того, что мой очерк, набранный и сверстанный, не вошел в первый выпуск. У Арона Зеликовича свой взгляд на историю ОРТа и на тех, кто строил ОРТ Трудно мне писать об этом. Вы ведь знакомы с условиями работы здесь.
— сообщал своему адресату В. Гроссман из Женевы 12 августа 1955 г. По отдельным замечаниям из переписки И. Троцкого с другими членами ОРТ видно, что даже у него, человека весьма обходительного и не амбициозного, отношения с Сингаловским были прохладными.
Из письма-соболезнования от 1 августа 1957 г. по поводу кончины первой жены И.М. Троцкого Анны Родионовны видна атмосфера, царившая в семье Троцких:
Я знаю, что нет утешения в постигшем вас горе. Вы перенесли столько страданий за эти годы, Вы делили ведь все страдания ушедшего друга, такого чудного и преданного друга, — какое тут может быть утешение. Единственно, что я могу сказать и пожелать Вам от души — берегите и щадите себя. Покой и некоторое утешение вы можете теперь найти в той общественной деятельности, которая вам всегда была близка и дорога. <...> Преданный Вам Вл. Гроссман
Все знакомые и друзья И.М. Троцкого, о которых рассказывается в этой главе, помимо Берлина жили еще и в Париже, а те из них, кого можно смело называть «берлинцами», после прихода нацистов к власти также перебрались на постоянное место жительства в Париж, который к началу Второй мировой войны стал столицей русского Зарубежья.
Илья Троцкий и Аугуст Гайлит
Аугуст Гайлит113 — крупнейший эстонский писатель XX в., представитель североевропейского неоромантизма и символизма .
И.М. Троцкий познакомился с Гайлитом на отдыхе в Эстонии в 1929 г. и тот, судя по всему, произвел на него очень благоприятное впечатление. В 1930 г. в статье «Получат ли Бунин и Мережковский Нобелевскую премию?» И.М. Троцкий, рассуждая о достоинствах потенциальных кандидатов на Нобелевскую премию из числа русских литераторов, неожиданно представил читательской аудитории доселе неизвестного ей (впрочем, как и никому в Европе) эстонского прозаика Аугуста Гайлита. Можно полагать, что он решил, пользуясь случаем, прорекламировать в русскоязычной аудитории, где было немало интеллектуалов, читающих по-немецки, свой перевод этого романа. Троцкий писал:
...я узнал, что Нобелевский комитет начинает интересоваться литературой балтийских республик. <...> Лично я обратил внимание члена нобелевского комитета, профессора литературы, историка и писателя Фредрика Беека на творчество эстонского писателя Августа Гаилита, чей роман «Искатель жемчуга» приобретен издательством Ульштейна. Роман этот, совершенно исключительный по замыслу и психологической глубине, рисует быт и типы людей, неизвестных доселе в европейской литературе.
Роман Гайлита в литературном переводе И.М. Троцкого на немецкий язык издательство Ульштайн-Пропилеи (Ullstein-Propyläen Verlag) выпустило в свет в 1931 г. под названием «Ниппернат и времена года» («Nippernaht und die Jahreszeiten»), а на русском языке он увидел свет в Таллине лишь 62 года спустя114.
Это самое известное произведение А. Гайлита, переведенное на многие европейские языки <...> — эстонский вариант плутовского романа. Все новеллы объединены главным действующим лицом — Тоомасом Нипернаади, <...> он искатель приключений и пройдоха, покоряющий своими россказнями и исключительным обаянием сердца многочисленных женщин. <...> психологическая подоплека приключений и успехов Тоомаса Нипернаади проста. Это кроющаяся в человеке потребность вырваться из повседневности будней, хоть разок стать выше их. <...> Описывая приключения Тоомаса Нипернаади, Гайлит дает волю своему замечательному дару рассказчика и подчеркивает комические сцены. Монологи самого Нипернаади полны красивых обещаний и поэтических сравнений <...>. И все же финал этого исполненного юмора и лиризма романа окрашен в печальные тона, ибо Нипернаади игрок, <...> трагический шут, ищущий спасения от нудных житейский будней в забавных играх, ничуть не задумываясь о своих партнерах115.
Существует мнение, что перевод в целом был выполнен эстонским немецкоязычным писателем Артуром Берзине-нем, скоропостижно скончавшемся в Кельне в 1929 г. Поскольку Гайлит заплатил переводчику за работу, которая не была до конца завершена, он, видимо, посчитал себя вправе распорядиться переводом как своего рода «подстрочником». По просьбе Гайлита имевший связи в немецком издательском мире И.М. Троцкий взялся за публикацию текста. Вначале он подработал текст или, пользуясь его терминологией, «адаптировал» его — т.е. придал роману должную литературную форму, которая делала его качественным переводом, пригодным для публикации на немецком языке. При этом, по-видимому, имея на то согласие А. Гайлита, он заявил себя единственным переводчиком. Поэтому в договоре с издательством Ульштайн от 5 августа 1930 г., где подробно расписаны обязательства сторон, фамилия Берзиня не фигурирует.
Благодаря активности Ильи Троцкого эстонская литература впервые попала в поле зрения немецкого читателя. «Это была первая эстонская книга в моей жизни, которая попала мне в руки», писал, например, известный в те годы литератор Манфред Хаусман. Другие немецкие критики, а в числе рецензентов были такие выдающиеся имена, как Ганс Фаллада и Герман Гессе, также встретили книгу Гайлита с восторгом. Героя романа сравнивали с Тилем Уленшпигелем и Дон Кихотом, а автора зачисляли в писательский ряд «между Гамсуном и Гоголем»116.
В 1935 и 1938 гг. на немецком вышли еще две книги Гайлита, отношение к которому в гитлеровской Германии было весьма благосклонным, хотя сам писатель никаких пронацистских симпатий никогда не выказывал. Естественно, что переводчиком был уже не И.М. Троцкий. Последний раз А. Гайлит издавался на немецком в 1985 г. — роман «Суровое море» («Das rauhe Meer»). Однако в каталоге немецкой национальной библиотеки «Ниппернат и времена года», самый известный роман А. Гайлита, представлен лишь переводом И. Троцкого.
В 1944-м Гайлит бежал из освобождаемой советской армией Эстонии в Швецию, и его имя было вычеркнуто из истории эстонской литературы. Возвращение творчества Гайлита на родину состоялось после восстановления независимости Эстонской республики в 1991 г.
«Русский Париж»
И.М. Троцкий никогда не жил в Париже постоянно. Однако и в свой европейский эмигрантский период, и даже переселившись в Южную Америку, он посещал тогдашнюю «первую столицу Европы» довольно часто. Судя по почтовым открыткам, посланным на адрес парижской гостиницы, где проживал Троцкий, М. Алдановым (29 манта 1938 г.) и И. Буниным (1о января 1939 г.), в конце 1930-х Троцкий явно находился с ними в контакте. Нельзя забывать, что в эти годы И.М. Троцкий сотрудничал не только с крупнейшей эмигрантской па-
рижской газетой «Последние новости», но и со знаменитой «парижской вечеркой» — «Пари-Суар» («Paris-Soir»). Этой популярной газетой руководил Пьер Лазарефф — сын еврейских эмигрантов из царской России, женатый на Элен Гордон — дочери российского табачного «короля», эмигрировавшего с семьей во Францию после революции117.
В Париже у Ильи Марковича было множество друзей и хороших знакомых — Поляков-Литовцев, Бунин, В.А. Милюков, Вишняк, Маклаков, Осоргин, Адамович, Дон Аминадо, Андрей Седых, Марк Алданов... По рекомендации, по всей видимости, кого-то из поименованных последними писателей, активно участвовавших в масонской деятельности, он был принят в 1937 г. в масонскую ложу «Свободная Россия», где заседали выдающиеся литераторы и общественно-политические деятели парижской эмиграции (см. ниже раздел в Гл, 5 «Илья Троцкий и русские масоны»)
После войны, перебравшись уже на жительство в Нью-Йорк, И.М. Троцкий, судя по приведенной ниже переписке его с Алдановым, Буниными и Дон Аминадо, по-прежнему время от времени наведывался в Париж.
«Париж всегда был в моде у русских», — писал в своих воспоминаниях118 поэт и критик «Серебряного века» А. Биск. Русская колония в Париже на рубеже ХІХ-ХХ вв. насчитывала десятки тысяч человек. Здесь подолгу жили меценаты и коллекционеры, политики и философы, антрепренеры и издатели, поэты, художники, музыканты, артисты, многим из которых суждено было стать подлинными звездами мирового искусства (Шагал, Бакст, Дягилев, Гончарова и Ларионов, Шаляпин, Нижинский, Анна Павлова, Стравинский и др.).
Насыщенной была и литературная жизнь «русской колонии». В 1906-1908 гг. в Париже постоянно жили Гиппиус, Мережковский, Философов. В их салоне велись религиознофилософские, политические и литературные споры, читались стихи, обсуждались российские книжно-журнальные новинки. Частыми гостями этих собраний были поэты К. Бальмонт и Н. Минский. Здесь бывали М. Волошин, изучавший в Париже живопись и французскую культуру, и приезжавшие из России на короткий срок философ Н. Бердяев и поэт А. Белый, политические эмигранты — эсеры И. Бунаков-Фондаминский и Б. Савинков.
После революции 1917 г. ситуация кардинально изменилась. Русские писатели и художники, оказавшиеся в этот период за границей, были уже не «вольными странниками», жаждущими новых эстетических впечатлений, а беженцами, выброшенными из своего мира, лишенными родины и привычных опор в жизни. Франция к 1922 г. приняла около 75 ооо русских эмигрантов. К 1930-му, по усредненным оценкам, основанным на данных Красного Креста и Лиги Наций, эта цифра возросла до 175 ооо119.
К середине 1920-х в связи с резким ухудшением экономического положения Германии центр культурной жизни русского Зарубежья перемещается из Берлина в Париж, который с самого начала служил политической столицей эмиграции первой волны. Здесь сосредоточились виднейшие деятели Временного правительства (А. Керенский, Н. Авксентьев, П. Милюков), представители всех партий и общественных движений, оказавшихся в оппозиции к победившему большевизму (от монархистов до эсеров и меньшевиков). К тому же в Париже работала нансеновская комиссия по делам русских беженцев, благодаря которой легче было получить определенный гражданский статус. У эмигрантских партий была общая цель — отстранения большевиков от власти, но совершенно разные взгляды на то, «что произошло», «почему так вышло» и «что делать». В силу этих причин политическая столица «России вне России» жила в атмосфере острых идеологических споров и беспощадной межпартийной борьбы, в которую вовлекались известные юристы, экономисты, историки, публицисты, крупные промышленники и успешные издатели. Разногласия среди умеренных либерально-демократических партий и социалистов разных толков быстро потеряли свою остроту и принципиальность, и они в 1924 г. создали Республиканско-демократическое объединение (РДО), лидером которого стал П.Н. Милюков. Их непримиримыми противниками справа являлись монархисты-охранители и
национал-патриоты, в среде которых процветали ксенофобия, антисемитизм и профашистские настроения. Слева не меньшую враждебность по отношению к лагерю «буржуазной демократии» выказывали коммунисты и троцкисты.
Все партии и объединения имели в Париже свои печатные органы. С 1927 г. выходило три наиболее популярных периодических издания, отражающих основные политические тенденции в эмигрантском сообществе: либерально-демократические «Последние новости» и «Общее дело», умеренно-консервативное «Возрождение» и ультраправый русский монархический журнал «Двуглавый орел», издававшийся Высшим Монархическим Советом под руководством Н.Е. Маркова-Второго.
«Последние новости» (издатель П.Н. Милюков) в политическом плане по сути своей являлась трибуной РДО. Это была самая читаемая и влиятельная газета русского Зарубежья, что подтверждает точку зрения о том, что русская эмиграция в своей массе была ориентирована на либерально-демократические ценности. До 1940 г. тираж газеты достигал почти 23 тыс. экземпляров. В «Последних новостях» часто публиковал свои статьи знаменитый Александр Бенуа.
На умеренно-консервативных позициях находилась газета «Возрождение» (1925-1940; с июля 1936-го — еженедельник), издававшаяся на деньги нефтепромышленника-миллионера
А.О. Гукасова. Первым редактором ее был П. Струве. К числу авторов, определивших идейную программу «Возрождения» как надпартийного патриотического органа и с самого начала обеспечивших ему репутацию самого солидного «правого» издания эмиграции, принадлежали историк С. Ольденбург и философ И. Ильин.
В августе 1927 г. из-за разногласий с издателем, желавшим видеть газету более откровенно монархической и в большей степени ориентированной на массового читателя, П. Струве покинул свой пост, а вместе с ним — в знак солидарности, прекратили сотрудничать с «Возрождением» Ильин, Ольденбург и Бунин, в 1925-1927 гг. печатавший здесь цикл «Окаянные дни». Гукасов назначил главным редактором газеты Ю.Ф. Се-менова — малозначительного публициста либерально-консервативной ориентации, однако активного общественника и видного деятеля масонского движения (масон высоких степеней ложи «Друзья любомудрия», член-основатель ложи «Золотое руно», секретарь ложи «Юпитер»). При нем более тесно стали сотрудничать с газетой З. Гиппиус, Б. Зайцев, Д. Мережковский, продолжали публиковаться прозаики А. Куприн и Тэффи, Осоргин и Набоков-Сирин, А. Амфитеатров и И. Шмелев, а из близких по жизни И.М. Троцкому литераторов — А.Ф. Аврех, Дон Аминадо, Маклаков, Вас. Немирович-Данченко, А.А. Яблоновский.
Литературно-художественным отделом газеты вплоть до 1932 г. заведовал авторитетный критик, поэт, бывший редактор прославленного петербургского «Аполлона» С. Маковский. С 1927 г. и до своей кончины в 1939 г. литературно-критический подвал «Книги и люди» и хроникальную рубрику «Литературная летопись» вел В. Ходасевич. Хроника готовилась им совместно с Н. Берберовой под общим псевдонимом Гулливер.
Следует отметить, что в своем большинстве литераторы с именем: Адамович, Дон Аминадо, Осоргин, Набоков-Сирин, Тэффи, Ю. Терапиано, Г. Иванов, печатались как в «Возрождении», так и в «Последних новостях», но, как правило, избегали появляться на страницах изданий правоконсервативного толка.
Особый слой эмигрантской периодики составили общественно-политические и литературные журналы. Журналы были дешевле, их легче было издавать и распространять по подписке. Большинство журналов легко возникали и так же легко исчезали. Первым большим литературным журналом русской эмиграции была «Грядущая Россия». Первый опыт не слишком удался: вышло всего два номера в Париже в 1920 г., еще до крымской катастрофы. Журнал редактировался М.А. Алдановым, А.Н. Толстым и народником Н.В. Чайковским и имел общедемократическую направленность. А главное — он стал своего рода школой для собирания лучших литературно-журналистских сил зарубе-жья. На страницах «Грядущей России» А.Н. Толстой публиковал первые главы своего романа «Хождение по мукам», М.А. Алданов — роман «Огонь и дым». <...> Журнал не смог встать на ноги не из-за своего содержания, а вследствие финансовых трудностей. Но он успел выработать самою идею возврата к культуре «толстого» литературного журнала, на которой вырос весь русский интеллектуализм XIX в. Прямым преемником «Грядущей России» стал самый популярный и долговечный «толстый» журнал эмиграции — «Современные записки». Сам выбор названия нового журнала демонстрировал обращение к опыту журналистики прошлого века. Наиболее знаменитые журналы XIX в. назывались «Современник» и «Отечественные записки». Из этих двух названий и было составлено имя <нового> журнала. Этот журнал оставался самым влиятельным и читаемым весь период своего существования: с 1920 по 1940 г. Он стал известен во всем мире, его комплекты содержатся во многих библиотеках, сохранились архивы редакции. <...>. Редакционный комитет состоял из правых эсеров: Н.Д. Авксентьев, И.И. Бунаков-Фондаминский, М.В. Вишняк, В.В. Руднев и др. Ответственным секретарем журнала был М.В. Вишняк. Несмотря на эсеровскую принадлежность редакции, в журнал привлекались авторы самой разной политической ориентации. В программном заявлении редакции задачи в области культуры превалировали над политическими — это и определило успех журнала120.
Первый номер журнала вышел в ноябре 1920 г. тиражом 2 тыс. экземпляров. Позднее тираж снизился в связи с прекращением финансовой помощи от чехословацкого правительства.
По мнению Г. Струве, именно свобода редакторской политики «Современных записок» от узколобой партийной ангажированности, «широта фронта», обеспечили «успех у читателей и репутацию не только лучшего журнала в зарубежье, но и одного из лучших в истории всей русской журналистики»121.
Крайне правые периодические издания — журналы «Вестник Союза русских дворян», «Воскресенье», «Имперский клич», «Общий путь», отстаивавшие монархическую идею в «чистом виде» особой популярности у читающей публики не имели, а потому были недолговечны и не оставили заметных следов в истории русского Зарубежья. Наиболее известным и одиозным из них был орган монархистов журнал «Двуглавый орел», выступавший за «истинные» национальные интересы русского народа, против «иудейской и масонской идеологии». С 1921 г. журнал издавался в Берлине, а в 1926-1931 гг. в Париже. В Париже активно работал Союз русских писателей и журналистов (первоначально — Союз русских литераторов и журналистов), который был создан уже в 1920 г. и просуществовал до момента оккупации Франции в 1940-м.
На фоне впечатляющего фасада культурной жизни «русского Парижа» нельзя не напомнить о реалиях, в которых эта жизнь гнездилась. В литературной среде при том, что все здесь считали себя «хранителями очага», кипели обычные для такого сообщества страсти: зависть, обиды, сплетни, скандалы и т.п. Участвовали в них и публицисты, и прозаики, и поэты.
Само присуждение Бунину Нобелевской премии в 1933 г. послужило не столько мировому признанию литературы русской эмиграции, сколько ее окончательному внутреннему размежеванию, почти полному исчезновению духа корпоративности и углублению творческой самоизоляции122.
Этот факт отметил, например, А.В. Амфитеатров в переписке с редакцией «Сегодня»:
...в Париже чествование было шумно, но менее единодушно, чем хотелось бы в такой высокоторжественный день. Отсутствовали многие, которым отсутствовать было просто неприлично. «Возрождение», по-видимому просто не потрудилось прислать своего представителя, (ни Б. Зайцев, ни Тэффи, — личные друзья Бунина, — конечно, не «Возрождение» представляли, а самих себя, равно как и Ходасевич). Все это не только грустно, но прямо-таки постыдно123.
Однако не «вопреки», а именно благодаря своей динамичности, часто проявлявшейся в самых резких и конфликтных формах, в «русском Париже» культурная жизнь эмиграции первой волны била ключом. И продолжалась она целых двадцать лет, вплоть до июня 1940-го, когда в город вошли немецкие войска, и политическая и культурная столица русского Зарубежья прекратила существовование. У Тэффи есть такие строки:
Когда умерла полоса жизни — кажется, что она могла бы еще как-то развернуться, тянуться и что конец ее неестественно сжат и оборван. Все события, заканчивающие такую полосу жизни, сбиваются, спутываются бестолково и неопределенно.
Именно таким вот и было поначалу падение «русского Парижа». А затем все накопленное эмигрантское культурное богатство рухнуло в тартарары: закрылись газеты, журналы, издательства, масонские ложи, прекратились литературные вечера и семинары... Четыре года нищеты, отчаянья, страха у потухшего очага русской духовности.
Илья Троцкий и окружение Ивана Бунина
Возможно, что знакомство И.М. Троцкого с Буниным состоялось еще до революции. Бунин был одним из авторов газеты «Русское слово» и наверняка Илья Троцкий — молодой, амбициозный журналист, включенный в литературную жизнь, постарался быть представленным известному писателю. Однако личные отношения между ними установились к концу 1920-х и продолжались до последних дней жизни Бунина.
В дневниковой записи Веры Николаевны Муромцевой-Буниной от 26 декабря 1930 г. приведена выдержка из письма журналиста И. Троцкого своему коллеге и старому знакомому Соломону Полякову-Литовцеву о том, что пора начать кампанию номинирования Бунина на Нобелевскую премию по литературе. Заканчивается это письмо И. Троцкого призывом: «Друзья Бунина должны взяться за дело!»124
Этот призыв, адресованный к особой референтной группе русского Зарубежья — общности интеллектуалов, входивших в широкий круг общения Ивана Бунина, для самого журналиста был не только «литературно-публицистической фразой». Именно И.М. Троцкий воплотил его в жизнь. После публикации его статей в парижской газете «Последние новости» и рижской «Сегодня»125 в русском Зарубежье началась планомерная кампания по номинированию кандидатуры Бунина на Нобелевскую премию по литературе, в которой он сам принимал активное и очень действенное участие (см. ниже раздел в Гл. 4. «Нобелевские дни Ильи Троцкого»).
Будучи знаком с Буниным и его женой Верой Николаевной Муромцевой-Буниной более 30 лет, И.М. Троцкий, тем не менее, никогда не входил в их ближайшее окружение, как, например, их общий друг Марк Алданов. Он просто был «верным другом», всегда готовым откликнуться на просьбу о помощи, горячим поклонником писательского таланта Ивана Бунина. Весьма показательны в этом отношении слова самих И.А. и В.Н. Буниных (см. их переписку с И. Троцким в Гл. 6), например: «Иван Алексеевич просил Вам передать сердечную благодарность за Вашу заботу о нем и сказать, что он всегда Вас вспоминает с неизменной любовью. (В.Н. Бунина — И.М. Троцкому 19 сентября 1950 г.); «Еще раз шлем от всего сердца Вам спасибо за Ваши заботы и хлопоты, — Вы один из самых трогательных друзей. <...> И<ван>А<лексеевич> просит Вам написать, что ждет Вас с нетерпением и обнимает Вас. (В.Н. Бунина — И.М. Троцкому 29 сентября 1950 г.)».
Рассказ о взаимоотношениях Ильи Троцкого с Буниным, естественно, не может не содержать интимно-личностных интонаций. Поэтому здесь важно очертить психологический портрет знаменитого писателя.
Многим современникам Бунин представлялся надменным, вспыльчивым и язвительным мизантропом, сосредоточенным лишь на собственных ощущениях, переживаниях, интересах. Горький, с которым Бунин был весьма близок до революции, превознося его писательский талант, одновременно утверждал:
он — сухой, недобрый человек, людей любит умом, к себе — до смешного бережлив. Цену себе знает, даже несколько преувеличивает себя в своих глазах, требовательно честолюбив, капризен в отношении к близким ему, умеет жестоко пользоваться ими126.
Помимо Горького, также о личности Бунина нелестно отзывались Берберова и многие эмигрантские писатели младшего поколения127. Вот, например, нелицеприятная характеристика «последнего русского классика» у Василия Яновского:
Бунин, с юношеских лет одетый изящно и пристойно, прохаживался по литературному дворцу, но был упорно провозглашаем полуголым самозванцем. <...> Горький опыт непризнания оставил у Ивана Алексеевича глубокие язвы: достаточно только притронуться к такой болячке, чтобы вызвать грубый, жестокий ответ. <..> Боже упаси заикнуться при Бунине о личных его знакомых: Горький, Андреев, Белый, даже Гумилев. Обо всех современниках у него было горькое, едкое словцо, точно у бывшего дворового, мстящего своим мучителям-барам128.
Тот же Яновский, однако, признавал:
К чести Ивана Алексеевича надо признать, что он не кривлялся, не подражал, не бежал за модою, оставался почти всегда самим собою: гордым зубром, обреченным на вымирание.
Как говорил художник Вощинский, писавший в 1933 г. портрет Бунина,
Иван Алексеевич дорожил своей «голубой кровью» и был надменный мизантроп129.
А вот впечатление о Бунине известного в начале XX в. пианиста Давида Шора, оказавшегося случайным попутчиком писателя во время его путешествия в Палестину:
Мы сели на новый пароход. За обедом, у общего стола, мое внимание привлекла русская пара. Она молоденькая миловидная женщина, он постарше, несколько желчный и беспокойный человек. Когда старый отец мой за столом выказывал совершенно естественное внимание своей молодой соседке, я чувствовал, что муж ее как будто недоволен. После обеда я сказал отцу, что обыкновенно русские путешественники не любят встречаться с земляками, и нам лучше держаться в стороне...
<...> Каждый раз, что я попадал на новый пароход, я тотчас же разыскивал инструмент, на котором можно было бы поиграть. На этом пароходе пианино стояло в маленькой каюте около капитанской вышки. <...> Я открыл пианино и сел играть. Минут через пять кто-то вошел. Я сидел спиной к двери, не видел вошедшего, но почувствовал, что это наш русский путешественник. Я продолжал играть, как будто никого в каюте не было, и, когда минут через 20-30 я встал, чтобы уйти, он меня остановил со словами: «Вы — Шор, я — Бунин». Таким образом состоялось мое знакомство с писателем, которого я сравнительно мало знал по его сочинениям. Дальше мы путешествовали вместе, и я не скажу, чтобы общество его было бы из приятных. Особенно тяжело было мне чувствовать в просвещенном человеке несомненный антисемитизм, и где, в Палестине, на родине народа, давшего так много миру...130
Столь уничижительная и несомненно превратная оценка личности Бунина была, судя по всему, результатом мелких недоразумений, обычно возникающих между посторонними людьми во время путешествий131. Кроме того, Бунин в незнакомом ему обществе часто держал себя вызывающе отстраненно и надменно132. Такая манера поведения человека, не упускающего случая напоминать о своем «столбовом» дворянстве133, задевала, а то и обижала окружающих134. Однако, кичась своим происхождением, Бунин остро переживал доставшуюся ему тоже по наследству материальную необеспеченность; будучи самолюбив, был при этом застенчивым и легко ранимым... Осип Дымов, например, описывая свои первую (в середины 1900-х) и последнюю (в конце 1930-х) встречи с Буниным, особо выделяет такие две черты его характера, как чуткость к чужой боли и свойскость.
Когда мы обнялись и я начал одаривать его комплиментами, он, насупившись, но шутливым тоном меня остановил: — Ша, ша, Дымов, не надо.
В этом «ша» было приятельское напоминание о моем еврействе. Но как тепло это звучало в его устах, у него, христианина, русского. Я читал его мысли и чувства <...>: «Разве имеет какое-нибудь значение, кто мы оба и что мы пережили в течение прошедших тяжелых тридцати лет? Но мы — русские писатели из Москвы и Петербурга. У нас общее прошлое, общий духовный дом, по которому мы тоскуем, каждый в своем уголке <...> Помнишь: Леонид Андреев... и Куприн... и Брюсов <...>. Собрат Брюсов мертв, все уже мертвы. Но мы их помним нежно... ша, Дымов!135
Состояния опустошенности, безразличия, затяжной меланхолии, а то и депрессии, присущие большинству творческих людей, часто посещали и Бунина, который в такие периоды, естественно, весьма отягчал жизнь окружающих.
Иван Алексеевич после творческого периода тоже впал в естественную меланхолию — писать перестал и жалуется, что ему скучно. Иногда неожиданно срывается и скачет в Канны или Ниццу, куда, едва приехав, начинает сразу готовиться к обратной поездке, несмотря на безотносительную утомительность дороги.
— отмечал литератор Александр Бахрах, живший с Буниным бок о бок в Грассе во время войны, в письме к Михаилу Осоргину от 15 июня 1941 г.136.
И все же очень часто:
В домашнем быту Бунин сбрасывал с себя все свое величие и официальность. Он умел быть любезным, гостеприимным хозяином и на редкость очаровательным гостем, всегда — это выходило само собой — оставаясь центром всеобщего внимания. Он бывал естествен, весел и даже уютен. От величественности не оставалось ни малейшей тени. Но когда ему это казалось нужным, он сразу, как мантию, накидывал на себя всю свою величественность137.
Всегда и во всем характер Бунина проявлялся в самой широкой гамме эмоций. Он нередко выказывал и отзывчивость, и резкую правдивость, и еще, говоря словами его старого друга Куприна, «какое-то жадное ко всему крайнему любопытство».
В критических ситуациях Бунин действовал импульсивно, готовый всегда прийти на помощь своим ближним. Так он вел себя в 1942-м, когда, приехав в Ниццу и зайдя к своим недавним знакомым супругам Либерманам, узнал, что они вынуждены бежать, поскольку вишисты готовят облаву на евреев. Нисколько не задумываясь о последствиях, Бунин настоял, чтобы супруги пересидели опасное время в его грасском доме (см. Гл. 5. «Спасенные Буниным»: Александр Бахрах и супруги Либерман»), А ведь сами Бунины жили во время войны «на птичьих правах»: в оккупированной зоне, без гражданства, в чужом доме, принадлежавшем к тому же «врагу», практически без средств к существованию138, и вдобавок ко всему у них, тоже по причине своего еврейского происхождения, прятался от нацистов А. Бахрах.
Даже скептически воспринимавший Бунина Василий Яновский оставил трогательное воспоминание:
Раз во время оккупации в Ницце Адамович139 мне показал открытку от Бунина. Иван Алексеевич писал, что к ним приехал один господин и отделаться от него по нынешним временам нельзя, «да и ему, вероятно, некуда идти». Последние слова я помню точно. И это прозвучало для меня, как пушкинское «И милость к падшим призывал»... Неожиданно и прекрасно140.
Возможно, именно в силу всех этих качеств Бунину удалось на чужбине создать вокруг себя широкий и разнообразный круг дружеского общения, столь необходимый изгнаннику, в материальном отношении крайне зависимому от покровительства третьих лиц.
В России Бунина, академика по Отделению русского языка и словесности Российской (до 1917 г. Петербургской) академии наук, литературные критики превозносили на все лады. Никто из близких Бунину писателей — ни Горький, ни Куприн, ни Короленко, не удостаивался, например, таких торжеств, какие устроены были Бунину в октябре 1912 г. в Москве в честь 25-летнего юбилея его литературной деятельности. Бунина чествовали несколько дней: 24 октября в Литературно-художественном кружке «Среды» на квартире Н.Д. Телешова состоялось посвященное ему торжественное собрание, на следующий день его чествовал Московский женский клуб, 26 октября — Общество деятелей периодической печати и литературы в зале Политехнического музея, днем позже — Общество любителей российской словесности, а утром 28 октября в большом зале Лоскутной гостиницы, где остановился писатель, он принимал депутации различных организаций и органов печати. Вечером 28 октября торжества, широко освещавшиеся столичной и провинциальной прессой, закончились многолюдным парадным банкетом в Литературно-художественном кружке141. При такой популярности Бунин, однако, отнюдь не выказывал особой общительности и не являлся «душою» какого-либо литературного общества или творческой группы.
Хотя Бунин «никогда не был занят теми “проклятыми вопросами”, которые волновали русскую интеллигенцию, никогда не был направленчески заштампован ни в общественном, ни даже в эстетико-каноническом смысле»142, в эмиграции его считали не только «последним русским классиком»143, но и фигурой общественной. Такого рода отношение к личности Бунина возникло после произнесения им программной речи «Миссия русской эмиграции» (Париж, 16 февраля 1924 г.144). В ней он сумел найти нужные и точные слова, чтобы выразить мироощущение интеллектуальной элиты русского Зарубежья и одновременно вселить в нее уверенность, что это сообщество изгнанников есть «малый остаток», избранный судьбою для особой миссии — сохранения образа разрушенной большевиками Российской империи и культуры старой России145. Аналогичные по смыслу суждения в это же время публично высказывали на одноименных вечерах и другие знаменитые русские писатели — Мережковский и Шмелев, например, но именно бунинская речь была «услышана», именно ее слова запали в души русских изгнанников, и благодаря этому она превратилась в «одно из самых известных, переиздаваемых и в то же время одно из наименее изученных публицистических произведений И.А. Бунина»146.
Существует «миф о бунинском монархизме»147, который в эмиграции «был весьма живучим», «из русского Зарубежья <...> перекочевал в советскую Россию»148, а затем нашел себе благодатную почву в современном российском обществе. Однако факты — упрямая вещь, а они свидетельствуют о том, что гордившийся своим столбовым дворянством Бунин, тем не менее подчеркнуто дистанцировался от консервативно-монархических кругов эмиграции и всякого рода ура-патриотов. В этой среде он всегда был чужим среди чужих и чуждых ему по духу людей. Реальную политическую позицию Бунина «правильнее было бы обозначить как центристскую, с сильным государственническим элементом, предполагавшим среди прочего отстаивание национальных ценностей и традиций»149.
Подобного рода убеждений придерживалось большинство друзей и хороших знакомых писателя, и в их числе И.М. Троцкий. Да и все покровители Бунина из числа «еврейских богатеев», как это ни странно звучит, являлись представителями левоцентристского фланга эмиграции150.
Как мы видели, в русском Зарубежье, где евреи составляли почти четвертую часть эмигрантов первой волны, «еврейский вопрос как русский»151 оказался одним из наиболее актуальных.
Поскольку в эмигрантской среде страсти кипели не только на политической почве, но и по причине личных амбиций, антипатии, зависти и обид, в литературном сообществе голословные обвинения в антисемитизме и черносотенстве по отношению друг к другу отнюдь не были редкостью. Гиппиус, например, после опубликования своих «Петербургских дневников» прослыла среди эмигрантов антисемиткой и от нее и от Мережковского «отвернулись в первое время даже их бывшие друзья»152. Эти обвинения сама Гиппиус категорически отметала153. Однако позже, в декабре 1932 г., об антисемитизме Мережковских редактору рижской газеты «Сегодня» М.С. Мильруду писал А. Седых. Сама же Гиппиус обвиняла в черносотенстве Бунина154.
Как можно судить из дневниковых записей Бунина, переписки и воспоминаний Веры Николаевны Муромцевой-Буниной, до революции у них не было ни друзей, ни добрых знакомых из числа еврейской интеллигенции. «Еврейский вопрос» не был для Бунина особенно актуальным. Впрочем, в акциях против антисемитизма, организуемых под эгидой ОБАР, Бунин участие принимал.
ОБАР, официально «Российское общество изучения еврейской жизни», было создано в начале Первой мировой войны Л. Андреевым, М. Горьким, Д. Мережковским, Ф. Сологубом и П. Милюковым. К нему присоединились И. Бунин, Н. Кареев, А. Карташев, З. Гиппиус, П. Струве, Г. Лопатин,
С. Мельгунов, Н. Бердяев, Игорь Северянин и многие другие публичные фигуры. На одном из первых мест в работе общества стояло издание специальной литературы, не только направленной против антисемитизма, но и рассказывающей о подлинной сути еврейского вопроса в России. В 1915-1916 гг. было выпущено несколько подобных книг. Самым известным стал сборник «Щит», выдержавший три переиздания155. Как один из парадоксов того времени стоит отметить тот факт, что деятельность общества получила поддержку при Дворе и пользовалась покровительством императрицы Александры Федоровны. Появилась и подобающая формальная структура — председателем стал обер-гофмейстер Двора граф И.И. Толстой, в комитет общества вошли П. Милюков, М. Горький, А. Куприн. В русском Зарубежье ОБАР, объединявшее в своих рядах практически всех эмигрантов из числа литераторов и общественных деятелей либерально-демократического направления, продолжало свою работу вплоть до начала Второй мировой войны.
В эмиграции состав бунинского окружения кардинально изменился. Среди многочисленных друзей и покровителей, в течение многих лет поддерживавших их материально156, большинство составляли евреи. Этот факт в классическом буниноведении как правило обходят стороной, хотя он значим и весьма важен для полномасштабной реконструкции биографии писателя.
В воспоминаниях, дневниках и переписке Буниных, начиная с 1920 г., можно найти много прямых указаний на сей счет. Так, весной 1920 г. в Белграде, где бежавший из России Бунин оказался в самом отчаянном положении, спасительные денежное вспомоществование в 1000 франков и французская виза были получены, по его собственным словам, по телеграфу от Марии Самойловны Цетлиной157. Благодаря этому «чуду» Бунины смогли беспрепятственно добраться до Парижа.
Начало дружбы Буниных с супругами М.С. и М.О. Цетлиными, людьми не только состоятельными, но и отличавшимися большим «художественным вкусом и преданностью литературе», относится к 1917-1918 гг., когда все они оказались в Одессе. Впоследствии же М.С. и М.О. Цетлины «опекали» Буниных в течение более четверти века. По свидетельству С.Л. Полякова-Литовцева в их литературном салоне «на рю де ла Фезандри, у Булонского леса», где было «уютно, оживленно, интересно», и который являлся «местом общения интеллигенции вообще: политиков, общественных деятелей, писателей, художников», и «в некотором роде штаб-квартирой эсэровской интеллигенции, <...> из писателей <...> красный угол занимал — И.А. Бунин»158.
В 1940 г. Цетлины бежали в США, и в Нью-Йорке вместе с М. Алдановым начали издавать «Новый журнал», идею которого вынашивали вместе с Буниным — см. письмо М.А. Алданова к М.С. Цетлиной от 7 января 1949 г.159
Все военные и первые послевоенные годы Цетлины, в особенности Мария Самойловна, самым активным образом занималась изысканием средств в помощь Буниным. Благодаря ей и Марку Алданову Бунины, например, регулярно получали через нейтральную Португалию продовольственные посылки. В письме от 8 апреля 1947 г. Бунин, благодаря М. Цетлину, патетически восклицает: «Я бы совершенно пропал, если бы не помощь Ваша!»160.
К сожалению, тридцатилетняя дружба М.С. Цетлиной с Буниными закончилась полным разрывом отношений в 1947 г. — по причине идеологических разногласий в связи с выходом Буниных из парижской организации Союза русских писателей и журналистов161, о чем подробнее ниже, в Гл. 6.
История дружеских отношений Буниных с Цетлиными подробно, с привлечением большого числа документальных материалов, освещена в книге Н. Винокур «Сквозь волны времени»162. Читая ее, например, видно, что еще с начала 1920-х, когда из эмиграции первой волны еще только начинало формироваться русское Зарубежье, немногочисленная прослойка преуспевших в деловом отношении беженцев-евреев, для которых русская культура являлась составной частью их личностной идентичности, материально поддерживала Бунина и других видных писателей эмигрантов (А. Куприн, Д. Мережковский, А. Ремизов, Тэффи). Ведь ни Бунин, ни большинство других литераторов-эмигрантов в России не приобретали «кормящей» специальности, и лишь немногие из них взялись за другие промыслы, так что русскоеврейская традиционная благотворительность, роль русско-еврейских меценатов, щедрых и культурных русских евреев оказалась особенно важной, спасительной163.
Так, например, в дневнике Бунина от 11 апреля 1922 г. имеется следующая запись:
В 5 у Мережковских с Розенталем. Розенталь предложил нам помощь: на год мне, Мережковскому, Куприну и Бальмонту по 1000 франков в месяц164.
Леонард Розенталь — выходец из состоятельной семьи горских евреев, родился во Владикавказе, откуда его родители перебрались на жительство в Турцию, где взяли себе немецкие имена. Четырнадцатилетним подростком Леонард оставил семью и уехал во Францию. В Париже он учился в «Коммерческой школе на улице Трюдейн» («l’École commerciale de la rue Trudaine»), работал в знаменитой фирме хрустальных изделий «Баккара»165, успешно подвизался на ювелирной бирже. Свое состояние Розенталь сделал на добыче и продаже жемчуга, основав с братьями166 фирму «Léonard Rosenthal et frères», которая вплоть до 1934-х г. была ведущей по торговле жемчугом во Франции.
Розенталь построил в Париже около 30-ти коммерческих зданий, среди них кинотеатр «Нормандия» («Le Normandie»), Аркады (Les Arcades des Champs-Élysées) и Порталы (Les Portiques) на Елисейских полях.
С 1926 Леонард Розенталь являлся крупнейшим пайщиком кинокомпании «Société Générale de Films», где в частности выступил в качестве продюсера фильма «Сентиментальный романс» («Romance sentimentale») режиссеров Г. Александрова и С. Эйзенштейна (1930).
Прославился Леонард Розенталь и как филантроп. После Первой мировой войны он за свой счет содержал 100 русских детей-сирот, построил для них приют и политехническую школу «École Rachel» (Écoles d'Enseignement Technique gratuites — Section Féminine, 8 Rue Quinault — Paris. 1930)167. K 1927 г. его благотворительной поддержкой было охвачено более 20 ооо человек. За свою благотворительную деятельность Леонард Розенталь был награжден орденом Почетного легиона.
Являясь членом Попечительского совета Комитета помощи русским ученым и писателям во Франции, Леонард Розенталь в течение ряда лет оказывал материальную поддержку И.А. Бунину, Д.С. Мережковскому, А.И. Куприну, К.Д. Бальмонту, М.И. Цветаевой и др.
Из дневника Бунина от 27/14 июня 1921 г.:
Вчера были у «короля жемчугов» Розенталя. <...> Рыжий еврей. Живет <...> в чудеснейшем собств. отеле (какие гобелены, есть даже церковные вещи из какого-то древн. монастыря). Чай пили в садике, который как бы сливается с парком (Monceau). <...> Сам — приятель Пьера Милля, недавно завтракал с А. Франсом. Говорят, что прошлый год «заработал» 40 миллионов фр. <...>»168.
Писатели, совсем еще недавно вполне благоденствовавшие в царской России, «подачки» Розенталя брали, но и мучились от этого ужасно. «Гордость и тщеславие выдумал бес», — утверждал поэт Сумароков. У писателя же, особенно знаменитого, этих двух качеств всегда хоть отбавляй, а вот с деньгами туго. В эмиграции, как известно, почти все русские литераторы были «на нуле». Приходилось подлаживаться, но порой вежливо выслушивать наставления меценатов гордость да заносчивость не позволяли. Вот Бунин и Мережковский и не вытерпели. Посчитав вполне невинные на сторонний взгляд замечания Розенталя, сопровождавшие его «подачки», за унижение, они с ним рассорились. На эту тему имеются письма Зинаиды Гиппиус к Владимиру Злобину и Марии Цетлиной:
6 дек. 22. Париж
Голубое письмо заставило вас несколько замолчать. Огорчило, обидело? Ой, не надо бы! А у нас случилась полная финансовая катастрофа. Розенталь на звонок Д<митрия> С<ергееви>ча169 с величайшей грубостью ответил: «Послушайте. Послушайте. Вы ведь там что-то такое получили. Позвоните мне в четверг. Мне надо с вами поговорить». Словом, — конец Р<озенталь>ским благодеяниям! Бунин, можете себе представить, в каком состоянии. Главное — неизвестно, неужели он и Куприну, и Бальмонту тоже отказывает? В каком же мы перед ними положении? Они совсем погибают. На днях и мы начнем погибать. <...> Бунин написал Роз<ента>лю письмо объяснительное — как же, мол, вы не предупредили? (На письмо это — никакого ответа. Д<митрий> С<ерге-евич> решил завтра и не звонить.) Но ведь это нечто невероятное. Только что накупил ограбленных из церквей изумрудов у б<ольшевико>в, а нас побоку. Да и как это нестерпимо унизительно. И, знаете, даже невыгодно жить на благотворительность: тотчас же сами дамы принимают другую аттитюду. Розенталь что-то наговорил. <...> Ну, не стоит входить в это, довольно факта, что мы имеем (с отвращением) эти 12 тысяч, да старых всего 5-6, и больше — ничего, и никаких перспектив. И мерзкий осадок на душе. А вы еще упрекали, что я не пишу вам, ибо «франки считаю». И какие я доллары могу теперь покупать? Ваша З. Н.
8 дек. 22. Пятница утр[о]. Paris
Дорогая Марья Самойловна.
Вчера вечером поздно, в дождь, пришел к нам Ив<ан> Ал<ексеевич> совершенно расстроенный и разбитый; он только что встретил на улице Куприна, кот. рассказал ему следующее: в понед. Куприн и Бальмонт нашли под своими дверями по записке, вызывающие их во вторник к Розенталю. Они явились, и Розенталь им сказал: «Получите деньги и скажите мне, что вы думаете о поступке Мережковского и Бунина?» На это — неизвестно что сказал Бальмонт, а Куприн сказал «не мое дело судить». Не наше, может быть, дело судить Куприна и Бальмонта (который, по всем вероятиям, еще хуже ответил), можно только обеими руками подписаться под словами Ив. Ал<ексееви>ча, что никто бы из нас на их месте так Роз<ента>лю не ответил (между тем при мне Бунин просил Розенталя тогда включить Бальмонта четвертым, чего Р<озенталь> не хотел и не предполагал). Но оставим их в стороне, тем более, что это душевногорькое обстоятельство имеет для нас ту облегчающую сторону, что мы теперь уже и возможности не имеем хлопотать для устроения для них вечера в январе <...>: Розенталь их лишит подачки. Но тут интересен Розенталь <...>, осмеливающийся стать относительно Бунина и Мережковского в позицию моралиста. <...>
Замечательно, что ни Бальмонт, ни Куприн ранее ни словом не обмолвились, встречаясь и с Буниным, и с Д<митрием> С<ергеевичем> уже после своего визита к Р<озента>лю;
только вчера случайно на улице Куприн рассказал Ив<ану> А<лексееви>чу, и то с пьяных глаз, м. б. Оттого Р<озенталь> и на письмо Бунина ничего не ответил, и, конечно, жаль, что, не зная, Ив<ан> Ал<ек-сеевич> испил и эту чашу напрасного унижения. Розенталь не знал, с кем он имеет дело, но и мы виноваты, что не поняли, с кем имеем дело. Есть предел всему, однако, и теперь, конечно, ни одной копейки никогда у него ни Бунин, ни М<ережковский> не возьмут. Но вам, Марья Самойловна, мы будем бесконечно благодарны, если вы постараетесь все-таки объяснить, хоть по мере возможности, этому господину истинный смысл его поведения с русскими писателями вроде Бунина и Мережковского. Вы не поверите, как мне больно смотреть на Ив<ана> А<лексееви>ча; у него его чувство гордости, сейчас особенно обостренное, как вы понимаете, — так оскорблено, что это действует на него прямо физически. С Куприным и Бальмонтом он, кроме того, был ближе и сердечнее связан, чем мы. Простите за эту длинную экспозицию, но я не могла удержаться, чтоб тотчас же с вами всем этим не поделиться, так как вы это понимаете внутренно и можете некоторую моральную помощь и поддержку нам оказать по отношению к господину Розенталю. Обнимаю вас. Искренно ваша
З. Гиппиус
P.S. Милая М<ария> С<амойловна>, самый факт этого моего письма конфиденциальный. Бунин вам сам все расскажет, а вы это письмо никому не показывайте, прошу вас — разорвите; мне хочется, чтобы вы сразу же знали все факты, как они есть, и знали quoi vous en tenir. Удручающие подробности. Но это отчасти документ против Куприна и Бальмонта — которых я не хочу судить, — и пусть он формально как бы не существует170.
Несмотря на ссору с Буниным и Мережковским, Розенталь продолжал оказывать финансовую поддержку русским писателям и деятелям культуры. В 1926 г., например, он открыл для жены А.И. Куприна переплетную мастерскую. Активный деятель ОРТ, в 1934 г. создал в своем доме (sic!) первую в Париже школу этой организации.
Судьба, однако же, не была милостива к семье Розенталей. Великая депрессия 1930-х разоряет фирму, во время немецкой оккупации в одном из парижских пешеходных переходов, предположительно агентами гестапо, был убит младший брат и компаньон Адольф, а в концентрационном лагере Равенсбрюк погибла его сестра.
Сам Леонард сумел перебраться в Португалию, откуда эмигрировал сначала в Бразилию, а затем в США. Он поселился в Нью-Йорке, где, продолжая заниматься торговлей жемчугом, сумел восстановить свое состояние. О филантропической и культурно-просветительской деятельности Леонарда Розенталя в США сведений почти не имеется171, но его дочь Рахель Розенталь вошла в пантеон славы выдающихся деятелей американского искусства.
25 августа 1949 г. Бунин писал Алданову172:
Позавчера был у меня Яшенька Цвибак, заходил прощаться, послезавтра отплывает в Америку. Сообщил, что завтракал с С.С. Атраном и что Атран решил выдавать мне помощь каждый месяц (начиная с 1 сентября). Как его отчество: Соломонович или Самойлович? Яша точно не знает. Напишите поскорее.
Ваш Ив. Бунин
Франк, или в англизированной форме Френк (Frank Z.) Атран — в то время уже американский промышленник и филантроп родом с Украины. В молодости был еврейским социалистом, членом Бунда. Затем эмигрировал из СССР и в 1925 г. обосновался в Берлине173. Будучи отпрыском богатой фамилии торговцев текстилем, Атран успешно развил семейный бизнес на Западе, занимаясь и производством, и розничной продажей трикотажа. Помимо основанной им знаменитой в те годы чулочной фирмы «Etam» он к середине 1930-х владел сетью из 50 магазинов женской одежды во Франции и Бельгии. В 1940 г. Атран бежал от нацистов в Америку, где продолжил свой бизнес. В Нью-Йорке занимался еще и недвижимостью и на этом поприще тоже весьма преуспел. Не оставлял своим вниманием и русскую культуру в изгнании. В числе спонсоров «Нового журнала» значится и его имя.
16 января 1941 г. Алданов пишет полное достоинства и убедительности письмо Б.А. Бахметеву:
в Ницце мы с Буниным решили сделать все возможное для того, чтобы создать в Нью-Йорке журнал типа «Современных записок». Я знаю, что это дело нелегкое: журнал окупаться не может, как не окупались и «Современные записки». Он может образоваться только в случае финансовой поддержки, впрочем, не очень большой. Но думаю, дело этого стоит. Русским писателям, как оставшимся в Европе, так и переехавшим сюда, больше на русском языке печататься негде: никаких изданий и издательств в Европе больше нет. <...> Не будет журнала — нет больше и русской зарубежной литературы. Очень Вас просим помочь делу создания журнала: Вы лучше, чем кто бы то ни было, знаете, как это делается в Америке.
Б.А. Бахметев стал одним из первых спонсоров журнала. Кроме Бахметева следует назвать и другие имена людей, упоминаемых в письмах Алданова, пожертвовавших деньги на издание «Нового Журнала» в первые, самые тяжелые годы его становления и существования: С.И. Либерман, С.С. Атран,
А.Я. Столкинд, М.Я. Эттингон, Едвабник, Фридман174.
В 1945 г. Френк Атран основал филантропическую организацию «Atran Foundation», где после его смерти продолжают успешно работать члены его семьи. Через этот фонд он сделал крупные вклады на благотворительные цели и в пользу различных еврейских организаций. В 1950 г. Атран пожертвовал 1 млн. долларов на строительство лабораторного корпуса больницы на горе Скопус (Израиль). А за несколько месяцев до смерти он основал (впервые в Америке) кафедру идиша в Колумбийском университете, подарил пятиэтажное здание Еврейскому трудовому комитету и пожертвовал миллион долларов больнице «Mount Sinai» («Гора Синай») в Нью-Йорке. Тем самым Френк Атран стал одним из наиболее видных филантропов из числа русских евреев, поддержавших одновременно и обескровленную в Холокосте идишистскую культуру, и молодое еврейское государство.
Что же касается заботы Соломона Самойловича Атрана о русских писателях-эмигрантах, то ее можно отнести к разряду «культурологических феноменов». Тот факт, что глубоко укорененный в еврейской духовной традиции человек помогал выживать на чужбине не только своим соплеменникам, но и соотечественникам из числа «титульной нации», культура и религия которой никогда не демонстрировали симпатии по отношению к еврейству, достоин специального исследования.
Точно так же стоило бы проанализировать и феномен «русского одиночества», порождаемый равнодушием коренных русских толстосумов, — а их было немало — к судьбе родной им культуры в изгнании, в том числе их безразличие к Бунину.
Атран же до самой своей кончины платил пенсию Бунину и давал деньги на печатание его книг, которые особых доходов не приносили. Хорошо информированный Марк Алданов писал по этому поводу В.Н. Муромцевой-Буниной 7 июля 1952 г., что поскольку по смерти филантропа большая часть его состояния перешла Фонду его имени, денежные выплаты «будут продолжаться и, таким образом, Бунины будут обеспечены еще почти на год»175.
Итак, Бунины в эмиграции жили под неусыпной опекой: со стороны различного рода покровителей и меценатов, хороших знакомых и почитателей таланта писателя. Бросается в глаза, что среди них очень многие — М. Алданов, Дон Аминадо, С. Поляков-Литовцев, А. Седых и И.М. Троцкий — были активными деятелями ОРТ.
Однако близких друзей у Бунина, как и у большинства творческих личностей подобного масштаба, по жизни было очень мало. В эмиграции это, вне всякого сомнения, М.А. Алданов, И.И. Бунаков-Фондаминский, П.А. Нилус и супруги Цетлины. С остальными представителями «бунинского окружения», а среди них и с И.М. Троцким, у писателя были отношения, которые мы характеризуем как «дружески-деловые».
Одним из самых ярких проявлений такого рода дружбы явилась деятельность Ильи Троцкого в кампании номинирования Бунина на Нобелевскую премию по литературе.
Нобелевские дни Ильи Троцкого: Синклер Льюис (1932)
Часто наезжая в Стокгольм, И.М. Троцкий как журналист, естественно, обзавелся в столице симпатичной ему Швеции широким кругом важных для него в профессиональном плане знакомств. Его первые контакты с деятелями шведской культуры, как отмечалось выше, относятся к началу 1910-х. Сложившиеся в молодости дружеские и деловые отношения Троцкий, посещавший Стокгольм и в весьма преклонном возрасте, бережно сохранял всю свою жизнь.
Наиболее известным из событий, регулярно происходящих в Стокгольме начиная с 1910 г., являются Нобелевские дни — комплекс торжественных мероприятий, сопровождающих церемонию вручения одной из самых престижных международных наград — Нобелевской премии. Вручение премии проходит ежегодно. Она присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества. Ее основателем был Альфред Нобель — шведский химик, инженер и изобретатель, на счету которого 355 изобретений (самое известное среди них — динамит). За свою жизнь Нобель накопил внушительное состояние (большую его часть он получил как раз благодаря внедрению собственных изобретений), которое он и завещал на учреждение международной премии. Результатом этого завещания стала организация Нобелевского фонда. На сегодняшний день за присуждение Нобелевских премий во всех отраслях науки и культуры отвечают шведские организации. Исключением является Нобелевская премия мира — кому присудить эту награду, решает Норвежский Нобелевский комитет. Процедуре награждения номинантов предшествует большая работа, которая ведется круглый год многочисленными организациями по всему миру. Окончательный отбор лауреатов проводят шведская Королевская академия наук, Шведская академия, Нобелевская ассамблея Каролинского института и Норвежский нобелевский комитет . Обычно это происходит в октябре. А 1о декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля (1896), лауреатов награждают в столицах сразу двух стран. В Стокгольме король Швеции вручает премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики. В Осло, в городской ратуше, в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи, председатель Норвежского Нобелевского комитета вручает премию в области защиты мира. Наряду с денежной премией, размер которой меняется в зависимости от дохода, полученного Нобелевским фондом, лауреатам вручается золотая медаль с изображением Нобеля и диплом. Нобелевские премии имеют большой международный престиж и, кроме того, оказывают лауреатам значительную экономическую поддержку. Помимо самой церемонии вручения премии торжества, посвященные этому событию, включают в себя еще две важных составляющих — Нобелевский ужин и Нобелевский концерт.
История Нобелевской премии по литературе — одной из наиболее престижных и в то же время спорных международных наград в мире, подробно обсуждается в монографии Татьяны Марченко176. Что же касается Ильи Троцкого, то в контексте «нобелианы» он является единственным русским публицистом, который был лично знаком со многими лауреатами Нобелевской премии — Бьернстьерне Бьернсон, Гауптман, Гамсун... и, что особенно интересно с историко-литературной точки зрения, оставил яркие портретные зарисовки ряда писателей (С. Льюис, И. Бунин, Л. Пиранделло), сделанные непосредственно в их нобелевские дни — на самой вершине их мирового литературного успеха. Синклер Льюс был первый нобелевский лауреат, с которым журналист познакомился непосредственно в дни торжеств по случаю вручения ему Нобелевской премии. В статье «Среди нобелевских лауреатов»177 И.М. Троцкий отмечал, что «на нобелевских торжествах» он был «случайным гостем». Это не помешало ему, однако, самым внимательным образом вникнуть в атмосферу нобелевской закулисы, о чем речь пойдет ниже. Кроме того, И.М. Троцкий имел возможность побеседовать с самим новоиспеченным лауреатом, о чем оставил любопытный исторический документ — статью «Встреча с Синклером Льюисом»178.
По всей видимости, Илья Троцкий был единственным представителем русской эмигрантской прессы, которому посчастливилось общаться с американским писателем, бывшим в 1920-1930 гг. кумиром леволиберальной интеллигенции и, кстати, весьма чтимым в СССР.
В наше время Синклера Льюиса знают главным образом историки литературы, но в период между двумя мировыми войнами его популярность была исключительной. Мастер социального романа, он выступал как остроумный критик «американского образа жизни», делячества, прагматизма страны, чьи достижения в технической области контрастировали с культурной скудостью. Стала популярной фраза Льюиса «Я люблю Америку, но она мне не нравится»179.
Знаменитый американский литературный критик Генри Луис Менкен назвал его «анатомом американской культуры», а авторитетный историк американской литературы XX столетия Джеймс Лундквист считал, что:
Льюис вошел в литературу как раз в тот момент, когда вопиющая американская безвкусица XX в. становится очевидной даже для самих американцев. Когда <он> описывает, что происходит в малых и больших городах с домохозяйкой, бизнесменом, ученым, пастором, промышленником, он тем самым избавляет нас от страха, который преследует нас повсюду180.
В своем знаменитом романе «Эроусмит» Синклер Льюис сказал, что, по его мнению, «критика — хорошая вещь, если только она не злобна, не завистлива, не мелочна...» И.М. Троцкий в этом отношении вполне мог рассчитывать на симпатию американского писателя, который в литературном плане, скорее всего, был ему не очень то интересен, однако как человек явно понравился. Несомненно, что ему импонировав ла активно проявляемая Льюисом антифашистская позиция, его социалистические взгляды, приверженность к либерально-демократическим ценностям. К тому же И.М. Троцкий не заявлял себя на почве литературной критики. Как отмечалось выше, он — очеркист, бытописатель, мастер актуальнаго репортажа и свидетель времени. Его статья о Синклере Льюисе — живой портрет, схваченный на ходу острым глазом опытного репортера-газетчика, без последующих проработок и лессировок, — ценный исторический документ:
По типу Синклер Льюис — рядовой американец, со всеми особенностями подлинного янки. Тонкий, изящный, эластичный, с чрезвычайно подвижным и моложавым лицом, ему никогда нельзя дать его сорока семи лет. На первый взгляд Синклер Льюис производит впечатление спортсмена или профессионального футболиста. И только некоторая асимметричность в лице и его правый как будто неправильно посаженный и пристально присматривающийся глаз привлекают к нему внимание. Человек богемы по натуре и глобтроттер181 по влечению, Льюис чужд тому, что принято называть манерами. Он держится со всеми и везде не только просто, но и весьма свободно, будто находясь в интимном кругу друзей. Так и ждешь, что он по американской манере вот-вот положит ноги на стол. За кафедрой минуты спокойно не постоит. Расхаживает по подиуму, жестикулирует, пребывая в постоянном движении. Вынужденный сидеть за бесконечными банкетными чествованиями, он и тогда успокоиться не может. Его рука, вооруженная пишущим пером, набрасывает на картах меню эскизы, шаржи и карикатуры. И в этом отношении Синклер Льюис недурной мастер. Свои автографы он иллюстрирует автокарикатурою. На иностранных языках Льюис почти не говорит. По-немецки кое-как объясняется. Там, где ему не хватает слов, ему приходит на помощь супруга. Миссис Льюис хорошая журналистка, живо интересующаяся европейской жизнью. Но она заметно держится в тени, избегая греться в лучах славы мужа. На чинных и корректных шведов Льюис производит впечатление сумбурной натуры. Их немного шокирует отсутствие у него манер и некоторая артистическая фривольность в обращении. Но как радушные и гостеприимные люди — стараются этого не показывать. <...> Чествуют и закармливают его, а заодно и тех, кого приглашают в качестве гостей на чествования, до невероятного. Бедняга Льюис не вылезает из смокинга и фрака. Прошлогоднему лауреату — Томасу Манну — писателю с неменьшим художественным весом и именем — далеко не оказывали такого внимания. <...> Объясняется это личностью того и другого писателя. Томас Манн слишком замкнут, глубок и, если так можно выразиться, маститен. Совсем иной — Синклер Льюис. Он доступней, проще и в нем ровно ничего нет от небожителя божественного Парнаса. В этом, вероятно, кроется залог внимания и интереса, которые к его личности обнаруживают потомки викингов. <...> <Однако> шведов <смущает> шум, поднятый американской печатью вокруг имени нобелевского лауреата, в связи с его сенсационной и малопочтительной для Америки лекцией.
Синклеру Льюису Нобелевская премия по литературе была присуждена «за мощное и выразительное искусство повествования и за редкое умение с сатирой и юмором создавать новые типы и характеры». В приветственной речи член Шведской академии поэт Эрик Карлфельдт сказал:
Да, Синклер Льюис — американец. Он пишет на новом языке — американском, на языке 120 млн. человеческих душ. Новая американская литература начала с самокритики. Это признак здоровья. У Синклера Льюиса характер первых переселенцев. Он — настоящий американский первопроходец.
Сам же лауреат в своей Нобелевской лекции, названной им «Страх американцев перед литературой»182 и являвшейся по существу обзором новой американской литературы, сделав комплимент интеллектуальному истеблишменту Скандинавии, подверг критике американский «образ жизни», где большинство боится любой литературы, кроме той, которая превозносит все американское, в равной степени недостатки и достоинства.
Интересно, что в своей речи Льюис, говоря об успехе молодой американской литературы, помянул добрым словом среди прочих и будущих нобелевских лауреатов — Юджина О'Нила, Уильяма Фолкнера и Эрнста Хемингуэя, а также, что было особенно приятно И. Троцкому, Майкла Голда, «который открывает новые горизонты в еврейском Ист-Сайде»:
Вы читали, конечно, мнение нью-йоркской и вашингтонской прессы по поводу моего выступления? Меня не берут всерьез и мне рекомендуют отправиться к профессору Фрейду, чтобы поискать исцеления в психоанализе. Я, мол, одержим самоуничижением... Впрочем, то ли меня еще ждет по возвращении на родину! <...> моей лекции американцы мне не простят. Что бы сейчас в Соединенных штатах ни случилось, повинен буду я. Падут биржевые ценности — виноват Льюис. Возрастет безработица — вина противного Синклера Льюиса. Сократят заводы и фабрики производство — опять причиной буду я. <...> Во всем и за все понесу вину я. Конечно, это гипербола! Но по существу это почти так... Нужно знать наши американские нравы, чтобы понять, насколько там нетерпимы к свободному волеизъявлению и независимой мысли.
<...> Вам, конечно, знакома книга Драйзера о России. Знаю, что в эмигрантских русских кругах она хорошего впечатления не произвела. Драйзер романтик. Прежнюю Россию он знал смутно и по дурной наслышке. Советский Союз он посетил в эпоху разгара революционного романтизма и все, конечно, видел в бенгальском освещении183. <...> Моя жена собирается в Россию. <...> Что увидит и каковою найдет <она> новую Россию, покажет будущее. Ведь Россия сейчас находится в состоянии стройки, в момент высшего напряжения народных способностей и сил. Этот процесс любопытно наблюдать и запечатлеть.
Здесь стоит прерваться, чтобы сказать несколько слов о жене Синклера Льюиса Дороти Томпсон — писательнице, ярком журналисте и либеральном общественном деятеле, имевшей в свое время титул «первая леди американской журналистики». В 1924-1928 гг. она возглавляла Центральное европейское бюро журналистов в Берлине. Была в числе первых, кто предупреждал об опасности растущего нацистского движения в Германии. Автор документальной книги о Гитлере — «I saw Hitler», в которой на основе своего интервью с будущим диктатором дала весьма нелицеприятную оценку его личности:
Он бесформенный, безликий, с карикатурным выражением лица. Его тело выглядит так, будто оно полностью состоит из хрящей, словно в нем нет ни одной кости. Он непоследовательный и болтливый, неуравновешенный и неуверенный. Он являет собой эталон маленького человека184.
В многочисленных публикациях и радиопередачах она требовала запретить в США деятельность пронацистского Германо-американского союза. В 1934 г. была выслана из Германии по личному указанию Гитлера, в 1939 г. получила второй номер в рейтинге самых влиятельных женщин Америки — после жены президента США Элеоноры Рузвельт, по версии журнала «Тайм» («Time»), а в 1941 г. опубликовала знаменитый памфлет «Кто станет нацистом?» («Wo goes Nazi?»), где дала и по сей день звучащее актуально определение человеческому типу, склонному к восприятию подобного рода идеологии:
Поверьте мне, хорошие люди не становятся нацистами. Национальность, цвет кожи, религия, статус — не важны. Все зависит от того, что внутри человека.
Нацистом станет тот, внутри кого нет ничего, помогающего отличить, что ему нравится, а что нет. Этим «чем-то» может быть семейная традиция, мудрость, кодекс поведения, простое счастье — годится любой старомодный или новый способ185.
В ноябре 1927 г. Дороти Томпсон одновременно с Теодором Драйзером посетила Москву, где провела несколько дней. По возвращении в США, она издала в 1928 г., на несколько месяцев раньше, чем Драйзер, книгу «Новая Россия»186, написанную, в отличии драйзеровской, без излишней политической ангажированности. В обеих книгах встречались одинаковые материалы, почерпнутые авторами из одних и тех же источников, что позволило журналистке выдвинуть против Драйзера обвинение — несправедливое — в плагиате.
Следующая поездка Дороти Томпсон в Россию не состоялась и вскоре, из-за своего критического отношения к коммунизму, она, как и в нацистской Германии, стала в СССР персоной нон-грата. Что касается Драйзера, то именно он считался в прессе наиболее вероятным кандидатом на Нобелевскую премию по литературе.
Уже став лауреатом, Синклер Льюис в беседе с И.М. Троцким не преминул подчеркнуть:
Я, конечно, чрезвычайно горд присуждением мне премии, но столь же отлично знаю, что Драйзер не в меньшей степени в праве был ее получить.
Драйзеру, уже примерявшему нобелевские лавры, суждено было пережить унизительное разочарование. Человек не очень сдержанный, он при первой же личной встрече с вернувшимся из Стокгольма Льюисом набросился на него с кулаками. Естественно, это не осталось без внимания прессы Возвращаясь к интервью Ильи Троцкого с Синклером Льюисом, отметим, что постоянно направлявший ход беседы журналист в удобный момент привлек внимание новоиспеченного лауреата к своей коронной теме — русской литературе. Синклер Льюис проявил должную начитанность:
Кое-что из новой русской литературы я читал. Знаком и с классической русской литературой. Читал Толстого, Достоевского, Горького и Чехова. Знаю, что русская литература гениальна и могуча, но правильной оценки ей дать не решаюсь. Я недостаточно для этого авторитетен. Имела ли на мое творчество влияние русская и вообще иностранная литература — не думаю.
В заключение своей беседы с русским журналистом Льюис рассыпался похвалами необыкновенному шведскому радушию и хлебосольству, утверждая, что ничего подобного он «никогда и нигде не встречал». И.М. Троцкий, неизменно певший дифирамбы скандинавским странам, особенно Швеции, с явным удовольствием процитировал характеристику, данную нобелевским лауреатом как этому северному королевству:
Вот уж доподлинно счастливая страна «молочных рек и кисельных берегов», — так и Скандинавии в целом:
Это и впрямь «санаторий Европы».
Напомнив еще раз читателям, что Синклер Льюис простой и доступный человек, И.М. Троцкий на сей оптимистической ноте поставил точку в своей статье. На закате своей жизни, став гражданином США и проживая в Нью-Йорке, И.М. Троцкий, регулярно публикуя свои воспоминания о людях и встречах, ни разу, как это ни странно, не упомянул такое важное в плане истории русско-американских культурных контактов событие, как его интервью с Синклером Льюисом.
Что касается самого американского писателя, то пережив свою славу и, увы, окончательно спившись, он скончался в 1951 г. в Италии от сердечного приступа.
Нобелевские дни Ильи Троцкого: «Буниниана» (1933)
Итак, в берлинский эмигрантский период И.М. Троцкий заявил себя в особого рода области подвижнической деятельности — он стал ходатаем по делам русских писателей в изгнании. Конечно, это была не «должность» в какой-либо из эмигрантских общественных организаций, а «миссия», осознаваемая им как долг или личное обязательство перед русской литературой.
В эти годы, будучи в самом расцвете сил, И.М. Троцкий, активно подвизался во многих сферах деятельности, в том числе и на поприще прославления русской литературы. Впоследствии, когда «пришло время собирать камни», он как одно из самых ярких событий своей жизни вспоминает именно «нобелевские дни»187 двух последних месяцев 1933-го. В Стокгольме тогда чествовали первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Алексеевича Бунина.
И вот, 15 сентября 1950 г. свое первое после более чем десятилетнего перерыва письмо к Вере Николаевне Муромцевой-Буниной он начинает с напоминания:
Дорогая Вера Николаевна! Прочтя мою подпись, вероятно, вспомните и меня. Воскреснут перед Вами, быть может, и невозвратные стокгольмские дни, когда мы вместе праздновали получение Иваном Алексеевичем Нобелевской премии. Увы, много воды с тех пор утекло и много тяжкого пережито188.
«Нобелевские дни» Бунина занимают в жизни и памяти Ильи Троцкого особое место еще и потому, что это был и его личный триумф: своими статьями в парижской газете «Последние новости» и рижской «Сегодня»189 он дал старт последней «избирательной кампании» в пользу Бунина, которая через три года завершилась триумфом.
Бунин и его домочадцы уже жили тогда на юго-восточном курортном побережье Франции — Лазурный берег, Cote d'Azur. В старинном городке Грасс они арендовали виллу «Бельведер», на склоне горы, покрытой оливковыми зарослями и виноградниками. В декабре 1930 г. мирное течение жизни в этой обители Бунина нарушили статьи Ильи Троцкого и вести из Стокгольма.
Именно тогда «вдруг» забеспокоилась русская диаспора, завязалась активная переписка. Галина Кузнецова записала в дневнике об «оглушившем их известии»: писатель объявлялся «самым вероятным кандидатом на будущий год». В публикации И. Троцкого «Среди нобелевских лауреатов (письмо из
Стокгольма)» довольно подробно описывалась церемония вручения Нобелевской премии 1930 г., излагались забавные подробности о речах Э.А. Карлфельдта и С. Льюиса, лауреата премии по литературе, и только затем шло сообщение о том главном, ради чего ведущая газета русского Зарубежья, прежде не демонстрировавшая интереса к знаменитой шведской премии, поместила материал своего стокгольмского корреспондента190:
И.М. Троцкий сообщал, что он,
Оказавшись случайным гостем на нобелевских торжествах, <благодаря> любезности президента стокгольмского союза иностранной печати, Сержа де Шессена, не преминул воспользоваться личными знакомствами, чтобы прозондировать почву относительно планов на получение премии представителем русской литературы. К сожалению, я не вправе назвать имен моих информаторов. Могу лишь засвидетельствовать, что мнение этих лиц являются решающими в нобелевском ареопаге.
— Синклер Льюис, — рассказывал мне один из членов Нобелевского комитета, — вероятно, изумится, узнав, что самыми серьезными его конкурентами в этом году были Бунин и Мережковский. Если русская литература до сих пор еще не удостоена премии, то в этом меньше всего повинны ее творцы. Нобелевский комитет и Шведская академия давно оценили величие русской литературы. Кто у нас не знает и не любит русскую литера-туру? <...>
Наше несчастье в том, что не один из активных членов комитета не владеет русским языком. Мы принуждены судить о русской литературе по переводам, и мне не нужно подчеркивать, что даже самый идеальный перевод далек от подлинника.
Наш референт по русской литературе, профессор-славист Копенгагенского университета Антон Карлгрен обратил внимание Нобелевского комитета на последний роман Ивана Бунина191, охарактеризовав его как крупнейшее художественное произведение последних лет. Мы бросились было искать этот роман в немецком или французском переводе, но, увы, не наш
Пусть вас не изумит, если я скажу, что среди членов комитета большинство за присуждение премии русской литературе. <...> Профессор Лундского университета Сигурд Агрелль официально предложил Комитету Бунина и Мережковского в качестве кандидатов, не решаясь, однако, дать предпочтение одному перед другим. Комитет оказался в тяжелом положении. Что делать?
Неделей позже на свет появилась статья в газете «Сегодня», где напрямую задавался вопрос «Получат ли Бунин и Мережковский Нобелевскую премию?» Выбор периферийной (в отличие от «Парижских новостей») газеты для подобного риторического обращения к русской эмигрантской общественности был обусловлен политикой ее редакции. «Сегодня» активно
участвовала в общей дискуссии, развернувшейся относительно того, будет ли премирован кто-нибудь из русских писателей, и если да, то кто именно. В числе наиболее вероятных претендентов тогда назывались И.А. Бунин, Д.С. Мережковский и М. Горький. И хотя газета напрямую не выражала своих симпатий, по ряду причин можно не сомневаться в том, что они были на стороне Бунина192.
В РАЛ193 хранится газетная вырезка статьи «Получат ли Бунин и Мережковский Нобелевскую премию?», сделанная Буниным. Вся она исчеркана «нотабене» — многочисленными цветными пометками Бунина, который, по свидетельству его бывших секретарей, Бахраха и Седых, любил подчеркивать отдельные фразы цветными карандашами, чтобы «оттенить значения слов».
Статья И. Троцкого начинается с напоминания о событиях тридцатилетней давности, когда первая Нобелевская премия по литературе, на которую был номинирован Лев Толстой, была присуждена второстепенному французскому поэту Сюлли-Прюдому. Как напоминает И.М. Троцкий, тогда:
Решение нобелевского жюри вызвало <...> большой шум в европейской печати. Шведская академическая молодежь бурно выражала свой протест демонстрациями. Если принять во внимание, что отношение Швеции к императорской России было по тому времени далеко не из дружеских, то ясна станет вся степень благородства порывов шведской молодежи. Воспитанная на крайней осторожности к империалистической и царской России, как к извечному и историческому врагу, она, в своих симпатиях к великому художнику и мыслителю, отмежевывалась от всякой политики. Лозунги оскорбленной <...> молодежи были четки и верны: — Нобелевский комитет не должен считаться со слухами. Толстому, как величайшему из писателей, принадлежит первенство в награждении премией194.
Далее И.М. Троцкий обращает внимание на вызывающий для русской культуры факт:
Удостоились премий германская, австрийская, итальянская, французская, скандинавская, испанская, ирландская, индусская и польская литература. Обойдена только русская литература. <...> давшая крупнейших художников пера, переведенная на все почти языки культурного человечества. <...> Почему? Где кроются причины столь обидного отношения к русской литературе?
Однако, как человек здравомыслящий и прагматичный, предпочитает не сыпать соль на рану, а искать возможности исправить сложившуюся ситуацию.
Я использовал свое случайное пребывание в Стокгольме, — пишет он, — чтобы среди лично мне знакомых членов Нобелевского комитета <...> позондировать почву относительно шансов русской литературы на премию.
Можно с уверенностью полагать, что «среди лично мне знакомых» И.М. Троцкий имеет в виду тех представителей шведской интеллектуальной элиты, с которыми он сошелся в годы Первой мировой войны, когда был главным иностранным корреспондентом газеты «Русское слово» по Скандинавии. Напрасно русские читатели думают, будто шведы не любят русскую литературу, а Нобелевский комитет игнорирует современных русских писателей:
Наоборот, то, что мне пришлось услышать из уст членов стокгольмской академии и жюри преисполнило меня самыми радужными надеждами. Быть может, уже в ближайшем году один из русских писателей будет увенчан лаврами лауреата и получит литературную премию».
Один из членов комитета, неназванный по имени собеседник И.М. Троцкого, уверяет:
в присуждении премий мы стараемся сохранить максимальную объективность, руководствуясь единственным стимулом, чтобы произведения того или другого писателя соответствовали воле завещателя. Другими словами, чтобы в произведении доминировал идеалистический элемент. Русская литература насквозь идеалистична и всецело отвечает требованиям завещателя. Конечно, советская литература, невзирая на наличие в ее рядах несомненных талантов, исключается, ибо там, где социальный заказ доминирует над общечеловеческими идеалами и идеализмом, не может быть речи о выполнении воли основоположителя фонда, противоположная в этом вопросе — М.У.> позиция Горького исключила его из списка кандидатов на премию».
Это был профессор литературы, критик и писатель Фредрик Беек, с которым И.М. Троцкий был хорошо знаком: в 1926 г. опубликовал в берлинской газете «Дни» пространное интервью с ним, где утверждал, что неоднократно беседовал «с этим глубоким и интересным писателем», «властелином дум скандинавской интеллигенции». В газетной вырезке этого интервью195 рукой Бунина отмечены цветными карандашами абзацы, в которых дается самая высокая оценка Максиму Горькому:
Лично я полагаю, что Горький почти гениален в наивной простоте своего творчества. В этом его огромное влияние на читательские умы,
— но весьма сдержанная и осторожная ему самому:
Вот я на днях прочитал «Митину любовь» и «Господин из Сан-Франциско» Ив. Бунина. Отличные произведения. Но Бунин очень сложен, глубок и... пессимистичен. Его нелегко восприять. Читая его, кажется, что сбираешься на крутую гору. Кругом все сурово, строго и предостерегающе. Горького читаешь, в Бунина вчитываешься. Быть может, моя оценка слишком субъективна и мысль недостаточно ясна, но таково мое восприятие.
Бунин также пометил для себя отзыв Ф. Беека о горячо любимом Чехове:
Чехов стоит у нас особняком. Его читают с удовольствием, но в Скандинавии им не так увлекаются, как, например, в Англии. Там сейчас Чехов популярнейший писатель. Англичане поклонники юмора и они особенно оценили эту сторону таланта покойного писателя.
Что касается мнения автора статьи о шансах на получение Нобелевской премии Горьким, то И.М. Троцкий, относившийся к этому писателю неприязненно по причине его большевицких симпатий, тем не менее старается не привязывать политику к оценке литературных достоинств горьковских произведений, что, несомненно, характеризует с лучшей стороны его собственную персону.
Через три года в статье «Оскорбленная литература»196, написанной по случаю присуждения Томасу Манну Нобелевской премии по литературе, И.М. Троцкий не только сетует на замалчивание русской литературы, но и вскрывает политическую подоплеку этой вопиющей несправедливости:
Автор знаменитых «Будденброков» вошел пятым германским лауреатом литературы в мировой «Пантеон» всечеловеческой культуры. <...> Радость и гордость Германии понятны. Литературные заслуги Томаса Манна бесспорны и едва ли где-либо присуждение ему премии встретит возражения. <...> И все же решение шведской академии в душе русского человека оставляет горький осадок. И в этом году, как и во все 29 лет существования Нобелевского комитета, русская литература обойдена. <...> Целые поколения скандинавских писателей воспитывались на русской литературе, ею восторгались и ей подражают. Не только Тургенев, Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов, но и ряд других ныне здравствующих мастеров пера царят над умами скандинавцев . Их переводят, издают, читают.
Почему же русские писатели игнорируются? Никто не умаляет культурного и художественного веса германской литературы. Неужели, однако, среди русских писателей нет ни одного достойного нобелевской премии?
Затем, ссылаясь на авторитет профессоров Антона Кал-грена — «слависта Копенгагенского университета» и опять-таки Фредрика Беека, И.М. Троцкий сообщает, будто оба они,
...члены Нобелевского комитета, отлично знающие русскую литературу, давно стараются провести русского кандидата.
Далее журналист делится с читателями информацией, которая и по сей день представляет историко-культурный интерес:
Еще покойный Стриндберг, как он мне об этом рассказывал197, ратовал за присуждение премии Горькому. И если Горький снова числится только в кандидатах, то это исключительно — его собственная вина. <...> Пресмыкательство Горького перед большевиками оттолкнуло от него не только друзей, но и поклонников его таланта. <...>
К сожалению, и по отношению к И.А. Бунину в комитете создалась неблагоприятная атмосфера. Бунину ставят в укор преобладание в его творчестве политических настроений и симпатий. <...> сознательный отход от «идеалистической цельности творчества в сторону политики.
Ни о Бальмонте, ни о Мережковском этого сказать нельзя, но и они остались за бортом. Очевидно, их сочли недостаточно еще маститыми.
В заключение статьи И.М. Троцкий делает неутешительные выводы:
...причина забвения творцов современной русской литературы кроется в общей русской трагедии. С тех пор, как в сознании Европы Триэсесэрия заменила Россию, европейское общественное мнение находится на распутье. Кто представляет русскую литературу? Те ли писатели, которые работают в условиях «социального заказа», или изгои-художники, ютящиеся по мансардам Парижа, задним дворам Берлина или углам Праги? <...>
Томас Манн увенчан нобелевской премией благодаря усилиям германской печати. Это ее заслуга.
Увы, нет России и нет русской печати! Зарубежная русская печать недостаточно влиятельна и авторитетна для такого ареопага как Нобелевский комитет.
По мнению И.М. Троцкого, советская Академия наук, имевшая согласно Уставу Нобелевского фонда официальное право выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию, не обладала должным авторитетом в глазах Нобелевского комитета. Поэтому он особо подчеркивает, что «Томаса Манна предложила в кандидаты не берлинская Академия», а германская общественность — в частности, университетские профессора истории литературы и языкознания и литературные организации — при широкой поддержке германской печати. «Беспочвенная» русская эмигрантская печать, к сожалению, не в состоянии была на мировом уровне отстаивать интересы отечественной литературы.
Тем не менее, сам журналист, несмотря на свою пессимистическую оценку ситуации, настойчиво продолжает борьбу «за русского Нобеля». Ровно через год Ф. Беек, фигурировавший в статье И. Троцкого «Получат ли Бунин и Мережковский Нобелевскую премию?» как некий член Нобелевского комитета, в заключение своей беседы с журналистом поет прямо-таки дифирамбы величию русской литературы, уверяя собеседника, что
В любом интеллигентном шведском доме вы найдете Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова, Горького. У нас увлекаются и зачитываются Мережковским. Нобелевский комитет и шведская академия давно оценили величие русской литературы.
По его словам, между Нобелевской премией по литературе и достойным ее современным русским писателем имеется только одна преграда — советская Россия.
Мы отлично знаем, что присудив премию русскому писателю-эмигранту, поставим наше правительство, признавшее советскую власть, в щекотливое положение. Тем не менее, комитет не намерен с этим считаться, ибо внутренние русские дела его не касаются.
В приведенной цитате бросается в глаза, что знаменитый шведский историк литературы, выстраивая линию великих русских писателей, последним из них называет Горького. Мережковского же он относит к категории «популярных» писателей, а о Бунине не говорит ни слова.
В свою очередь, сам И.М. Троцкий делает акцент на том, что в очередной раз «чистое искусство» оказывалось игрушкой в руках политиканов. История со Львом Толстым, которого не пожелала выдвинуть на Нобелевскую премию Императорская академия наук, через двадцать лет повторялась по другому сценарию и с иной политической подоплекой.
Но с моральной точки зрения, утверждает Троцкий, шведы были чисты, ибо никакой личной неприязни к русской литературе не питали. Рассказав об этом читателям «Сегодня», он подчеркнул также твердое намерение членов Нобелевского комитета не уступать давлению Кремля, который по дипломатическим каналам стремился не допустить присуждение премии русскому писателю-эмигранту. Москва лоббировала Горького и Шолохова, чьи переводы издавались в Швеции198. Троцкий также поведал читателю, что ему известно о высокой оценке эксперта Нобелевского комитета по славянским литературам Антона Калгрена произведений Бунина и Мережковского, и в заключение призвал эмигрантскую общественность «поторопиться с выставлением кандидатуры русского писателя на ближайший год».
Поставив перед эмигрантским сообществом сакраментальный вопрос:
Неужели у русских писателей в эмиграции не найдется достаточно друзей, чтобы выступить с надлежащим предложением достойного кандидата?
— И.М. Троцкий, по существу, инициировал процесс номинирования представителей русской литературы в изгнании на Нобелевскую премию. По утверждению самого Бунина, после корреспонденции И. Троцкого чуть ли не все кинулись выставлять свои кандидатуры и при посредстве своих почитателей выставили их199.
Конечно, это гипербола. Ревнивые переживания Бунина по этому поводу касались Мережковского, у которого на деле не было поддержки со стороны западных писателей и филологов, и Ивана Шмелева, чью шансы были, напротив, весьма велики: его номинировали на Нобелевскую премию профессор Лейденского университета Николас ван Вейк — очень авторитетный ученый-славист, а также Томас Манн200. Известно, что Бунин был почти в отчаянии из-за того, что ни 1931-й, ни 1932-й не принесли ему звания лауреата. К тому же в Швеции его почти не издавали. В октябре 1933 г. он, «томясь предчувствием», записал в дневнике:
Вчера и нынче невольное думанье и стремленье не думать. Все-таки ожидание, иногда чувство несмелой надежды — и тотчас удивление: нет, этого не м<ожет> б<ыть>! Главное — предвкушение обиды, горечи. И правда непонятно! За всю жизнь не одного события, успеха (а сколько у других, у какого-нибудь Шаляпина напр<имер>!). Только один раз — Академия201. И как неожиданно! А их ждешь...202.
И вот тут, в тягостной атмосфере надежды и предвкушения «обиды, горечи» пришло еще одно довольно убедительное подтверждение самого Троцкого о возможной кандидатуре И.А. на Нобелевскую премию и с ним письмо Полякова-Литовцева, в котором тот указывает кое-какие пути и предлагает свои услуги203.
И.М. Троцкий не ограничился одними призывами, а стал энергично действовать в составе «команды поддержки» кандидатуры Ивана Бунина, во главе которой стоял Марк Алданов. В дневнике В.Н. Буниной от 26 декабря 1930 г. записано204: «Из письма <И.М.> Троцкого <С.Л.> Полякову<— Литовцеву>205:
Все сообщенное мною относительно Бунина и Мережковского — абсолютная истина. Информацию я получил от шведского историка литературы и критика, члена нобелевского комитета, профессора Фридрика Беека. Не назвал его имени в корреспонденции, ибо он меня об этом просил, и я лояльно его просьбу выполнил. Больше того! Фридрих Беек дал мне свою карточку к проф<ессору> Лундского университета Зигурду Агреллю, дабы я с ним познакомился и побудил снова выставить кандидатуру И.А. Бунина. Конечно, я это сделаю. Сознательно написал корреспонденцию для «Последних новостей, понимая огромность ее значения. <...> Посещу также Копенгагенского проф<ессора> Антона Калгрена, с которым намерен побеседовать относительно кандидатуры Бунина и Мережковского. Все это, как видишь, чрезвычайно серьезно. Друзья Бунина должны взяться за дело!
С учетом вышеназванных статей в «Сегодня» письмо И. Троцкого Полякову-Литовцеву — его машинописная копия, по всей вероятности, присланная адресатом «для сведения» Бунину, хранится в РАЛ — было написано им раньше декабря 1930 г. В любом случае, «еврейское лобби» — Марк Алданов, Серж де Шессен206, Соломон Поляков-Литовцев и ИМ. Троцкий, с 1931 г. начало мощную кампанию поддержки кандидатуры Бунина в кулуарах Нобелевского комитета и Шведской академии. Следует отметить, что Марк Алданов и Соломон Поляков-Литовцев начали заниматься «пробиванием» Нобелевской премии для Бунина уже в 1922 г., когда в русском Зарубежье впервые был поднят вопрос о желательности присуждения «нобелевки» русскому эмигрантскому писателю. В письме от 8 сентября 1922 <Алданов> сообщает Бунину:
...Не хотел отвечать Вам до разговора с С. Л. Поляковым, которого я повидал только вчера... Сол. Львович обещал принять со мной деятельное участие в агитации о Нобелевской премии. Мы условились, что он будет писать об этом деле в «Берлинер Тагеблат», а я... в «Фоссише Цейтунг». Это две самые влиятельные газеты в Германии. Кроме того Поляков напишет Георгу Брандесу , с которым он был хорошо знаком, а я — Ром. Роллану...207
Естественно, из Стокгольма прилетали и информационные «утки». Так, 9 ноября 1932 г. З. Гиппиус пишет В.Н. Буниной:
Мы сегодня получили из Швеции, от одного осведомленного человека письмо, — спешу вам сказать, что шансы Ивана Алексеевича очень велики. Из 8о человек жюри многие стоят за Горького, но Ивана Алексеевича выдвигает влиятельная группа евреев, по словам корреспондента — большевитизирующих, т.к. против кандидатуры Д<митрия> С<ергееви>ча <Мережковского> они выдвигают слишком громкий его антисоветизм»208.
Оставив на совести Гиппиус, известной своей пристрастностью, ложную политическую характеристику — «больше-витизирующих» — хорошо ей знакомых друзей Бунина, отметим , что из числа евреев действительно влиятельных, точнее, пользовавшихся уважением в европейских литературных кругах, за Бунина особенно активно хлопотал его близкий друг Алданов. Он, в частности, предпринимал серьезные попытки склонить нобелевского лауреата 1929 г. Томаса Манна к обращению в Стокгольм с просьбой номинировать Бунина.
Судя по письмам Марка Алданова, бывшего исключительно настойчивым лоббистом бунинской кандидатуры, не только он сам, но и Лев Шестов, которого <Томас> Манн чрезвычайно ценил, также обращался к свежеиспеченному лауреату <Нобелевской премии> с ходатайством выставить кандидатуру Бунина209.
Однако тот реагировал с «любезной уклончивостью», т.е. по сути — отказом, что «проницательный Алданов» расценил как намерение «Т. Манна выставить кандидатуру другого русского писателя — Ивана Шмелева»210.
Хорошо осведомленный о подоплеке «нобелианы» Ивана Бунина, его тогдашний «личный секретарь» писатель Андрей Седых свидетельствует:
И.М. Троцкий, пользуясь своими связями в Швеции, вместе с журналистом Сергеем де Шессеном проделал большую закулисную работу в пользу И. Бунина211.
Одновременно на официальном фланге купно выступили маститые русские профессора — филологи и литературоведы, их коллеги, европейские ученые-слависты, и авторитетные на международном уровне общественные деятели русской эмиграции212. Они буквально «атаковали» Шведскую академию, «в которую поступило такое количество номинаций Бунина, которое превратило его из почти случайного кандидата в единственного фаворита среди выдвинутых на нобелевскую премию русских писателей»213.
Другой русский писатель, нацеливавшийся в начале 1930-х на Нобелевскую премию, Иван Шмелев, тоже имел сильную поддержку в русском и международном литературном сообществе. Потому известный философ Иван Ильин в январе
1931 г. предлагает ему начать «про-Шмелевскую кампанию на
1932 год. С подготовкою, с отовсюдной мобилизацией». Он планирует перевести статью Бальмонта «Горячее сердце» о Шмелеве, напечатать свой очерк о нем, обратиться за помощью к славистам.
Переберем славистов, подготовим дело и двинем. Мережковский есть одно дутое недоразумение. Но я не понимаю, как «человеческий идеал» или «идеализм» можно находить у Бунина. Мрачнейший из эпикурейцев; из всех прозрителей в человеческую бестиальность — нещаднейший; великий микроскопист элементарно-родового инстинкта214.
Последний пассаж возник в ответ на замечание Шмелева, что «Нобель оставил капитал для поощрения писателей, творчество которых проникнуто человеческим идеалом».
Иван Шмелев, тяжело переживавший бунинский успех (как, впрочем, и другие маститые эмигрантские литераторы), написал, тем не менее, витиеватое приветствие в адрес первого русского Нобелевского лауреата. В нем говорилось:
...Событие знаменательное. Признан миром русский писатель и этим признана и русская литература, ибо Бунин — от ее духа-плоти, и этим духовно признана и Россия, подлинная Россия, бессмертно запечатленная в ее литературе. Эта бессмертность — не вольное обращение со словом: воистину так и есть... Через нашу литературу, рожденную Россией, через Россией рожденного Бунина, признается миром сама Россия, запечатленная в письменах215.
Мечта стать героем подобного «знаменательного события» не оставляла Ивана Шмелева вплоть до конца его дней. Но что особенно, в контексте данной статьи, знаменательно — это его интерес к личности И.М. Троцкого, о лоббистской роли которого в «нобелиане» Бунина он был, по всей видимости, хорошо осведомлен. Так, в своем письме к М.С. Мильруду, редактору рижской газеты «Сегодня», он пишет216:
И еще очень прошу справочку: хотелось бы мне запросить кой о чем Вашего интересного сотрудника И. Троцкого (северные страны), как его имя-отчество, фамилия и адрес. Вы подумаете, должно быть, что Шмелев интересуется «нобелевскими теснинами»? Нет, я интересуюсь северными издательствами <...>. А впрочем — почему бы мне не интересоваться и нобелевскими теснинами? Плох тот солдат, который и т.д. А говоря серьезно — помощь советом северного собрата для меня очень серьезна.
Сегодня, когда жаркие страсти «нобелианы» И.А. Бунина превратились в холодный пепел воспоминаний, видно, что Нобелевский комитет, выбрав его кандидатуру, принял единственно верное решение. Максим Горький — наиболее известный после Льва Толстого и востребованный в мире русский писатель первой половины XX в. — стал жертвой своего собственного политического выбора и вместо последнего классика русской литературы занял в культурологическом табеле о рангах место «основоположника соцреализма». До Нобелевской премии эта новая литература должна была еще созреть. Датой зрелости советской литературы, когда она в глазах Нобелевского комитета стала феноменом общемировой культуры, можно считать 1965 г. — тогда лауреатом Нобелевской премии стал Шолохов.
Таким образом, Бунин оказался последним классиком великой русской литературы.
Первым, кто сообщил Бунину о косвенных свидетельствах того, что ему будет присуждена Нобелевская премии, был Борис Зайцев. В своем взволнованном письме от 4 ноября 1933 г. он информировал своего друга, что его лично запрашивали из Шведской академии о гражданстве И. Бунина. А 1о ноября 1933 г. уже И.М. Троцкий писал И.А. Бунину:
Дорогой Иван Алексеевич! Вы себе приблизительно представляете обуявшую нас радость, когда Сергею Борисовичу по телефону сообщили о присуждении Вам Нобелевской премии. Сергей Борисович <имеется в виду Серж де Шессен — М. У.> впал от радости в неистовство. Бушевал от счастья. <Сейчас> Сергею Борисовичу и мне приходится принимать за Вас поздравления. Поздравляют и шведы, и немцы, и русские. И вообще, кто вас читал, и кто даже не читал. <...> Большевики негодуют. Еще бы! Не Горький, а Бунин удостоен премии. Есть от чего приходить в раж! Три года мы ждали этого праздника и, наконец, он пришел! Еще раз от души и искреннее Вас поздравляю. Счастлив за Вас, дорогой Иван Алексеевич, и горд за русскую литературу, давшую и нам своего лауреата. Крепко жму руку и до скорого свидания. Ваш И. Троцкий217.
Когда стало известно, что Нобелевским лауреатом по литературе за 1933 г. объявлен Иван Бунин, редакция «Сегодня» приняла эту весть с явным воодушевлением. Писателю тотчас была отправлена поздравительная телеграмма. На страницах «Сегодня» и ее «дочерних» изданий — газет «Сегодня вечером» и «Сегодня в Латгалии» — в ноябре-декабре 1933 г. было напечатано более 50 разных материалов (статей, заметок, отчетов, очерков, корреспонденций, объявлений), так или иначе связанных с присуждением писателю Нобелевской премии218.
Первая статья И.М. Троцкого, в которой сообщалось о реальных шансах Бунина на Нобелевскую премию, появилась в парижской газете «Последние новости»219 8 ноября 1933 г. Затем, 7 декабря, уже постфактум, И.М. Троцкий публикует в рижской газете «Сегодня» статью с многозначительным названием «Присуждением премии Бунину шведская академия искупила грех перед русской литературой. В ней автор, рассказывая читателям об истории основания шведской Академии, работе Нобелевского комитета, дает также подробную характеристику личности его докладчика по славянским литературам А. Карлгрена220, который долгие годы занимался публицистической деятельностью и возглавлял в течение нескольких лет очень влиятельную в Сток-гольме демократическую газету «Dagens Nyheter»221. Его очерки о советской России, которую он исколесил вдоль и поперек, закрепили за ним авторитет непревзойденного аналитика советского быта и создали ему немало врагов в Кремле. Русский язык и русскую литературу Антон Карлгрен прекрасно знает и любит. Русская проза и поэзия им изучены не в переводах, а в подлинниках.
Весьма показателен — в контексте утверждения об обширных связях И.М. Троцкого в скандинавском литературном мире — такой пассаж из этой статьи:
Меня связывает с профессором Карлгреном давнишнее знакомство. Это он ввел меня в шведские литературные круги и познакомил с новейшей шведской литературой. Естественно, что, будучи в Копенгагене, я не преминул <...> навестить друга и поборника русской литературы.
Этот визит И. Троцкого к А. Карлгрену был по сути своей «итоговым». Шведский профессор, расточая славословия в адрес первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе, не преминул подчеркнуть свою роль в ее успешном завершении «нобелианы» 1933 г.: «я боролся за Бунина несколько лет». Далее И.М. Троцкий задает своим читателям риторический вопрос:
Вы спрашиваете, были ли другие нобелевские кандидаты? — Разумеется, были. Их имена и вам хорошо известны. Но к чему их называть? Может быть, один из них через несколько лет тоже окажется в рядах носителей венка лауреата. Русская литература столь богата талантами, что она вправе рассчитывать на эту честь.
Следующий венок достался русской литературе только через четверть века, но сам лауреат 1958-го — Борис Пастернак — под нажимом советских властей и в немалой степени из-за завистливого недоброжелательства своих коллег, маститых советских писателей, был вынужден отказаться от своей медали. Но в счастливом для русской литературы 1933 г. «спор славян между собою» на суде у «варягов» решило «еврейское лобби».
Absit invidia verbo!222 — однако, в первую очередь из-за постоянной юдофобской риторики отечественных «патриотов» всех мастей, автору настоящей книги представляется важным подчеркнуть, что входившие в состав «еврейского лобби» интеллектуалы (М. Алданов, С. Поляков-Литовцев,
А. Седых и И. Троцкий223), как «истинно» русские и при этом «достойные» люди, боролись за идею «подлинной России, бессмертно запечатленной в ее литературе».
Нельзя, однако, не учитывать при этом и тот факт, что «чистокровный русак» Бунин224, происходивший из старого дворянского рода, имел в эмигрантских кругах стойкую репутацию «юдофила», о чем, например, свидетельствует Александр Бахрах225:
Парижские антисемиты из «Возрождения», по его словам, прозвали его «жидовский батько» за его дружбу с евреями, за то, что в личных отношениях у него подлинно «несть эллина, ни иудея».
Что же касается эмиграции первой волны в целом, то царившее во всех ее слоях настроение адекватно выразил Дон Аминадо в своем стихотворении «Праздничные строчки»226:
Итак, в 1933 г. Иван Бунин стал первым русским лауреатом Нобелевской премии по литературе и одновременно первым человеком без гражданства из числа удостоенных этой высокой награды.
Подчеркнутое шведской газетой «Dagens Nyheter» глубоко символическое значение награждения Бунина:
Эта Нобелевская премия стала не просто заслуженной наградой большому мастеру слова, но оказалась поддержкой, вниманием к целому народу в рассеянии227,
— вполне может быть распространено и на последующих русских лауреатов-изгнанников, Солженицына и Бродского.
В знаменательном для русской литературы 1933 году шведы всячески и повсеместно демонстрировали свою симпатию по отношению к новоиспеченному лауреату и в его лице к русской эмиграции в целом.
Когда Бунин в сопровождении друзей, встречавших его на лионском вокзале, явился в отель, он скромно попросил комнату во внутреннем дворе. Директор отеля возразил, что готов предоставить нобелевскому лауреату роскошные апартаменты по цене комнаты во внутреннем дворике. То же самое и в русском ресторане <Корнилова> вечером: простой ужин, который заказал Бунину старый друг, вылился в настоящий банкет228.
Невиданные по своему размаху торжества по случаю награждения Бунина и то внимание, что оказывала его персоне шведская общественность, камня на камне не оставляют от стереотипного культурологического представления «об извечной русофобии шведов». Все события, связанные с «бунинианой», полностью подтвердили правоту И.М. Троцкого, горячо выступавшего против подобной точки зрения: см. эпизод в Гл. 8. «Максим Горький» о дискуссии на эту тему И.М. Троцкого с Луначарским, имевшей место в 1913 г. в доме Горького на Капри229.
И.М. Троцкий оставался горячим поклонником шведской толерантности и свободомыслия до конца своих дней и всегда писал о шведах в подчеркнуто комплиментарных тонах.
20 ноября 1933 г. И.М. Троцкий пишет М.С. Мильруду из Копенгагена230:
Дорогой Михаил Семенович!
Нобелевский комитет и группа друзей И.А. Бунина собираются его чествовать с особым блеском. Желательно, чтобы на чествованиях присутствовала и русская печать. Ввиду того, что «Сегодня» в Стокгольме своего корреспондента не имеет, надеюсь, что редакция не возразит, если я ее на торжествах буду представлять.
На днях возвращаюсь в Копенгаген и снова приеду в Стокгольм 4-5 декабря, т.е. ко времени приезда сюда И.А. Бунина. Кстати, я уже приглашен Нобелевским к<омите>том присутствовать на торжествах. Если редакция мое предложение принимает, то не откажите, дорогой коллега, поставить меня об этом в известность по моему Копенгаген<кому> адресу: Herr І.М. Trotzky, Pension Olesen, Amaliegade, 32, Kopenhagen.
Сообщите также, желательно ли редакции иметь только обыкновенные корреспонденции или также телефонную информацию? Вторая моя просьба иного порядка. Мне С.И. Варшавский сообщил, что Ф.И. Благов очень болен и в крайней нужде. Все бывшие «русскословцы» обязались его поддерживать minimum по 25 фр<анков> в месяц. Разумеется, я присоединился к этому решению. И вот, очень прошу Вас, дорогой Михаил Семенович, распорядиться в конторе, чтобы причитающийся мне гонорар за статью о Бунине231 («Сегодня» № от субботы 18.XI <...>) был по возможности скорее переведен Ф.И. Благову. <Указан адрес Благова>
В ожидании Вашего ответа, остаюсь с искренним приветом и крепким рукопожатием,
Ваш И. Троцкий.
В ответном письме от 23 ноября 1933 г. Мильруд благодарит Троцкого за «присылку весьма интересной статьи о Бунине», которую «мы с удовольствием <...> напечатали» и «за желание представлять «Сегодня» на нобелевских торжествах:
Очень просим Вас присутствовать при раздаче премий именно в качестве нашего представителя. Телефонировать или телеграфировать об этом не надо, так как у нас будут уже об этом подробные радиосообщения, но просим сейчас же после торжеств написать нам по возможности быстрее корреспонденцию.
Ваше желание о пересылке гонорара Федору Ивановичу будет, конечно, исполнено. Я лично тоже присоединился к этому фонду. Кто мог у нас думать, что судьба Федора Ивановича сложится так печально?
Сердечный привет от всей редакции.
Троцкий, однако, в день вручения Нобелевских премий все же отправил в «Сегодня» две телеграммы — «Шведский король вручил вчера И.А. Бунину Нобелевскую премию» и ««Кто я такой? — Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции», — заявил И.А. Бунин в своей речи в Шведской академии», которые были напечатаны в № 342 газеты от 11 декабря232.
В воспоминаниях самих Буниных233 «нобелевские дни» освещены весьма скупо, отрывочно. По-видимому, эмоциональное потрясение, которое они пережили, тот бурный поток всестороннего внимания прессы, взрыв радости и завистливого негодования в среде русской эмиграции, нескончаемые приемы, визиты, интервью, внезапное возвращение повседневного материального достатка. Ведь еще год тому назад 14 ноября 1932 г. В.Н. Бунина писала в своем дневнике234:
Четыре дня прошло со дня присуждения Нобелевской премии. От Ш<е>ссена письмо, в котором он выразил возмущение академиками и стыд за них. Значит, шансы Яна были велики и только не посмели. <...> Все-таки хорошо, что дана настоящему писателю, а не неизвестному. Но только он богат и, кажется, денег себе не возьмет. <...> Сердцем я не очень огорчена, ибо деньги меня пугали. Да и есть у меня, может быть, глупое чувство, что за все приходится расплачиваться. Но все же, мы так бедны, как, я думаю, очень мало кто из наших знакомых. У меня всего 2 рубашки, наволочки все штопаны, простынь всего 8, а крепких только 2, остальные — в заплатах. Ян не может купить себе теплого белья. Я большей частью хожу в Галиных <Г.Н. Кузнецовой — М.У.> вещах. <...> Ян спасается писанием. Уже много написал из «Жизни Арсеньева».
А тут вдруг огромная сумма денег, свалившаяся буквально с неба235:
В 1933 году, получив Нобелевскую премию — чек на 800.000 франков, Бунин передал 120.000 франков в фонд помощи бедствующим писателям-эмигрантам. Подарил 5000 франков нуждавшемуся А. Куприну, разным писателям дарил, кому тысячу, кому — две236.
Все эти эмоциональные потрясения притупили свойственную Буниным внимательность к повседневным деталям бытия и в памяти у них остались лишь самые яркие, но подчас второстепенные фрагменты тех дней.
Как вспоминал Андрей Седых,
Отъезд в Стокгольм был назначен на 3 декабря, но предстояло еще решить один важный вопрос: кто же будет сопровождать лауреата? Долго обсуждали, колебались. В конце концов, поехали: Бунин с Верой Николаевной, Г.Н. Кузнецова и я, в качестве личного секретаря и корреспондента нескольких газет237.
6 декабря 1933 г. Вера Николаевна Бунина записывает в дневнике:
В Стокгольме встреча — русская колония, краткое приветствие, хлеб-соль, цветы; знакомые <...> много неизвестных. Знакомства. Фотографы, магния и т.д. Прекрасный дом, квартира в четвертом этаже, из наших окон чудный вид. Напоминает Петербург. Комнаты прекрасные, мебель удобная, красного дерева. Картины. Портреты. <...> Был <Илья> Троцкий. Рассказывает, что за кулисами творилось Бог знает что. Кто-то из Праги выставил Шмелева. Бальмонт тоже был кандидатом, Куприн238 — но это не серьезные. Мережковский погубил себя последними книгами. Ян выиграл «Жизнью Арсеньева». <...> Дания выставляла Якобсона239 и пишет, «что Бунин это тот, кто помешал нашему писателю увенчаться лаврами». Ян вернулся из турецкой бани веселый, надел халат, обвязал платком голову и пьет чай <...>. Сегодня я не сказала с ним ни слова.
В архиве РАЛ240 сохранилась рукописная записка Бунина с воспоминаниями о событиях 1о декабря 1933 г.241, которая, судя по буквальному, в отдельных случаях, совпадению деталей и даже фраз, составлена по материалам одиннадцати корреспонденций И.А. Троцкого — «Писем из Стокгольма», опубликованных им в газете «Сегодня» с 16 ноября по 22 декабря 1933 г. и тоже находящихся среди бумаг В.Н. и А.И. Буниных:
В день получения prix Nobel. Был готов к выезду в 4 1/2. Заехали в Гранд-отель за прочими лауреатами. Толпа едущих и идущих на улице. Очень большое здание — «концертное». <...> В зале фанфары — входит король с семьей и придворные. Выходим на эстраду — король стоит, весь зал стоит. <...> Эстрада, кафедра. Для нас 4 стула с высокими спинками. Эстрада огромная, украшена мелкими бегониями, шведскими флагами (только шведскими, благодаря мне) <...> Ордена, ленты, звезды, светлые туалеты дам — король не любит черного цвета, при дворе не носят темного. <...> Первым говорил С<ольман> об Альфреде Нобеле. Затем опять тишина, опять все встают, и я иду к королю. <...> подхожу к королю, который меня поражает в этот момент своим ростом. Он протягивает мне картон и футляр, где лежит медаль, затем пожимает мне руку и говорит несколько слов. Вспыхивает магния, нас снимают. Я отвечаю ему. <...> Аплодисменты прерывают наш разговор. Я делаю поклон и поднимаюсь снова на эстраду <...>. Бросаются в глаза огромные вазы, высоко стоящие с огромными букетами белых цветов где-то очень высоко. Затем начинаются поздравления. Король уходит, и мы все в том же порядке уходим с эстрады в артистическую, где уже нас ждут друзья, знакомые, журналисты. Я не успеваю даже взглянуть на то, что у меня в руках. Кто-то выхватывает у меня папку и медаль и говорит, что это нужно где-то выставить. Затем мы уезжаем <...>. Нас везут в Гранд отель, откуда мы перейдем на банкет, даваемый Нобелевским Комитетом, на котором будет присутствовать кронпринц, многие принцы и принцессы, и перед которым нас и наших близких будут представлять королевской семье, и на котором каждый лауреат должен будет произнести речь. Мой диплом отличался от других. Во-первых тем, что папка была не синяя, а светло-коричневая, а во-вторых, что в ней в красках написа<ны> в русском «билибинском» стиле две картины, — особое внимание со стороны Нобелевского Комитета242. Никогда, никому этого еще не делалось.
Чествование Бунина как нового лауреата Нобелевской премии началось с момента прибытия поезда в Мальме — самый южный из крупных городов Швеции. А. Седых вспоминает:
Журналисты встретили Бунина на пограничной станции. Посыпались вопросы, Иван Алексеевич скоро устал, забился в купе...<...>. В Стокгольм приехали на рассвете. Толпа на вокзальном перроне, «юпитеры» кинооператоров, поднос с хлебом солью и букеты цветов...243
Среди полчищ журналистов, встретивших Бунина, находился и И.М. Троцкий, писавший впоследствии в одной из своих корреспонденций от 1о декабря 1933 г., что, как «случайный свидетель»:
Видел, как десятки шведских репортеров и фотографов устремились к вагону, в котором ехал Бунин, видел, как вспыхивал магний и щелкали объективы и как каждый из репортеров пытался опередить другого.
Встретив Буниных, Г. Кузнецову и А. Седых в Мальме, И.М. Троцкий затем повсюду сопровождал их, собирая материал для своих корреспонденций. Интересно проследить, к каким именно событиям стокгольмской бунинианы он привлекает внимание читателей в «Письмах из Стокгольма» и что ему, русскому публицисту, казалось наиболее важным отметить в те «незабвенные года».
Весьма любопытно, с точки зрения «нобелевской кухни», выглядит первое письмо И. Троцкого из Стокгольма — корреспонденция от 16 ноября 1933 г. «Как была присуждена Бунину Нобелевская премия»:
Бунин, Бунин, Бунин... Самое сейчас популярное имя в Швеции. Оно не сходит со столбцов газет и страниц журналов, глядит из витрин книжных магазинов и складов, а портрет писателя украшает чуть ли не каждый газетный киоск.
Для сравнения — аналогичный по теме фрагмент из воспоминаний А. Седых:
Фотографии Бунина смотрели не только со страниц газет, но и из витрин магазинов, с экранов кинематографов. Стоило Ивану Алексеевичу выйти на улицу, как прохожие немедленно начинали на него оглядываться. Немного польщенный, Бунин надвигал на глаза барашковую шапку и ворчал: — Что такое? Совершенный успех тенора244.
В своем первом стокгольмском письме из декабрьского Стокгольма, где: «Сумеречно, холодно и моросит: не то дождь, не то снег. Не разберешь», — И.М. Троцкий описывает наэлектризованную эмоциями атмосферу, воцарившуюся в этом обычно нордически суровом и сдержанном городе:
Нужно хоть один раз побывать в столице Швеции в дни заседания Нобелевского комитета, чтобы ощутить атмосферу, в которой живут члены жюри <...>. Если присуждение премии ученым почти никогда не вызывает возражений, то едва ли проходит год, чтобы литературная премия не вызывала взрыва страстей. Что творилось в литературных кругах Скандинавии после присуждения премии итальянской писательнице Грации Деледда и американскому романисту Синклеру Льюису! Каким только нападкам не подвергались члены жюри. Европейские и заатлантические академии наук, университеты и отдельные профессора литературы забрасывают ежегодно Нобелевский комитет именами своих кандидатов. Посланники держав, аккредитованные при шведском Дворе, считают своим национальным долгом поддержать своих кандидатов. И хотя члены нобелевского комитета люди абсолютно объективные в оценке художественного творчества того или другого кандидата, но они все-таки люди, и ничто человеческое им не чуждо. Можно без преувеличения сказать, что едва ли за тридцатилетнее существование нобелевского комитета присуждение литературной премии было так единодушно встречено скандинавской печатью, как в этом году245.
Далее И.М. Троцкий особо выделяет роль Сержа де Шессена в деле популяризации имени Бунина, а также осторожно напоминает читателям о политической подоплеке награждения Бунина Нобелевской премией:
...русские писатели незнакомы скандинавскому читательскому миру и мало переведены. А если переведены, то найти издателя для русского писателя-эмигранта, даже такого масштаба, как Бунин, <...> нелегко. И в этом отношении огромная заслуга перед русскою литературою принадлежит, по справедливости, русско-французскому литератору Сержу де Шессену, стокгольмскому корреспонденту агентства Гавас246, <который> отыскал книгоиздателя Гебера247, вот уже третий год издающего произведения Бунина, и <...> упорно работал над популяризацией имени писателя и над распространением его произведений в Швеции. Он сумел заинтересовать лучших стилистов Швеции творчеством Бунина. <...> Спрос на произведения Бунина так возрос, что издатель принужден был в срочном порядке заняться новым изданием бунинской прозы. <...>
Еще посейчас жюри бьется над выработкой нового этикета выдачи премий. Какой посланник будет представлять королю Бунина? Под каким флагом Бунина приветствовать? Русского национального флага формально больше не существует, эмигрант-писатель никаким посланником не защищен. <Однако> присуждение литературной премии Бунину ничего общего с политикой не имеет. Это лишь заслуженное признание художественной ценности писателя и только под этим углом должно быть расценено. <...>
Ивана Алексеевича ждет совсем исключительный прием в Швеции. В его лице нобелевский комитет и русская общественность собираются чествовать русскую литературу.
В своей корреспонденции «Встреча И.А. Бунина в Стокгольме» от 10 декабря 1933 г. И.А. Троцкий, передавая слова лауреата,
Советская печать <...> замолчала награждение И.А. Бунина Нобелевской премией. И естественно, что шведская пресса не преминула осведомиться у лауреата об его отношении к советскому режиму и советской литературе. «Я презираю советский режим, — сказал Бунин. — <...> Молодое поколение советских писателей пишет только в порядке “социального заказа”. Оно лишено не только свобод, но и независимой творческой мысли. <...> Разумеется, есть и сейчас в России крупные писатели и художники, но все это мастера, создавшие себе имя в досоветское время. Они насыщены культурою, образованием, большой начитанностью и не разучились еще свободно мыслить. Но этот тип писателя я не причисляю к советской литературе. Он стоит особняком и знает свое культурное значение. <...> Советская пропаганда пытается изобразить русскую эмиграцию как беспочвенную массу изгнанников, лишенную не только родины, но морально и духовно деморализованную, не способную ни на какую творческую работу и обреченную на безусловную гибель. И вот одному из этих изгоев присуждена высшая награда за литературу. Не трудно понять значение этого дара для русской эмиграции! Я верю в Россию и верю в будущность русской эмиграции. Русский человек всегда и при всяких условиях остается русским. Он не может забыть своей родины и своей национальности и не способен раствориться среди временно приютившего его народа. Глубоко убежден, что эмиграция еще вернется на родину и что Россия узрит более светлые и счастливые дни...» — тут же спешит подчеркнуть, что антисоветские высказывания новоиспеченного русского нобелевского лауреата— это его ответная реакция на поведение кремлевских «господ положения», поскольку местный советский полпред, товарищ Александра Коллонтай, поспешила, еще до приезда русского лауреата, холодно, но корректно отклонить приглашение шведской академии на участие в нобелевских торжествах...
Поскольку Илья Троцкий вскользь упомянул о «замалчивании» советской прессой событий «бунинианы», стоит привести почерпнутое из корреспонденций А. Седых и зло окарикатуренное описание поездки Ивана Бунина в Швецию, сделанное Ильфом и Петровым в их фельетоне «Россия-Го»248:
Вместе с лауреатом в Стокгольм отправился специальный корреспондент «Последних новостей» Андрей Седых.
О, этот умел радоваться!
Международный вагон, в котором они ехали, отель, где они остановились, белая наколка горничной, новый фрак Бунина и новые носки самого Седых были описаны с восторженностью, которая приобретается только полной потерей человеческого достоинства. Подробно перечислялось, что ели и когда ели. А как был описан поклон, который лауреат отвесил королю при получении от него премиального чека на восемьсот тысяч франков! По словам Седых, никто из увенчанных тут же физиков и химиков не сумел отвесить королю такого благородного и глубокого поклона.
И снова — что ели, какие ощущения при этом испытывали, где ели даром и где приходилось платить, и как лауреат, уплатив где-то за сандвичи, съеденные при деятельном участии специального корреспондента «Последних новостей», печально воскликнул: «Жизнь хороша, но очень дорога!»
Что касается «парадных» корреспонденций И. Троцкого от 11 и 15 декабря 1933 г.: «Шведский король вручил вчера И.А. Бунину Нобелевскую премию» и «И.А. Бунин в центре внимания на нобелевских торжествах», то в них подробнейшим образом описаны все детали торжественной церемонии, на которой помимо Бунина нобелевские медали были вручены трем величайшим физикам, создателям современной квантовой механики — Гейзенбергу (Германия), Дираку (Англия) и Шредингеру (Австрия).
Нобелевская речь Бунина в подробном изложении И. Троцкого помимо дежурных слов благодарности королю, Швеции, Нобелевскому комитету и свободолюбивому шведскому народу была выдержана в сугубо личных тонах, ибо писатель сделал в ней акцент на своей судьбе, сказав сакраментальную фразу, обошедшую все газеты мира:
Кто я такой? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я <...> обязан долгом вечной благодарности.
Затем Бунин недвусмысленно дал понять присутствующим, что в свете получения им, эмигрантом, Нобелевской премии, все страдания, которые он пережил «в течение последних 15 лет», становятся не «только его личными переживаниями», а приобретают символическое значение, ибо отражают неугасимое стремление всех людей «к свободе мысли и знания», которому человечество «обязано цивилизацией».
Под аплодисменты всего зала Бунин пожимает протянутую ему королем руку. Король передает ему золотую медаль, диплом и чек на 170 000 крон. Диплом Бунина самый нарядный из всех 5 дипломов, выданных в этом году Нобелевским комитетом. Шведская художница, которой было поручено украсить диплом Бунина, мастерски справилась со своей задачей, разукрасив его в русском стиле. Лицо Бунина сияет, когда он возвращается на свое место».
Явно любуясь своим литературным кумиром, И. Троцкий не жалеет в его адрес слов восхищения:
И любопытно: ни один из прочих лауреатов с таким достоинством и с такой выдержкою не принимал из рук короля премии, как Бунин, в его поклоне королю не было ничего верноподданнического и сервильного. Король от литературы уверенно и равноправно жал руку венчанному монарху. Это не ускользнуло от внимания шведов.
Описывая внешний вид новоиспеченных нобелевских лауреатов, И.М. Троцкий, когда речь идет о Бунине, использует элегическую тональность:
сидит в глубокой задумчивости и на лице его написана какая-то большая печаль. Не то он вспоминает заседания былой российской академии, в которой сам некогда заседал, не то старается проникнуть в тайный смысл чужой и непонятной ему речи докладчика.
Что касается портретов Гейзенберга и Шредингера, то они рисуются И.М. Троцким на контрастно-политизированном фоне, сильно выделяющимся в сравнении с образом «симпатяги» англичанина Дирака, которому было тогда всего только 30 лет:
Молодой немец Гейзенберг, типичный бурш, со следами незаживших шрамов и с физиономией «послушного штурмовика», не совсем удобно чувствующего себя во фраке, сидит, как будто окаменел. Быть может, его смущает соседство нервного коллеги, еврея Шредингера, вынужденного из-за неарийского происхождения оставить Берлинский университет, и перенести свою научную деятельность в более толерантный и гостеприимный Оксфорд. Если внимательно вглядеться в лицо Шредингера, то на нем нетрудно прочесть потаенную горечь и незаслуженно понесенную обиду. Такие лица евреев можно видеть на старинных гравюрах эпохи испанской инквизиции. Шредингер явно <...> волнуется и что-то набрасывает на бумаге. И только один Дирак не обнаруживает никаких признаков волнения. Вся его фигура подлинного бритта, узкая, тонкая и хорошо вытренированная, как будто устремляется ввысь. Он сидит в <...> непринужденной позе, словно присутствует в театре на гастроли заезжей знаменитости. Небрежно играет пальцами рук и рассматривает публику.
Трудно сказать, на каком основании И. Троцкий причислил австрийца Шредингера, родившегося в католической (по отцу) и протестантской (по матери) семье, к еврейскому племени, что именно напоминало ему образ еврея «эпохи испанской инквизиции» в чертах его лица, и как ему удалось на нем «прочесть потаенную горечь и незаслуженно понесенную обиду».
Неизменно чуравшийся любой политической активности, Эрвин Шредингер своего отрицательного отношения к нацизму открыто не высказывал. Но поскольку сохранять аполитичность в фашистской Германии (как и в СССР) стало невозможно, он предпочел принять приглашение работать в Оксфорде.
А вот самому И.М. Троцкому действительно пришлось срочно покинуть Германию после того, как с 30 января 1933 года она стала нацистской. Поэтому, информируя читателя, он, возможно сам того не замечая, говорил и о больном лично для себя вопросе.
Что же касается национальных флагов, то их не вывесили из-за «нансеновского» статуса. Другое дело, что из-за отсутствия нового германского флага чувствительные умы и чувствительные нервы были избавлены от шока лицезреть свастику249.
Следует отметить, что стокгольмские корреспонденции И.М. Троцкого изобилуют не только фактическими, но и стилистическими неточностями, а то и грамматическими ляпами, ибо писались они «с колес», когда, по его собственным словам, «не только о стиле, но и об элементарной грамматике забываешь». На это обстоятельство он сетовал в статье от 18 декабря 1933 г. «И.А. Бунин на обеде у короля, в национальном музее на приеме иностранной печати».
В феерической чреде праздничных мероприятий можно было забыть обо всем на свете:
300 гостей вместо обычных 200, словно весь «официальный и академический Стокгольм» хлынул на это празднество, на котором «не хватало только короля», сославшегося на нездоровье. Впервые пришлось устраивать нобелевский банкет не в Зеркальном зале ресторана «Гранд-отеля», не вместившем всех приглашенных, а в Королевском зимнем саду, причем столы расставили в самой огромной оранжерее: за окном мрачно темнела шведская зима, блестела вода в канале, на противоположном берегу которого распростерлась широкая громада дворца, у входа <...> горели приветственные факелы, а внутри полыхали люстры, сверкали бриллианты, мерцали свечи — и щебетали канарейки, и шелестел целый лес пальм, напоминавших Прованс. На банкете присутствовали «мсье и мадам Троцкие». Но это не тот Троцкий, урожденный Бронштейн, который живет в эмиграции где-то в Турции, а другой русский эмигрант, хороший знакомый лауреата Бунина250.
Андрей Седых — в те дни секретарь Бунина, недавно познакомившийся с И.М. Троцким, дает ему в одном из своих репортажей с места событий251 следующую характеристику:
Это был, по-видимому, чрезвычайно энергичный господин «весьма популярный в Стокгольме» и именуемый там не иначе, как «господин редактор».
Сам И.М. Троцкий, искренне восхищенный радушием и гостеприимством шведов, писал:
Что сказать о программе празднества? Она была до того разноcтороння и интересна, что потребовались бы целые страницы на ее описания.
А. Седых в этой связи вспоминал:
Был банкет в Академии, парадный обед в честь нобелевских лауреатов в королевском дворце, еще какие-то нескончаемые приемы. Последний день в Стокгольме Бунин провел в обществе нескольких русских и французских журналистов, — помню И.М. Троцкого и Серж<а> де Шессена. Осматривали мы все вместе город, любовались быстро замерзающими каналами, новой ратушей, чем-то напоминающей дворец венецианских дожей. В полдень, усталые и озябшие, спустились в погребок Золотой мир, где когда-то распевал свои баллады шведский национальный поэт Бельман и где до сих пор собираются любители вина и хорошей кухни252.
К концу феерии торжеств со встречами на высшем уровне, церемониальным обедом у короля, пышным банкетом в Союзе иностранной печати, организованном Сержем де Шессеном , с которого публика разошлась лишь в четвертом часу утра, и национальным праздником Св. Люции, пришедшемся на «нобелиану» и отмечавшемся шведами в честь Бунина с особой пышностью253, Бунины были совершенно измотаны физически, да и в духовном плане оба испытывали состояние подавленности.
15 декабря И.М. Троцкий пишет о новоиспеченном нобелевском лауреате:
Устал он смертельно. Его мечта, как он говорит, выспаться. А тут депеши, письма, челобитные из Риги, Каунаса, Гельсингфорса, Варшавы, Праги и других весей Европы с мольбами о приезде. Никуда И<ванн> А<лексеевич> не поедет. Да и грех его тревожить. Второй месяц ему не дают покоя254.
И вот, наконец, прощальный завтрак 19 декабря 1933 г.255:
Нас небольшая компания: все — пишущая братия. И.А. и В.Н. Бунины, Галина Кузнецова, Андрей Седых, Сергей де Шессен, пишущий эти строки и их жены. Мы избрали древний кабачок <«Золотой Мир»>в старом квартале столицы, <...> в котором свыше ста лет назад распевал свои поэтические песни шведский минестрель и творец народного эпоса Бельман. В стенах кабачка, сохранивших в неприкосновенности свою былую прелесть, как будто реют тени <...> ушедших и здравствующих корифеев шведской литературы. Мы надеялись здесь укрыться. Но куда там! Едва уселись за стол, как И.А. был узнан, и публика устроила ему шумную овацию. <...> Едем на прощание к доктору Олейникову256. Там уже сидят и ждут провожающие. Просматриваю наспех альбом В.Н. Буниной. Вот, думаю, можно было бы издать интереснейший альманах. Чьих только имен тут нет!? Мережковский, Гиппиус, Куприн, Борис Зайцев, Алданов, Муратов, Шмелев... Всех и не перечислишь. <...> Наш сотрудник Lolo разразился экспромтом:
<...>
Андрей Седых торопит. <...> — Довольно засиживаться, едем, экспресс и лауреатов не ждет... Снова дебаркадер стокгольмского вокзала. Снова группа русских осколков, цветы, подношения и речи. Вспышка магния. Щелкают <затворы> объективов. Последнее громовое четырехкратное шведское «Ура!» Буниным и поезд трогается. Уехали... Почти сценка из «Дяди Вани».
27 декабря И.М. Троцкий, все еще переполненный восторгами «нобелианы», в ответном письме к Бунину сообщает257:
...получил от фотографа Бенкова258 Ваш портрет и групповой снимок. Ваш портрет, по-моему, — шедевр. Бенков его выставил на одной из главных площадей Стокгольма. Групповой снимок — тоже очень удался. Полагаю, что и вы уже снимки получили. Перед отъездом из Стокгольма (23 XII) говорил по телефону с Бенковым и он мне обещал немедленно Вам оба снимка послать. <...> С Вашим и Верой Николаевной отъездом пусто стало в Стокгольме, хотя газеты и не переставали о Вас говорить. Появились какие-то с Вами интервью, которые, быть может, Вы и не давали. Удостоила Вас внимания и стокгольмская коммунистич<еская> газета «Folkets Dagblad Politiken»259. Из этой газеты мы узнали и «подлинную причину» Вашего приезда в Стокгольм. Оказывается Вы и П.Н. Милюков создали тайный заговор против совет<ской> власти и Совдепии.
Узнали мы также, что Вы решили пожертвовать нобелевскую премию полностью на вооружение корпуса «белогвардейцев», который двинется ратью на Москву. Узнали и многое другое «тайное», что стало «явным». Обидно только, дорогой Иван Алексеевич, что Вы все это от нас — журналистов «скрывали»... Приеду в Париж и расскажу публично о Ваших и П.Н. Милюкова кознях. Хохотали мы с Сергеем Борисовичем <де Шессеном> над коммунистическим вздором вдосталь260.
Получил газету «Сегодня» с моим последним фельетоном, посвященным нашему завтраку в Золотом «мире», дневнику Веры Николаевны и Вашему отъезду. Надеюсь, что Зуров сохранит этот номер, и Вы его прочтете. Посмеетесь вдосталь. Что это Яша <имеется ввиду Андрей Седых — М.У.> так мало написал для «Пос<ледних> нов<остей>«? Жаль!., роман Галины Николаевны <Кузнецовой> «Пролог»261 прочитал в один вечер. Чудесный роман. Скромница Ваша «дочка», даже не упомянула о романе. Случайно увидел у Шерешевского <имеется ввиду де Шессен — М.У.> и прихватил. «Древний путь» Зурова интереснее и глубже ремарковского «На Западе ничего нового»262. Непременно о нем напишу. Здесь — в Копенгагене — должен десятки раз повторять и рассказывать о торжествах и Вашем чествовании. Рад, что все прошло «без сучка и задоринки». Надеемся с женою свидеться с Вами в Париже, куда, вероятно, выедем в ближайшую субботу. Пользуюсь случаем послать Вам, милым Вере Николаевне и Галине Николаевне лучшие пожелания к грядущему Новому году. <...> Весь Ваш И. Троцкий.
31 декабря Вера Николаевна Бунина делает в своем дневнике не нуждающуюся в комментарии запись:
Кончается самый для меня незабываемый год. Тяжело было и после кончины мамы, но все же была одна потеря, а этот, кроме двух смертей, принес еще ужасную болезнь Павлика, кончившуюся самоубийством. И это известие пришло среди поздравительных телеграмм и писем. Не знаю, как отнестись к Нобелевской премии. С ней тоже что-то утерялось дорогое для меня в Яне.
Ильф и Петров в своем злобном антиэмигрантском фельетоне «Россия-Го»263 таки накаркали:
Но вот событие кончилось, догорели огни, облетела чековая книжка, начались провинциальные парижские будни.
Луиджи Пиранделло (1934)
Помимо Синклера Льюиса и Ивана Бунина, И.М. Троцкий был знаком, точнее, встречался также с итальянским писателем, драматургом и режиссером театра Луиджи Пиранделло. Причем первая встреча и беседа-интервью с Пиранделло имела место в 1926 г.264 — задолго до увенчания того лаврами Нобелевской премии по литературе
Статья о Пиранделло начинается с элегической прелюдии — воспоминаний двадцатилетней давности: «горячее и вдохновенное время» в Петербурге, когда «столица жила как в горячке. Литература и журналистика расцветали пышным цветом»; «первые робкие шаги» автора «на журналистском поприще», знакомство с мэтрами «Серебряного века»: Максимилианом Волошиным, Гусевым-Оренбургским, Петром Пильским — «крестными отцами» начинающего журналиста», забавный рассказ о встрече с Александром Куприным (см. выше Гл. 2).
Обо всем этом И.М. Троцкий, стоящий на пороге своего полувекового юбилея и уже не испытывающий священный трепет при встречах с литературными парнасцами. <Ибо c> некоторыми из современных европейских писателей <он> лично знаком, а многих встречал на своем жизненном пути,
— повествует для того, чтобы сообщить читателю об одном качестве своего самовидения, важном с точки зрения характеристики личности, даваемой им тому или иному писателю:
сохранилось у меня от ушедшей юности одно. Это — воображаемый образ писателя, с произведениями которого <я> знакомлюсь.
Однако в случае с Пиранделло оказалось, что «воображаемый образ» писателя и драматурга, а также его портреты даже в отдаленной степени не схожи с оригиналом. В наружности автора «Шесть человек ищут одного автора» нет ничего писательского. По внешности Пиранделло легко может быть принят за директора первоклассного отеля или <...> за крупье великосветского казино. Уж очень все на нем изысканно и тщательно приглажено. Даже серебро в бороде как будто искусственное. Для большей интересности.
Далее Троцкий делает обобщающий вывод, что всегда внешне выглядеть как комильфо — это отличительная черта всех писателей-«романцев» (французов, итальянцев и т.д.) проистекающая из «свойства их натуры». Внешняя элегантность, однако, не помешала Пиранделло, будто бы случайно встретившемуся в пражском кафе с русским журналистом-эмигрантом, проявить себя разговорчивым собеседником и симпатичным общительным человеком.
Невзирая на свои шестьдесят лет и на поздно доставшуюся ему мировую известность, он бодр, свеж и юн, словно молодой человек. Не играет в «маститого», не цедит слов и не претендует на непогрешимость. Охотно делится своими переживаниями, наблюдениями и достижениями. Политики не любит. И всячески от нее отмежевывается. <...>
— Хорош или дурен Муссолини, нужен ли он Италии или не нужен, — не знаю. Зато знаю другое. Тридцать лет тщетно обивал я пороги всяких государственных канцелярий и учреждений, моля дать мне возможность создать национальный театр. Разве это не дико, что Италия — страна классических форм — не имеет национального театра? А вот Муссолини это понял! И я вскоре возглавлю новый национальный театр, который объем-лет сцены Рима, Турина и Милана265. Наконец-то сбудется мечта моей жизни! Если бы вы знали, с какой завистью я следил за творчеством Станиславского, Рейнхарда и Таирова? Как завидовал всем новаторам в области сценического искусства, имеющим возможность сказать свое слово. Я, разумеется, не во всем согласен с современными творцами нового театра. У меня свой подход и к сцене, и к актеру. Я не отвожу режиссеру превалирующей роли в театре. <...> Режиссерская воля не должна подавлять художественной эмоции актера. <...> И как часто актерская игра мне открывает в моих героях то, что я сам раньше не предугадывал. Я не только учу актера, но и поучаюсь у него. Сколько раз в Париже я видел Питоева в заглавной роли моей пьесы «Генрих IV»?!266 И всякий раз убеждался, что этот гениальный русский артист дает непревзойденный образ монарха, каким я его себе мыслил и желал. <...> Трудно быть судьею собственных произведений и еще менее собственных постановок, но все же думаю, что моя труппа играет лучше Рейнхардовской. <...> Потому что я даю актерам развернуться, даю им проявить художественную индивидуальность, не октроирую267 им своего «я»«.
Судя по тексту статьи Троцкого, Пиранделло — человек импульсивный и говорливый, свел беседу с русским журналистом к пространному монологу главным образом о себе самом. В сущности, Троцкий вопросов перед писателем не ставил, за исключением банального: «Что сейчас пишете?», — на который Пиранделло ответил весьма подробно:
Пишу много... Закончил две пьесы <...>. <Одну на днях поставили в Цюрихе. <...> имела большой успех. <Другая> пойдет вскоре в Милане. <...> Беллетристику, конечно, не забросил. Но предпочитаю драматическую форму, ибо считаю ее высшей формой творчества. <...> Ведь я остаток жизни решил посвятить театру. Уж если себя чему-нибудь посвящать, то так, чтобы и перед потомством не краснеть. Ведь мы писатели — народ тщеславный. Печемся о славе не только при жизни, но и за гробом.
Последнее высказывание так понравилось русскому журналисту, что он не поскупился на комплимент в адрес симпатичного ему писателя:
Мысль честная и верная. Но кто из ныне здравствующих писателей готов сознаться в этой маленькой писательской слабости?
Затем, как и должно убеленному сединами метру, Пиранделло похвалил итальянский литературный молодняк:
В Италии сейчас народились молодые писатели и драматурги, которых за границей не знают. А жаль! Есть среди них большие мастера, которые нас — стариков, — вероятно, очень скоро заставят дать и им заслуженное местечко на литературном Олимпе.
Сегодня трудно сказать, кого конкретно из писателей, вошедших в литературу в «эпоху Дуче», имел в виду Пиранделло. Сам же он, декларируя свою аполитичность, вступил-таки в 1923 г. в фашистскую партию и охотно принимал от Муссолини знаки внимания.
При этом Пиранделло всегда старался вести себя независимо. Он тесно сотрудничал с немецкими интеллектуалами, покинувшими из-за нацистского антисемитизма Европу (Фриц Ланг, фон Штемберг), а в ряде случаев даже выступал с критикой фашистской партии. В связи с такого рода «аполитичностью» у него в конце 1920-х возникли трудности с постановкой в Италии своих пьес. Обидевшись на режим, он покидает страну, живет в Париже и Берлине, много путешествует, но все же в 1933 г., по личной просьбе Муссолини, возвращается на родину. Так что Нобелевскую премию ему вручали как патриоту Италии, а не диссиденту.
Что касается «народившихся» в «эпоху Дуче» литераторов, то лучшие из них пошли отнюдь не по стопам отцов — откровенных фашистов д'Аннунцио и Унгаретти, или аполитичных приспособленцев — Пиранделло и де Филиппо. После войны мировое признание получили три убежденных антифашиста — поэты Сальваторе Квазимодо (Нобелевская премия 1959 г.), Эудженио Монтале (Нобелевская премия 1975 г.) и прозаик Альберто Моравиа.
Поскольку на рубеже двух столетий популярность д'Аннунцио в России была очень велика, И.М. Троцкий, естественно, поинтересовался, почему этот столь прославленный у себя на родине и за рубежом писатель последние годы перестал публиковать новые произведения. Понимая, что в отличие от д'Аннунцио его собеседник отнюдь не поклонник фашизма, Пиранделло постарался представить коллегу, к эстетике которого268 сам лично относился неприязненно, человеком страсти, художником, позволяющим захватить себя на время некоей идеей:
Он действительно замолк. Увлекся политикой! Впрочем, д'Аннунцио — натура импульсивная. Ему быстро все надоедает. Он, кажется, и политикою достаточно сыт!.. Быть может, вскоре заставит и литературно о себе говорить.
Затем посетовал:
Читаю мало. Вообще писатели мало читают. Это — общий недостаток и грех писателей-бытовиков. Читают из пишущих людей — только авторы исторических произведений. <Но они>, почасту, не видят подлинной жизни и живут в атмосфере былого. Хотя трудно живому человеку все вместить.
Еду сейчас со своею труппою в Вену и Будапешт, затем в Милан, а оттуда на несколько месяцев в Америку. Хочу посмотреть страну «неограниченных возможностей», себя показать <...>.
Слышал, будто русский драматург и режиссер Евреинов творит в Америке чудеса. Весь американский театральный мир на голову поставил. Нужно и у него поучиться.
Николай Евреинов действительно в 1926 г. гастролировал в США, где выступал со своими популярными лекциями — «Театр и эшафот», «Театральное мастерство православного духовенства», «Распутин и история самозванства в России». Ему удалось также осуществить в нью-йоркском Театре Гильдии постановку своего коронного спектакля «Самое главное». В 1927 г. режиссер вернулся во Францию, где быстро интегрировался в театральную среду Парижа 1920-1930-х.
Интересно, что И.М. Троцкий, заостряющий, как правило, внимание собеседников-интеллектуалов на вопросах, связанных с восприятием ими русской литературы, в первом интервью с такой всеевропейской знаменитостью, как Луиджи Пиранделло, данную тему не затрагивал. Лишь восемь лет спустя, в 1934 г., когда русская литература в лице Ивана Бунина была уже отмечена Нобелевской премией, он, беседуя с Луиджи Пиранделло, как новоиспеченным нобелевским лауреатом, не преминул задать этот свой коронный вопрос. Вторую статью о Пиранделло269 И.М. Троцкий начал с рассказа об «обстановке праздничной сутолоки нобелевских торжеств», о молодом французском писателе Сауле Колене, «стоически и с достоинством» несшем свое «тяжкое бремя секретарства» при Пиранделло, «быстро и ловко сплавляя обременительный груз праздношатающихся болтунов», и о состоянии самого метра, уставшего от чествований и от непрошенных поклонников. <...> Глядя на поблекшее лицо писателя, в памяти воскресает меланхолический образ И.А. Бунина, валившегося в прошлом году с ног от избытка внимания. <...>
— Нелегка роль избранника. <...> Не думал, что венок лауреата столь тяжело весит. <...> Но право, торжества и чествования требуют огромного напряжения сил, а для человека моего возраста — сугубое. <...>
О себе могу сказать: «Мой дом — мой чемодан». С тех пор, как я оставил пост директора миланского театра — нахожусь в постоянных разъездах. Париж, Рим, Вена, Прага, Амстердам. Живу кочевою жизнью драматурга и режиссера. <...> Работаю в номерах отелей и в промежутках между одной и другой поездкой. <...>
О моем творчестве столько написано надуманного и ложного, что меня от этого претит. Я не поборник иллюзорного и ничего меня так более не коробит, как «пиранделлизм». <...> Я его отвергаю и не считаю своим детищем. Он изобретен заумными критиками и мне навязан.
Действительно, драматургия и режиссерские новации Пиранделло, вызывая бурную полемику в европейских театральных кругах, порождали всякого рода подражателей, что сильно его раздражало.
В заключение беседы Пиранделло отдал должное «русской теме».
Знаком ли я с русской литературою? Толстого, Тургенева, Гоголя, Достоевского и некоторых других классиков знаю. Люблю Чехова и читал кое-что Бунина. Если говорить о чьем-нибудь влиянии на мое творчество, то мог бы назвать Ибсена и Стриндберга. С советскою литературою почти не знаком, а потому затрудняюсь о ней высказаться. Все же полагаю, что если над такою великою страною как Россия пронесся ураган революции и сокрушил все старые устои, то это должно было найти отражение в литературе. Где же, однако, великие советские романисты и драматурги, отразившие в своем творчестве коллективную волю, страсти и деяния революции? Где новые, всесветно известные имена советских писателей? Мы слышим только имя Горького. Но Горький не порожден революцией! Его писательская слава давно оценена, признана и место ему на литературном Олимпе уже десятилетиями обеспечено. Правда, мой добрый приятель Таиров, присутствовавший недавно на театральном съезде в Риме, рассказывал чудеса о художественных достижениях Москвы. <...> Но опять-таки мне называют имена Мейерхольда, Станиславского и Таирова. Ни Станиславского, ни Мейерхольда я лично не знаю. Личность Станиславского, как художника, артиста и режиссера не нуждается в рекомендации. Она давно оценена и признана как руководящая в театральном мире Европы. И Рейнгард и я учились на постановках Станиславского . Мейерхольд тоже не новичок для деятелей сцены. Но где новые советские корифеи театра? Что нового в области кулис дала революция?270 Поеду ли я в Москву? Не знаю! Если обстоятельства и время позволят — может быть и рискну на путешествие в страну великих экспериментов. Мой молодой друг и сотрудник Колен271 подбивает меня на эту поездку. Но я, как вам, может быть, известно, не сторонник коллективизма и коммунистической доктрины. Меня увлечь на этот путь трудно...272
Статья заканчивается комплиментами Пиранделло шведскому театру и Стокгольмскому гостеприимству в целом, а также упоминанием — весьма скупым! — о том, что по известным причинам «центр германской культурной жизни переместился из Берлина273 в Вену», а поскольку он, естественно, «намерен сотрудничать с немецким театром, <его> место в Вене». При чтении этой статьи И.М. Троцкого сегодня бросается в глаза тенденциозность автора, убежденного, как и большинство его соотечественников-эмигрантов, что «не может дерево худое приносить плоды добрые» (Мф. 7:18), а потому от «Триэссесерии» чего-либо достойного в плане искусства ждать не приходится.
Позиция понятная в свете «трагического раздвоения русской культуры на метрополию и диаспору, их взаимной непримиримости; принципиального разрыва советской литературы с предшествующей гуманистической традицией»274, но неприемлемая с точки зрения фактов истории литературы. К началу 1930-х в советской литературе появилось немало молодых писателей с большой художественной силой — Исаак Бабель («Конармия»), Михаил Булгаков («Белая гвардия»), Артем Веселый («Россия, кровью умытая»), Леонид Леонов («Барсуки», «Вор»), Борис Пильняк («Голый год»), Александр Фадеев («Разгром»), Константин Федин («Похищение Европы» и «Санаторий Арктур») и, конечно же, Михаил Шолохов («Тихий Дон»). Пиранделло, который не был книгочеем, этих имен не знал. К тому же переводы советских писателей на иностранные языки были весьма редки. А вот И.М. Троцкий, несомненно, следивший за литературным процессом в СССР, в данном случае демонстрировал явную предвзятость. Игнорирование советской литературы — несомненно, выражение определенной установки, способа восприятия, манеры чувствовать и думать — всего того, что определяло повседневное сознание русского эмигрантского сообщества первой волны.
Что касается мировоззренческих высказываний Пиранделло, приводимых в статье И. Троцкого, то обращает на себя внимание неприятие им «коллективизма» как базового принципа и коммунистической, и фашистских тоталитарных систем275. Декларирование такого рода позиции со стороны члена итальянской фашистской партии свидетельствует не об аполитичности или беспринципности Пиранделло, а, скорее, о его личной трагедии. По сути своей это трагедия индивидуума, принужденного по жизни носить ту или иную маску и в этих масках теряющего ощущение своего подлинного Я — тема, красной нитью проходящая через все наиболее значимые произведения этого выдающегося писателя-гуманиста . Весьма интересным в историческом контексте звучит в устах Пиранделло определение «мой добрый приятель» в отношении Александра Таирова — выдающегося русского советского режиссера, создателя и бессменного руководителя Московского камерного театра (1914-1950). В октябре 1934 г. Таиров принимал участие в международной конференции театральных деятелей, организованной Конгрессом Вольта276 в Риме под председательством Пиранделло. В числе гостей конференции помимо него были такие европейские знаменитости, как театральные режиссеры Жак Копо и Макс Рейнгардт, а также выдающийся немецкий архитектор Вальтер Гропиус, построивший в Берлине в соответствии с режиссерскими идеями Э. Пискатора здание его «Тотального театра». И Рейнгардт и Гропиус, ставшие персонами нон-грата в нацистской Германии, к этому времени уже были вынуждены покинуть свою страну. Необычный интерес к театральному искусству, проявленный Конгрессом Вольта, обычно организовывавшим сугубо научные конференции, имел выраженную идеологическую подоплеку.
В коммунистической Москве и фашистском Риме массовое театральное искусство было в фаворе, ибо рассматривалось идеологами этих движений как «рупор революции». Как большевики, так и итальянские фашисты сознательно стремились превратить повседневную жизнь своих стран в один непрекращающийся политический спектакль. Так, в одной из бесед с М.И. Калининым Ленин заявлял: «Мало религию уничтожить... надо религию заменить. Место религии заступит театр»277. Театр им понимается в широком смысле слова — как массовое зрелище, поскольку, по его же словам: «из всех искусств для нас важнейшим является кино». На Римской театральной конференции 1933 г. Муссолини ратует за создание «массового театра для масс» — своего рода фашистской псевдолитургии278. Впрочем, ни Таиров, ни Пиранделло не были сторонниками «театра массового действа». Александр Таиров, кстати говоря, земляк Ильи Троцкого279, который, возможно, по этой причине и акцентирует дружеские чувства, выказываемые к нему Пиранделло, вел в свое время жаркую полемику с отцом советского массового театра Всеволодом Мейерхольдом.
Однако стремление любой ценой вырваться из плена театральной моды, обойтись без ее «общих мест» и «дежурных приятностей» побуждало идти на риск. Путь к спектаклю большого стиля требовал смелости, и эксперименты Таирова были агрессивны280.
Осмысливая последнюю статью И. Троцкого о Пиранделло, нельзя не обратить внимание на то, что скептически высказываясь на «советскую» тему, писатель ни словом не обмолвился об одной своей попытке выйти на советскую сцену. В 1930 г. в № 1 журнала «Вестник иностранной литературы» была опубликована статья Луначарского. Ее первоначальный вариант начинался так281:
Знаменитый итальянский драматург Пиранделло прислал мне авторизованный перевод своей последней пьесы с просьбой проредактировать его и помочь ему осуществить постановку этой пьесы на одной из московских сцен.
— а затем следует весьма комплиментарная характеристика творчества итальянского драматурга и рекомендация поставить его последнюю пьесу на советской сцене. В СССР Пиранделло печатали, но ни один из советских театров, в том числе и московский Камерный театр Таирова, имевший богатый репертуар пьес западных драматургов, не ставил его пьесы на сцене. Возможно, именно Таиров посоветовал Пиранделло обратиться с личной просьбой к Луначарскому282. Однако знаток сценического искусства и драматург, Луначарский был в 1929 г. смещен с поста наркома просвещения, и его влияние на репертуарную политику перестало быть определяющим. Поэтому, несмотря на его одобрение, пьеса итальянского драматурга «Нынче мы импровизируем» так и не была поставлена на советской сцене. Естественно, что Пиранделло был разочарован и даже обижен таким невниманием к своей особе и не горел особым желанием посетить СССР.
Новое лихолетье: «Третий Рейх» и конец «русско-еврейского Берлина»
1933 год стал для И.М. Троцкого одновременно и знаковым, и переломным. С одной стороны, воистину историческое событие: русская литература в лице Ивана Бунина отмечена Нобелевской премией — успех, достигнутый во многом благодаря его усилиям; с другой — крах самого благополучного в бытовом отношении периода его эмигрантской жизни. На пороге своего шестидесятилетия И.М. Троцкий столкнулся с необходимостью коренной ломки своего жизненного уклада. Он вновь стал беженцем без определенного места жительства и перспектив на будущее.
Причиной столь драматических изменений в его судьбе явилась гибель либерально-демократической Веймарской республики, где Илья Маркович, несмотря на эмигрантский статус, вполне благоденствовал. Германия превратилась в тоталитарный «Третий Рейх».
И коммунисты, и нацисты ненавидели демократию, но в отличии от «пролетарского интернационализма», германский нацизм исповедовал патологический антисемитизм.
«Коричневая чума» уничтожила «русский Берлин». Большей части его обитателей, в первую очередь еврейского происхождения, пришлось покинуть приютивший их пятнадцать лет назад город283. И.М. Троцкий сделал это одним из первых. Его бывший коллега «русскословец» А.Ф. Аврех сообщал в уже упоминавшемся письме к главному редактору газеты «Сегодня» М.С. Мильруду от 29 апреля 1933 г.
...неистовствует проклятый Гитлер, и Троцкий удрал из Берлина, бросив все имущество, в числе коего имеется и дом284.
В отличие от своих соратников по общественной деятельности — А. Гольденвейзера, Я. Фрумкина, И.В. Гессена, Г.А. Ландау, Л. Брамсона и др., которые не спешили покидать Берлин, надеясь, что все уляжется и за антисемитскими эксцессами первых месяцев нового режима последует период стабилизации, Илья Маркович никаких иллюзий на сей счет не питал. Впрочем, не он один. Уже к весне 1933 г. численность еврейского населения города снизилась со 160 до 1о тысяч человек285.
Если внимательно читать публицистику И.М. Троцкого, нельзя не отметить один любопытный факт: в течение более чем четверти века, колеся по Европе и рассказывая в своих репортажах о различных языках, он никогда не упоминает о немцах. Навряд ли здесь можно говорить об антипатии. И.М. Троцкий был вполне укоренен в немецкой ментальности, и в немецкоязычном пространстве чувствовал себя как рыба в воде. Ведь не только же потому, что в молодой Веймарской республике было самое либеральное эмиграционное законодательство и огромная русская колония, перебрался он из Скандинавии в Берлин! По-видимому, немцы для него были и ближе, и понятней, чем остальные европейцы. Он точно знал, как в их среде надо себя вести, и что от них можно ожидать. Для эмигранта подобного рода восприятия среды обитания — серьезный фактор, а зачастую и гарантия благополучного существования.
Но по тем же причинам Троцкий, похоже, чувствовал ситуацию глубже и, как прагматик, видел дальше, чем его соратники, склонные к теоретизированию, а вследствие этого и идеализации реальности.
В своем ходатайстве № 170128 от 22 октября 1952 г., поданном на основании Закона о возмещении убытков жертвам национал-социализма286, он называет датой своего бегства из Берлина287 31 марта 1933 г., указав, что в то время являлся «лицом без гражданства»; в графе «Профессия по образованию» стоит «Инженер», а «Занятия в настоящее время» — «Предприниматель и редактор».
И.М. Троцкий поселился сначала в Брюсселе, затем Копенгагене, а позже — в Париже, куда к тому времени окончательно сместился «мозговой» и культурный центр русской эмиграции288.
В письме к М.С. Мильруду из Копенгагена от 24 сентября 1933 г.289 Троцкий рисует подробную картину своей бытовой ситуации после бегства из Берлина:
Полгода я не подавал о себе признаков жизни. Сидел три месяца в Брюсселе и вот уж столько же времени обретаюсь в Копенгагене.
Мотивы Вам понятны. Они те же, по которым наш друг Николай Моисеевич290 превратился в Меркулова, а я покрываюсь псевдонимом Бутурлина291. Моя семья, увы, еще в Берлине. Этим все сказано. Надеюсь увидеть жену и сына в конце октября. Жена ликвидирует квартиру и переезжает в Копенгаген.
Мое материальное положение немногим лучше положения сотен других людей, бежавших из Германии. Короче, я пополнил ряды безработных русских интеллигентов. Посылаю первую корреспонденцию. Надеюсь, подойдет. Буду признателен за напечатание, ибо рад всякому заработку. Знаю, что редакция сократила гонорар, и, конечно, с этим фактом мирюсь.
Два последующих письма редактору «Сегодня» М.С. Мильруду свидетельствуют, что в материальном отношении дела Ильи Марковича поправились. 2 октября 1934 г. он пишет из Копенгагена:
Побывал в Париже, похоронил Ф.И. Благова и А.А. Яблоновского, навидался нужды среди пишущей братии и вернулся в Копен-гаген. Жаловаться на дела не смею, ибо устроился очень прилично во французской и голландской печати, куда много пишу. Но не хочется порывать и с русской печатью, тем более, что она мне слишком близка. Посылаю статью, которая, надеюсь, подойдет. Если отвергнете, верните, пожалуйста, манускрипт.
В качестве важного комментария к этому короткому письму следует добавить, что осенью 1933 г., уже после смерти Ф.И. Благова, бывшие «русскословцы » (Н. Калишевич, А. Поляков, А. Аврех, М. Мильруд, И. Троцкий, С. Варшавский) «самоообложились» по 25 франков в месяц в пользу вдовы своего бывшего редактора, 16 октября 1933 Аврех писал Мильруду, что следует привлечь еще А. Руманова и Тэффи (добавляя: «а насчет Тэффи сомневаюсь»)292.
А 24 января 1934 г. Михаил Мильруд пишет И.М. Троцкому письмо, где помимо конкретного вопроса, связанного с намерением Троцкого выступить с лекциями в Риге, обрисовывает «ненормальную атмосферу, которая у нас здесь, — в среде русских эмигрантов, — создалась», после прихода нацистов к власти:
Мы все, а я в особенности, очень рады были бы повидать Вас в Риге <...>. Но приезд Ваш сюда, для того, чтобы окупить свои расходы и выступить с лекциями — дело при нынешних условиях более чем рискованное.
Мне как раз недавно пришлось писать по этому же вопросу Бунину и Алданову. Оба они собирались приехать в балтийские страны с лекциями и даже Бунину после его стокгольмского триумфа, который благодаря Вам в Балтике был изображен особенно пышно, я предложил не рисковать и не приезжать сюда. К Бунину обращался целый ряд антрепренеров, суливших ему большие блага, но когда я предложил им внести гарантию, никто из них на это, конечно не пошел293.
В былые годы лекции на русском языке привлекали здесь больше всего евреев, а затем русских и латышей, понимающих по-русски. Теперь у нас под влиянием событий последнего времени произошло расслоение. Нельзя себе представить лекцию, которая собрала бы прежнюю аудиторию. Если лектор или тема представляют интерес для русских, то на нее не пойдут евреи и наоборот. Да и на одних евреев тоже теперь рассчитывать нельзя. Опять-таки все разбились на отдельные группы и партии. И если на лекцию пойдут сионисты, то не пойдут не-сионисты. Да и сионисты опять-таки делятся на бесконечное количество подгрупп. Поэтому даже лекции специально еврейских лекторов <...> не привлекли публики и <лекторы — М.У.> не покрыли расходов. <...>
Все же я переговорю здесь с некоторыми импресарио и если они действительно готовы будут гарантировать Вам хотя бы частичное покрытие расходов, то я об этом Вам напишу.
Среди важных моментов всех этих писем — указание на чрезвычайно возросший градус антисемитизма в русской эмигрантской среде после прихода к власти нацистов. По мере роста профашистских настроений в Германии стали появляться русские организации, чьи идейные концепции граничили с фашизмом294. Их ядром, как правило, были молодые эмигранты. Фашизм и германский национал-социализм представлялись им самой бескомпромиссной антикоммунистической силой, движением будущего, тогда как демократия виделась многим на уже свалке истории295. С приходом нацистов к власти «беженский шлак», накопленный в этой среде, по выражению И.В. Гессена, поднялся на поверхность «в количестве, какого никто и не подозревал»296. Русские фашисты устраивали хулиганские акции в редакциях эмигрантских газет и на собраниях, где среди выступавших и приглашенных значились евреи. Травле подвергались даже те русские эмигранты, которые состояли в смешанном браке с евреями.
Со страниц эмигрантских антисемитских изданий в различных странах Европы, как и нацистских газет в Германии в адрес евреев лились потоки клеветы и оскорблений. И только, пожалуй, в Голландии и скандинавских странах евреи в те годы не чувствовали себя «чужеродным элементом». В одном из своих «путевых очерков» начала 1930-х И.М. Троцкий обрисовывает ситуацию, в которой находились евреи скандинавских стран297. Его наблюдения, в целом достаточно поверхностные, приобретают значимость в ретроспективном аспекте, когда речь идет о Катастрофе европейского еврейства. В рамках политики тотального геноцида, осуществлявшейся нацистской Германией и коллаборационистским режимом Квислинга, в Норвегии была уничтожена большая половина малочисленной еврейской общины298, представители которой за 8о лет пребывания в этой стране не дали ни одного писателя или журналиста, не имеют в Стортинге своего депутата и ничем не проявляли себя политически.
Другое дело в Швеции и Дании. В этих государствах евреи играют огромную роль во всех областях их жизни. Евреи — ученые, писатели, журналисты, художники, депутаты, офицеры и дипломаты. В промышленности, торговле и финансах, равно как и в свободных профессиях, ими завоеваны прочные позиции.
В еврейском мире Скандинавии два имени пользуются огромной известностью <...>. Это профессор-ориенталист Давид Симонсен из Копенгагена и верховный раввин Швеции доктор Маркус Эренпрейс из Стокгольма. <...> Высокие научные заслуги доктора Симонсена в ориенталистике отмечены датской академией присуждением ему большой золотой медали. Только пять ученых во всей Дании отличены этой премией. По статусу академии присуждении медали требует санкции короля. Когда президент академии обратился к королю Кристиану <Х> за санкцией, монарх сказал:
— С радостью соглашаюсь! Мне кажется, что Симонсен больше, чем кто-либо другой награждается медалью по заслугам. <...>
Идейный соратник профессора Симонсена в Швеции, доктор Маркус Эренпрайс <...> — блестящий писатель и редкий стилист, исключительный оратор и человек огромной эрудиции, <он> пользуется огромной популярностью во всех слоях еврейского и христианского населения <страны>. Занимая иерархически положение, равное архиепископу Натану Седерблюму, он за шестнадцать лет пастырской и культурной деятельности в Стокгольме завоевал большое имя. <...>
<Эренпрайсу> сионизм обязан тем, что христианская общественность Швеции заинтересовалась Палестиной, и никто иной, как известный историк литературы, профессор Фредерик Беек съездил в Палестину и написал о тамошних достижениях сионизма яркий и увлекательный труд. <...>
Борьба большевиков с религией, <убежден Эренпрайс — М.У.>, даст обратные результаты. Она, может быть, убьет церковь, но выкует подлинную религиозность. Вмешательство власти в отношения человека к Богу кончается неизменно поражением власти299.
В первый период немецкой оккупации общественность Дании единодушно выступала в защиту евреев — явление беспримерное для других европейских стран, оккупированных нацистами, и когда в сентябре 1943-го германские власти, объявив в Дании военное положение, решили осуществить депортацию евреев, почти все евреи королевства (5191 человек) и лица смешанного происхождения (1301 человек), а также их родственники, на которых не распространялись антисемитские нацистские законы (686 человек), были переправлены датскими рыбаками в нейтральную Швецию300.
После бегства из Берлина в течение почти двух лет И.М. Троцкий метался по Европе в поисках нового надежного пристанища. В таком положении оказалось большинство берлинцев вынужденных, как и он, покинуть Германию. Все они находились в движении — из Германии во Францию, в Бельгию, Латвию, оттуда в Ирландию, Великобританию, Португалию, потом в США. Некоторые двигались на запад, другим предстояло отправиться на восток. Одни нашли убежище за океаном, другие закончили свою жизнь в нацистских лагерях смерти, некоторые — в ГУЛАГе301.
И.М. Троцкий пошел своим, совершенно отличным от его окружения путем. В 1935 г. он принял решение перебраться в Аргентину. Как уже отмечалось, выбор этой страны был продиктован интересами ОРТ и ОЗЕ, стремившихся иметь в Южной Америке, где проживало более полумиллиона евреев, своего надежного и деятельного представителя.
По всей видимости, И.М. Троцкий окончательно переселился в Новый Свет с началом Второй мировой войны. Судя по отдельным документам, во второй половине 1930-х он еще подолгу жил в Европе. Например, в статье «Один оазис культуры»302 (о позиции датского истеблишмента в «еврейском вопросе») он пишет, что в 1938 г. приезжал из Парижа в Копенгаген, где беседовал с тогдашним датским премьер-министром, социал-демократом Торвальдом Стаунингом, с которым его «связывали многолетние дружеские отношения». Этот выдающийся политический деятель заверил его, что вся датская интеллигенция, а также лютеранская церковь королевства активно выступают против кампании расового антисемитизма, развязанного немецкими национал-социалистами. По результатам этой беседы И.М. Троцкий делает вывод, что Дания вместе с другими скандинавскими странами была и остается одним из оазисов культуры посреди «европейской нацистской пустыни».
Однако в 1939 г. И.М. Троцкий уже покинул Европу, о чем в частности свидетельствует почтовая открытка Ивана Бунина от 09 января 1939 г.: «Илья Маркович, где Вы?», — посланная на адрес его парижского отеля и полученная им уже в Буэнос-Айресе. Все время войны и в первые годы после ее окончания, вплоть до 1950-го, И.М. Троцкий не переписывался ни с Буниным, ни с Алдановым, ни с кем-либо другим из числа их общих знакомых.
Рижская газета «Сегодня» и ее постоянный корреспондент
«Сегодня» — крупнейшая надпартийная русская газета Балтии либерально-демократического направления, стала издаваться в Риге одновременно с созданием первого независимого латвийского государства (1919 г.) и прекратила свое существование вместе с ним в 1940-м303. Эта была третья по значению — после парижских «Последних новостей»304 и «Возрождения»305 — и одна из лучших газет русского Зарубежья, материалы которой часто перепечатывали более мелкие эмигрантские издания — нью-йоркское «Новое русское слово», шанхайское «Время». В отличие от всех других периодических изданий русского Зарубежья, в том числе и тех, где печатался И.М. Троцкий — «Дни», «Руль», «Последние новости» — «Сегодня» не являлась эмигрантской газетой, а предназначалась для граждан новых государств Балтии, взращенных на русской языковой культуре. Ведь если в Берлине и Париже русская эмигрантская среда представляла собой «гетто зарубежной России»306, то в Латвии русские, имея примерно такую же численность, выступали уже как «национальное меньшинство» (около 12% всего населения).
Основали газету молодые предприниматели Я.И. Брамс и Б.И. Поляк (в 1940 г. они оба эмигрировали в США), не имевшие каких-либо политических или идейных амбиций, но обладавшие острым нюхом на потребности информационного рынка. Поскольку Латвия являлась одним из связующих элементов Советской России с Европой, они превратили свое детище в информационную площадку для коммерсантов и комиссионеров всех мастей. Не случайно к сотрудничеству в «Сегодня» был привлечен видный экономист Вениамин Зив, один из основателей и профессоров Высшей коммерческой школы Риги, а впоследствии — в 1934 г., — и тель-авивской Высшей школы права и экономики (ныне в составе Тель-авивского университета).
Объявления, реклама и актуальная информация — вот что приносило основной доход газете, которая одновременно и также весьма успешно заявляла себя культурно-просветительским изданием.
Удачному сочетанию сугубо коммерческой и интеллектуальной составляющих деятельности газеты способствовал правильный выбор владельцами главного редактора. Им стал Максим Ипполитович Ганфман (1872-1934), ученый-правовед с большим опытом редакторской работы в периодической печати:
С начала 1900-х годов он сблизился с кругом кадетов, т.е. конституционных демократов, но при этом мудро избегая партийной предвзятости и формального членства в какой-либо партии. С 1905 года по 1918 год редактировал кадетские периодические издания — «Биржевые ведомости», «Свободный народ», «Речь». <...> <После революции> Ганфман нашел новую родину в Риге, где уже 1 января 1922 года была опубликована первая статья Максима Ипполитовича, посвященная русской культуре как выразительнице лучших человеческих идеалов. <...> архив Русских университетских курсов сохранил для нас документы, в которых рукой Ганфмана в графе вероисповедание написано «православный», в графе национальность — «русский». Еврейские корни (Максим Ипполитович крестился при вступлении в брак), верность Православной церкви и, наконец, глубокое понимание проблем молодых Балтийских государств — все это сказалось на том, что он определил главной задачей газеты «Сегодня» служение русской культуре. Вдалеке от родины великая русская культура должна обрести новую перспективу. Смысл ее не в национальном и интеллектуальном изоляционизме, а в наднациональной собирательной миссии, т.е. собирании и единении людей разных национальных меньшинств. <...> Максим Ипполитович не только словом, но и делом старался внести в русскую среду мир и единение. К его голосу прислушивались все: и духовенство во главе с покойным Архипастырем, и русское учительство, и русские общественные организации, и представители русского искусства во главе с Русской драмой, — все ценили указания этого чуткого и искреннего глашатая общественной совести307.
Благодаря авторитету Ганфмана издателям удалось привлечь к сотрудничеству с «Сегодня» все лучшие имена русского рассеяния — как ученых, так и политиков, как военных, так и писателей. Из последних в газете стали печататься
А. Аверченко, Ю. Айхенвальд, М. Алданов, А. Амфитеатров, К. Бальмонт, И. Бунин, З. Гиппиус, Дон Аминадо, Б. Зайцев,
А. Кизеветтер, Вас. Немирович-Данченко, П. Пильский, П. Потемкин, Игорь Северянин, В. Сирин (Набоков), Тэффи, Саша Черный, Е. Чириков, И. Шмелев и другие.
Парижские «Последние новости» и «Современные записки» считали своим долгом поддерживать дружеские отношения с газетой «Сегодня» и договаривались об очередности публикаций и взаимных услугах.
В право-монархических эмигрантских кругах, всегда радевших об «истинно русском» духе, «Сегодня», как, впрочем, и другие издания либерально-демократической ориентации, считали еврейской газетой. Дело в том, что активное участие евреев в книжном деле русского зарубежья постоянно вызывало в эмигрантских антисемитских кругах раздражение. Об одном эпизоде, подтверждающем эти настроения, вспоминает, например, И. Левитан — бывший сотрудник Издательства И.П. Ладыжникова308:
В памяти <...> жив тот день в начале двадцатых годов, когда берлинское издательство И. П. Ладыжникова получило от одного из своих покупателей письмо примерно следующего содержания: «Многоуважаемый господин Ладыжников, прилагаю чек на ... марок и прошу выслать только что выпущенные в свет тома Гоголя, Тургенева и Достоевского. Пользуюсь случаем выразить мою бесконечную радость по поводу того, что существует Ваше русское дело, которое свободно от еврейского засилья и трудится на ниве русской культуры, издания русских классиков и достойных сочинений русских писателей». Я ответил автору этого письма, что Иван Павлович Ладыжников, бывший одним из основателей фирмы в начале века, еще до войны вышел из издательства, и что оно с тех пор принадлежало Борису Николаевичу Рубинштейну (погибшему впоследствии в газовых камерах нацистов) и, увы, руководящую роль играют ... евреи.
Что же касается «Сегодня», то она не была ни «чисто» русской газетой, как, например, гукасовское «Возрождение», которое в 1930-х «не гнушалось антисемитских выпадов»309, ни «эмигрантской», как милюковские «Последние новости», ни «еврейской», как парижский еженедельник «Еврейская трибуна». Она позиционировала себя как «латвийская»,
поскольку обслуживала полиэтнический состав республики, выросший в атмосфере русской культуры (помимо русских также и латышей, и немцев, и поляков, и евреев). В составе редакции было много евреев. Но то были евреи — местные уроженцы, которые владели и латышским, и немецким, и русским языками, знали прошлое и настоящее края, хорошо ориентировались и в жизни сопредельных европейских стран. Между тем русские газетчики преимущественно были наезжими, плохо знакомыми с почвой. Главное же — они ориентировались исключительно на национальную принадлежность читателя. Но 200-тысячная русская Латгалия не давала нужного количества подписчиков из-за слабой грамотности. А 20-тысячное русское население Риги устраивала и «Сегодня», так как газета ощутимо помогала существованию в этом городе. <...>
Связи редакции с богатыми представителями местной еврейской общины — промышленниками, банкирами, коммерсантами — позволили газете стать одним из наиболее успешных, материально обеспеченных периодических изданий Русского зарубежья. <...>
Благодаря работоспособности редакторского коллектива (М. Мильруд, <П. Пильский>, Б. Харитон, Б. Оречкин310) газета преодолела и последствия экономического кризиса 1930-1932 гг., справилась и с недоверием правительства, доказала свою лояльность, пережила смерть М. Ганфмана <...>, вырастила ряд способных молодых газетчиков <...> и процветала бы и дальше, если бы не установление советской власти, молниеносно ликвидировавшей газету311.
Из всех редакторов «Сегодня» И.М. Троцкий состоял в переписке только с Михаилом Семеновичем Мильрудом312, а поскольку через него он передавал приветы Б. Оречкину и Я. Брамсу, можно полагать, что именно эти рижане были с ним на короткой ноге в те годы.
Мильруд также входил в дружеский круг Ивана Бунина. Он всячески содействовал появлению бунинских вещей в «Сегодня», подробно освещал события «нобелианы», занимался организацией турне Бунина по странам Прибалтики в апреле-мае 1938-го313.
За одиннадцать лет сотрудничества с газетой «Сегодня» (с 1926 по 1937 гг.) И.М. Троцкий опубликовал в ней более 40 статей. Для сравнения отметим, что Петр Пильский, будучи, впрочем, постоянным сотрудником и литературным редактором, напечатал там около 2000 статей, фельетонов, рецензий и «заметок по поводу», а приятельница И. Троцкого Татьяна Бартер, бывшая иностранным корреспондентом «Сегодня» (по Италии), за те же одиннадцать лет (1921 г. и 1929-1939 гг.) опубликовала в ней более по статей. В тематическом отношении И.М. Троцкий заявлял себя в «Сегодня» в двух основных жанрах — «путевые заметки» и «мемуарная публицистика». География путевых репортажей Троцкого — Скандинавия, Голландия, Швейцария и Люксембург. Воспоминания относятся, естественно, к предреволюционной эпохе, и касаются как личностей из породы «государственных мужей» — кайзер Вильгельм II, граф Витте, Степан Радич, так — главным образом (sic!) — и деятелей культуры: Шаляпин, Сытин, Вильгельм Бельше, Зудерман, Стриндберг, Луиджи Пиранделло. Импрессионистический стиль статей И.М. Троцкого позволяет ему ярко и убедительно очерчивать образы самых разных, но всегда «значительных» личностей, делать живые наброски «на местности», сообщать информацию о важных событиях. Его темы типичны, их разрабатывают все корреспонденты «Сегодня» — культура и быт, внешняя и внутренняя политика европейских стран, проблемы эмиграции и т.д. При этом он не претендует на «глубину», редко выписывает детали, избегает обобщающих умозаключений аналитического или философского характера и не вдается в психологические тонкости при создании литературных портретов своих героев.
Отсутствие в его личности «потаенных глубин», «уровней» и «граней» и делает фигуру И.М. Троцкого своего рода «зеркалом», в котором без существенных искажений отразилась яркая история русской эмиграции первой волны. Его портретные зарисовки с натуры — доносящие до нас мимику, жесты, голоса и образы выдающихся литераторов, артистов, видных политических деятелей, превращают страницы «Сегодня» в живой кладезь истории русского зарубежья. Вот, например, две статьи И.М. Троцкого, касающиеся Федора Шаляпина. Одна — «Первые шаги Шаляпина в Берлине»314, из жанра воспоминаний, другая — «Триумф Шаляпина в Копенгагене»315, актуальный журналистский репортаж.
Шаляпина берлинская публика <в 191о-х> еще мало знала. Он находился в Берлине по пути в Москву, увенчанный лаврами во Франции. Его приезду в Берлин предшествовало первой триумфальное выступление в Монте-Карло в «Дон-Кихоте».
Внимание музыкального мира Берлина на Шаляпина обратил <...> известный публицист Фридрих Дернбург <...>. Семидесятипятилетний старик Деренбург, случайно слышавший Шаляпина в Монте-Карло, прислал в Бер<линер> Тагеб<латт> специальный фельетон, посвященный Шаляпину <...> — сплошной гимн русскому гениальному певцу. <...>
Нужно знать влияние Деренбурга в германской публицистике и критике, чтобы понять впечатление, вызванное этой статьей.
Шаляпину Деренбург оказал невольно плохую услугу. Он оказался положительно мучеником. Скрыть свое пребывание в Берлине ему было <невозможно>, и его осаждали со всех сторон журналисты, антрепренеры, концертные агенты и всякая другая публика. Особенно <натерпелся> Шаляпин от пресловутых «почитателей таланта».
Помню, мы интимно сидели у Кусевицкого, где Шаляпин собирался рассказать нам о своем восприятии «Дон-Кихота». Вдруг ворвалась какая-то толпа американок и англичанок, требуя автографов певца. Пришлось удовлетворить их просьбу, чтобы только отвязаться. Не успела прислуга выпроводить непрошенных гостей, снова какие-то поклонники. Звонки у дверей не прекращались.
— Знаете что, — говорит Федор Иванович, — сядем в автомобиль и покатаемся по Тиргартену. В автомобиле все вам расскажу. Здесь, видимо, мне не спастись от назойливых субъектов.
Мы так и сделали. Шаляпин прочитал нам речитативом несколько мест из своей партии в «Дон-Кихоте», сопроводив их жестикуляцией. <...> Но этого достаточно было <...>, чтобы я узрел перед собой бессмертного «рыцаря печального образа».
Рядом со мной в автомобиле сидел не Шаляпин, а воскресший Дон-Кихот. Никогда больше в жизни я столь явственно не ощущал близости гения, как в тот момент.
Бледный от волнения Кусевицкий мог только лепетать:
— Федя, еще немного! Ради Бога, еще!316
А вот репортаж о случайной встрече в Копенгагене — уже из эмигрантской эпохи, когда России не стало, а на ее месте за тысячу верст от европейских столиц мчалась в светлое будущее ненавистная «Триэссерия».
Провести несколько дней и вечеров в обществе Шаляпина — радость большая и редкая. Особенно, если Федор Иванович в хорошем настроении, если подберется хорошая компания и если окружающая обстановка располагает к дружеской беседе. С Шаляпиным интимно я не встречался долгие годы. <...> И вот, после многих лет, судьба нас снова свела, но на сей раз не в Берлине и не в Москве, а в Копенгагене.
Четверо суток, проведенных в обществе Шаляпина, пролетели как сон. Засиживались до петухов, к ужасу копенгагенских ресторанных лакеев, чуждых русских понятий об интимных беседах.
Каких только волнующих и интересных вещей я не наслушался за эти вечера <...>. Шаляпин не только гениальный артист и художник, он в неменьшей степени непревзойденный мастер рассказа. Его зоркая наблюдательность, умение подмечать мельчайшие черты в человеческом характере, сочность и образность речи положительно пленяют.
<...> Все рассказанное Федором Ивановичем я тщательно записал и когда-нибудь <поведаю> читателям317. <Однако> сейчас мне хочется рассказать о триумфе Шаляпина в Копенгагене, случайным свидетелем которого я был.
<...> датчане никогда не видели Шаляпина на сцене и <...> к его гастроли в партии Бориса Годунова Копенгаген особенно готовился. <...>
Гастроль Шаляпина была не только личным триумфом певца, но и подлинным праздником русского искусства. Мне неоднократно приходилось быть свидетелем восторгов слушателей, увлеченных мощью таланта, <...> Но мои переживания на постановке «Бориса Годунова» с Шаляпиным в заглавной партии останутся, вероятно, самыми сильными в моей жизни.
Шаляпин превзошел самого себя. Он так спел свою партию и дал такой образ Бориса, что буквально потряс зал. Король Христиан , королева, принцы, двор, министры, цвет копенгагенского интеллектуального и художественного мира объединились вместе с энтуазмированной молодежью галерки в едином порыве нескончаемых и бурных оваций.
<...> режиссер королевского театра, поднося Шаляпину на сцене венок, сказал: «от имени артистов королевской труппы мысленно целую вам руку, маэстро».
Датская критика покорена Шаляпиным. «Шаляпин — гений», <...> «Его величество голос», <...> «Мы теперь понимаем, почему Шаляпина называют мировым артистом»... <...> Целые страницы посвящены Шаляпину.
Даже <сам> Шаляпин, который не всегда собою доволен, на сей раз <...> сказал мне:
— Да, сегодня я своим выступлением удовлетворен. <...> Со мною это не всегда бывает...318
В качестве примера публицистики И. Троцкого в жанре «путевых заметок» приведем выдержки из его статей о посещении Люксембурга319:
Если бы городами можно было бы увлекаться как женщинами, то, несомненно, героинею моего последнего романа была бы столица люксембургского великого герцогства. Две недели живу я в этом городе, исходил и изучил его вдоль и поперек, и все еще не могу им налюбоваться. Это не город, а сказка. Блуждая по его узким вековым улочкам и тихим, отдыхающим в тени столетних каштанов площадям, созерцая изумительной стройности виадуки и мосты, заглядывая в приютившиеся на склонах прорезающего весь город ущелья домики, порою кажется, будто все это видишь в каком-то прекрасном сне. <...> в Люксембурге чувствуется нечто патриархальное, нечто неощутимое, такое человеческое и такое хрупкое нечто.
Буйное обилие зелени, густой аромат цветущих акаций, лип, жасмина и роз усугубляет прелесть столицы. После гиганта Берлина, с его асфальтовым благополучием, трезво холодной архитектурой, строгой планировкой улиц, диким шумом, вонью бензина и бурным темпом жизни, Люксембург мыслится санаторием.
Здесь люди не спешат, не толкаются, не наступают друг другу на ноги, не озлоблены и не раздражены. В Берлине — существуют, тут — живут. Правда, люксембуржцы не столь интенсивны как немцы. В этом отношении они сродни скандинавам. <...> «Разница между немцами и нами та, что немцы живут, чтобы работать, а мы работаем, чтобы жить». <...>
В люксембургском герцогстве очень мало людей, скопивших чудовищные капиталы, но почти нет и бедняков. Социальные контрасты не ощутимы. В ресторанах и кафе вы видите рядом с прекрасно одетыми дамами и мужчинами, в туалетах из Парижа, людей в скромных люстриновых пиджаках и рабочих куртках, только что, по-видимому, оставивших свои конторки, прилавки или заводские станки. Они пьют то же вино, пиво и аперитивы, что и более имущественные классы. Удовольствия тут не дороги и всем доступны. Люксембуржцы гордятся своей скромностью, бережливостью и патриархальным укладом жизни.
Домашний быт герцогини мало чем отличается от семейного быта скромного буржуа или крестьянина. <...> Цивильный лист герцогини весьма невелик и на его средства роскошествовать не приходится. <...> Любой директор берлинского крупного банка получает больше жалованья, нежели суверенша независимого великого герцогства. Да и многие из ее подданных могут похвастаться более значительными доходами! <...>
Люксембургская культура — это не механическая, а органическая слиянность двух культур — немецкой и французской.
В то время как в соседней Бельгии ведется исконная война за фламандское и французское преобладание, а вопрос о фламандском и французском языках не сходит с очереди дня, в люксембургском герцогстве проблема эта разрешена совершенно безболезненно.
В школах люксембургский диалект не преподается, но французский и немецкий языки обязательны. Дети обучаются уже с
шестилетнего возраста обоим языкам. Официальным правительственным языком считается французский. Прения в палате ведутся на французском и немецком языках. Употребление диалекта в парламентских прениях воспрещено. Судоговорение ведется по-французски и по-немецки, но свидетели и стороны допрашиваются на диалекте. Приговор оглашается по-французски. <...>
Люксембуржцы отлично понимают, что на родном диалекте далеко не уедешь. Им квасной патриотизм чужд.
В практической жизни нужны иностранные языки, с которыми можно было бы объездить весь мир. Диалекту дети обучаются дома. Слышат его вокруг себя. Школы дает им знание двух могучих европейских языков и приобщает к двум сильным культурам.
Маленький люксембургский народ по сравнению с германским может считать себя счастливым. Он, конечно, не играет роли в судьбах Европы, но он богат, независим, не должен вооружаться и почти не платит налогов. <...>
Страна не знает кризиса и безработицы и свободна от острых социальных конфликтов <...>
Не страна, а какой-то счастливый оазис среди жуткой европейской пустыни, где кроме жалоб и стонов на кризис, безработицу и банкротства ничего другого не слышишь.
Не знаю, существует ли такой уголок на земном шаре, куда бы эмиграционная волна не выбросила щепок разбитого корабля русской революции. Если какому-нибудь смельчаку удастся преодолеть стратосферу и проникнуть в междупланетное царство, то, вероятно, первое живое существо, которое ему встретится — будет русский эмигрант.
Даже в маленьком люксембургском герцогстве имеется весьма пестрая по национальности социальному составу эмиграция.
Люксембургское правительство оказывает русским эмигрантам широкое гостеприимство, уравняв их в правах на труд и торговлю с собственными гражданами. <...>
...пожилой рабочий в синем рабочем костюме, опоясанный кожаным передником. Знакомимся... Полковник Николай Петрович Керманов320, бывший начальник Корниловского военного училища.
— Простите, руки подать не могу, вся в масле... меня оторвали от машины.
Разговорились. Полковник Керманов ведет меня знакомить со свободными от работы эмигрантами. Все это, в большинстве, бывшие офицеры и вольноопределяющиеся врангелевской армии. Публика молодая, крепкая и дисциплинированная. <...>
... рабочие отлично к нам относятся. Они знают, что мы когда-то жили в иных условиях, понимают нашу нужду, сочувствуют нашей беспочвенности. И хотя мы политически стоим с рабочими на диаметрально противоположенных полюсах, тем не менее, они нас уважают и ценят, как соратников по труду. Правительство нас уровняло в правах на труд с местным населением. <...> Трудимся, работаем, учимся и живем надеждой когда-нибудь увидеть родину. Когда?321
Последняя публикация Ильи Троцкого в газете «Сегодня» от 31 декабря 1937 г. написана по итогам его последнего в довоенный период посещения Швеции322.
Примечания
1 О знаменитом датском ученом, раввине Симонсене см.: David Simonsen: Rabbi, scholar, bibliophile and philanthropist (www. kb.dk/en/nb/samling/js/DSintro.html).
2 Английский оригинал см.: www.search.archives.jdc.org/multi1-media/Documents/NY_ARi92i/ooo21/NY_ARi921_o2918.pdf.
3 Троцкий И. Крах датских надежд на торговлю с СССР (Из дорожных впечатлений) // Сегодня. 1927. № 146. 6 июля. С. 2.
4 Троцкий И. Город-сказка (Путевые наброски); Русские в Люксембурге (Путевые наброски); В стране, не знающей кризисов и безработицы (Путевые наброски) // Сегодня. 1931. № 174. 26 июня. С. 3; № 192. 14 июля. С. 3; № 195. 17 июля. С. 3.
5 Троцкий И. И в Швейцарии тревожно (Путевые наброски) // Сегодня. 1931. № 277. 7 октября. С. 3.
6 Троцкий И. Голландия волнуется (Дорожные наброски); В домике Петра Великого в Саардаме // Сегодня. 1933. № 6о. 1 марта. С. 3; № 58. 27 февраля. С. 2.
7 Троцкий И. Опять в Стокгольме // Сегодня. 1926. № 96. 31 августа. С. 2.
8 Проливов (нем. Sund).
9 Троцкий И. Русская эмиграция (Письмо из Скандинавии) // Последние новости. 1938. № 6127. 23 января. С. 2.
10 Протоиерей Александр Александрович Рубец (1882-1956), профессор русского языка и литературы Упсальского университета и Правительственной гимназии в Стокгольме, доктор юриспруденции, писатель и историк.
11 Троцкий И. Русская эмиграция (Письмо из Скандинавии).
12 Троцкий И. Опять в Стокгольме.
13 Журналистика русского зарубежья ХІХ-ХХ веков. СПб., 2003. С. 186-208.
14 Kratz G. Russische Verlage und Druckereien in Berlin 1918-1941 // Schlögel K, Kucher К, Suchy В., Thun G. u.a. Chronik russischen Lebens in Deutschland, 1918-1941. Berlin, 1995. S. 501-569.
15 Skandura C. Die Ursachen für die Blüte und der Niedergang des russischen Verlagswesens in Berlin in den 20er Jahren // Russische Emigration in Deutschland 1918 bis 1941: Leben im europäischen Bürgerkrieg. Berlin, 1995. S. 405-408.
16 См.: Цфасман А.Б. «Русский Берлин» начала 1920-х годов: издательский бум // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 34. С. 102-107.; Динерштейн ЕЛ. Синяя птица Зиновия Гржебина. М., 2014.
17 Цфасман А.Б. «Русский Берлин» начала 1920-х годов: издательский бум.
18 Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж; М., 1996. С. 29-32.
19 Журналистика русского зарубежья ХІХ-ХХ веков. С. 1о.
20 Частное издательство «Сеятель» Е.В. Высоцкого было основано в Петрограде в 1922 г. Предприимчивый издатель, занимаясь выполнением подрядов по печатанию бланков и книг для госучреждений, нажил значительное состояние. Издательство выпускало ежегодно 50-60 названий научной, научно-популярной и учебной литературы по всем отраслям знаний, справочную и художественную литературу (главным образом переводную классику). Наибольшую известность получила дешевая «Общедоступная библиотека» современной и классической зарубежной литературы — вышло около 200 выпусков). Выпускались также серии методической литературы «Библиотека сельского учителя»; «Библиотека городского учителя», «Литературная библиотека рабочих клубов». Издательство было закрыто в 1930 г. См.: Володарская А. Сеятель (http://sites. utoronto.ca/tsq/45/tsq45_volodarskaya.pdf).
21 В № 1 и 2 журнала была опубликована «Декларация конструктивистов». Затем журнал был запрещен к распространению в СССР и прекратил свое существование (www.artrz.ru/ places/18o48o8863/18o4967053.html).
22 Берберова Н. Курсив мой: автобиография. М., 1996. С. 205.
23 Цфасман А.Б. «Русский Берлин» начала 1920-х годов: издательский бум.
24 Троцкий И. История одной драмы (Из берлинских воспоминаний) // Новое русское слово. 1952. № 14 567. С. 3.
25 Этот союз, образованный в августе 1921 г., выполнял не только организационные и представительские функции, но также обязанность представительства — перед иностранными правительственными и общественными учреждениями, объединениями иностранной печати, отвечал за распространение за границей сведений о русской литературе. В правление входили: И.В. Гессен, В.Д. Набоков, Б.С. Оречкин и др. Союз просуществовал до 1935 г. Первым председателем Союза был И.В. Гессен, затем А.А. Яблоновский.
26 Голубева А.Г. Яблоновский Александр Александрович [15.11.1870-03.07.1934] (www.az-libr.ru/index.htm? Persons& 000 /Src/oo1o/e2f1ede).
27 Нуар Ж. Бал прессы (Фотография в рифмах) // «Aidas» (Иллюстрированное приложение к газете «Эхо»). 1924. № 10(30). 2 марта. С. 6.
28 Entschädigungsbehörde des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Berlin): Ilja Trotzky, Akten Reg.170 128.
29 А. Гайлит был по происхождению латышом, но писал на эстонском и считается эстонским писателем.
30 «Vossischen Zeitung» — старейшая берлинская газета либерального направления, закрытая нацистами в 1934 г.
31 У Гайлита нет произведения с таким названием.
32 Земгор или РЗКГ (Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей) просуществовал до 1946 г. Эта старейшая эмигрантская организация была учреждена в Париже в 1920 г. при политической и финансовой поддержке французского правительства. В 1921 г. на общем съезде был принят устав организации, определено число членов ко-митета и проведены выборы. Руководство Земгором осуществляли главным образом видные кадеты и правые эсеры.
33 Поляков-Литовцев С. Диспут об антисемитизме // Последние новости. 1928. 29 мая. С. 2.
34 Будницкий О.В., Полян АЛ. Русско-еврейский Берлин. М., 2013; Schlögel К., Kucher К., Suchy В., Thun G. Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918-1941; Шлегель К. Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между двумя войнами
(1918-1945). М., 2004.
35 Белов В. Белое похмелье. Русская эмиграция на распутье. М., 2012. С. 101-102.
36 Шульгин В.В. Что нам в них не нравится. СПб., 1992. С. 72
37 Солженицын А.И. Двести лет вместе. Часть 2. М., 2002. С. 61.
38 Его доклад (апрель 1917 г.) «О земле» вызвал огромный интерес и был опубликован тиражом в несколько миллионов экземпляров.
39 Фондаминский Илья // Краткая еврейская энциклопедия. Т. 9. Стлб. 252-255 (www.eleven.co.il/?mode=article&id=14316&query=).
40 См.: Лавров А. Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок: Равнина русская // Новая русская книга. 2002. № 1 (http:// magazines.russ.ru/nrk/2002/1/lavr.html).
41 16 января 2004 г. Священный Синод Вселенского Патриархата в Константинополе принял решение о канонизации монахини Марии (Скобцовой), протоиерея Алексея Медведкова, священника Димитрия Клепинина, Юрия Скобцова и Ильи Фондаминского. Впервые в истории Церкви причислив к лику святых и священномучеников представителей русского Зарубежья, погибших от рук нацистов, Вселенская Патриархия, таким образом, отметила мученический путь и высокое значение духовной миссии первой волны русской эмиграции в истории XX столетия.
42 Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 5. СПб., 1999. С. 564.
43 Акао Мицухару. «Еврейский вопрос» как русский (общественное движение русских писателей в защиту евреев в последние десятилетия царской России) (https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/ coe21/publish/no17_ses/11akao.pdf).
44 Будницкий О.В., Полян А.Л. Русско-еврейский Берлин. С. 181-182.
45 Н.Е. Марков (Марков 2-й) и А.М. Масленников — политические деятели крайне правой антисемитской ориентации, оба входили в состав Высшего монархического совета, созданного в 1921 г. и существующего на маргинальном уровне и по сей день.
46 Будницкий О.В., Полян А.Л. Русско-еврейский Берлин. С. 182-183.
47 Там же. С. 372.
48 Книга о русском еврействе: от 1860-х годов до революции 1917 г. Здесь опубликованы статьи И.М. Троцкого «Самодеятельность и самопомощь евреев в России (ОПЕ, ОРТ, ЕЛЩ, ОЗЕ, ЕКОПО)» (С. 479-480, 485-489) и «Евреи в русской школе» (С. 358-360).
49 Книга о русском еврействе (1917-1967). Нью-Йорк, 1968. Здесь опубликованы статьи И.М. Троцкого «Еврейские погромы на Украине и в Белоруссии 1918-1920 гг.» (С. 56-69) и «Новые русско-еврейские эмигранты в Соединенных Штатах» (С. 399-
413).
50 Солженицын А.И. Двести лет вместе. Часть 1. М., 2001. С. 476.
51 «Джойнт» (American Jewish Joint Distribution Committee, сокр. JDC) или «Американский еврейский объединенный распределительный комитет»; до 1931 г. «Объединенный распределительный комитет американских фондов помощи евреям, пострадавшим от войны» — крупнейшая еврейская благотворительная организация, созданная в 1914 г. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Во время Первой мировой войны «Джойнт» пересылал деньги через посольство США в Петрограде всероссийскому Еврейскому комитету помощи жертвам войны (ЕКОПО), а уже ЕКОПО распределял эту помощь по своему усмотрению, наряду со средствами, собранными среди российских евреев, полученными от правительства или из иных источников. В Германии «Джойнт» работал с «Еврейским комитетом помощи Польше и Литве» («Das Jüdisches Hilfskomite für Polen und Litauen»). До конца 1917 г. «Джойнт» перевел в Россию 2 532 ооо долларов, 3 ооо ооо — в зону немецкой оккупации Польши и Литвы, 1 532 300 — в Галицию и 76 ооо — в Румынию. См.: Beizer М. The American Jewish Joint Distribution Committee // The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. New Haven & London, 2008. P. 39-44.
52 Солженицын А.И. Двести лет вместе. Часть 1. С. 490, 491.
53 Седых А. Памяти И.М. Троцкого.
54 Талмуд, трактат «Бава Батра» 9а.
55 Bracha R., Drori-Avrachem A., Yantian J. Educating for life: New
Chapters in the History of ORT. L., 2010. P. 83, 111; Trotzky I. Economic developments of the jews in Argentina // ORT Economic Review. 1942. Vol. 3. № 2. P. 15-27; Libro Aniversario. 80 Años ORT. 1880-1960. Buenos Aires, 1960; Shapiro L. The History of ORT.
56 Thing M. De russiske joder i Kobenhavn 1882-1943. Kobenhavn, 2008. S. 560.
57 Троцкий И.М. Сионистский конгресс (Письмо из Цюриха) // Сегодня. 1937. № 5978. 20 августа. С. 2.
58 Будницкий О.В., Полян АЛ. Русско-еврейский Берлин. С. 83-114.
59 Пархомовский М. Действительно ли русским был «Русский Берлин»? (www.berkovich-zametki.com/2013/ Zametki/Nomer5/ Parhomovsky1.php).
60 Солженицын А.И. Двести лет вместе. Т. 2. С. 79-97.
61 Боравская И.Б. Воплощение натурфилософской концепции в художественной прозе М. Осоргина 1920-х годов. Автореферат. М., 2007.
62 Осоргин МЛ. Русское одиночество // Евреи в культуре Русского Зарубежья. Т. 1. Иерусалим, 1991. С. 17.
63 Абызов Ю., Равдин Б., Флейшман А. Русская печать в Риге. Т. 2. Stanford, 1997. С. 12.
64 Будницкий О.В., Полян АЛ. Русско-еврейский Берлин. С. 47-53.
65 И.М. Троцкий проживал по адресу «Kurfürstendamm 159, Berlin-Wilmersdorf», в дошедшем до наших дней доме постройки 1906-1907 гг. (архитекторы Н.С. Ziechmann и R. Krause. Судя по сохранившейся описи обстановки, квартира была богато обставлена (картины, дорогая мебель, ковры, пианино). Соседями по дому были представители зажиточной буржуазии: японский дипломат, бизнесмен, врачи.
66 «Kurfürstendamm» (www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmers-dorf/bezirk/lexikon/kudamm.html).
67 Берлинский сецессион (Berliner Secession) — художественное объединение берлинских художников и скульпторов конца XIX начала XX вв, отвергавших доминировавшее академическое искусство.
68 Metzger K.-H., Dunker U. Der Kurfürstendamm — Leben und Mythos des Boulevards in 100 Jahren deutscher Geschichte. Berlin, 1986.
69 Christoffel U. Berlin Wilmersdorf — Die Juden — Leben und Leiden. Berlin, 1987.
70 Этот дом был полностью разрушен во время Второй мировой войны. В послевоенные годы, живя в США, Троцкий безуспешно пытался получить по суду компенсацию от правительства ФРГ за это утраченное им после бегства в 1933 г. из нацистской Германии имущество.
71 Рейхсмарка, денежная единица в Веймарской республике.
72 Die wirtschaftliche und soziale Lage der Angestellen. Berlin, 1931. S. 106.
73 Будницкий O.B., Полян A.Л. Русско-еврейский Берлин. С. 228-229.
74 Уральский М. «Дорогой друг» из Нью-Йорка: письма Дон Аминадо И.М. Троцкому (1950-1953) // РЕВА. Кн. 9. Торонто-СПб., 2014. С. 141.
75 Еврейское колонизационное общество (ЕКО; Jewish Colonization Association, JCA), филантропическая организация, основанная в 1891 г. в Лондоне для содействия колонизации Аргентины, а затем и Эрец-Израэль евреями-эмигрантами из России и других стран Восточной Европы. В настоящее время ЕКО помогает различным еврейским организациям Англии, Франции, Бельгии, Израиля, Аргентины и Бразилии, главным образом в сфере образования и культуры.
76 О нем см.: Аронсон Г. Жизнь и деятельность Леонтия Моисеевича Брамсона (1869-1941); Львович Д. Л.М. Брамсон и Союз ОРТ // Еврейский мир. Сборник 1944 года. Иерусалим; М.; МИНСК, 2001.
77 Bracha R., Drori-Avrachem A., Yantian J. Educating for life: New Chapters in the History of ORT.
78 Политическое движение либерально-демократического направления, созданное в 1903 г.; на его базе в октябре 1905-го была учреждена кадетская партия.
79 Сыпченко А.В. Трудовая народно-социалистическая партия: идеология, программа, организация, тактика: 1906 г. середина 1920-х гг. Автореферат. Самара, 2002.
80 Составленное в Выборге обращение от 9 июля 1906 г. «Народу от народных представителей», подписанное значительной группой депутатов Государственной Думы I созыва через два дня после ее роспуска. Воззвание призывало к пассивному сопротивлению властям (гражданскому неповиновению) — отказу от уплаты налогов, военной службы по призыву и т.д.
81 «Трудовики», официально «Трудовая группа» — политическая организация 1906-1917 гг., которая стремилась бороться за интересы и отражать настроение всего трудового народа, объединяя главным образом три общественных класса, которые она причисляла к «трудящимся»: крестьянство, рабочий пролетариат и трудовую интеллигенцию.
82 По другим данным, Брамсон покинул Россию в 1918 г.
83 Будницкий О.В., Полян АЛ. Русско-еврейский Берлин. С. 86.
84 Аронсон Г. Жизнь и деятельность Леонтия Моисеевича Брамсона (1869-1941); Львович Д. Л.М. Брамсон и Союз ОРТ.
85 Лагашина О. Марк Алданов: биография эмигранта (http://ru-aldanov.livejournal.com/35790.html).
86 Бахрах А. Вспоминая Алданова // Грани. № 124. 1982. С. 167, 173. (в оригинале ошибочно «Воспоминания Алданова»).
87 Аронсон Г.Я. Россия накануне революции. Исторические этюды: Монархисты. Либералы. Масоны. Социалисты. Нью-Йорк, 1962. С. 144.
88 Статья опубликована на английском языке: 80 Years of ORT. Historical Materials, Documents and Reports. Geneva, 1960. Р. 33-54.
89 Аронсон Г.Я. Россия накануне революции. С. 144; 170-179.
90 Здесь: основание (от франц. raison d'etre).
91 Будницкий О.В., Полян АЛ. Русско-еврейский Берлин. С. 210.
92 Там же. С. 214.
93 Там же. С. 215.
94 Там же. С. 83-231.
95 Глушанок Г. А.А. Гольденвейзер и Набоковы (по материалам архива А.А. Гольденвейзера) // РЕВА. Кн. 2. Иерусалим; Торонто; Петербург, 2007. С. 115-142.
96 MS. 1066/2818-2824, Gordenveizer А.А.
97 Единственная работа, в которой среди прочего описывается и его деятельность: Хазан В. О семье Поляк и проекте борьбы с «мировым черносотенством» // Лехаим. 2011.
98 Набоков К.Д. Испытания дипломата. Стокгольм, 1921. С. 187-188.
99 Будницкий О.В., Полян А.Л. Русско-еврейский Берлин. С. 152.
100 Солженицын А.И. Двести лет вместе. Т. 2. С. 79-97.
101 Ежемесячные собрания русских писателей, проходившие в парижском зале Русского торгово-промышленного союза в 1926-1939 гг.; были организованы Д. Мережковским по аналогии со знаменитым одноименным кружком пушкинской эпохи и мыслились им как «нечто вроде “инкубатора идей”, род тайного общества, где все были бы между собой в заговоре в отношении важнейших вопросов». Председателем общества был Георгий
Иванов. См.: «Воскресенья» у Мережковских и «Зеленая лампа» // Терапиано Ю. Встречи: 1926-1971. Нью-Йорк, 1953. С. 46.
102 Литературное объединение эмигрантских писателей в Париже, возглавлявшееся Марком Слонимом, позиционировавшее себя свободной литературной трибуной, лишенной групповых и партийных пристрастий и считавшее необходимым изучение актуальной русской советской литературы. См.: Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции, 1919-1939. М., 1994.
103 Хазан В. О семье Поляк и проекте борьбы с «мировым черносотенством» // Лехаим. 2011. № 8 (232).
104 Седых А. Памяти С.Л. Полякова-Литовцева // Новый журнал. 1945. № 11. С. 348-349.
105 Будницкий О.В., Полян АЛ, Русско-еврейский Берлин. С. 24, 254-257.
106 Entschädigungsbehörde des Landesamtes für Bürger— und Ordnungsangelegenheiten (Berlin): Ilja Trotzky, Akten Reg.170 128.
107 Будницкий O.B., Полян АЛ, Русско-еврейский Берлин. С. 256.
108 Grossman V. The pan-Germanic web. Toronto, 1944.
109 «Politiken» («Политика») — крупнейшая ежедневная датская газета, основанная в 1884 г. и существующая по сей день.
11o Grosman Wl. Juden in Kopenhagen. Kopenhagen, 1918.
111 JTA — международное информационное агентство, основанное 6 февраля 1917 г. в Амстердаме. В настоящее время штаб-квартира находится в Нью-Йорке, корпункты в Вашингтоне, Иерусалиме, Москве и в тридцати других городах мира.
112 Schulte J., Tabachnikova О., Wagstaff Р. The Russian Jewish Diaspora and European Culture, 1917-1937. Leiden, 2012. S. 229.
113 О нем см.: Пухвель X. Аугуст Гайлит — Романтик XX века // Гайлит А. Тоомас Нипернаади: роман в новеллах (www.rulit. me/books/novelly-read-404723-25.html).
114 Тайлит А. Тоомас Нипернаади. Таллинн, 1993.
115 Пухвель X. Аугуст Гайлит — Романтик XX века (www.e-reading. club/chapter.php/1039176/5/Gaylit_-_Novelly.html).
116 Hasselblatt С. Estnische Literatur in deutscher Übersetzung. Eine Rezeptionsgeschichte vom 19. bis zum 21. Jahrhundert. Wiesbaden, 2011. S. 121-131.
117 В ноябре 1944-го вышел первый номер «Франс-Суар», которой Пьер Лазарефф руководил более четверти века; до конца 1980-х имела наибольший тираж среди французских газет. Год спустя увидел свет и первый номер знаменитого впоследствии женского журнала «ELLE» — детища Элен Лазарефф-Гордон.
118 Биск А. Русский Париж 1906-1908 гг. // Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 387.
119 Раев М, Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции: 1919-1939. С. 261-262.
120 Березовая Л.Г, Культурная миссия пореволюционной эмиграции как наследие Серебряного века // Новый Исторический вестник. 2001. №3(5).
121 Струве Г.П. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы. С. 49.
122 Марченко Т.В. Русские писатели и Нобелевская премия. Köln; München, 2007. С. 426.
123 Абызов Ю. Равдин Б., Флейшман А, Русская печать в Риге. Stanford, 1997. Т. 3. С. 51.
124 Устами Буниных. Т. 2. М., 2005. С. 235.
125 Троцкий И, Среди нобелевских лауреатов (письмо из Стокгольма) // Последние новости. 1930. № 3560. 21 декабря; Получат ли Бунин и Мережковский Нобелевскую премию? (письмо из Стокгольма) // Сегодня. 1930. № 360. 30 декабря.
126 Нинов А, М. Горький и Ив. Бунин. История отношений. Проблемы творчества. Л., 1973. С. 5.
127 Струве Г. Русская литература в изгнании. С. 170.
128 Яновский В.С. Поля Елисейские: Книга памяти. М.; Берлин, 2016. С. 173, 175.
129 Этот отзыв автору сообщил художник Валентин Воробьев, бывший одним из учеников портретиста.
130 Шор Д, Поездка в Палестину // Шор Д.С. Воспоминания / Под-гот. Ю. Матвеевой. Иерусалим; М., 2001. В 1907 году Бунин и его будущая жена Вера Муромцева совершали поездку в Египет и в Святую Землю: в Яффо, Иерусалим, Хеврон, на Тивериадское озеро (Кинерет) и в Хайфу. Впечатления от этой поездки легли в основу «палестинских» рассказов и стихотворений Бунина, а так же описаны в книге В.Н. Муромцевой «Жизнь Бунина. Беседы с памятью».
131 Интересно, что спустя тридцать лет Бунин вспоминает имя своего случайного попутчика в рассказе «Муза» (1938): «— Я вас видела вчера на концерте Шора», — безразлично сказала она».
132 «Надменность Бунин надевал, как тогу, чтобы показать дистанцию, отделяющую гения от простых смертных. Но стоило ему немного разойтись, а этому в немалой степени способствовал его темперамент, как тога спадала; он снова натягивал ее только в том случае, когда ему казалось, что к нему относятся недостаточно почтительно, а до почитания он был лаком и никогда им не насыщался» (Ум-эль-Банин. Последний поединок Ивана Бунина // Время и мы. № 40. 1979. С. 9).
133 Это отмечает и Василий Яновский, рисующий в своих мемуарах «бытовой» портрет Бунина.
134 И.А. Бунин: pro et contra. Личность и творчество Ивана Бунина в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. М., 1999; Witczak P. Иван Бунин в воспоминаниях Н. Берберовой, И. Одоевцевой и 3. Шаховской // Polilog. Studia Neofilologiczne. 2011. № 3. С. 41-51.
135 Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать. Jerusalem, 2011. Т. 1 С. 488-491.
136 Хазан В. «Отблеск чудесного» прошлого. Переписка М.А. Осоргина и А.В. Бахраха в годы Второй мировой войны // Новый журнал. 2011. № 262.
137 Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989.
138 Военные годы Бунины безвыездно провели на юге Франции, в Грассе, на вилле Жанет (Villa Jeannette), принадлежавшей одной англичанке, уехавшей с началом войны на родину. Собственных денежных средств, как и доходов, у них практически не было и они существовали в основном за счет материальной помощи, приходившей от зарубежных друзей и почитателей. В 1940-1947 гг. ряд шведских организаций и частных лиц поддерживали Бунина деньгами и продовольственными посылками. Организовывал и координировал помощь горячий поклонник Бунина, журналист-эмигрант Сергей Цион.
139 Г.В. Адамович.
140 Яновский В. С. Поля Елисейские: Книга памяти. С. 178.
141 См.: Юбилей И.А. Бунина // Русское слово. 1912. № 246 (25 октября). С. 6; № 247 (26 октября). С. 7; № 248 (27 октября). С. 6; № 249 (28 октября). С. 6; № 250 (30 октября). С. 6-7; Бабореко А.К. Бунин. М., 2009. С. 198-200.
142 И.А. Бунин: pro et contra. С. 368.
143 Эта обретенная Буниным «харизма» никем и никогда не оспаривалась и, более того, по умолчанию признавалась в СССР, чье руководство не прочь было вернуть писателя на Родину.
144 Бакунцев А.В. Речь И.А. Бунина «Миссия русской эмиграции» в общественном сознании эпохи // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. М., 2014. С. 268-337.
145 Березовая Л.Г. Культурная миссия пореволюционной эмиграции как наследие Серебряного века.
146 Бакунцев А.В. Речь И.А. Бунина «Миссия русской эмиграции» в общественном сознании эпохи. С. 268.
147 Не вдаваясь в подробности, отметим, что в идейной дихотомии «двух Иванов» — Бунин/Шмелев, лишь последний заявлял себя «монархистом-консерватором с демократическим оттенком». См. запись в дневнике Муромцевой-Буниной от 29 июня 1923 г. (Устами Буниных. Т. 2. С. 93).
148 Бакунцев А.В. Речь И.А. Бунина «Миссия русской эмиграции» в общественном сознании эпохи. С. 293.
149 Там же. С. 294.
150 Супруги М.С. и М.О. Цетлины, И. Бунаков-Фондаминский, И. Цион были видными деятелями Партии социалистов-революционеров (эсеры), М. Алданов и И. Троцкий членами Народно-социалистической (трудовой) партии (энесы), к социалистам-бундовцам в молодости примыкал Ф. (С.С.) Атран.
151 Мережковский Д. Еврейский вопрос как русский // Щит. М., 1915 С. 136-138.
152 Бакунцев А.В. Речь И.А. Бунина «Миссия русской эмиграции» в общественном сознании эпохи. С. 272-274.
153 В личной переписке Гиппиус неоднократно встречаются типичные антисемитские коннотации, см., напр.: «В редакции “Речи” 2 я сразу же задохнулась от чеснока: Гессен, 3 Ганфман, 4 Изгоев, 5 Галич 6 — все! Все! Ну, пусть жид, ну, пусть два, а то все! Человек 15 главных сидело, и ни единого не жида! В “Слове” 7 тоже вроде, но, кажется, есть один малоросс и один армяшка. Но “Слово” само какое-то трухлявое... Не обращайте внимания на мой злостный жаргон, это уж от полноты души и от здешней “красоты”. “Кабы если б не этот мой девичий стыд, что иного словца мне сказать не велит“ — я бы вам и не то еще написала», или «Была в “Жидовнике”...» — так она величала журнал «Шиповник», редактируемый ее и Мережковского близким другом Ильей Фондаминским. См.: Письма З. Гиппиус к Б. Савинкову: 1908-1909 годы // Русская литература. 2001. С. 149, 154. Будучи весьма несдержанна на язык, Гиппиус, возможно, использовала оскорбительное в русском языке слово «жид» и в личных беседах, но не более того.
154 Бакунцев А.В. Речь И.А. Бунина «Миссия русской эмиграции»
в общественном сознании эпохи. С. 272-274.
155 Щит: Литературный сборник / Под редакцией Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба. Издание 3-е, дополненное. Москва: Русское общество для изучения еврейской жизни, 1916.
156 Здесь прежде всего следует упомянуть Леонарда Розенталя, Сергея Циона и Френка Атрана. Последний после войны выплачивал Бунину (а также Тэффи) ежемесячное вспомоществование.
157 Начало дружбы Буниных с супругами Цетлиными, людьми не только состоятельными, но и отличавшимися большим «художественным вкусом и преданностью литературе», относится к 1917-1918 гг. Затем М.С. Цетлина «опекала» Буниных в течение более четверти века. В письме от 8 апреля 1947 г. Бунин, благодаря ее, патетически восклицает: «Я бы совершенно пропал, если бы не помощь Ваша!» (Винокур Н. Сквозь волны времени. Raleigh, 2011. С. 1оо-101; в главе «Архивные находки» этой книги подробно, с привлечением большого числа документальных материалов, рассказывается о М.С. Цетлиной и ее дружбе с Буниными).
158 Поляков-Литовцев С. Париж (Из воспоминаний журналиста) // Новое русское слово. 1943. № 10943. (7 февраля). С. 3.
159 Партис З. Марк Алданов // Слово/Word. 2007. № 54.
160 И.А. Бунин — М.С. Цетлиной (Винокур Н. Сквозь волны времени. С. 1оо-101.
161 Дубовиков А.Н. Выход Бунина из Парижского Союза писателей // Литературное наследство. Т. 84, кн. 2. М., 1973; Пархомовский М.А. Конфликт М.С. Цетлиной с И.А. Буниным и М.А. Алдановым // Евреи в культуре Русского Зарубежья. Т. 4. Иерусалим, 1995. С. 310-325; Партис З. Марк Алданов.
162 Винокур Н. Сквозь волны времени. С. 53-233.
163 Русско-еврейская диаспора: Очерки истории / Автор-составитель и гл. ред. М. Пархомовский. Иерусалим, 2012. С. 61.
164 Устами Буниных. Т. 2. С. 85.
165 Curtis J.-L. Baccarat. New York, 1992.
166 У Леонарда было два младших брата-компаньона — Адольф (18?? —1941) и Виктор (1880-1962), все они тесно сотрудничали с фирмой Картье, см.: Nadelhoffer Я. Cartier. London, 2007. P. 125-126.
167 См.: www.reseau-canope.fr/mnemo/web/vueNot.php?index=277957
168 Устами Буниных. Т. 2. С. 8о.
169 Мережковского.
170 Пахмусс Т. Письма Зинаиды Гиппиус Владимиру Злобину, 1922-1923 // Лебедь. (Бостон). 1998. № 94. 1 января.
171 В начале 1950-х он выпустил в свет автобиографическую книгу, иллюстрированную Рахелью Розенталь: Rosenthal L. The Pearl Hunter. An Autobiography of Leonard Rosenthal. N. Y. 1952.
172 Fedulova R. Lettres divan Bunin à Mark Aldanov, II. 1948-1953 // Cahiers du monde russe et soviétique. 1982. Vol. 23. № 3-4. Р. 469-500.
173 EYDES. 2008. S. 309.
174 Личности М.Я. Эттингона и Фридмана не установлены.
175 См. прим. 4 к письму 16 В.Н. Буниной к Т.М. Ландау от 24 сентября 1952 г. («Жаль, что так рано кончились наши бабьи вечера »).
176 Марченко ТВ. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 18-52.
177 Троцкий И. Среди нобелевских лауреатов (Письмо из Стокгольма).
178 Троцкий И. Встреча с Синклером Льюисом (Дорожные наброски) // Последние новости. 1930. № 352. 21 декабря. С. 2.
179 Мазирка КО. Романы Синклера Льюиса 30-40-х гг. XX в. Автореферат. М., 2000.
180 Манделъ Б.Р. Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия. М.; Берлин, 2015. С. 393.
181 Глобтроттер (англ. Globetrotter) — здесь вечный странник, бродяга по миру. Синклер Льюис отличался непостоянством характера и склонностью к перемене мест, что во многом было вызвано его чрезмерным пристрастием к алкоголю.
182 The American Fear of Literature Nobel Lecture (www.nobelprize. org/nobel_prizes/literature/laureates/193o/lewis-lecture.htm).
183 В 1927 г. Драйзер посетил Советскую Россию и принял участие в праздновании десятой годовщины Октябрьской революции. В ходе своего 77-дневного путешествия писатель побывал в Ленинграде, Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Баку, Тбилиси, Одессе и других советских городах, встречался с советскими деятелями культуры. После поездки опубликовал весьма комплиментарную книгу «Драйзер смотрит на Россию». В 1943 г. Драйзер писал: «Что касается коммунистической системы, как я ее видел в России, я полностью за нее. Я видел их заводы, их шахты, их магазины, их комиссаров... И никогда в моей жизни я не встречал более образованных, более возвышенных в мыслях, более доброжелательных и отважных мужчин и женщин... В общем у меня возникло страстное чувство уважения к этому великому народу, и я все еще сохраняю это чувство...». Поскольку сегодня антисемитизм стал составляющей многих идеологий левого толка, существенно отметить, что Драйзера, который был горячим поклонником коммунизма и СССР, а незадолго до смерти вступил в компартию США, отличала явная антипатия по отношению к евреям — не свойственная в те годы левой американской интеллигенции, см: ЭЕЭ (www. eleven.co.il/article/13B82).
184 Кто станет нацистом? (http://kermlinrussia.com/kto-staniet-nat-sistom/).
185 Thompson D. Wo goes Nazi? (http://harpers.org/archive/1941/08/ who-goes-nazi/).
186 Thompson D. The New Russia. N. Y., 1928.
187 Бакунцев А. «Вокруг Бунина». Газета «Сегодня» в «нобелевские дни» 1933 // Новый журнал. 2010. № 260. С. 156-166.
188 Уральский М. На закате трудов и дней: переписка Буниных и Алданова с Ильей Троцким (1950-1953) // РЕВА. 2014. Кн. 9. С. 103.
189 Троцкий И. Среди нобелевских лауреатов (Письмо из Стокгольма); Получат ли Бунин и Мережковский Нобелевскую премию? (Письмо из Стокгольма).
190 Марченко ТВ. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 336-339.
191 «Жизнь Арсеньева» (1930).
192 Бакунцев А. «Вокруг Бунина».
193 Heywood А. J. Catalogue of the I.A. Bunin, V.N. Bunina. Leeds, 2011. MS. 1066/8220. P. 153.
194 Подобную позицию высказали Шведской академии в своем открытом письме протеста и 49 шведских писателей во главе с тогдашней мировой знаменитостью Августом Стриндбергом. См.: Марченко ТВ. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 93-109.
195 Троцкий И. Газета «Дни», 1926 г. вырезка из статьи без названия в РАЛ: Heywood A.J. Catalogue of the I.A. Bunin, V.N. Bunina. MS. 1066/8116. C. 153.
196 Троцкий И. Оскорбленная литература (По поводу Нобелевской премии).
197 Троцкий И. Встреча со Стриндбергом // Сегодня. 1929. № 179. 20 февраля. С. 3.
198 Блох А. Советский Союз в интерьере нобелевских премий. М., 2005. С. 128-135.
199 Бонгард-Левин Г.М. Четыре письма И.А. Бунина М.И. Ростовцеву // Скифский роман. М., 1997. С. 300; Кто вправе увенчивать? // Наше наследие. 2001. № 59-60.
200 Драматические подробности см.: Марченко Т.В. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 93-265.
201 В 1909 г. Бунину было присвоено звания почетного академика императорской Академии наук по разряду изящной словесности.
202 Устами Буниных. Т. 2. С. 292.
203 Кузнецова Г. Грасский дневник. М., 1995. С. 190-191.
204 Устами Буниных. Т. 2. С. 235.
205 Письмо хранится в РАЛ-Архив Ивана Бунина» (MS. 10666/5595).
206 В своих докладных письмах в НКИД советский посланник в Швеции Александра Коллонтай сообщала о лоббировании интересов Бунина Сержем де Шессеном, различным образом передавая его фамилию по-русски: «В связи с Буниным здесь проявляет особенную активность пресс-атташе французского посольства, председатель союза инжурналистов, некий де-Шассен, бывший русский, хотя и уехавший во Францию до революции. Он писал о Союзе пакостные книги. Фигура к нам враждебная». При этом Коллонтай не раз подчеркивает, что де Шессен «(собственно — Хейсин)», хотя настоящая фамилия журналиста была Шерешевский. См.: Блох А. Советский Союз в интерьере нобелевских премий. С. 129, 132, 133.
207 См.: Письма М.А. Алданова к И.А. и В.Н. Буниным // Новый журнал. 1965. № 81. С. 128.
208 Пахмусс Т. Из Архива Мережковских: I. Письма З.Н. Гиппиус к И.А. Бунину // Cahiers du monde russe et soviétique. 1981. Vol. 22. № 4. Р. 452.
209 Марченко ТВ. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 263.
210 Там же. С. 341.
211 Седых А. Памяти И.М. Троцкого.
212 Юнггрен М. Русские писатели в борьбе за Нобелевскую премию // На рубеже веков: Российско-скандинавский литературный диалог. М., 2001. С. 5-15.
213 Марченко Т.В. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 348-354.
214 Бонгард-Левин Г.М. Кто вправе увенчивать?
215 Шмелев И.С. Слово на чествовании И.А. Бунина // Россия и
славянство. 1933. № 227. С. 2.
216 Марченко ТВ. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 289.
217 Письмо находится в РАЛ-Архиве И.А. Бунина (MS. 1066/5593).
218 Бакунцев А. «Вокруг» Бунина.
219 Троцкий И. Нобелевская премия (Письмо из Стокгольма) — вырезка статьи в РАЛ-Архив И.А. Бунина (МІ 1066/8285).
220 О нем подробно см.: Марченко ТВ. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 86-90.
221 «Dagens Nyheter» («Новости дня») — крупнейшая в Швеции стокгольмская ежедневная утренняя газета, основана 23 декабря 1864 г.
222 Absit invidia verbo! (лат.) — Пусть сказанное не вызовет неприязни!
223 Поскольку все «лоббисты» были активными деятелями ОРТ, эта организация может по праву быть причислена к числу институций, способствовавших продвижению кандидатуры Бунина на получение Нобелевской премии.
224 Гончаров Ю.Д. Вспоминая Паустовского. Предки Бунина. Воронеж, 1972; Будаков В.В. Отчий край Ивана Бунина. Родина и чужбина. Воронеж, 2000; И.А. Бунин: pro et contra.
225 Бахрах А. Бунин в халате. По памяти и по записям. Нью-Йорк, 1979. С. 98.
226 Статьи о литературе и культуре в газете «Последние новости» (Париж, 1920-1925) / Сост. Н.Ю. Симбирцева, Т.Г. Петрова // Литературоведческий журнал. 2007. № 21. С. 260.
227 Е. Rudelius (Dagens Nyheter. 1933. 26.11. S. 28).
228 Марченко Т.В. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 455.
229 Троцкий И. Каприйские досуги (Из личных воспоминаний) // Новое русское слово. 1967. 22 января. С. 2, 7.
230 Бакунцев А. «Вокруг Бунина».
231 Имеется в виду статья «Бунина ждут в Швеции» // Сегодня. 1933- № 318. 17 ноября.
232 Бакунцев А. «Вокруг Бунина».
233 Бунина В.Н. То, что я запомнила о Нобелевской премии // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции М., 1994; Бунин И.А. Записи // Иллюстрированная Россия. 1936. № и. 7 марта. С. 2-3; Бунин И.А. Публицистика 1918-1953 годов. М., 1998.
234 Дневниковые записи В.Н. Буниной с 3 ноября по 31 декабря 1933 г.
235 Партис З. Приглашение к Бунину // Слово/Word. 2006. № 52.
236 Кузнецова Г. Грасский дневник. С. 215.
237 Седых А. Далекие, близкие. М.; Берлин, 2016. С. 209.
238 К. Бальмонт, с 1920 г. и до конца своих дней живший во Франции, как и А. Куприн, пребывавший там же в 1919-1937 гг., на самом деле на Нобелевскую премию в 1933 г. не номинировались.
239 О ком идет речь, неизвестно: единственный заметный датский писатель с такой фамилией (Jacobsen), Иенс Петер Якобсен жил в 1847-1885 гг.
240 РАЛ-Архив И.А. Бунина (MS. 1066/1867).
241 На ее основе Буниным был написан очерк «Нобелевские дни» (без даты, первая публикация в 1936 г., см.: Бунин И.А. Публицистика 1918-1953 годов. С. 6о8).
242 Диплом И.А. Бунина оформляла шведская художница Berta Svensson-Piehl (1892-1963).
243 Седых А. Далекие, близкие. С. 211.
244 Там же. С. 212.
245 Троцкий И. Как была присуждена Бунину Нобелевская премия // Сегодня. 1933. 16 ноября.
246 «Гавас» («Havas») — французское информационное агентство, существовавшее с 1835 г. (основано Ш. Гавасом) по 1940 г. В 1944 г. на его базе было создано информационное агентство «Франс пресс».
247 Нильс Гебер был последним директором стокгольмского издательства Hugo Gebers Förlag, слившегося в 1928 г. с издательством Almqvist & Wikseil Förlag.
248 Ильф И., Петров Е. Собр. соч. в 5 тт. Т. 3. М., 1961. С. 339.
249 Марченко ТВ. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 478.
250 Там же. С. 486.
251 Седых А. В гостях у короля Густава V // Последние новости. 1933. № 4649. 14 декабря. С. 2.
252 Седых А. Далекие, близкие. С. 215.
253 Все эти феерические события И. Троцкий подробно освещает в своих корреспонденциях в газете «Сегодня».
254 Троцкий И. И. Бунин в центре внимания на нобелевских торжествах // Сегодня. 1933. № 346. 15 декабря. С. 3. См. также: Марченко Т.В. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 434-491 (гл. 6 «В Стокгольме был энтузиазм»: шведская пресса о нобелевском чествовании Бунина).
255 Троцкий И. Последние бунинские дни в Стокгольме // Сегодня. 1933. № 353. 22 декабря. С. 2.
256 Георгий Павлович Олейников был женат на племяннице А. Нобеля М.Л. Нобель-Олейниковой (1881-1973). В их стокгольмской квартире останавливались Бунины во время нобелевских дней декабря 1933 г.
257 РАЛ. MS. 1066/5534.
258 См. о нем: Бенков Д. От синагоги до парламента. Иерусалим, 2015.
259 Газета «Folkets Dagblad Politiken» — орган коммунистической, а с 1929 г. социалистической партии Швеции, издавалась в 1916-1940 гг.
260 Этот абзац отчеркнут Буниным цветными карандашами.
261 Автобиографический роман Галины Кузнецовой, вышел в Париже в 1933 г.
262 Роман Леонида Зурова, изданный в Париже (1933, современное переиздание: Зуров Л.Ф. Древний путь // Север (Петрозаводск). 1996. № 6) и знаменитый роман Ремарка «На западном фронте без перемен» (1929).
263 Ильф И., Петров Е. Собр. соч. в 5 тт. Т. 3. С. 339.
264 Троцкий И. Встреча с Луиджи Пиранделло (Из дорожных впечатлений) // Сегодня. 1926. № 295. 30 декабря.
265 Несмотря на государственные субсидии, театр, руководимый Пиранделло, стал испытывать серьезные финансовые затруднения, и в 1928 г. его труппа была распущена.
266 Жорж Питоев в 1925-1927 гг. работал на сцене парижского «Théâtre des Arts», где в частности поставил две пьесы Пиранделло: «Генрих IV» и «Каждый по-своему».
267 Октроировать (фр. octroyer, от лат. auctoricare укреплять, подкреплять) — здесь в смысле «утверждать преимущество».
268 Володина И.П. У истоков «юморизма» Луиджи Пиранделло // Известия АН СССР: Серия литературы и языка. 1968. T. XXVII. Вып. 4. С. 343.
269 Троцкий И. Пиранделло о себе, обилии чествований, навязанном ему «пиранделлизме», русской литературе и советских экспериментах (Письмо из Стокгольма) // Сегодня. 1934. 26 декабря. С. 3.
270 На Международной художественно-промышленной выставке в Париже (1925), где было представлено и театральное искусство многих стран, Советский Союз получил по разделу театра четыре высших награды (присужденных театрам им. Мейерхольда, Камерному, Художественному и Большому), пять почетных дипломов, шесть золотых медалей и пять серебряных. Всего было получено сто восемьдесят три награды по всем тем разделам, где были представлены экспонаты Отдела СССР.
271 Литератор, а впоследствии театральный продюсер Саул Колен (Saul С. Colin, ум. 1967 в Нью-Йорке) был не только секретарем Пиранделло, но также его соавтором в английском варианте сценария «Шесть персонажей...» для кинематографа.
272 Троцкий И. Пиранделло о себе, обилии чевствований, навязанном ему «пиранделизме», русской литературе и советских экспериментах.
273 С начала 1920-х и до прихода в 1933 г. к власти нацистов Берлин был «театральной столицей» Европы, соперничать с которой могла только Москва; здесь был свой «Станиславский» — Макс Рейнхардт и свой «Мейерхольд» — Эрвин Пискатор, создатель авангардистского «Политического театра».
274 Голубков М. Литературный процесс 1920-1930-х гг. как феномен национального сознания // Проблемы неклассической прозы. М., 2003. С. 235-267.
275 Согласно Ф. фон Хайеку, «различные виды коллективизма, коммунизма, фашизма и пр. расходятся в определении природы той единой цели, которой должны направляться все усилия общества. Но все они расходятся с либерализмом и индивидуализмом в том, что стремятся организовать общество в целом и все его ресурсы в подчинении одной конечной цели и отказываются признавать какие бы то ни было сферы автономии, в которых индивид и его воля являются конечной целью».
276 Международные научные конференции, проводившиеся в с 1927 г. по 1935 г. в Риме Королевской академией наук при финансовой поддержке фонда Аллесандро Вольта. Конференция 1934 г. была посвящена «Драматическому театру».
277 Калинин М.И. Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1934. С. 49.
278 Lazzaro С. Staging Fascism: 18 BL and the Theater of Masses for Masses (review) // Modernism/modernity. 1997. Vol. 4. № 3. September. P. 171-173.
279 Таиров, никогда не скрывавший своего еврейского происхождения, не проявлял однако специального интереса к еврейской тематике, лишь один раз, в 1908 г., он сыграл роль Якова Эпмана в пьесе О. Дымова «Слушай, Израиль».
280 Рудницкий К.А. Таиров и камерный театр // Русское режиссерское искусство: 1908-1917. М., 1990. С. 202-238.
281 Луначарский Л.В. Последняя пьеса Пиранделло. Собр. соч. в 8 тт. Т. 6. М., 1965.
282 Таиров еще с дореволюционных времен, с юности находился в довольно тесных приятельских отношениях с Луначарским, впоследствии активно поддерживавшим его и даже писавшим для него пьесы, впрочем, так и оставшиеся не поставленными.
283 Подробности исхода русских евреев из Германии см.: Будницкий О.В., Полян АЛ. Русско-еврейский Берлин. С. 232-309.
284 Абызов Ю., Равдин Б., Флейшман А. Русская печать в Риге. Кн. 3. С. 12.
285 Будницкий О.В., Полян АЛ. Русско-еврейский Берлин. С. 271.
286 Antrag auf Grund des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus vom 10.01.1951.
287 Вычислить И.М. Троцкого для нацистов не составляло труда, хотя бы уже потому, что его имя значилось в «Еврейской адресной книге Большого Берлина» («Jüdisches Adressbuch für Gross-Berlin») — уникальном в своем роде справочнике, издававшемся как приложение к Берлинской адресной книге, в котором приведены фамилии и адреса около 71000 жителей города, позиционировавших себя как «евреи».
288 Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции: 1919-1939.
289 Абызов Ю., Равдин Б., Флейшман А. Русская печать в Риге. Кн. 3. С. 446-448.
290 Сотрудник «Сегодня» Н.М. Волковысский, также бежавший тогда из Берлина.
291 В своих публикациях для газеты «Сегодня» И.М. Троцкий псевдонимами не пользовался.
292 Абызов Ю., Равдин Б., Флейшман А. Русская печать в Риге. Кн. 3. С. 15.
293 Бунин все же посетил Ригу, но лишь спустя четыре года (28 апреля — 4 мая 1938 г.), в рамках своего прибалтийского турне. См.: Бакунцев О. И.А. Бунин в Прибалтике: Литературное турне 1938 года. М. 2012.
294 Онегина С.В. Пореволюционные политические движения российской эмиграции в 20-30-е гг. (К истории идеологии) // Отечественная история. 1998. № 4. С. 95.
295 Лакер У. Черная сотня: происхождение русского фашизма. М., 1994. С. 120
296 Гессен И.В. Годы изгнания: Жизненный отчет. Paris, 1979. С. 70.
297 Троцкий И. Скандинавское еврейство (Путевые очерки) // Сегодня. 1931. № 55. 5 марта. С. 3-4.
298 Разрешение свободно селиться и жить в Норвегии евреи получили только в 1851 г. и к концу 1930-х в стране проживало около 2ооо евреев, не игравших заметной роли в экономической и общественной жизни страны.
299 Троцкий И. Скандинавское еврейство (Путевые очерки).
300 Эта акция была отнюдь не бескорыстной. Рыбаки получали огромные деньги от тех же евреев, которые прибывали в Швецию, потеряв все свои сбережения и имущество.
301 См. «Норвегия» и «Дания» в ЭЕЭ (www.eleven.co.il/?mode=artic le&id=130o8&query= и www.eleven.co.il/?mode= article&id=11366 &query=).
302 Trotzky I. Eine Kultur-Oase // Jüdische Wochenschau, 1942? — копия статьи из архива И. Троцкого в YIVO.
303 Флейшман А. Рижская газета «Сегодня» и культура русского зарубежья 1930-х гг.; Абызов Ю. Рижская газета «Сегодня» — кто ее делал, кто в ней печатался и кто ее читал // Абызов Ю., Равдин Б., Флейшман А. Русская печать в Риге. Кн. I. С. 76; 82-88; 216-217.
304 Ежедневная газета «Последние новости» была основана в 1920 г. и просуществовала вплоть до оккупации Парижа немецкой армией (всего вышло 7015 номеров). Под руководством П. Милюкова (с марта 1921 г.) газета, первоначально беспартийная, стала органом Республиканско-демократического объединения и четко обозначила свои главные политические задачи: борьба за демократическую республику, сближение со всеми леволиберальными силами, способными противостоять большевизму, в том числе в самой России, и отмежевание от монархических группировок. Газета поставила перед собой задачу «собирания сил» эмиграции и в значительной мере ее реализовала.
305 Ежедневная газета (с 1936 г. еженедельник) «Возрождение» — «орган русской национальной мысли», издавалась в 1925-1940 гг. Ее владельцем был нефтепромышленник А.О. Гукасов, а первым редактором (до 1927 г.) П. Струве. К числу авторов, определивших идейную программу «Возрождения» как надпартийного патриотического органа и обеспечивших ему репутацию самого солидного «правого» издания эмиграции, принадлежали философ И. Ильин, писатели И. Бунин, З. Гиппиус, Б. Зайцев, Д. Мережковский, А. Куприн и др., одновременно печатавшиеся и в либерально-демократической прессе.
306 Шаховская З. В поисках Набокова; Отражения. М., 1991. С. 9, 44.
307 Русские Латвии. Покровское кладбище. Слава и забвение. Максим Ипполитович Ганфман (www.russkije.lv/ru/pub/read/
pokrovskoe-cemetry/lica-15.html).
308 Левитин И.Д. Русские издательства в 20-гг. в Берлине // Книга о русском еврействе (1917-1967). С. 448.
309 Седых А. Русские евреи в эмигрантской литературе // Книга о русском еврействе (1917-1967). С. 443.
310 В 1933 г. к ним присоединился философ и публицист кадетского толка Г.А. Ландау. Мильруд, Харитон и Ландау были репрессированы советскими оккупационными властями и умерли в ГУЛАГе, Оречкин погиб от рук нацистов в Каунасском гетто.
311 Абызов Ю. 20 лет русской печати в независимой Латвии (www. russkije.lv/ru/pub /read/rus-in-latvia-edition2/abizov-rus-latvii-2. html).
312 М.С. Мильруд родился в Киеве 26 января 1883 г., был крещен в православии и с детства воспитывался в атмосфере как русской, так и еврейской культур. Печатался в газетах «Русское слово», «Киевская мысль», «Киевские отклики». После революции семья Мильрудов перебирается в Польшу, оттуда — в Одессу, в 1920-м покидает Советскую Россию. С 1924 г. М.С. Мильруд — член редколлегии газеты «Сегодня», а с 1934 г. (после того, как скончался И.М. Ганфман, а Б.О. Харитон возглавил приложение «Сегодня вечером») и до октября 1939-го занимал пост главного редактора. После советской оккупации Латвии был арестован — 17 октября 1940 г., в один день со своим предшественником в должности редактора Б.О. Харитоном. Был приговорен к восьми годам лишения свободы, срок отбывал сперва в Воркуте, а затем в Караганде, где и умер (www.russkije. lv/ru/lib/read/mikhail-milrud-editor-of-segodnya.html).
313 Письмо к М.С. Мильруду из Копенгагена от 24 сентября 1933 г. См.: Абызов Ю., Равдин Б., Флейшман А. Русская печать в Риге. Т. 2. С. 446-448; Бакунцев А. «Вокруг» Бунина. Газета «Сегодня» в «нобелевские дни» 1933; Иван Бунин и газета «Сегодня»: переписка 1927-1936 годов // Новый журнал. 2009. № 257. С. 207-218; И.А. Бунин в Прибалтике: Литературное турне 1938 года.
314 Троцкий И. Первые шаги Шаляпина в Берлине (Из воспоминаний) // Сегодня. 1928. № 130. 15 мая. С. 3.
315 Троцкий И. Триумф Шаляпина в Копенгагене (Дорожные наброски) // Сегодня. 1930. № 128. 9 мая. С. 3.
316 Троцкий И. Первые шаги Шаляпина в Берлине (Из воспоминаний).
317 К сожалению, это свое намерение И.М. Троцкий не осуществил, в его многочисленных воспоминаниях нью-йоркского периода истории Шаляпина не фигурируют.
318 Троцкий Я. Триумф Шаляпина в Копенгагене (Дорожные наброски).
319 Троцкий Я. Город-сказка. (Путевые наброски); В стране, не знающей кризисов и безработицы. (Путевые наброски).
320 Николай Петрович Керманов — полковник, служил в корниловских частях Белой армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец, командир 4-й роты Корниловского военного училища. Осенью 1925 г. в составе училища перебрался в Болгарию, в 1931 г. возглавлял группу 1-го армейского корпуса и Общества Галлиполийцев, затем жил в Люксембурге, а с 1930-х — в Парагвае, служил в парагвайской армии. В 1958-м снова перебрался в Люксембург, где и умер 1 января 1959 г., похоронен на кладбище Мертерт (Mertert).
321 Троцкий И. Русские в Люксембурге (Путевые наброски).
322 Троцкий Я. Как живут русские в Скандинавии // Сегодня. 1937. № 358. 30 декабря. С. 3.
Глава 5 В Новом Свете: южноамериканский (1935_1946) и нью-йоркский (1946-1969) периоды жизни И. М. Троцкого
Итак, И.М. Троцкий посчитал за лучшее покинуть Европу и поселиться в Новом Свете — континенте эмигрантов. Вслед за ним после начала Второй мировой войны и «падения Парижа» в Новый Свет перебралась основная часть интеллектуалов из бунинского окружения — Алданов, Атран, Гольденвейзер, Зензинов, Поляков-Литовцев , Седых, Фрумкин, супруги Цетлины и др. Все они осели в США и только И.М. Троцкий — в Аргентине.
Выбор Южной Америки для него был, скорее всего, обусловлен твердыми перспективами постоянного заработка, поскольку еврейские организации ОРТ и ОЗЕ, с которыми Троцкий тесно сотрудничал уже не один десяток лет, нуждались в своем представителе в этом регионе. Здесь со второй половины XIX в. стала активно расти и развиваться еврейская диаспора. Процесс этот особенно активно шел в Федеративной Республике Аргентина1, образованной в 1826 г. и имевшей огромные практически незаселенные территории, так что власти были заинтересованы в привлечении в страну эмигрантов из Европы:
В 1881 г. аргентинские власти изъявили желание принять евреев из Восточной Европы, и в августе того же года специальный эмиссар отправился в Европу с целью содействия еврейской эмиграции из России в Аргентину. <...>
Резкое ухудшение положения евреев в России в 1880-90-е годы способствовало невиданному размаху еврейской эмиграции. Ее основной поток устремился в США, но часть российских евреев избрала своей новой родиной Аргентину. В немалой степени этому способствовала деятельность барона Мориса де Гирша и созданного им в 1891 г. Еврейского колонизационного общества (ЕКО)2.
<...> Барон де Гирш, <чей план, направленный на массовое переселение евреев Российской империи в Аргентину> был крупнейший социальный эксперимент своего времени <...> никогда не предполагал создание национального еврейского государства внутри уже существующего государства Аргентины. Громадные средства, вложенные им в ЕКО3, были использованы на то, чтобы дать евреям России реальные шансы начать новую жизнь в Америке, главным образом, в Аргентине, а также в США и Канаде, при этом предполагалось, что поселенцы интегрируются в новое общество, не теряя своей национальной идентичности4.
Еврейская сельскохозяйственная колонизация Аргентины5 закончилась к началу 1940-х. При этом в республике возникла вторая в Новом Свете по величине после США еврейская диаспора6, составлявшая более 6000 тысяч человек7.
Поселившись в Буэнос-Айресе, где существовала самая большая после Нью-Йорка еврейская община в Новом Свете, Илья Маркович занимался не только организационными, но и экономическими проблемами. Об этом свидетельствует, например, его обзорная статья «Экономическое развитие еврейства в Аргентине», опубликованная в обзорном журнале ОРТ в годы войны8. И.М. Троцкий считается основателем южноамериканских отделений ОРТ и ОЗЕ, а также их первым вице-президентом9. Кроме того он подвизался в индустриальном бизнесе и, как видно из писем к нему М. Авенбурга (см. ниже), являлся совладельцем созданной группой еврейских активистов металлообрабатывающей фабрики.
Первое отделение ОРТ в Аргентине было создано им в 1936 г. В 1941 г. ОРТ открыл первую школу профессиональной подготовки для еврейской молодежи и взрослых в Буэнос-Айресе. В настоящее время в Буэнос-Айресе, где численность еврейской общины составляет около 180.000 тыс. человек, на правах государственных среднетехнических учебных заведений действуют два таких центра, в которых учится уже более 4000 человек.
В списке руководящего состава ОРТ за 1943 г. он значится как первый вице-президент10, а его сподвижник Моисей Авенбург — как вице-президент. Судя по интенсивности их переписки, часть которой приведена ниже, они поддерживали дружеские отношения вплоть до кончины М. Авенбурга в 1967 г.
Среди адресатов переписки И.М. Троцкого встречаются имена и других весьма известных деятелей аргентинской еврейской общины, уроженцев России, например, Марка Туркова и Иделя Лейба Грузмана. Грузман издавал и редактировал еженедельный (впоследствии ежемесячный) литературный журнал «Der Spigl» («Зеркало») — один из двух печатных органов на идише в Аргентине; вторым был «Yidishe tsaytung» («Еврейская газета»).
Говоря о литературной деятельности И.М. Троцкого в Аргентине, следует отметить, что в этой стране он публиковался только на немецком и идише. Причем писать на идише он научился именно в эти годы, будучи уже достаточно пожилым человеком. Под его редакцией в Буэнос-Айресе вышла в свет единственная в своем роде «Антология еврейских поэтов Аргентины»11. Примечательно, что свою книгу «Немецкий Галут : заметки путешественника»12 о посещении послевоенной Германии, написанную на идише, он издал в 1950 г. в Буэнос-Айресе, когда сам уже был постоянным жителем Нью-Йорка.
Рассказывая об аргентинском периоде жизни Троцкого, следует исправить неточность, вкравшуюся в некоторые биографические справки о нем. Так, Т. Марченко и В. Хазан указывают13, что в Буэнос-Айресе он будто бы редактировал журнал «Tierra Rusa» («Русская земля»). Журнал под таким названием издавал в 1942-1943 гг. П.П. Шостаковский, он был закрыт властями за активную просоветскую ориентацию. Ни в самом журнале, ни в книге воспоминаний Шостаковского14 И.М. Троцкий не упоминается. Более того, Шостаковский утверждает, что журнал был «семейный», т.е. издавался им лично, на собственные средства и с привлечением в качестве помощников лишь членов его семьи15. Поэтому указание на редакторскую деятельность И.М. Троцкого в «Tierra Rusa» можно считать ошибочными. Более того, Троцкий не печатался и в либерально-демократическом «Сеятеле» — единственном русском литературном журнале-долгожителе, издававшемся в 1938-1978 гг. в Буэнос-Айресе эмигрантом-народником Н.А. Чоловским.
Илья Троцкий и газета «Jüdische Wochenschau»
В Буэнос-Айресе с 1940 г. (по 1968 г.) эмигрировавшим из Германии журналистом Харди Сваренским16 издавалась либерально-демократическая еврейская газета на немецком языке «Jüdische Wochenschau» («Еврейское недельное обозрение»). В этом периодическом издании И.М. Троцкий подвизался в несвойственной для него роли политического обозревателя. Он регулярно писал статьи на злободневные темы, большинство из которых так или иначе были связаны с трагической ситуацией, в которой находилось европейское еврейство в годы Второй мировой войны. Их названия говорят сами за себя: «Восточноевропейское еврейство в свете войны («Das Ostjudentums im Lichte des Krieges»), «Русские евреи на пути страданий» (Der Leidensweg des russischen judentums»), «Венгерские евреи в опасности» («Ungarns Juden in Gefahr»), «Еврейские герои» («Jüdische Helden»), «Мы тоже не одни» («Auch wir sind nicht allein»), «Речь Черчилля» («Die Rede Churchills»). В статьях, напрямую касающихся актуальной военной тематики и борьбы с немецким фашизмом, при всей декларируемой поддержке Красной армии и России в целом, И.М. Троцкий всякий раз не забывает напоминать читателям, что Сталин — диктатор, а созданный большевиками режим не имеет ничего общего с демократией.
В самом начале войны он писал в статье «Русский сфинкс» («Die russische Sphinx»):
Для всякого мыслящего человека ясно, что в основе русско-немецкой войны лежат не только империалистические цели, здесь на лицо борьба двух противоположенных идеологий — два непримиримо враждебных мира столкнулись друг с другом. Произошло то, что неизбежно должно было случиться: коричневый Берлин напал на красную Москву. Неестественный советско-германский пакт, этот политический мезальянс, разрушился как карточный домик. Не о противостоянии между Римом и Иерусалимом, не о власти и праве идет здесь речь, главное в том, что «белокурый бестия» поднял меч на «демонов» Достоевского. Поддержка Советской России со стороны западных демократий отнюдь не означает проявления любви к сталинскому режиму, она продиктована необходимостью помочь русскому народу победить апокалипсического монстра, уничтожить нацизм. Патетическое обращение Сталина к народу не содержит в себе ничего оригинального. Его призыв всеми силами и средствами защищать свою землю воспринимается как давно знакомая мелодия. В подобной тональности обращались к народу и русские цари. Разрушительные импульсы куда ближе русской душе, чем созидательные. Совершенно новым в сталинском воззвании является его вежливый поклон в сторону буржуазно-капиталистического мира, его умолчание о приверженности к мировой социальной революции, что по сути своей свидетельствует о явлении полного идеологического банкротства.
Россия должна быть спасена, чтобы весь мир был свободен от Гитлера.
В заключение своей первой статьи о битве между красной Россией и коричневой Германией И.М. Троцкий профетически предрек немецким армадам гибель в бескрайних русских степях, а Гитлеру судьбу Наполеона. В 1944 г., когда война медленно, но верно шла к победному для СССР и его союзников концу, И.М. Троцкий писал в статье «Действительность и иллюзии» («Wirkligkeit und Illusionen»), что советское командование сумело создать современную армию, укрепленную инженерным и офицерским составом, которая поставила перед собой задачу уничтожать во время отступления все, что могло бы пригодиться врагу. По мере продолжения войны она все больше и больше превращается в Отечественную, где вместе с солдатами «плечом к плечу» врагу противостоят партизанские отряды, а с ними и все население, включая женщин и детей.
Русские солдаты по-иному понимают свою задачу и свою ответственность, чем их отцы и деды в царские времена. И воюют они не заржавленными штыками и недоброкачественными пулеметами, как в Первую мировую войну, а первоклассным оружием.
Ко всему прочему, отмечает И.М. Троцкий, Сталин добился огромного морального авторитета как среди своего народа, так и за рубежом, чем не могут похвастаться ни Гитлер, ни Муссолини.
По окончанию войны, дискутируя с высказываниями Томаса Манна, который декларировал, что:
Воскресение Германии произойдет лишь в случае нового рождения и очищения души и духа ее народа,
— и Эмиля Людвига, полагавшего, что именно оккупированная и управляемая союзниками Германия духовно преобразится в процессе перевоспитания и всесторонней помощи, — И.М. Троцкий настаивал, что:
Мирная Германия возможна лишь в том случае, если с исторической арены навсегда и бесследно исчезнет современная идеология господствующей расы и сама расовая теория.
Помимо статей на политические темы И.М. Троцкий печатал и свои воспоминания, которые впоследствии, а иногда и практически одновременно (в 1960-е) публиковал и на русском языке — например, статьи о своих встречах с графом С.Ю. Витте: «Международная политика в Зальцшлирфре» («Weltpolitik in Salzschlirf») и «Посещение графа Витте («Besuch bei Graf Witte») — обе в 1944 г.
Из публикаций на литературно-исторические темы особенно интересна статья «Бьернсон и Гамсун (Из личных воспоминаний)»17. В ней Троцкий пишет, что:
Из пестрой галереи личностей, с которыми он был знаком в Скандинавии, помимо Георга Брандеса и Августа Стриндберга , сверкали оригинальные и привлекающие к себе внимание фигуры Бьерна Бьернсона и Кнута Гамсуна. Через тридцать с лишним лет оба эти имени знаменитых скандинавских деятелей <культуры>стали нарицательными, символизируя беспринципность и предательство национальных интересов. Римская поговорка гласит: о мертвых можно говорить либо хорошее, либо ничего. Бьерн Бьернсон, скончавшийся несколько месяцев назад, таким образом, оказывается вне поля критики. Однако человеку, сохраняющему память о нем и Кнуте Гамсуне, тяжело сознавать, что эти когда-то знакомые ему люди перешли в стан нацистов. Кнут Гамсун никогда не отличался высокими принципами и сильным характером. Он был и оставался вплоть до своего преклонного возраста всеотрицающим, всезнающим, чудаковатым человеком богемы. Кроме того он редко высказывался по политическим вопросам, будучи погруженным в мир своих поэтических фантазий.
Бьерн Бьернсон, напротив, обладая духом свободолюбия, присущим его знаменитой фамилии18, являл собой ярко выраженный поэтический темперамент и высоко держал знамя демократии. Мое знакомство с обоими норвежскими литераторами относится к тем счастливым временам, когда город Осло еще назывался Христианией, а такие понятия как расовая ненависть, господствующая раса и недочеловек не имели еще хождения.
Я познакомился с этими литераторами благодаря протекции Георга Брандеса. <...> Первым я посетил Бьерна Бьернсона, который в то время руководил театром Осло. Этот пятидесятилетний человек, имевший по-юношески молодое лицо, обрамленное серебряными волосами, с самого первого взгляда расположил меня к себе. Он принадлежал к тем счастливым натурам, что в считанные минуты сходятся с людьми и становятся с ними близки, как старые хорошие знакомые. <...>
От его острых глаз ничего не ускользало. Он обладал необыкновенным талантом имитатора и рассказчика. Выступая одновременно в роли артиста, писателя и критика, он никого не щадил своим острым языком».
Как отмечают историки литературы, «Бьернсон и Ибсен соперничали между собой, борясь за место самого великого писателя Норвегии. В сфере общественной жизни положение Бьернсона было уникальным, он постоянно высказывался по всем значительным поводам и оставался абсолютно непререкаемым авторитетом. Бьернсон активно участвовал в международных дискуссиях и часто бывал в других странах: Германии, Франции, Италии... Что касается Ибсена, то он вообще не приезжал в Норвегию с тех пор, как с горечью в сердце покинул ее в 1864 году19». В этой связи И.М. Троцкий приводит забавный анекдот, рассказанный ему Бьерном Бьернсоном:
Уже при первой нашей встрече, в разговоре на тему о скандинавской литературе, об Ибсене и его отце, он рассказал мне один эпизод, дающий яркую характеристику его личности. «Для меня, сына Бьернстьерне Бьернсона, всегда сложно было дать сравнительную оценку популярности имен Ибсена и моего отца. В этой ситуации оставался у меня единственный выход — прислушаться к vox populi, гласу народа.
Однажды во время поездки на пароходе из Киля в Осло, продолжает И.М. Троцкий, младший Бьернсон решил полюбоваться лунным сиянием, стоя на капитанском мостике. К нему подошел капитан и сделал замечание: пассажирам здесь находиться не положено. Бьерн Бьернсон отреагировал весьма провокативно:
Я стал в позу и сказал с вызовом: «А знаете ли вы, господин капитан, с кем имеете честь разговаривать? Я — сын знаменитейшего норвежского писателя! — Весьма сожалею, господин Ибсен, — ответствовал мне старый морской волк, — но я все равно не могу позволить вам здесь находиться».
«Итак, теперь и вы знаете, — смеясь, сказал мне Бьерн Бьернсон, — какое из двух великих имен, наиболее популярное».
По утверждению И.М. Троцкого, Бьернсон был ярым германофилом и во время Первой мировой войны, когда скандинавские страны сохраняли нейтралитет, активно высказывался в поддержку кайзеровской Германии. Эта его позиция, естественно, вызывала резкое неприятие со стороны той части скандинавской общественности, которая была настроена антигермански. Знаменитого норвежца обвиняли в прямом сотрудничестве с Вильгельмстрассе, а то и шпионаже в пользу Германии, что он категорически отрицал. На одном из публичных выступлений в Копенгагене только что прибывшего из поездки по Германии Бьернсона, во время его доклада о положении в этой стране разразился скандал. Публика свистела, кричала: «Вон, предатель»... и, в конце концов, заставила оратора покинуть зал. В отель, где он жил, в качестве утешителя приехал Георг Брандес, питавший к Бьернсону очень теплые чувства. Что касается Троцкого, то он, по его словам, во время войны, находясь в противоположенном германофилам лагере, дистанцировался от Бьернсона и не поддерживал с ним отношений.
В послевоенное время, когда Германия и Австрия из-за галопирующей инфляции находились в тяжелейшем экономическом положении, Бьерн Бьернсон оказывал всевозможную помощь немецким писателям, многие из которых — в контексте статьи Троцкого этот подтекст звучал как знаково важный — по происхождению были евреями: Артуру Шницлеру , Стефану Цвейгу, Бергарду Келлерману, Якобу Вассерману. При его поддержке и протекции их произведения активно переводились и издавались в Норвегии.
После прихода Гитлера к власти отношение Бьернсона к Германии резко изменилось.
Я посетил его в последний раз в 1937 г., когда он отмечал в Осло свой 75-летний юбилей. В знак уважения к юбиляру норвежцы установили его мраморный бюст в вестибюле Национального театра. Пробыв больше месяца в Норвегии, я был частым гостем супругов Бьернсон, которые тогда жили в одном из отелей <Осло>. В старости Бьернсон отнюдь не потерял своего юношеского темперамента и кипучей энергии. <...> Его жена, еврейская дама, выглядевшая значительно моложе своего супруга, прекрасно гармонировала с ним, уравновешивая его пылкость своим спокойствием и рассудительностью.
По словам Троцкого, в разговоре с ним Бьернсон резко критиковал «новых властителей Третьего Рейха, издевался над псевдонаучной расовой теорией нацистских теоретиков», извративших философские взгляды Гобино20, «возмущался преследованиями евреев», сетовал по поводу того, что его друг Герхард Гауптман «не обладает достаточно твердым характером, чтобы дистанцироваться от нацистов». Бьернсон утверждал, что немцы «всегда были политически незрелым народом» и что «современная Германия — это юдоль слез».
Далее Троцкий приводит высказывания Бьерна Бьернсона , который, решительно осудив своих соотечественников, симпатизирующих нацистам, «взял под защиту Кнута Гамсуна, уже тогда попавшего под подозрение в пронацистских взглядах». По его словам:
Гамсун не нацист, оставьте вы его в покое, он сам точно не понимает, к какому лагерю он принадлежит и что хочет. Он всегда был младенцем в политике и его представления на сей счет не имеют никакого веса. Он просто Гамсун, который убежден, что всегда и во всем нужно идти против течения. Утверждения о том, что он антисемит, просто смехотворны. Поговорите с главным раввином Самуэлем, и он подтвердит вам мое мнение.
В заключение И.М. Троцкий сетует на то, что столь добропорядочный человек мог после оккупации нацистами Норвегии переметнуться в стан врага. И, тем не менее:
В моей памяти сохранился живой образ Бьерна Бьернсона, который с гордостью декларировал свою принадлежность к носителям свободолюбивых идеалов.
«Надежный и верный друг»: письма Моисея Авенбурга (Буэнос-Айрес) к Илье Троцкому (Нью-Йорк), 1931-1963
В YIVO-архиве И.М. Троцкого хранятся более 30 писем к нему активного еврейского общественника, Моисея Авенбурга , бывшего президентом ОРТ Аргентины почти 14 лет. Хотя все эти письма относятся уже к нью-йоркскому периоду жизни Ильи Марковича (см. ниже), они содержат различного рода реминисценции и упоминания о событиях прошлого, что делает их важным источником информации, касающейся деятельности Троцкого в Латинской Америке. Кроме того, высказывания Авенбурга проливают дополнительный свет на личность Троцкого, добавляя к его портрету важные подробности.
Характер этих писем сугубо интимный, как это бывает при расставании с близким человеком: разговоры все продолжаются и продолжаются, ты с ним все делишь что-то, вспоминаешь удачи, жалуешься на обиды... Тональность высказываний Моисея Авенбурга («Миши»), как правило, ностальгическая. Это и понятно, ведь переписка велась между двумя пожилыми людьми. Тем не менее, И.М. Троцкий для своего корреспондента — старший товарищ, компаньон и, несомненно, моральный авторитет.
Моисей Авенбург прибыл в Аргентину из Российской империи — он родился в Херсонской области, но жил затем в Одессе — восемнадцатилетним юношей в 1912 г., в составе своей большой семьи. У него было четыре сестры и два родных брата — старший Давид и младший Исаак, вместе с которыми он вел дела созданной ими в этой стране семейной фирмы — торгово-промышленного дома «Avenburg Hnos» («Братья Авенбург»).
Побудительной причиной для эмиграции было стремление к лучшей жизни, но немалую роль сыграла и волна еврейских погромов, прокатившихся по югу России в годы Первой русской революции (1905-1907 гг.).
На момент прибытия в Аргентину Моисей Авенбург имел за плечами законченное среднее агротехническое образование, владел помимо русского и идиша английским языком и был весьма начитан. В молодости, когда линия его деятельности по жизни еще не была определена, он, имея некие литературные амбиции, опубликовал пару статей в одной из нью-йоркских газет. С годами Моисей в совершенстве овладел испанским: в одном из писем он иронически, но не без гордости рассказывает о похвалах своему умению писать на этом языке.
Никто из братьев Авенбургов не получил высшего образования. Врачами, инженером и архитектором стали их дети, родившиеся и выросшие в Аргентине.
В письмах от 26 сентября и 16 ноября 1954 г. Авенбург сообщает:
На днях я встретился с Марком Турковым. Вам, наверное, уже известно, что он теперь не в HIAS'е21, а назначен представителем World Kongress22 в Юж<ной> Америке. <...>
У меня в семье все в разгаре. Ricardo23 выпущен из воинской повинности на отпуске первой очереди — за отличное поведение. И взялся он полным темпом за учение: уже сдал пару экзаменов и готовится к следующему. Georgie <Георгий> идет по стопам старшего брата и уже на будущей неделе (предстоит ему главный годовой экзамен), если все пройдет удачно, он поступит на третий год факультета. Ricardo признается, что как George учится и как он все глубоко знает — редко найдется такой другой. A Georgie влюблен в свою науку, сидит ночами и днями по 16 часов ежесуточно. К счастью, его здоровье от этого не чувствуется чем-то слабее. <...> А что меня касается, то я занят 10-12 часов ежедневно, завален работой. Сезон в разгаре. Обе фабрики развивают работу полностью. Будем надеяться, что они так продолжат и в будущем. <...>
Ваши инструкции <по выплатам пособий Литфонда — М.У.> я исполнил. <...> Получил письмо из Рио <де Жанейро>, дела там скверные — кризис финансовый свирепствует в Бразилии, денег нет, и школа <ОРТа> находится под давлением дефицита неразрешимого. <...> А что <творится> и какое положение в Центральном ОРТе — я совершенно без известий. Хотя я формально член Центрального комитета и экзекьютива24, но уже больше года как не получаю отчетов, известий и даже брошюр. Как видите, я на черном листе — Сингаловский (или же его подданные) меня игнорируют. И пусть его... Мои 14 лет работы как видно не заслужили маленькой какой-то формальной весточки.
Вот это пока все на сегодня.
Весь Ваш Миша.
Через все письма Моисея Авенбурга за 1955 г. так или иначе проходит тема ОРТ. Свое первое письмо — от 13 января, он начинает с сообщения о том, что по просьбе Троцкого известил господина Мигеля (Михаила) Подольского25 о том, что на его имя имеется денежный перевод — пособие от нью-йоркского Литфонда. Далее идут разъяснения некоторых особенностей аргентинского финансового законодательства, в соответствии с которыми «человек, живущий за границей не вправе получать, платить или же вести счета с местной фирмой. <..> Это вопрос регулирования валюты, которому фирма должна подчиняться». Поэтому И.М. Троцкий, которому причитается крупная сумма денег, — по-видимому, его доля дохода от деятельности металлообрабатывающей фабрики26, может получить ее от Авенбурга только через третье лицо, в связи с чем, адресант просит подписать его «orden de pago» — платежное поручение.
Далее Авенбург благодарит Троцкого за поздравление своего старшего сына Рикардо с днем рождения:
Нас оно очень тронуло к сердцу и уверен, что когда буду читать Ricardo Ваше письмо, он будет Вам очень благодарен. Мечтает он уже о том, что как закончит университет, то поедет в США, как я ему обещал, чтобы усовершенствовать науку и практику. Беспокоило его, как он сможет общаться с Троцким — ведь он по-русски или же по-еврейски не говорит, а испанский Вы, <наверное>, уже забыли, а английским, <возможно>, еще не обладаете? Я его успокоил, уверяя, что на каком-либо из этих языков
Вы с ним прекрасно сговоритесь, — первый не забыли и вторым уже, наверное, обладаете27.
Позвольте теперь перейти к моим отношениям с ОРТом.
Я Вам уже писал, что считаю: ОРТ и Авенбург разошлись по разным дорогам, даже не параллельно идущим, а удаляющимся друг от друга. Однако, т.к. Вы делаете запросы ортовского характера, то я, не желая быть невежливым, Вам отвечаю. Вот тема и продолжает развиваться дальше. В письме Вам от 24.12 <1954 г. я сообщила Сингаловский28 заявил Фрумкину, будто Авенбург перестал платить членские взносы (?) — таки это значит, что он уже не входит в состав Центрального экзекьютива. Курьез! Вы, Ильюша, ведь писатель, так вот Вам широкая тема, чтобы по этой линии целый роман написать. С 1953 г., в продолжении 20 месяцев — у меня цифры основательные — Ав<енбург>, член Центрального комитета и экзекутива (!), не получил ни одного известия от центра, ни письма, приглашения, ни даже отчета или же брошюры <...> и.т.д. И вдруг — меня даже поразило — Отчет «ORT Chronicle № 155»с резолюциями от 1о ноября приходит на мой старый адрес. <...>Я думал, что Центр мой адрес потерял, но это не так. Когда Меркин29 был здесь, он мне признался, что когда он был в Женеве, его спросили, надо ли Авенбургу посылать отчет. <...> Он, Меркин, им ответил, конечно, посылайте, вы не вправе поступать иначе. Якобы по его указанию в бюро приняли во внимание тот факт, что это их «долг». <...> Значит, кто-то там распоряжается как хозяин: вот, мол, этот «член»— ему посылайте, а тот — нет, его не будем признавать. Шолом-Алейхема Вы помните? История «мит дэм церброхенем тэпл»<«с разбитой чашкой»>. Все это было бы понятно для аргентинских «лидеров». В Б<уэнос> Айресе находятся людишки, маленькие, ничтожные, которые уже два года ищут, клевещут... Но чтобы Сингаловский попался и упал в такое грязное болото — я не думал! А вообще вся эта комедия закончится в июле-августе. Пройдет новый съезд и с Авенбургом кончено... царство ему небесное. <...>
Второй акт, Ильюша, для Вашего «романа».
1941 год. Начинает свою жизнь школа ОРТа30. Деньги нужны в беспощадной форме. Дом для школы нанимается на имя Авенбурга. <...> Дом для бюро нанимается на имя Авенбурга и Абрама Заславского. Фирма Авенбург дает в первые годы по 2000 <песо>в год, кроме членских взносов <всей семьи Авенбургов из 4-х человека И потом фирма продолжает давать по 1000 песо в год — столько же, что и миллионер Заславский31. С фабрики «Авенбург и братья» без всякого платежа в школу тащат стулья, шкафы, инструменты, даже некоторые машины. В последние годы отдают железную кассу для конторы. По резолюции комитета поставили на ней надпись «Donacion Arenburg Haus» <«Пожертвование дома Авенбурга»> — потом надпись исчезла.
Когда ОРТ отделился от ОЗЕ, постановили, что за каждого ученика, учащегося три года в школе, заинтересованное предприятие платит по 1360 песо в год. Так, фирма Авенбург стала оплачивать квоту в размере 2,5 учеников. И это помимо частных членских взносов, которые контора нашей фирмы платила за всех и в счет каждого.
1942 год. Деньги для школы нужны в беспощадной форме. Троцкий и Авенбург посещают господина Венгровера32. После часовой полемики, будущий «Его Величество» дает 25 песо. Троцкий в негодовании, не хочет их принимать, Авенбург его успокаивает и 25 песо засчитываются. Затем Троцкий и Авенбург посещают Гозенберга — будущий кассир ОРТ и почти «Его Высочество». Но, к сожалению, от него — а он уже тогда был богатейшим человеком, Троцкий и Авенбург даже и 25 песо не получили.
1944 год. На даче у Авенбурга Троцкий <собирает деньги в долг для некоего Вайнштока, который> купил машину и устраивает еврейскую газету. Авенбург Вайнштока в жизни не видел и не слыхал о нем; также не читал еврейские газеты, но деньги взаймы дал: свои и ортовские <всего 2500 $>. Троцкий получил свои 250 $, другой инвестор 500 $ — еще через один год... Должно было пройти еще пару лет, чтобы Авенбург обиженно спросил Троцкого, почему же ему долг не возвращают. При посредничестве Троцкого так же и Авенбург получил назад свои 500 $. Время идет... Вайншток разбогател, но ОРТ еще ни копейки не получил назад. Авенбург от имени ОРТа начинает письменно требовать долг. Получил чек на 400 $, через год переписки — еще 400 $, и больше ни копейки. Господин Вайншток до 1953 года не возвращал ОРТу старый долг. <...>История ОРТа полна такими эпизодами. Все это мной записано, и у меня оказалась маленькая способность к перу. Но я не хочу, чтобы все это было напечатано — простите, Ильюша! Зачем? Кто меня не знает, ему это безразлично; а из тех, кто меня знает, для многих это может оказаться некрологией. Так оставим это, пока годы мои мне еще служат в жизни. <...>
Вы, Ильюша, меня знаете и знаете мой характер, и мое поведение, и мои поступки в жизни. Низости нет в моем характере и отношения мои к людям соответствуют моему темпераменту и глубокой совестливости. Но мне очень дорого Ваше мнение, а также других близких друзей, моей жены Паулины и сыновей. Существуют люди, которые практикуют политику Гитлера — лгать без меры и до такой степени, что людям уже и не верится, что все это ложь. Пусть. Забудем, Ильюша.
Полгода спустя, в письме от 17 июня 1955 г., Авенбург рассказывает о событиях 16 июня, когда при попытке военного переворота с целью устранения президента Перона самолеты аргентинских ВВС атаковали президентский дворец, подвергнув бомбардировке центральную площадь Буэнос-Айреса — Плаца де Майо. Бомбы не попали в цель, но унесли жизни мирных граждан, находившихся в тот момент на площади, в том числе 40 детей:
Вам, конечно, известно, что мы вчера пережили в стране. Итог — многочисленные жертвы: убитые и раненные. Сотни семейств в трауре, из-за глубокой трагедии, в которую случайность их ввела. К счастью, все наши — родственники и друзья, не пострадали. Я минутой раньше вернулся домой, Ricardo только что выехал, посетить больницу, но встретил на улице переполох, и возвратился. Georgie стоял уже в дверях, чтобы идти в университет, у него как раз предстоял экзамен, когда Ricardo его задержал.
Сегодня — генеральная забастовка, все закрыто, но, кажется, во всей стране спокойно. Если это так, то уже завтра все войдет в обычную колею работы и активности. <...>
Иногда мы встречаемся и друзья рассказывают, что «там» творится. Настаивают, что, мол, когда-то снова вожжи в руки надо было бы взять и что в прах все идет... Я смеюсь на такие предложения: кажется, это князь Владимир Святой сказал: «Познав сладкого, не захочешь горького». Ведь со времени, когда я освободился от облигаций в ОРТе, я воистину свободен, и могу все мое время посвящать жене и детям. И можете мне верить, нет лучшего наслаждения и сатисфакции, им такое мое поведение. Обратно в общественную работу? Куличом не заманишь!
Так почему же я Вам все это рассказываю и моими чувствами Вам голову морочу? Это в ответ на Ваши упреки, что будто в моих письмах что-то холодным сквозит. Оно не так, как Вы себе представляете. Но я заметил, что когда я пишу и немножечко сердце открываю, — а кому, как не Вам, Ильюша, как моему другу, с кем я должен и могу искренне разговориться, — Вы, имея возможность меня понять, или даже критиковать, если не разделяете мое мнение, когда я затрагиваю известную тему, в ответ не реагируете и вообще пропускаете мотив. Я Вас понимаю — это, чтобы скорее все забыть и мои чувства не затрагивать. <Потому и я> в моих письмах ограничиваюсь извещением, что происходит у нас в семье. А писать о детях и хвастаться? Ведь это тоже неприлично. Кратко Вам скажу — Ricardo заканчивает свою учебную карьеру быстрым «tempo». Начинает этап нового учения — не казенного, а по собственным наклонностям. <...> Он уже в тесном контакте с известными профессорами — по линии психиатрии и психоанализа <...>33.
Georgie — это совершенно другой темперамент. Уже не такой быстрый, но глубокий. Его система учения до того серьезная. что Ricardo признает, что он систематически ассимилирует учебный багаж до <столь высокой> степени, что это мало кому удается. Он теперь на 3-ем курсе факультета <...>.
А что относительно нас: жены и меня? Со здоровьем, слава Богу! — а остальное? <...>многого не надо писать: если дети идут по намеченной дороге и на здоровье не жалуешься, то этим все сказано».
Далее Моисей Авенбург резко критикует ситуацию в аргентинском ОРТ. Первые его нелицеприятные замечания на этот счет появились в письме, датированном десятью днями раньше — 7 июня 1955 г., когда он, комментируя фразу «позорище аргентинско-ортовское» из письма к нему Троцкого, сообщает адресату:
И в печати уже начинают появляться заметки по поводу ОРТа: организация, заслуживающая уважения в мировом масштабе и «позор» в местном. Ваш приятель Грузман34, <тоже> подбросил поленьев к огню. А на улице люди спрашивают: Что там делается? — если оно делается. <...>
Очень жаль, что Вы отказались от поездки в Европу. Вам бы она много помогла в смысле душевного здоровья, а также, кстати, по Вашей литературной линии. Меня же никто принципиально не известил и, конечно, не пригласил, несмотря на мои «права» (!)35.
В письме 17 июня 1955 г. рисуется совсем уж мрачная картина:
Все рухнуло. <...> Как это возможно, что таким людям передали власть ОРТа. Ведь — это просто «идиоты» (простите, термин не мой). Школы36 почти нет: 9 учеников 1-го класса, 6 — 2-го и 1 — 3-го. Это фиаско. Поехала туда квалифицированная делегация. <...> Был позор! Всего четыре ученика, все другие — не евреи. Да и из евреев один только как «ученик», а остальные — рабочие. Машины не были подготовлены, ничего не функционировало. Бюджет 15 тысяч в месяц на такой результат? «Школа ОРТа может продолжать свою работу для большинства» — т.е. не евреев? Вот что мне «делегация» говорила.
А теперь, в заключении, что я чувствую? Это ведь не так легко, Ильюша. 13/14 лет работы, и какой работы!
Много энергии я положил. <...> Я вижу, что происходит, и как не чувствовать боли и досады. Школы в Чили, Бразилии закрылись или закрываются. Но все-таки там общины маленькие. А ведь Б<уэнос>-Айрес не меньше Парижа, а, возможно, и крупнее в населении — всеобщем и еврейском. Рабочий народ здесь считается тысячами и даже десятками тысяч. В Париже школа продолжает свою нормальную жизнь, а в Б<уэнос>-Айресе идет к банкротству.
ОРТ заслужил почет и уважение к <свое — М.У.> 75-летнему юбилею, а Южная Америка при этом должна править похороны 15-летнего юноши. На <предстоящем> Конгрессе не будет ни представителя, ни слова от имени Южной Америки. Вы, Ильюша, не едете, и от нас никто не будет. Центр отказывается платить расходы, а патриотизм местных «лидеров» не доходит до кармана — даже если они миллионеры. <...>
От меня и Паулины Вас и Нюню37 дружно обнимаем.
Ваш Миша.
28 ноября 1955 г. Авенбург вспоминает общих знакомых, только что вернувшихся из Нью-Йорка, где их тепло принимал у себя дома И.М. Троцкий:
Я был очень доволен узнать, что они с Вами несколько раз встретились. Рассказали, как Вы их гостеприимно приняли. Жаль только, что ввиду Ваших <обстоятельств — М.У.> не могли вы познакомить его с Фрумкиным или же другими членами ОРТа; он ведь много лет с нами содействовал. О Вас они рассказывают, как о таком же Троцком, которого мы всегда знали. Тот же темперамент, динамизм, глубокое знание людей и их же подобное оценивание. Пусть Ваш характер будет таким же на много-много лет.
<...> Что нового у Вас? Был ведь Сингаловский. Договор, наверное, закончен с JDC38. Я понемногу теряю контакт <с ОРТ> и только из газет узнаю новости, что вот, мол, ОРТ сделал здесь или там что-то. И это после 13 лет — 1939-1952 — сотрудничества. Только скоро уже 4 года как я «устранен». Родились «новые силы» — да и они тоже, увы, постарели. А Вы, Ильюша, все еще <...> просите, чтобы я Вам мой <...> curriculum vitae39 послал. Оставьте это, дорогой! Ведь некрологи пишутся после жизни, а не во время, а я для ОРТа уже не «жив». Для других, которые меня не знали, моя история им безразлична. Итак, успокойтесь по этому поводу. <...>
Пока крепко жму Вашу руку и кланяюсь всем Вашим. Привет д-ру Фрумкину.
Ваш Миша.
Следующие письма Авенбурга, сохранившиеся в YIVO архиве И.М. Троцкого, относятся уже к «горячим» 1960-м. В письме от 11 мая 1960 г. Авенбург пишет, что после болезней, которые перенесли Илья Маркович и его вторая жена40 Полина Иосифовна, «все уже забыто, жизнь вошла в свою колею, где ежедневная работа поглощает все свободное время». Далее он сетует на то, что от И.М. Троцкого давно нет писем, спрашивает, насколько по времени изменились планы поездки в Европу и Израиль супругов Троцких, рассказывает коротко об общих знакомых и затем сообщает:
Вчера получил «Книгу о русском еврействе»41. Спасибо большое, Ильюша. Она мне и вправду очень интересна, судя по тому, что я уже смог прочесть: Троцкий — «Самодеятельность и самопомощь евреев в России»; Алданов — «Русские евреи в 70-80-х годах» и, наконец, Фрумкин — «Из истории русского еврейства». Статьи других <авторов> просмотрел, но еще в подробности не вникал. В общем — из того мнения, что я мог для себя составить, историю еврейства в последнем столетии. Upton Sinclair <Эптон Синклер42> мог бы, внедривши в книгу какого-нибудь романтического героя, на основе всех имеющихся в ней исторических данных написать очередной свой сериал: «Крушение мира» и т.д., и т.п.. Это шутка, но какой-то еврейский Lanny Budd43, родившийся в 1868 году (год рождения моего отца), участвовавший во всех движениях еврейства и их кульминативных моментах в истории, мог бы внести дух «популярности» в текст книги и вместе с увлекательным сюжетом, присущим роману, дать возможность широким массам читателей вникнуть в настоящую историю еврейского народа последнего века.
Я, конечно, не желаю этим замечанием уменьшить значение книги, ценность ее я не оспариваю. Просто в ином варианте книга не осталась бы в узком кругу интеллектуальных читателей, как своего рода энциклопедия, и ее популярность, несомненно, была бы куда больше.
Говоря об Эптоне Синклере, Авенбург позволяет себе помечтать:
Имел бы я талант писателя, духовные способности, время для такой инициативы, т.е. был бы я маленький «Upton Sinclair» — развил бы я такой сюжет,
— пишет он, и на этой визионерской ноте в сослагательном наклонении заканчивает литературную часть своего письма.
Далее, переходя уже к житейской прозе, Авенбург рассказывает о тяжелом экономическом положении в стране и, как следствие, затруднениях в работе фабрики.
Пока что мы уволили человек 25 рабочих, выплатив 400 тысяч <песо>, чтобы сократить объем производства по отношению к объему продаж. Этот фабричный год, что заканчивается в июне, был таким тяжелым, что подобного я и не помню. Я себе даже отдыха не позволил. И это в наши-то годы, Ильюша! Нелегко, но ничего не поделаешь.
Все Ваши указания по денежным выплатам <пособий> выполнены. Привет Вам сердечный и Полине Иосифовне. Крепко обнимаю
Ваш Миша.
Из письма Авенбурга от 22 декабря 1960 г. становится ясно, что возрастные хворобы не помешали Троцким совершить длительную поездку в Европу и Израиль. Их письма
...из Европы и Израиля были в высшей степени интересны, а если добавить к ним статьи, печатавшиеся в «Идише цайтунг», то мы, так сказать, имеем отличное представление обо всем Вами пережитом. Это дает нам возможность вспомнить и наше, в свое время имевшее место, путешествие по Европе, продолжавшееся шесть месяцев.
А теперь пару слов об «Аѵепсо»44. Мы решили ликвидировать нашу металлургическую45 фабрику «Avenburg Hnos», с которой тесно связана «Avenco», имеющую машины на 400 тысяч песо (Ваших там 100 тысяч). <...> Текстильная фабрика не ликвидируется. В металлургии мы теряем деньги в последние годы, а теперь уволили рабочих и это нам стоило полтора миллиона. К счастью, мы это сделали в удачное время <...>, с декабря по новым законам мы и в четыре миллиона не влезли бы. <...> С аукциона продали мы почти все машины и весь инвентарь <...>. С нами еще не рассчитались, но результаты довольно благоприятные. Не только все расходы и амортизация покрываются, но и 35-40% сверху еще получится. Тогда и Вам выпадет «surprise»46.
<...> Решились мы на ликвидацию еще и по следующим мотивам. Давид не желает продолжать, и он прав, ему уже почти 71 год. Сын его Eduardo <Эдуардо> — инженер, но профессор<ствует> в университете, и не для него новые предприятия. А теперь времена такие: расширяй производство на больший размах или ликвидируй. Продолжать по инерции опасно. Мне уже тоже 66 лет. Я продолжал бы, энергии у меня достаточно, но... «Juniors»47 у нас нет — мои сыновья пошли по своей линии. Мы с Исааком48 будем продолжать текстильную фабрику, а металлургию <...> ликвидируем — пусть на «полчаса раньше» по времени, а не на «полчаса позже», но из практических соображений. Предприятие требует модерных машин; старые через год-два ни на что не будут годиться. <...>
Сердечный привет от Паулины и детей.
Ваш Миша.
Следующее письмо Моисея Авенбурга от 5 января 1961 г. полностью посвящено финансовым расчетам с И.М. Троцким в связи с ликвидацией металлообрабатывающей фабрики. Троцкому сделали альтернативное предложение: вложить вместе с братьями Авенбург полученные от ликвидации деньги в «Avenco» под «18% годовых, т.е. 18.000 $ в год, или, если не желаете продолжать, продать Ваши акции нам (вашим партнерам)». Судя по следующему письму от 22 марта 1961 г., в котором обсуждаются юридические формальности, связанные с переводом денег И.М. Троцком, он решил продать свои акции партнерам по бизнесу. В этом письме тоже сообщается об очередной выплате присланного Троцким пособия Михаилу Подольскому, делается комплимент хорошей форме адресата и его жене Полине Иосифовне: «очаровательная женщина — даже напоминает... Вы знаете...» и, естественно, передаются приветы от всей семьи Моисея Авенбурга.
Очень интересно, с точки зрения умонастроений старых русско-еврейских интеллектуалов в бурные 1960-е, письмо Моисея Авенбурга от 27 мая 1961 г. В нем он определяет свою политическую позицию — сочувственную к борьбе народов малоразвитых стран за свои права, которая, однако, оборачивается возникновением тоталитарных режимов. Здесь Авенбург сравнивает свои взгляды с позицией И.М. Троцкого, который при любом раскладе событий непременно ставит во главу угла сохранение либерально-демократических устоев общества:
Мы с удовольствием читаем Ваши письма, их содержание нас очень увлекает, так же как и само изложение Ваших принципов и мнений, их глубина и форма — идеологическая и литературная. Нет между нами глубоких расхождений на почве <оценки > мировых событий на политической арене, где идет борьба между двумя блоками. В час кризиса мы встретимся с Вами на одной стороне траншеи, а не будем находиться на противоположных. Разница между нами состоит в интерпретации мотивов «той стороны», как с «их точки зрения», так и вообще в мировом масштабе. Здесь я стремлюсь понять идейные их устремления. Но не стоящих наверху, а самих полуголодающих народов. Лаос, Куба — это только назревшие нарывы. Ваш молодой президент Кеннеди, в которого я глубоко верю, прекрасно понял нашу Южную Америку и готов со всеми своими громадными силами прийти ей на помощь, чтобы поднять экономические стандарты жизни до человеческого уровня. Если бы это поняли несколькими годами ранее, «провала»— Кубы и Лаоса, попросту не было бы. Но вина в этом не Кеннеди. Это вчерашние ошибки. Однако ошибки тоже учат. Поэтому всеми силами его надо поддерживать — Allewai49, а его молодость и динамизм свое возьмут.
С другой стороны сидящий там соперник все это прекрасно понимает и соответственно действует. Поэтому-то у него меньше ошибок проявляется, и он может щеголять победами. Это такая стратегия — Maquiavelo <Макиавелли> — цель оправдывает средства. Наметили цель на своем пути, и все, что ей сопротивляется, должно быть уничтожено. Неважно, кто находится на дороге, здесь теряются моральные мотивы, сантиментов не существует. К сожалению, Израиль, даже со своими социальными достижениями, стоит у них на пути. Египет — Nasser <Насер> — пусть уничтожает «своих коммунистов», он лежит на линии положительной стратегии. Поэтому у него все «кошер». Израиль даже в процессе Эйхмана50 «ведет империалистическую политику» — значит он «трейф»51.
Я охотно повторяю вслед за Вами Вашу фразу: Мне мир демократический близок и дорог. И мне тоталитаризм далеко не по душе. Но чувствую я, что миллионы людей, сотни миллионов забывают эту красивую фразу, когда перед ними стоит вопрос о хлебе насущном, когда их дети голые, босые, голодные. Тут уже не Фрейд и Эйнштейн, а Карл Маркс их понимает. И они бросаются к тому, кто их лучше поймет.
В мои годы, Илюша, не так легко подпасть под влияние идей, которые «некие люди», якобы, а на деле — плохо разбирающиеся в тонкостях диалектического материализма, пытаются мне как бы навязать. Таких «людей» не встречается в тех газетах, что я ежедневно читаю — La Nación, La Razón, Di Ydishe tsaytung 52.<...> Стараюсь найти что-либо серьезное с «другой» стороны, чтобы добиться «объективности», иметь возможность самому нащупать «золотую середину». Но не так это легко. Ерунда тенденциозная, которую здесь печатают коммунисты, меня не захватывает. Другую же серьезную литературу трудно найти. Книги, которые я читаю, относятся к моим хобби — история, социология, астрономия, ядерная физика, последние, конечно, в популярной форме. Я ведь не технарь. Читаю я всегда, ни одного дня не могу провести без книги. Принадлежу я — пассивно, почти ко всем еврейским организациям, которые все Вашей ориентации, а не так называемой «прогрессивной»53. Пишу я все это для того, чтобы вы не каталогизировали меня односторонне, и при этом хочу подчеркнуть, что всячески стремлюсь освободить себя от всякой тенденции, стараюсь быть объективным. При всей своей скромности я все же обладаю способностью самостоятельно ориентироваться и способен анализировать то, что читаю и наблюдаю. В этом собственно и состоят наши акцидентальные разногласия. <...>
Позвольте теперь перейти на другую тему. Как я Вам уже писал, на днях прошло заседание Industrial Argentina. Cámera de Metal Estampado 54, основателем и председателем которой я был несколько лет. Вручили мне диплом и громадную золотую медаль. Работал я там в то же самое время, когда сотрудничал с ОРТом. Я был приятно удивлен таким вниманием. Моя речь — 12 минут, была главной. Показали меня и по телевидению. Прилагаю к письму газетные вырезки об этом, прочитайте, если найдете несколько свободных минут.
Кстати, сегодня имел визит «ортовцев». Настаивают, чтобы я возвратился. Ну что же! История идет курсом вперед, а не обратно. <...>
Мы с Паулиной Вас сердечно обнимаем, Искренний привет Полине Иосифовне. Детям кланяйтесь.
Ваш Миша.
12 января 1962 г. Авенбург «от всей души» поздравляет И.М. Троцкого с тем, что его успехи работы на литературной арене утверждаются намерением издательства Филадельфийского университета подготовить <к публикации на английском языке обе Ваши статьи из «Книги о русском еврействе»55 и готовностью принять также три статьи из будущего издания56, и рассказывает, что на прошлой неделе встретился с Абрамом Заславским. Провели вмести четыре часа. О чем же говорили? Много интересного навспоминали. Комментировали статьи Ваши и вырезки из газет. <...> Нашел я Абрама довольно бодрым, выглядит он лучше, чем пару месяцев раньше. Смерть Якова <Заславского>57, наверное, повлияла на него, но, что очень сильно, по правде сказать, по нему я не заметил. А что с Вашими планами поездки в Мексику и Венесуэлу? Беретесь ли Вы эту <ортовскую — М.У.> миссию выполнить? А если уже на юг смотрите, то еще немножечко и к нам загляните? <...>
Успехи Ваших детей нас радуют. Говорили мы с Паулиной, что Вами по нахес58 от детей тоже везет. <...> Вас и Полину Иосифовну сердечно приветствуем. Крепко жму руку.
Ваш Миша.
Письмо Авенбурга от 21 мая 1962 г. начинается так:
Весь апрель и мая я был завален работой на фабрике. Наш бухгалтер уехал на вакации <...>, а моего брата Исаака я просто «выгнал» на отдых, т.к. прошлым летом он никуда не выезжал. Конечно, я перенял их работу на себя. Выезжаю на фабрику в 7.30 и до 6 вечера там остаюсь. Возвращаюсь домой сильно утомленный. К счастью, на здоровье не жалуюсь, чувствую себя прекрасно. Исаак вернется и мне легче станет. Давид приходит каждый день на часик или два, но в работе участия не принимает. Он это делает по старой привычке, дома-то ему нечего делать. Он, бедный, мучается с глазом. Лечат его, но пока безрезультатно.
Затем следуют политические новости — что характерно для Аргентины, неутешительные:
В стране у нас хаос политический и экономический, что, понятно, и на моральном состоянии общества отражается: имеет место его дезориентация59. <...> Единственный человек, который собою представляет весь синтез демократии и легалитета, т.е. могущественной моральной силы Конституции — это Frondizi <Фрондиси>. Со всеми его ошибками он давал импульс для реорганизации страны, являл собой веру в будущность. Им были внушены большие надежды, хотя популярность не всегда его сопровождала. Ведь когда от всего общества требуется приложить большие усилия и «sacrificios» <«жертвы»>, то не все на это согласны.
И вот, в один прекрасный день, решили наши генералы, что он не для них. В прах пошла вся наша конституция. Ищут теперь, чем можно все это оправдать, чтобы для мира мы остались в числе стран «демократии». Сколько же это сможет продолжаться? Конгресса нет — распустили. Партийные центры закрыли. Вместо законов правят «указы». При этом перонистов и партию Фрондиси поддерживают 75% населения! <...>
И при этом мы все еще «демократия», разве на Востоке, на другой политической стороне, не называют они себя Демократическими республиками? А если из ОАГ60 исключили Кубу левая диктатура, то, что же делать с правой. Конечно, 20 миллионов <населения — М.У.> Аргентины не сравнишь с полутора миллионами Кубы61. Мораль зависит от количества.
По-моему, будьте спокойны, Ильюша, Хрущев не развяжет третьей мировой войны. Ему это не по душе, да и свой народ хочет он поднять на высоту американского стандарта жизни. Жаль, конечно, что не существует у них демократии. Но какой? И где она есть?
Полагаю, в Америке и взаправду она есть. Народ воспитан? Глубже понимает, что сие означает? Весьма возможно. Но, когда имеется экономическая стабильность — и мы все демократы. <...> В нашу Южную Америку надо инжектировать экономическую стабильность, тогда и у нас поймут значение реальной демократии. А пока все это — пантомима.
Финансовое и экономическое положение в стране шатаются. Первоклассные фирмы — индустриальные и коммерческие, испытывают тяжелые затруднения. К счастью, среди этих неурядиц наша фирма «Avenburg Hnos» стоит спокойно. Мы как раз вовремя закрыли металлообрабатывающую фабрику. <...> Текстильная наша фабрика действует, хотя ей тоже нелегко сегодня. А ведь нам завидуют — получили из Германии новые машины! Но надо еще их устроить, нужны усилия и усилия... и другие <молодые силы — М.У.>. Мне уже 68 лет и я обязан быть на коне... и не падаю духом.
Паулина и дети здоровьем и всем другим — в порядке. Вам и Полине Иосифовне приветы сердечные
Ваш Миша.
P.S.
Марк Турков: Говорил с ним. О Вас он не забыл. Собирает необходимые данные. Через 3-4 дня напишет.
Сергей Орем: Уже послал для него известие о получении для него денег, они к его распоряжению. За прошлый перевод получил от него любезное письмо. Благодарит...
Телефонировал я Абраму Заславскому. Передал от Вас привет. Он все ожидает ответного письма от Вас. К Новому году Вы по приезду из Мексики сообщали мне, что ему на днях напишете.
15 ноября Авенбург сообщает, что сегодня в газете «Di Ydishe tsaytung» <«Еврейская газета»> прочел статью И.М. Троцкого о Кубе и очень рад, что тот снова пишет — значит, оправился после своей очередной болезни:
Куба, Кеннеди и Хрущев уж как-нибудь сговорятся друг с другом. <...> Надеюсь, что Куба вылечится, поставят ее на ноги, конечно, не при старых условиях. А в здоровом развитии, социальном и экономическом... И пусть это служит примером для других стран Латинской Америки — опасно струнку слишком натягивать, может лопнуть.
Вчера приватно принял нас (меня и еще пятерых представителей индустрии и коммерции) генерал Арамбуру, — недавно приехавший из США, где он встречался с Кеннеди. Сейчас он готовится к поездке в Европу на 10-12 дней. Собирается он <вновь — М. У. > стать кандидатом в президенты62. Много он нам рассказал интересного. У Вас ему много чего наобещали — только вот, мол, надо устроить порядок в стране. Обещал он нам всего самого лучшего и евреев помянуть не забыл — его хорошо приняли в AJC63. Он оптимист. Впечатление производит очень хорошее: говорит ясно, без комбинаций, симпатичный.
На прошлой неделе встретились мы с Владимиром Гальпериным64. Вызвал он меня по телефону. Разговор между нами был интересный и простились мы очень тепло. В воскресенье 18-го мы приглашены им на прием в «Плаза отеле», где будет проходить его конференция, — конечно, об ОРТе. Мы с Паулиной пойдем.
А теперь ожидаю письма от Вас. Обнимаю Вас.
Ваш Миша.
В последующих письмах 1962 г. и начала 1963 г. помимо текущих бытовых новостей Авенбург сообщает Троцкому о выплатах высылаемых им пособий его аргентинским подопечным старым русским эмигрантам: Сергею Орему, Михаилу Подольскому, Евгению Гагарину, Николаю Смирнову, Александру Лучинскому и др., которые перебрались из Европы в Южную Америку уже после его отъезда в США. Из них в свое время Троцкий был знаком лишь с Оремом и Подольским, о коих речь пойдет ниже.
В своем письме от 8 сентября 1963 г. Авенбург пишет:
Новости в ОРТе Вам, наверное, известны. Был у нас сам Президент из Женевы на съезде. Др. Фрумкин, верно, Вас уже об этом известил. Снова вошли в контакт со мною. Был я на празднике в школе, когда новая комиссия переменяла «власть». Даже мне речь пришлось говорить. Но об этом в другой раз.
Сергею Орему выплатили 3375 песо, как указывалось в Вашем письме. Сам он болеет, потому не приходит. Некий полковник Сакс пришел за деньгами. Сам он старичок, в свое время воевал, а кто знает, наверное, как все они, и наших евреев не забывал. Не знаю я точно, но что-то мне такое почудилось. Но это все уже далеко в истории. Надо многое забывать. Даже с немцами помирились. Не понимаю я только, как эти еврейские правые газеты поддерживают линию «объединенной Германии». СССР стоит на политике «двух Германий». Я с этим тоже не согласен. Правильней было бы иметь в Европе пять-десять Германий. Конечно, меня не спрашивают. Да и что я залез на эту тему? Простите.
В стране у нас политически все спокойно. Ожидаем, когда новый президент возьмет, наконец, власть в руки. Нормализовать нашу разрушенную экономику не так-то легко — уже чувствуется новая волна инфляции. Шансы Аргентины на будущее хорошие, но как скоро наступит это «будущее» — не знаем.
Паулина и я Вас искренне обнимаем и желаем всех нахесов.
Ваш Миша.
В письме от 2 декабря 1963 г. Моисей Авенбург сообщает, что уже несколько раз:
Брал перо в руки и даже начинал писать Вам, но <был не в состоянии продолжать. — М.У.>. Тяжелое настроение первых дней после трагедии, стоившей жизни молодому Кеннеди65, нас всех ошеломило. Да, в той или иной форме, но у всех, с кем бы я ни встречался, было такое же чувство горести и еще протест — против незаслуженной им печальной судьбы. И, тем не менее, дни проходят, и все в жизни входит в прежнюю колею. Roi ist mort, vive le Roi!66 Первое выступление Джонсона67 в парламенте — приличное, а если покажет, что есть у него характер и энергия, чтобы выполнить обещаемое, и не позволит реакционным силам поднять голову, то этим укрепит он надежду на достойное будущее.
Письмо Ваше от 9-го сего месяца я получил. Предлагаете Вы мне превратиться в «периодиста» — написать статью для газеты. Когда жил я в Нью-Йорке — лет 45 тому назад <1918 г. — М.У.> — в одной из газет <...> напечатали две мои статьи по поводу событий тех лет, происходивших в Аргентине. Даже была полемика в ответ на первую мою статью. Кто-то из аргентинского консульства отреагировал и послал в газету «реплику». Я написал ответ... и этим закончилась моя газетная деятельность.
Но, вот курьез! — Ваше письмо совпадает с письмом Меркина от 16 августа, в котором он просит, чтобы я написал свое мнение о последних событиях в ОРТе. Прочитал он где-то, что согласно Commision Derective68 обещаются реформы и новая линия в работе. Случайно и мне дали слово и я «что-то там» сказал. Просил меня Меркин писать про это на машинке. С глазами у него не все «кошер» и ему трудно читать рукописные тексты.
Конечно, я это сделал. Не по-русски, а по-испански, написал пару страниц своих Reminiscences69. Пишет он мне в ответ — 25.10., что «поражен чудесным стилем и глубоким знанием испанского языка <...>». Фантазия Меркина на этом не ограничивается. «Со всеми нюансами испанского языка письмо Ваше, — пишет он, — образец литературного стиля очень высокой марки и напоминает мне (ему!) эпоху так называемого эпистолярного романа прошлого века (Достоевский) и 18-го века — Mme de Stàil, Voltaire etc.» Вот это друг Меркин! <...> А Вы, Ильюша, просите у меня скромную статью для New York Times70. Shame on you!71
Но оставим это. Моя жизнь пошла по другой дороге, которой я не совсем доволен, однако меня не спрашивали.
Положение в стране не так скоро нормализуется. Кризис еще во всем разгаре. Правда, политические страсти поутихли. Есть у нас правительство, а не «пантомима» <...>, но экономику не так-то легко на ноги поставить, тем более, что те, кто выиграл выборы, чувствуют себя обязанными выполнять программу, которую сами заявляли, когда были в оппозиции и им легко было обещать. <...> Аннулировать подписанные договоры с американскими и европейскими нефтяными фирмами легко, неясно только, какие результаты получатся. <...> Вы знаете, Ильюша, мое не восторженное отношение к капиталам, которые заправляют нефтяной отраслью во всем мире. Но именно поэтому надо бы быть осторожней. Все они тесно связаны общемировым капиталом, в доверии которого мы в такое время особенно нуждаемся для выполнения аргентинских обязательств. Но все-таки я оптимист и верю, что все это наладится. Аргентина не Персия, а кошмар Кубы служит им предупреждением не хватать чересчур за горло. <...> Ricardo будет у Вас к концу января. Тур его — Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Чикаго. Затем — Сан-Франциско, Лос-Анжелес , Мехико, где у него в феврале конгресс по психиатрии. Лично Вам он передает искренние приветы.
Здание нашей фабрики мы еще пока не продали. Директора еврейской школы хотят купить дешевле, чем уже было подписано. Конечно, мы с ними не будем спорить. Это ведь еврейская школа. <...>
Дружески Вас обнимаю, Миша.
Письмо от 25 декабря 1963 г. начинается с описания рождественских праздников в Буэнос-Айресе:
Nochebuena-Weihnacht-Christmas72 <праздники> пришли со всем надлежащим шумом и треском на улице — до самых поздних часов ночи, почти до утра. Кто только не участвует в них! Всякого рода христиане и даже евреи. Ведь мы здесь почти «ме-хутоним»73. Новые принципы устанавливаются по линии, означенной папой Иоанном XXIII и Павлом VI74: по радио и телевидению священники, пасторы и раввины вовсю обнимаются, делают друг другу комплименты. Нас, евреев, просто уважают, чтобы не сказать «обожают». Ведь мы — «народ Божий» и вот-вот будет указ не обвинять нас в смерти Иисуса (?!). Папа Римский собирается нанести визит в «Палестину», ну а что потом будет — неизвестно. То, что Ватикан начинает проводить — сверху! — революционную линию — это, так сказать, «мешияхс цайт»75. <...> Но никто не вспоминает Шолом-Аша, который пытался «по-своему» вникнуть в христианскую философию. Более того, мы, евреи, его тогда затюкали. Я лично чувствовал себя несколько обиженным, когда Шолом-Аш, приехав в Израиль, где его холодно приняли, просил о встрече с Бен-Гурионом, чтобы полемизировать с ним по поводу его последних книг. Тот его не принял, отказал — не было у него времени заниматься подобными философиями. Питают себе иллюзии наши евреи (не все, конечно), что начинает-де приходить к концу чувство антисемитизма. Да и вообще мы, мол, не исключение. Еще есть армяне и греки — в Турции, африканцы и индийцы в Южной Африке, черные — негры, в американских Южных Штатах и т.д., и т.д., и т.д. Во всем мире царит нетерпимость по отношению к миноритетам и эту ситуацию не исправишь указами сверху — Ватикана, царей или президентов. Что евреи больше других были жертвами — это правда, но этот факт принадлежит к области статистики. Пусть, мол, социологи все это изучают.
Я, конечно, как и все мы, очень рад и доволен, что есть что-то новое, революционное, что в мире происходит что-то к лучшему... Но мы, евреи, должны держаться пословицы: «На Бога надейся, а сам не плошай».
Пишу я это сегодня, в праздничный день покоя, когда нет ни театров, ни кино, все сидят по домам или уехали на летние каникулы76. Остался я один дома, Паулина делает визиты, а у меня появилось настроение с кем-то поговорить о серьезном, а не о будничных делах. Так что, Вы, Ильюша, жертва и должны выслушать, что у меня в мыслях рождается. Что напишу, решил немедленно вложить в конверт, без дополнительного перечитывания и обдумывания — нравится, не нравится, годится, не годится. Ведь мой русский язык далеко не так хорош, как испанский, которым я владею в наилучшей форме. Но, Вы, Ильюша, меня хорошо знаете и мои письма понимаете.
Другую часть своего рождественского письма Авенбург посвятил текущему политическому положению в Аргентине.
Наш новый президент д-р Иллиа вчера ночью по телевидению говорил свое: «Mensoje de Nochebuena al Pueblo Argentino»77. Слушал я его, смотрел на его лицо и думал я себе в душе: «Вот этот человек назначен народом, чтобы вытащить нас из глубокой грязи, в которую нас вогнали все предыдущие эксперименты». Так вот, в состоянии он это осуществить? Представляет собой д-р Иллиа человека выдержанного, с хорошим характером, не способного кого-то обидеть... Но достаточно ли этого? Чувствуется, что он не создал вокруг себя группы сотрудников, способных в будущем проводить определенную им линию в политике: финансовой, социальной, индустриальной, аграрной, в тесном сотрудничестве с техническими специалистами, университетами, системой образования и — особенно! — с рабочим классом, с Trade Unions78, в условиях острых кризисов и безработицы. Сравнивая его с Фрондиси, чувствуешь, что наши генералы сбросили с пьедестала гиганта и поставили на его место пигмея. Фрондиси с самого начала создал общенациональное политическое движение, вокруг него хлопотали многочисленные соратники, друзья и поклонники. Естественно, что не меньше было у него противников. Перон — по-своему, был такого же рода фигура, но демагог. Влияние Фрондиси чувствовалось уже и в других латиноамериканских государствах. Для покойного Кеннеди он представлял собой политика, с помощью которого имелась реальная возможность превратить Аргентину в процветающую южно-американскую страну — «Milagro Sud American»79.
Д-р Иллия — деятель далеко не такого калибра, хотя еще рано так его классифицировать. <...> При всем при том, что мы на корабле, море бушует, а капитан не командует, но все-таки корабль не в опасности. Несмотря на пессимизм некоторых финансовых аналитиков и неважную статистику в стране что-то понемножечку сдвигается к лучшему: урожай — блестящий, курс валюты — не падает... Кто знает, авось, через год или два и мы будем числиться среди стран Milagro Sud American. Пока от всех нас мы Вам и Полине Иосифовне шлем наши искренние поздравления к Новому году.
Ваш Миша.
В письме от 3 октября 1963 г. Авенбург извещает Троцкого о получении денежного чека на его имя, прилагает фирменный расчет сумм, которые его фирма должна ему выплатить, просит его проверить, подписать и отослать одну копию назад. Кроме того, сообщает, что он очень доволен, поскольку:
Сегодня мы окончательно продали здание фабрики. Купила его еврейская школа «Мединат Исраэль». Если помните, это они у нас купили землю, которая смотрит на противоположную улицу <...>, где выстроили здание стоимостью в 20 миллионов песо. Учатся у них 700 учеников. Лет пять назад мы им же продали землю, которая выходит на нашу улицу Alcaraz. Ну а теперь они у нас забрали все, что осталось — 2070 кв. метров земли и здание <...>. Теперь наши финансы в порядке и решилось удачно положение семьи нашего Давида. Я уверен, что будь он жив, то был бы доволен результатами. Вдова его выражает мне самую глубокую благодарность за все, что я в их пользу делаю, хотя, с моей точки зрения, это моя обязанность, как брата и старшего в семье. Но главное то, что между обеими нашими семьями царит мир, а достигнуть такого положения не всегда легко. <...>
Все статьи Ваши, опубликованные в «Ydishe tsaytung», я прочитал с большим интересом, особенно последние: про воспоминания дочери Дубнова80 о своем знаменитом отце и очерк о Менделе Мойхер-Сфориме. У Вас, Ильюша, есть среди других прочих особый талант, представить читателю портрет знаменитого человека по эпизодам из его жизни. Такие статьи и описания меня очень привлекают — всегда чему-то да научишься.
Привет Полине Иосифовне, обнимаю Вас
Ваш Миша.
В единственном из имеющихся в YIVO-архиве И.М. Троцкого письме за 1964 г. (от 8 декабря), Авенбург передает известие от сына Рикардо — тот, будучи в Нью-Йорке, посетил дом Троцких, такой для него «близкий и уютный».
Сидели мы с Абрамом <Заславским> более четырех часов, говорили обо всем, но как-то все темы крутились вокруг Троцкого. Много у Вас друзей, Ильюша, но Абрам, он Вам друг самый верный. Сидит он себе один-одинешенек, ждет. Кто придет, с кем можно будет поговорить... В письме к нему вы сообщаете подробности: какое положение в материальном плане и общественном занимают Ваши сыновья. Что ж, Вас можно только поздравить. Как отец, так и дети, каждый по своей линии, но активно развивают свои таланты и способности. <...>
Просьбу Вашу, чтобы я написал некоторые воспоминания по поводу развития ОРТа в Южной Америке, которые Вы могли бы затем использовать в своей будущей книге «История русского еврейства», я, конечно, постараюсь выполнить и в меру моих способностей изложить на бумаге. Затем уж Вы вправе сами выбрать из них то, что Вам надобно. А если это все по-испански подготовить? Так для меня легче будет, мой ведь такая «калека». <...>
Последние ваши указания по выплатам Орему мы выполнили. Он очень болен и приходит за деньгами все тот же полковник Сакс, а Орем потом подтверждает получение. <...>
В стране царит дороговизна. Приближаемся мы в ценах к уровню доллара, которые у нас никто не зарабатывает. Но это уже тема для отдельного письма.
«Достойная партия» — та, которую, судя по вашим письмам, планировала Ваша дочь Ольга для Рикардо, видимо, не осуществилась, иначе что-то нам было бы уже известно. Жаль... Но при всем том мы ей очень благодарны за хлопоты.
Паулина, так же как и я шлет Вам и Полине Иосифовне дружеский привет. Крепко жму руку.
Ваш Миша.
Последнее письмо Моисея Авенбурга из YIVO-архива И.М. Троцкого датировано 7 апреля 1966 г. и начинается с приятного удивления тем, что в самый разгар очередной забастовки почтовых служащих, длящейся «уже больше месяца», когда «в газетах пишут, что письма и телеграммы тысячами выбрасывают и сжигают», Авенбург получил письмо Троцкого от 1 апреля. Далее он отчитывается в очередных выплатах денежных пособий Литфонда в свете указаний Троцкого, сетует на то, что по возвращению из отдыха на океанском побережье подхватил какую-то желудочную хворобу и рассказывает о гостящей у него двоюродной сестре из Лос-Анжелеса.
Была она несколько раз за последние годы в Европе и даже пару месяцев провела в Советской России. Это уже ее не первое посещение, была она там в 1961 и 1964 гг. Есть много «за» и «против», но все — очень интересно. Странный мир, где царствует большой оптимизм. Нашла она там значительные перемены, причем — позитивные! <...>
Статью Вашу в «Diario Israelita»81 о процессе над Львом Троцким я найду. Тема эта для меня интересная, как и Ваше личное к ней отношение.
Спасибо за поздравление по поводу Пейсаха, а то я уже старик — 72 года на второй седер стукнет. От всей души мы Вам, Полине Иосифовне и всем вашим шлем наши поздравления, сердечные пожелания здоровья и спокойной жизни.
Ваш Миша.
Поскольку письма Авенбурга не только отражают его политические и общественные взгляды, но и включают в себя множество культурно-исторических отсылок, нетрудно представить духовный облик этого человека, Моисей Авенбург — энергичный, удачливый промышленник и активный общественный деятель, был секуляризированным русским евреем, человеком всесторонне образованным, очень начитанным — ни дня без книги! — и здравомыслящим.
Авербург твердо занимал прагматически-центристскую позицию в политическом спектре; старался, с опорой на здоровый еврейский скептицизм, «зреть в корень» и не поддаваться влиянию пропагандистских эксцессов. Как и Троцкий он стоял на социал-демократических позициях, но прекрасно понимал и учитывал тот неприятный факт, что демократические ценности уважаются массами в «сытом», экономически стабильном социуме, но плохо усваиваются «на голодный желудок»: в странах с неразвитой экономикой люди, как правило, отдают предпочтение различным формам автократии и тоталитаризма.
Хотя с начала 1930-х жизнь в Аргентине стала достаточно безрадостной82, письма Авенбурга — ностальгические, скептические, негодующие — совершенно лишены чувства безысходности, апатии или уныния. Его прагматизм, подпитывавшийся деятельным характером и оптимизмом мировосприятия, может служить примером для подражания. Заложенный Авенбургом, И.М. Троцким и другими фундамент общественной, научной и культурно-просветительской еврейской жизни продолжает оставаться весомым фактором новейшей истории Аргентины83.
Al ponerse el Sol84: Илья Троцкий в Нью-Йорке
В 1946 г. И.М. Троцкий переезжает из Аргентины в США, где обретались его дети, и поселяется в Нью-Йорке, чтобы, как сообщили местные газеты — еврейский еженедельник на немецком и английском языке «Перестройка» («Aufbau/ Reconstruction) и «Новое русское слово»85, — заняться литературным трудом. Здесь прошел последний и весьма плодотворный период его жизни.
Соединенные штаты Америки, в отличие от Западной Европы, не были местом паломничества русских путешественников и особо не влияли на русскую культуру. Но здесь уже с конца XIX в. проживало немало бывших российских подданных: в 1861 по 1915 гг. из России выехало 4,3 млн. человек (из них почти 2,6 млн. — в первые 15 лет XX столетия). Две трети всех эмигрантов направлялись в США (из числа выехавших в XX в. — около 8о%)86. Дореволюционная эмиграция из Российской империи в своем абсолютном большинстве поставляла в США неквалифицированную рабочую силу87, хотя среди этих переселенцев, помимо политэмигрантов, было и немало инженеров и даже научных работников88.
По-настоящему, однако, массовое переселение в США всех групп, сословий и национальностей из числа российских подданных началось после революции. Остановимся лишь на работниках умственного труда, артистах и интеллектуалах.
В 1920-х вокруг Голливуда, в Лос-Анджелесе, выросло даже настоящее русское эмигрантское поселение, маленькая Россия. Эмигрантская европейская печать так описывала этот феномен:
В Лос-Анджелесе, огромном городе, частью которого является Холливуд, две русских колонии. Первая — старых довоенных эмигрантов, состоящая из духоборов и евреев, и вторая — последней революции. Новая эмиграция живет в северо-западной части Лос-Анджелеса, в Голливуде, так как она, так или иначе, причастна к киноиндустрии. Состав самый пестрый, объединяющим звеном является популярный у американцев русский клуб и гордость Голливуда — русская церковь, в старом русском стиле, построенная на доброхотные пожертвования. <...> Имеется и русский книжный магазин с небольшой библиотекой89.
В Холливуде существуют еще два русских клуба. Русско-американский артистический клуб два раза в неделю устраивает программу. Другой клуб <...> — фактически <...> простой ресторан90.
Владимир Иванович Немирович-Данченко, работавший в середине 1920-х по контракту в Голливуде, выдвинул даже проект создания русской киностудии, организованной по тому же принципу, что и русские эмигрантские кинофабрики в Европе91. Из этого проекта ничего не вышло. Голливуд при всем своем пиетете к системе Станиславского не принял Немировича-Данченко. Творческие принципы школы МХТ, идеи актерского вживания, перевоплощения и «врастания» в роль, русская любовь к герою-мученику, концепция искусства как зеркального отражения сложных душевных переживаний были в корне противоположны основам голливудского подхода к кино.
Однако большой группе русских актеров-эмигрантов, а также целому ряду бывших военных удалось прижиться в Голливуде. Актеры успешно подвизались на своем профессиональном поприще, а военные (среди них несколько бывших генералов русской армии) выступали в качестве консультантов при постановке картин «русского содержания», которые, по словам одного из тогдашних русских критиков, в Голливуде:
...сыпятся как из рога изобилия. И одна другой беспардоннее и невежественнее рисуют наши нравы, быт, нашу культуру и общественность. Что ни картина, то шедевр развесистой клюквы; что ни выпуск — то злое, грубое издевательство над нашим прошлым92.
Из русских актеров-эмигрантов наибольшего успеха в США добился Михаил Чехов, перебравшийся за океан в 1939 г. Здесь он создал свою актерскую школу, которая пользовалась огромной популярностью. Через нее прошли Мэрилин Монро и многие другие будущие звезды Голливуда.
Что же касается литераторов, то здесь налицо совсем иная картина. Из числа более или менее известных русских писателей-эмигрантов в США до Второй мировой войны обосновались лишь Осип Дымов, к тому времени уже перешедший на идиш и английский, Г.Д. Гребенщиков и Гусев-
Оренбургский. Если Берлин и Париж блистали целым созвездием русских литературных журналов, то в Америке их не было вовсе.
Хотя значительная часть русских эмигрантов переезжала в США из Западной Европы, типовые психологические портреты представителей «американской» и «европейской» русских диаспор весьма различны. Писательница Нина Берберова, которая за свою долгую жизнь приобрела опыт существования по обе стороны океана, выделяла несколько основных моментов этих различий. Если во Франции, по ее свидетельству:
был раздел поколений, затем был раздел политический: правый и левый, то есть монархический <...> и так называемый социалистический <...>. Там можно было почувствовать москвича или петербуржца или бывшего столичного жителя и провинциала, человека, прошедшего гражданскую войну, и человека, прошедшего университет. Здесь (в Америке — М.У.) эти категории не существовали. Здесь дело шло о том: когда ушел из России? В 1920 году? В 1943? Когда оказался в Америке? В 1925 году? В 1939? В 1950? <...>... было еще одно деление <...>: независимо от того, сколько лет человек жил в западном мире, у одних была потребность брать все что можно от этого мира, в других же была стена, отделявшая их от него. Они привезли с собой свой собственный, лично-семейный, складной и портативный нержавеющий железный занавес и повесили его между собой и западным миром. Они иногда скрывали его, иногда выставляли напоказ, но чаще всего просто жили за ним, не любопытствуя, что находится вокруг, по принципу «у нас в Пензе лучше». Франция сильнее требовала подчинения себе, часто насильственно меняла людей, перерождала их — хочешь не хочешь — так, что они порой и не замечали этого процесса. Много для этого было причин: была традиция русских европейцев, живших в Париже когда-то; была французская литература, так или иначе вошедшая в сознание даже полуинтеллигента еще в школьные годы; эмигрантские дети, растущие во Франции и приносящие в семью навыки новой страны; и даже у некоторых, у немногих — какие-то воспоминания об отцах и дедах, ездивших сюда, привозивших отсюда в Россию что-то, чего в Пензе почему-то не было. В Америке дело обстояло совершенно иначе: традиции ездить сюда никогда не было; напора, какой был у Франции, — подчинять своей культуре обосновавшихся в ней русских, у Америки быть не могло; литература (живопись и музыка) была приезжим почти незнакома; эмигрантские дети не только не несли в семью новые навыки, но, благодаря принципам американской школы, уходили в своем протесте против первого поколения все дальше, туда, где все, что им дается с такой щедростью, встречает дома либо насмешку, либо протест. Круг русских в Нью-Йорке, и «старый», и «новый», состоял в большинстве из провинциалов (в Париже было наоборот), и сохранение «пензенской психологии» было среди них в большой силе. Те, что спешили войти в американскую жизнь, конечно, даже не оглядывались назад на этот круг. Они, так сказать, торопились перепрыгнуть из первого поколения во второе или даже в третье, и на этом кончалась их искусственная «русскость»93.
И все же первое поколение эмигрантов из числа культурной элиты всячески старалось сохранить в Америке свою исконную «русскость», фиксируя ее даже на уровне ландшафтов. Так, например, старый знакомый Ильи Троцкого писатель-эмигрант Георгий Гребенщиков, перебравшийся за океан в 1924 г., основал в штате Коннектикут селение Чураевку — живое воплощение образа алтайской деревни, получившее свое название по роману-эпопее писателя «Чураевы». Чураевку посещали видные деятели русской культуры и литературы: С. Рахманинов, Н. Рерих, Ф. Шаляпин... Здесь проводились литературные вечера, читались лекции, устраивались выставки, детские праздники и фестивали. Члены русской колонии отправляли денежные посылки в Европу и Россию для культурных и просветительных целей.
В YIVO сохранилось письмо от 19 мая 1951 г., в котором Илья Маркович обращался к писателю с просьбой сдать ему с женой в Чураевке помещение для летнего отдыха.
Многоуважаемый Григорий Дмитриевич!
Прочитав мою подпись, вспомните, может быть, и меня. Много лет тому назад мы с Вами познакомились, если не ошибаюсь, в Берлине. Пишу Вам по рекомендации М.Е. Вейнбаума, редактора «Ново<го> Рус<ского> Слова», сотрудником которого состою. Просьба моя к Вам следующая: жена моя и я — люди пожилые — хотели бы провести лето в ровной и лесистой местности, где можно свободно погулять и насладиться отдыхом. Вашу «Чураевку» Марк Ефимович находит как раз подходящей для подобного отдыха людей нашего возраста. Наши вакации мы хотели бы начать в двадцатых числах июня, закончив их в середине сентября. Мы претендуем на две комнаты или на одну большую, если можно, с ванной и правом пользоваться кухней. Не возразим и против полного пансиона. Все зависит, разумеется, от того, во что две комнаты с пансионом или без него могут влететь. <...> Очень обяжете за скорый ответ. Не откажите в любезности, сообщить, как добраться до Чураевки — автомобилем или железною дорогой?
С наилучшими пожеланиями
Ваш Илья Троцкий Зовут меня Ильей Марковичем94.
Говоря о деятельности русской культурной элиты в США и Европе, нельзя не заметить явной диспропорции между триумфальными достижениями в Новом Свете представителей русского артистического мира — главным образом музыкантов (Рахманинов, Пятигорский, Кусевицкий и др.), достойными упоминания успехами художников (Архипенко, Вербов, Бурлюк, Коненков, Лаховский, Сорин, Фешин, Шагал и др.) и более чем скромной — в сравнении с предвоенной Германией и Францией, — литературно-публицистической активностью писателей и журналистов из числа эмигрантов «первой» волны в предвоенные десятилетия. Другими словами, вплоть до середины 1940-х в США практически не существовало русской литературной среды. Например, в сводном «Списке русской эмигрантской прессы в США из собрания Андрея Савина»95 периодических изданий крайне мало, крупнейшие из них — газета «Новое русское слово», с которой почти четверть века сотрудничал И.М. Троцкий, о чем речь пойдет ниже, и «Новый журнал».
По большей части в упомянутом списке мелькают названия информационных листков различных организаций — монархических, военных, христианских и т.п. Среди них обращает на себя внимание издание «Известия литературного фонда» — организации, основанной представителями русской эмигрантской элиты еще в 1918 г., как нью-йоркское «Общество помощи русским писателям и ученым в изгнании (Fund for the Relief of Russian Writers and Scientist in Exile)». Литфонд, просуществовавший более 6o лет, после окончания Второй мировой войны являлся основным финансовым донором вконец обнищавших представителей литературной среды русского Зарубежья, проживавших по большей части за пределами США. Каждый год около 300 человек получали от него денежное вспомоществование, а в числе его спонсоров числится даже имя дочери Сталина, «невозвращенки» Светланы Аллилуевой, пожертвовавшей Литфонду 32 ооо долларов96. Конкретные сведения о благотворительной деятельности Литфонда можно почерпнуть из писем его подопечных к Илье Троцкому, публикуемых ниже. В качестве примера приведем текст письма Георгия Адамовича из YIVO-архива И.М. Троцкого:
53 rue de Pantien
Paris 8-е 20/III-1951
Многоуважаемый Илья Маркович,
Получил Ваш чек для передачи Щербакову97 и прилагаю его расписку. Думаю, что он Вам напишет сам, чтобы выразить благодарность Литфонду. Пользуюсь случаем поблагодарить сердечно Литфонд и от себя лично. Я писал об этом в свое время М.Е. Вейнбауму, приславшему мне чек, но он в хлопотах своих мог и забыть передать мою признательность.
Если у Вас еще остались средства для ссуд, большая к Вам просьба о поэте Вл. Л. Корвин-Пиотровском. Он жил более или менее благополучно до сих пор, но сейчас очень нуждается. Его адрес — 40 rue St-Lambert — Paris XV. Я ему сообщил, что Вам во всяком случае нужны биографические сведения <о нем — М.У.>.
Относительно Ваших посылок: конечно, они пригодились бы. Мне трудно определить, что именно нужнее другого. Думаю, что все было бы с благодарностью и радостью разобрано членами нашего Объединения.
В случае, если бы Вы вещи выслали, будьте добры, сообщите — нужна ли расписка от каждого получившего что-либо с указанием вещи, или достаточно расписки общей.
Крепко жму Вашу руку и приношу Вам искрению благодарность от Объединения за труды и желание помочь.
Георгий Адамович P.S.
Вы спрашивали мое имя отчество: Георгий Викторович.
И.М. Троцкий четверть века состоял секретарем Литфонда, который с середины 1930-х возглавлялся М.Е. Вейнбаумом, являвшемся одновременно главным редактором и издателем газеты «Новое русское слово». После окончания Второй мировой войны эти литературно-общественные центры русского Зарубежья тесно сотрудничали с «Новым журналом», Толстовским фондом98, Русской академической группой в США, Русским инженерным обществом в США, Союзом русских евреев, Обществом помощи детям, Конгрессом русских американцев, Орденом Рыцарей Святого Иоанна Великого Приорства Российского и многими другими. Эти организации были основаны русскими эмигрантами различных политических убеждений, но все они декларировали приверженность сохранению духовных, культурных, национальных традиций, являясь, таким образом, оплотом духовного и физического выживания русского Зарубежья99.
В годы Второй мировой войны
К русскому Нью-Йорку <...> перешла роль столицы русской эмиграции. Русская колония в США, за небольшими исключениями не отличавшаяся особыми интеллектуальными претензиями, получила мощную подпитку из Европы. В США, преимущественно в Нью-Йорк, во второй половине 1930-х — начале 1940-х годов перебрались многие русские эмигранты — писатели, издатели, политические деятели, предприниматели, юристы, ученые... Приезжали не только из Франции — из Германии, Прибалтики, Польши. Однако наиболее многочисленная группа интеллектуалов прибыла из Парижа. В Нью-Йорке в годы войны стал выходить новый толстый журнал, сменивший знаменитые парижские «Современные записки»100.
Об этом литературном издании французы говорили: если бы у них было что-то подобное, то они не волновались бы о французской культуре. Но началась Вторая мировая война, за которой последовала оккупация Парижа, и журнал закрылся. К концу
1941- го сотрудники «Записок», прозаик Марк Алданов и Михаил Цетлин, критик и меценат, известный знатокам поэзии под именем Амари, получили американскую визу и переехали в США. Идея создания, а, скорее, воссоздания русского интеллектуального издания, обсуждалась еще во Франции. Ее очень поддерживал Бунин, тоже собиравшийся эмигрировать и бывший уже на полпути к визе, но решивший, что в его возрасте начинать новую эмиграцию не по силам. <...> <Он> был в числе тех, кто стоял у истоков, обсуждал с Алдановым идею возрождения русского литературного издания, а кроме того, для первого номера дал свои рассказы. Они потом составили цикл «Темные аллеи».
Журнал — это большая часть истории русской эмиграции. Любое имя, которое вам придет в голову, из блестящих имен русской культуры, русской литературы, включая трех нобелевских лауреатов — Ивана Бунина, Александра Солженицына, Иосифа Бродского, — это авторы «Нового Журнала». Совершенно замечательна плеяда его главных редакторов: после Алданова и Цетлина им стал профессор Гарвардского университета Михаил Карпович <1946-1959 гг.>. Он, кстати, структурировал «Новый Журнал», академически подкрепил его — пригласил крупнейшие имена русской культуры и американских профессоров — Николая Тимашева, Питирима Сорокина, Георгия Федотова, Василия Зеньковского и многих других. Кстати, обложка журнала, с которой он выходит и в наши дни, была сделана Мстиславом Добужинским.
После Карповича редактором становится Роман Гуль <1966-1986 гг.>. Именно он первым стал печатать авторов из Советского Союза. Скажем, глава из романа «Доктор Живаго» впервые была напечатана в «Новом Журнале». <...>
В 1953 году была сформирована корпорация «Новый Журнал», которая, кроме журнала, занималась большими нелитературными проектами. <...> первая волна эмиграции выехала в убеждении, что скоро вернется, что все это ненадолго. <Они> не сидели сложа руки, а выстроили мощное государство без границ, которое профессор Колумбийского университета Марк Раев, один из лучших историков русской эмиграции, назвал в свое время «Россией в миниатюре». Перед эмиграцией стояла миссионерская задача по сохранению русской культуры — для того, чтобы вернуть ее потом на территорию освобожденной России. Уже было понятно, что после большевиков культурная традиция будет разрушена, и ее нужно было вернуть России нетронутой, как минимум. А на деле традиции развивались, потому что в культуре не бывает пауз. То была гигантская задача, и с ней справились. Эмиграция развивала русскую культуру в диалоге с европейской, мировой цивилизацией, в естественном для себя контексте. И достижения — налицо. Имена вернулись в Россию <...>101.
В Нью-Йорке возникли многочисленные общества, клубы, фонды, происходили публичные дискуссии, организовывались лекции, читались доклады. Эмигранты с трудом приспосабливались к новой стране, ее странным и столь непохожим на европейские обычаям, языку. Тем более что многие из «аргонавтов» были людьми немолодыми. Однако Америка, казавшаяся временным пристанищем, стала для подавляющего большинства из них новым домом. Поначалу нерегулярная связь с Францией сохранялась. Но после вступления США в войну 7 декабря 1941 г., а затем оккупации нацистами в ноябре 1942 г. «свободной зоны», контролируемой правительством Виши, все контакты с соотечественниками на территории Франции прервались.
«Увы, многих близких друзей и родных приходится оплакивать, как заживо похороненных», — констатировал А.А. Гольденвейзер в марте 1943 г. — «Не знаю, кого из них нам доведется еще увидеть, когда, наконец, откроется “железный занавес”, окончательно отрезавший Европу после оккупации Юга Франции».
Через полтора года железный «занавес» открылся, точнее, был сорван войсками союзников. Наступило время подсчета потерь и помощи уцелевшим российским эмигрантам.
Существенно, что произошла сверка «идеологических часов»: выяснилось, что отношение к коренному для политической эмиграции вопросу — о России, ее настоящем и будущем — у русских европейцев и русских американцев заметно отличается. Русские парижане были склонны не только признать заслуги советской власти в борьбе с нацистской Германией, но и примириться с ней. Русские американцы считали надежды на эволюцию советской власти самообманом и не собирались «спускать флаг». Впрочем, водораздел не всегда проходил по географическому принципу»102, — и в США, союзнике СССР по антигитлеровской коалиции, многие тешили себя надеждами на изменение советского строя к лучшему. Полемика на сей счет велась и на страницах газеты «Новое русское слово», твердо стоявшей на либерально-демократических позициях.
Как уже отмечалось выше, И.М. Троцкий в свой нью-йоркский период жизни очень активно публиковался в «Новом русском слове», а также был постоянным сотрудником нью-йоркских еврейских периодических изданий: «Forvertz» («Вперед»), «Zukunft» («Будущее»), «Morgn zhurnal» («Утренний журнал»), »Der amerikaner» («Американец») и «Der tog» («День»). Как докладчик И.М. Троцкий выступал на собраниях, организуемых старейшим русским зарубежным социал-демократическим журналом «Социалистический вестник», издание которого с 1957 г. переместилось из Парижа в Нью-Йорк.
Кроме того, Илья Маркович не оставлял свою деятельность в ОРТ, Как старейший член этой организации он входил в состав директоров «Американского общества друзей ОРТ». Одновременно он активно подвизался в Союзе русских евреев, основанном в Нью-Йорке в 1942 г. группой деятелей парижского Объединения русско-еврейской интеллигенции. Первым председателем Союза был Ю. Д. Бруцкус, которого затем сменил еврейский историк, социолог и общественный деятель профессор М. Л. Вишницер. В 1944 г. при Союзе был основан Комитет имени Я.Л. Тейтеля, занимавшийся сбором средств для субсидирования еврейских филантропических организаций в Европе. С 1957 г. председателем Союза являлся старый друг Троцкого Яков Григорьевич Фрумкин. Из былых берлинских знакомых И.М. Троцкого в деятельности Исполнительного бюро Союза принимал активное участие также Г.Я. Аронсон103.
Не оставлял Илья Троцкий и масонской деятельности, участвуя в работе объединенного общества русских масонов в США (об этом см. ниже).
О том, что Илья Троцкий прочно укоренился в Нью-Йорке, свидетельствует писатель Роман Гуль, будущий (с 1966 г.) главный редактор «Нового журнала». В письма Георгию Иванову от 17 ноября 1955 г. он сообщает:
Встретил журналиста Троцкого (давно его знаю, еще по Берлину, оче<нь> хороший мужик, старый журналист еще «Русского слова», сытинского. Тр<оцкий> играет большую роль в Литфонде (к Вашему сведению), я через него иногда устраиваю допомоги всяческим друзьям). Так вот в метро встретил — машет мне рукой — «а я Вам хотел, Р<оман> Б<орисович>, письмо писать». — «А что такое?» — «Да по поводу Вашей статьи об Иванове. Блестяще. Совершенно блестяще. Вот это настоящий Иванов! это настоящий! И, знаете, все так говорят, все». Под «все» разумею «Но<вое> рус<ское> слово», он там свой человек104.
Газета «Новое русское слово» (1920-1985), ее издатели и главные редакторы: Иван Окунцов, Виктор Шишкин, Марк Вейнбаум и Андрей Седых
«Новое русское слово» — газета, существовавшая в общей сложности свыше 100 лет (1910-2012), представляет собой культурологический феномен. Она является единственным долгожителем в истории русской печати не только США, но и всего русского Зарубежья, старейшим из всех когда-либо существовавших эмигрантских русских периодических изданий105.
Заслуга в появлении американской русскоязычной газеты «Новое Русское Слово» принадлежит политэмигранту Ивану Кузмичу Окунцову (1874-1939). Его биография типична для человека «Серебряного века» из подвида «русский революционер-социалист». Он происходил родом из сибирских казаков и появился на свет в сентябре 1874 г. в поселке Тон-тай, расположенном на берегу озера Байкал. Родители, люди вполне интеллигентные, готовили одаренного мальчика к карьере священнослужителя. Однако, окончив Благовещенскую духовную семинарию, а затем и Казанскую духовную академию со степень кандидата богословия (1898 г.), Иван Кузмич сана не принял, а в 1900 г. был назначен первым инспектором народных училищ Амурской области. В 1903-1904 гг. он редактировал и издавал газету «Верхнеудинский листок», проповедовавшую антимилитаризм и исполнение заповеди «Не убий», выказывая задатки талантливого публициста, и был замечен в литературной среде. В эти же годы Окунцов, по всей видимости, примкнул к партии эсеров. В 1905 г., в разгар Первой русской революции, Иван Кузмин был арестован и приговорен к смертной казни. По ходатайству Общества русских писателей приговор заменен на пожизненное отбывание наказания на Акатуйской каторге106. Около 1906 г. Окунцов бежал с каторги и через Владивосток перебрался в Японию, а оттуда вскоре — в США, где он осел в Нью-Йорке. При помощи русских православных колонистов в 1907 г. он вместе с другим эмигрантом, прибывшим в США в 1906 г., — военным инженером, подполковником царской армии в отставке Ф.А. Постниковым107, основал газету «Русский голос», в которой стал редактором. Постников, однако, через год издательское дело оставил и уехал в Калифорнию.
Конъюнктуру рынка в «Русском Ист-Сайде» Окунцов чувствовал хорошо, а потому задумал ежедневную газету, которая предлагала русским иммигрантам не только новости с родины и о событиях в США, но и актуальную информацию о бытовой стороне жизни внутри самого иммигрантского сообщества. Хотя газета задумывалась как внепартийное издание, она в силу революционного темперамента издателя быстро обрела выраженный леворадикальный, а позднее прокоммунистический уклон. По этой причине в ее редколлегии постоянно вспыхивали разногласия и ссоры на идеологической почве.
Возможно, надеясь создать издание, что называется, «под себя», Иван Окунцов в 1910 г. основал новую газету — «Русское слово» и до 1917 г. был ее редактором. Что касается его первого детища — «Русского голоса», то, несмотря на «редакторскую чехарду», газета жила и крепла. В 1921 г. на пике интереса к советской России108 разовый тираж ее превышал 35 тысяч экземпляров. Несомненно, что в потере популярности газеты виноват был ее редактор.
Окунцов искренне ненавидел царя и отрицал Бога, искренне осуждал пьянство и курение. Но во всем остальном он был беспринципен, легко поддавался вредным влияниям других и вносил эти влияния в газету. Простой читатель, который верил в него и шел за ним, вскоре разочаровался и отвернулся от него109.
В середине 1920-х И.К. Окунцов, решив покончить с карьерой издателя, ушел из «Русского голоса» уже навсегда и до конца своих дней работал лишь как публицист. Но газета без него не зачахла. Теряя популярность и сокращая свои тиражи, «Русский голос», тем не менее, просуществовал при разных редакторах вплоть до середины 1990-х.
Организовав и возглавив две эмигрантские газеты, Иван Окунцов вписал в историю русской печати в Америке несколько ярких страниц, но, несмотря на значительные усилия , так и не сумел обеспечить себе длительного успеха в журналистике. Его общественно-политическая деятельность оценивалась современниками неоднозначно, а временами открыто негативно. Так, например, Лев Троцкий именовал «Русский голос» и «Русское слово» — газеты, считавшиеся многими «левыми», — не иначе как «желтые листки» и неуважительно отзывался об их издателе, перешедшем в то время из стана социалистов-«пацифистов» к «оборонцам», призывая США вступить в Первую мировую войну на стороне Антанты:
Если г. Окунцов печатает жирным шрифтом свою собственную чепуху, то он ведь для этого, говорят, и создал свою самостоятельную газету. «Своя рука — владыка»110.
В 1930-х И.К. Окунцов печатался главным образом в газете «Рассвет» и аргентинским журнале народническо-эсеровской ориентации «Сеятель»111, издатель которого, Н.А. Чаловский112, по прошествии более четверти века после кончины Окунцова выпустил в свет его книгу «Русская эмиграция в Северной и Южной Америке» (Буэнос-Айрес: Сеятель, 1967). В издательском предисловии говорилось:
С глубоким удовлетворением выпускаем мы в свет эту книгу Ивана Кузьмича Окунцова, ибо знаем, что она заполнит большой пробел, наблюдающийся как в русской, так и в мировой литературе, в связи с отсутствием серьезных трудов по истории русской эмиграции в америке. Долгая жизнь автора в Соединенных Штатах, его активная и плодотворная деятельность в русской колонии и постоянный интерес его ко всем жизненным вопросам, в той или иной степени касающимся выходцев из России, являются верными предпосылками научной ценности его книги. Она изобилует точными цифрами и длинными списками имен, которые автор счел нужным упомянуть, характеризуя какое-либо событие.
По мнению исследователей русской эмиграции в Америке,
Безусловная его заслуга по сбору и обработке большого количества фактического материала, затрагивающего самые разные аспекты эмигрантского бытия со времен открытия Аляски до конца 1930-х годов, нивелируется националистическими суждениями и безосновательными выводами, снижающими академическую ценность работы113.
Иван Кузмин был также автором книги «Не убий: Роман наших дней» (Нью-Йорк: 1933) и ряда сценариев.
К концу 1920-х симпатии Окунцова к Советам сменились на враждебность, и свою жизнь он окончил 19 апреля 1939 г. не в «первом в мире государстве рабочих и крестьян», а в стране «желтого дьявола» раскаявшимся православным христианином.
При всех своих талантах Иван Кузмич Окунцов менеджерскими качествами не блистал, с финансами у него всегда были проблемы. Поэтому, когда в 1910 г. он задумал свою газету «Русское слово»114, то привлек к ее изданию еще двух эмигрантов — М.Л. Пасвольского и В.И. Шимкина.
Про Виктора Исааковича Шимкина (1883-1967) известно не слишком много. Родился он в Керчи, в интеллигентной еврейской семье и по окончанию местной гимназии уехал в Петербург — получать высшее образование. В главной столице Российской империи он приобщился к революционному движению, примкнул <...> к меньшевикам, был арестован за революционную деятельность, сослан в Сибирь, бежал, скрывался, в 1907 г. уехал в Америку, где навсегда покончил со своим «революционным» прошлым115.
Если Шимкин, «активный и инициативный человек с общественной жилкой», приехавший в США еще в 1907-м и вложивший в газету «все свои сбережения»116, обладал крепкой деловой хваткой, то М.Л. Пасвольский был потомственным газетчиком. По свидетельству его внука117:
Все члены нашей семьи работали в издательском деле. Еще до того, как они переехали в Америку, <М. Пасвольский> издавал газету в Павлограде.
Число подписчиков газеты мало-помалу росло, состав их становился более разнородным, и в 1914 на редакторскую работу М. Пасвольским в «Русское слово» был приглашен двадцатичетырехлетний Марк Вейнбаум — студент юридического факультета Нью-Йоркского университета, искавший место, где можно подработать. В его обязанности, кроме редакторских дел, входило открывать помещение редакции с утра и дежурить в ней по воскресеньям.
По воспоминаниям М. Вейнбаума,
«Русское слово» было основано людьми без газетного опыта, без гроша денег и без видимых читателей... Деньги на издание добывали объявлениями. Сотрудниками становились тянувшиеся к газете одиночки-интеллигенты. А читателей приходилось искать в полуграмотной эмигрантской массе, тогда почти сплошь крестьянской. <...> «Русское слово» никому не подражало и было совершенно самостоятельным явлением. Газету часто критиковали, и было за что, но она пускала корни и завоевывала читателей. <...>
По воскресеньям в Нью-Йорк наезжали читатели из окрестных городов и поселков, а иногда и из более далеких мест группами, долго ходили по тротуару и говорили: «Иди», «нет, ты иди», «пойдем вместе». Подымались тихо по лестнице и долго стояли перед дверью, не решаясь открыть ее. Заметив это, я начал держать дверь открытой.
Они входили взволнованные, напуганные и всегда спрашивали редактора. Одни приезжали за книгами или подписаться на газету. Другие просили посоветовать им хорошего доктора или «лойера»118. Третьи, с изумлением оглядев голые стены редакции, задавали вопрос: «Что продаете?». Услышав, что книги и газеты, они спрашивали: «А часы продаете?». Газета была для этих читателей универсальным магазином. Они внимательно читали в ней все объявления, а их было тогда много, но не обращали внимания на адреса в этих объявлениях. Очень часто они присылали в редакцию заказы на разные предметы и их приходилось пересылать объявителям119.
В самом начале 1917 г. на посту главного редактора Окунцова сменил Лео Пасвольский — двадцатичетырехлетний сын одного из соиздателей газеты. Так, «Нью-Йорк Таймс» в своем выпуске от 17 июля 1917 г. уведомляла120, что в связи с прибытием в США делегации из революционной России «Русское слово» готовит специальный выпуск на русском и английском. При этом цитируются слова ее редактора Лео Пасвольского, который от имени американского народа с пафосом заявляет:
Рождение Новой России является источником вдохновения и надежд для свободолюбивых людей во всем мире. Америка всячески приветствует великий русский народ, вставший на путь демократического развития. <...>. Мы гордимся дружбой с великим русским народом и готовы оказать всяческую поддержку великой русской республике121.
Лео Пасвольский выказывал недюжинные задатки талантливого публициста. Помимо «Русского слова» он одновременно редактировал ежедневную газету на русском языке «Американский вестник»122, писал статьи для англоязычной «The Russian Review» («Русское обозрение»)123 и вел активную политическую деятельность в среде эмигрантов. Он был знаком со Л. Троцким124, в те годы обретавшимся в Нью-Йорке, и саму идею революции в России принимал с оптимизмом. По его мнению, монархия должна была уйти в историю. Октябрьский переворот Л.М. Пасвольский, состоявший секретарем посланника Временного правительства в США Бориса Александровича Бахметева, встретил враждебно и впоследствии неколебимо занимал антикоммунистические позиции125.
Для профессионального газетного дела Лео Пасвольский, однако, был непригоден. По мнению М. Е. Вейнбаума, «у него отсутствовало то газетное чутье, которое делает человека “газетчиком”»126. К тому же куда больше, чем газетное дело,
Лео Пасвольского интересовала политика, в том числе международная. По этой причине он вскоре ушел из газеты и впоследствии не сотрудничал с русской прессой США.
Лео Пасвольский, сделавший блестящую карьеру в США, — один из самых ярких представителей русской эмиграции, прославившихся на политической сцене этой страны. Являясь специальным помощником Госсекретаря США Гордела Халла по экономике, он работал на руководящих постах в Государственном департаменте США. Как член Совета по международным отношениям (CFR), Пасвольский уже в начале Второй мировой войны в Европе предложил американскому правительству заранее позаботиться о создании послевоенного преемника Лиги Наций. В 1941 г. Пасвольский по предложению Г. Халла назначается Главным директором по исследованиям Отдела специальных исследований, а в 1942 г. становится Исполнительным директором этой организации (информация о работе Совета в военное время была засекречена). В 1943 г. им была составлена «Хартия Объединенных Наций («Charter of the United Nations»), утвержденная президентом Ф.Д. Рузвельтом. Эта хартия легла в основу всех последующих переговоров между союзниками о создании ООН, в которых Пасвольский непосредственно участвовал.
С 1946 г. и вплоть до своей преждевременной кончины в 1953 г. Пасвольский возглавлял отделение международных исследований в ведущем «мозговом центре» — Брукингском институте. В историю Лео Пасвольский вошел как выдающийся экономист, аналитик, журналист, редактор, писатель и переводчик127. Но самое главное — как автор устава ООН, лежащего в основе современной международно-правовой системы.
Что же касается «Русского слова», то в 1920 г. отец и сын Пасвольские128 в этой газете уже не работали и за ее издание полностью отвечал В.И. Шимкин, которому Иван Окунцов, посчитав за лучшее выйти из дела, уступил свои издательские права129.
Взяв в свои руки бразды правления, Виктор Шимкин изменил название газеты на «Новое русское слово», ибо былой символ родины — московская газета «Русское слово», выпуск которой был приостановлен большевиками 27 ноября 1917 г., в июне 1918-го была ими окончательно закрыта. Первые номера «Нового русского слова» — газеты выраженной антибольшевистской направленности, которые можно отыскать в Нью-йоркской публичной библиотеке, Библиотеке Конгресса и Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ)130, относятся к августу 1920-го, и ее издателем на выпускных полосах числится только Виктор Шимкин. Как издатель Шимкин остро нуждался в опытном главном редакторе, разделявшем его политические убеждения. Найти такого человека было непросто, поскольку значительная часть русских эмигрантов-интеллектуалов в США тогда сочувственно относилась к Советам.
Падение царского режима в России в 1917 году, победа демократической революции и конец еврейского бесправия вызвали энтузиазм в миллионной массе русско-еврейских эмигрантов в Америке. Правда, только ее незначительная часть, состоящая из молодых и активных деятелей, связанных с общественной жизнью в России, поехали обратно на освобожденную старую родину, и притом большинство этих реэмигрантов, обжегшись на пламени большевистской революции, вскоре вернулось в Америку. Но все, что происходило в далекой России, вызывало сильнейший отклик в широких эмигрантских кругах.
Постигшая февральскую революцию неудача и приход к власти радикального крыла в лице партии Ленина и Троцкого (Троцкого, кстати, знали в Нью-Йорке, так как он вместе с Бухариным редактировал здесь газету «Новый Мир» накануне революции и пропагандировал максималистские идеи большевизма) произвели сильнейшее впечатление в широких еврейских социалистических кругах в Америке.
Как это сейчас ни кажется странным, но после октябрьского переворота в среде еврейской интеллигенции, в студенчестве, среди людей свободных профессий и особенно среди журналистов и рабочих лидеров стали распространяться просоветские иллюзии. В России все партии, кроме правящих большевиков, находились вне закона. Свободная и независимая печать была закрыта. Поэтому информация, идущая из России заграницу и в частности в Америку, была тенденциозной и давала совершенно ложное освещение деятельности большевистского правительства131.
В этом контексте легко можно понять причины «редакторской чехарды» в «Новом русском слове». За два года в редакторском кресле газеты сменилось свыше шести человек132.
Среди первых редакторов начала 1920-х следует выделить незаурядную фигуру русско-американского журналиста Марка Ефимовича Вильчура133, эмигрировавшего в США в начале 1910 гг. и с 1910-х сотрудничавшего с «Русским словом». Вильчур был одним из первых, кто обратился к истории русских колоний, русской печати и русских организаций в Америке, создал документальные портреты русских землероев, сектантов и революционеров, описал особенности их быта и духовной жизни134. Как общественник М.Е. Вильчур оставил по себе память тем, что был одним из основателей и первых председателей Литературного фонда. О его деятельности в этом качестве упоминает Гребенщиков, сообщая Бунину о кончине еще «одного из наших»135.
В 1922 г. Шимкин подобрал, наконец, достойную кандидатуру — старого сотрудника «Русского слова» Марка Ефимовича Вейнбаума, которому он предложил не только пост главного редактора газеты, но и право стать его компаньоном «на равных началах». С тех пор на протяжении более полувека М.Е. Вейнбаум неизменно возглавлял редакцию «Нового русского слова» и участвовал в его издании. Благодаря его усилиям газета постепенно превратилась во «влиятельный русско-американский орган печати с разнообразным и обширным составом сотрудников»136.
С приходом Вейнбаума в газету В.И. Шимкин на выпускных полосах «Нового русского слова» фигурировал как «Президент» и «Почетный президент» («Late President»), и, по свидетельству последнего ее владельца Валерия Вайнбер-га137, до самой своей смерти в 1967 г. оставался в деле. Таким образом, «тихий еврей» Виктор Исаакович Шимкин фактически являлся издателем НРС 57 лет138!
Что касается Марка Ефимовича Вейнбаума, то согласно биографической справке из его архива в библиотеке Йельского университета139 будущий журналист, редактор и издатель «Нового русского слова» родился в 1890 г. в украинском городе Проскуров, в обеспеченной адвокатской семье. Окончив в 1913 г. Коммерческое училище, юноша был послан родителями в США продолжать образование, но остался в Новом свете навсегда. В Нью-Йорке, где он прожил всю свою жизнь, Марк Вейнбаум учился в городском колледже, а затем в местном университете на юридическом отделении. Начав сотрудничать в русской печати — газетах «Русское слово» и «Русский голос», он прилип к журналистике, что называется, всерьез и надолго. На посту главного редактора «Нового русского слова» Вейнбаум проработал с 1922 по 1973 гг., выказав недюжинные организаторские и публицистические способности. Как в свое время Влас Дорошевич в сытинском «Русском слове», он единолично определял литературные предпочтения и общественно-политическую направленность газеты. Начав в 1920-х с самовольной перепечатки текстов из европейских эмигрантских газет, «Новое русское слово» постепенно приобрело собственное лицо — политически неангажированной газеты либерально-демократической ориентации (т.е. наследницы закрытого большевиками «Русского слова), став весьма авторитетным печатным органом в кругах русской эмиграции. У газеты появляются новые авторы:
бежавшие из России, профессиональные перья <например, писатель> Гребенщиков, из Европы регулярно присылают свои статьи, очерки, рассказы Бунин, Аверченко, Зайцев, Куприн, Адамович, Дон Аминадо, <...> Айхенвальд и другие видные парижские и берлинские авторы. Перепечатывались советские писатели, делались литературные, театральные и кинематографические обзоры. Словом, все как в большой, уважающей себя газете. Но провинциальность собственных тем вытравить было нельзя. Такое впечатление, что яркой жизни русская заокеанская колония была лишена. Хотя, конечно, же, яркая жизнь была. Но не хватало местных талантов, чтобы это отразить140.
Конечно, если сравнивать НРС с авторитетными европейскими эмигрантскими газетами «Возрождение», «Последние новости» и «Сегодня», то заокеанское издание вплоть до середины 1930-х выглядит убогим. Тем не менее, при ретроспективном просмотре комплектов НРС за все предвоенные годы явственно видна постоянная работа редакции над улучшением качества публикуемых в газете материалов. Все больше появляется громких имен: Ю. Делевский, Дон Аминадо, В. Ирецкий, И. Лукаш, И. Шмелев.
Нельзя не напомнить, что в это время газета переживала серьезные трудности не только из-за дефицита талантов, но и по сугубо экономическим причинам. Как свидетельствовал М.Е. Вейнбаум,
Временами газета окупала себя, временами ее положение становилось до того катастрофическим, что ее дни существования казались считанными. Так оно было в начале 20-х годов. Таким, или даже хуже оно было в годы (1922— <19>33) тяжелой депрессии <...>. Спасала положение жертвенность всех сотрудников газеты, поддержка моральная и финансовая друзей-читателей <...>.
Последний кризис «Новое русское слово» испытало в 1946 г., когда в связи с переездом в <новое> помещение не хватило средств на то, чтобы приспособить его для нужд редакции. Тогда под председательством <...> проф. М.М. Карповича, при деятельном участии Андрея Седых и других сотрудников было создано Общество друзей «Нового русского слова» <...>. С помощью небольших денежных взносов и крупных беспроцентных ссуд газету удалось спасти141.
В 2012 г. зарубежная газета «Новое русское слово» прекратила свое существование именно из-за отсутствия должного финансирования, не сумев найти поддержки ни у «друзей-читателей», ни у официальных институций «русского мира», ни у меценатов.
Помимо угроз со стороны мира финансов НРС не раз становилась объектом прямых нападок, главным образом со стороны коммунистов, которые до войны «забрали большую силу» и всячески вредили газете:
Коммунисты уничтожали номера нашей газеты в киосках, грозили продавцам бойкотом <...>, срывали антикоммунистические собрания, <...> избивали отдельных антикоммунистов, <...> грозились разнести редакцию и однажды чуть не выполнили эту угрозу142. Это было в 1933 году, когда НРС на основании полученных из России сведений оказалась первой газетой в Америке, сообщившей о страшном голоде в Советском Союзе. Тысячная толпа коммунистов бросилась в редакцию нашей газеты <...>. К счастью <...> мы успели вызвать полицию143,.
Что же касается «талантов», то они появились в конце 1930-х — когда началось массовое бегство русских эмигрантов из охваченной коричневой чумой Европы, однако, судя по авторитетному свидетельству И.М. Троцкого, уже:
К концу 20-х годов среди эмигрантов, продолжавших говорить по-русски <...> демократическая газета «Новое Русское Слово», основанная В.И. Шимкиным и редактируемая М.Е. Вейнбаумом, <стала приобретать все большее влияние>. Политическое влияние этой газеты все возрастало, и ее стремление внедрить в умы своих читателей основы американской демократии, как и все более выдержанный курс на борьбу с коммунизмом и его попутчиками, стали приносить плоды. К началу второй мировой войны газета уже заняла положение ведущего демократического органа на русском языке в странах всего российского рассеяния.
По свидетельству А. Седых, к концу 1930-х в газете уже работала большая группа журналистов-профессионалов144. Сам он, обретаясь в Париже в качестве постоянного корреспондента милюковских «Последних новостей» и рижской «Сегодня», с конца 1920-х стал постоянным зарубежным сотрудником «Нового русского слова». Да и сам Вейнбаум писал достаточно много и качественно.
Внимательный и вдумчивый наблюдатель, одинаково хорошо осведомленный в проблемах как русской, так и американской жизни, М. Вейнбаум знает, как рассказать о своих наблюдениях и передать свои мысли в точном, ясном и живом изложении,
— так характеризовал его публицистику маститый Михаил Карпович — один из основателей американской русистики, редактор нью-йоркского «Нового журнала» (1946-1959)145, в предисловии к мемуарной книге очерков «На разные темы»146. Помимо русскоязычной публицистики, Вейнбаум писал также статьи по-английски для таких газет, как «The Sun», «The Globe», «The Herald Tribune».
Как газета «Новое русское слово» в буквальном смысле слова «расцвела» после начала Второй мировой войны, в результате наплыва в Нью-Йорк большого числа эмигрантов из Европы.
С 1941 г. список сотрудников начал быстро расти. Приехал из Парижа и вошел в состав редакции Андрей Седых (Я.М. Цвибак); начал печатать свои фельетоны С. Л. Поляков-Литовцев; приехал из Франции один из столпов «Последних Новостей» A.А. Поляков, немедленно приглашенный на пост помощника редактора. В газете стало регулярно появляться имя М.А. Алданова, который продолжал свое сотрудничество в «Новом Русском Слове» до самой смерти. Его последний роман «Самоубийство» и был опубликован полностью в «Нов. Русск. Слове». В состав постоянных сотрудников вошел вскоре публицист Г.Я. Аронсон, писавший в «Социалистическом Вестнике», «Новом Журнале» и «За свободу». Был приглашен на работу B.И. Гессен147, автор книги «Герои и предатели», ранее сотрудничавший в берлинском «Руле». Статьи на юридические темы пишет в газете М.А. де Бранзбург; появились знакомые по Европе имена публициста и критика Леонида Галича (Л.Е. Габриловича), А.Ю. Раппопорта, еще сотрудничавшего во «Власти Народа» в Москве и ставшего передовиком газеты, историка и публициста П.А. Берлина, музыковеда И.С. Яссера, А. А. Гольденвейзера, С.Л. Кучерова, Г.И. Альтшулера148, унаследовавшего от своего покойного отца149 (друга Толстого и Чехова) двойной талант — врача и писателя. <...>
С начала сороковых годов в газете начали сотрудничать видные евреи-меньшевики и эсэры — Б. Двинов, С.М. Шварц, Д.Ю. Далин, Р.А. Абрамович, С.М. Соловейчик, Д.Н. Шуб, М.В. Вишняк, — эти же имена мы встречаем и на страницах «Нового Журнала». Это — очень характерное явление для зарубежной печати, начиная с эпохи второй мировой войны: при довольно большом разнообразии печатных органов и их политических и общественных направлений, мы встречаем почти повсюду одних к тех же сотрудников. Множество общих сотрудников можно найти у «Нового Русского Слова», «Русской Мысли» в Париже, «Нового Журнала» и «Социалистического Вестника». Общий либеральный демократический дух этих изданий определяет естественно и состав сотрудников150.
Тематически и идейно «Новое русское слово» во время Второй мировой войны однозначно стояло на антигитлеровских позициях, а после нападения Германии на СССР номера газеты за 23 и 24 июня 1941 года были почти полностью посвящены ситуации в СССР, военным действиям, письмам-откликам русских американцев на начало войны.<...> Самым кратким и понятным стало название статьи сотрудника газеты Я. Лисицына «За Россию!» Он считал самым важным в данный момент единство русского народа в борьбе с агрессором: «Мы не можем помочь там. Но мы можем помочь здесь!» Критика советского режима фактически была свернута на время войны, но общее негативное отношение ко всему «коммунистическому» сохранилось, не скрывалась антипатия и лично к Сталину. Автор данной статьи писал: «Гнусная политика Сталина была явно антирусской, — и предполагал, что, конечно, не вслух, но в душе, советские люди могут думать так же, как и он. — Хоть и сволочь Советы, но нужно защищать Россию151».
Взгляды правомонархической части русской эмиграции, возлагавшей надежды на Гитлера и его режим в своей борьбе с большевиками152, были однозначно отвергнуты газетой как заведомо предательские по отношению к русскому народу, против которого, в первую очередь, вела войну нацистская Германия. «Не на Сталина напал Гитлер!» — характерный заголовок одной из статей в «Новом русском слове» от 18 июля 1941 г.
Названы «пораженцами» были и те, кто предлагал президенту Ф. Рузвельту не помогать СССР в начавшейся войне, так как это только укрепит сталинский режим. Против такой <политики> были и редакционные статьи <...>, и письма читателей, в том числе белогвардейцев. Откровенно говоря о своем антикоммунизме, <их авторы>, прежде всего, считали себя русскими патриотами, а Германию — историческим врагом России. <...> В начавшейся войне патриотическую позицию сразу же заняла Русская православная церковь в США, заявив о своей безусловной поддержке СССР в его борьбе против фашизма. <В этом свете> интересны были выступления в газете протоиерея И. Чепелева с разъяснением сложных политических проблем доступным языком153.
Благодаря кипучей общественной деятельности и авторитету Вейнбаума в широких кругах американской общественности, газета стала одним из центров оказания всесторонней помощи русским эмигрантам, постоянно на ее страницах шла прямая агитация русской общественности под лозунгом «Помогите своим соотечественникам приехать в США!» С помощью газеты смогли наладить свою деятельность «Общество помощи русским детям за рубежом», «Российское объединенное общество взаимопомощи в Америке», «Литературный фонд», «Союз русских евреев» и другие эмигрантские организации.
После окончания Второй мировой войны Америку накрыл новый поток эмигрантов — «вторая волна», состоявшая главным образом из так называемых Ди-Пи154. К 1951 году 77,4 тысячи беженцев Ди-Пи оказалось в США; 25,2 — в Австралии; 23,2 — в Канаде; 4,4 — в Аргентине; 6,4 тысячи — в Бразилии155. Большинство литераторов, прибывших в США, сотрудничали в НРС. Андрей Седых, например, особо отмечает:
К списку постоянных сотрудников нужно прибавить <...> И.М. Троцкого и Гершона Света156.
Марк Вейнбаум утверждал, что после войны из числа русских литераторов-эмигрантов «в газету писали практически все», а все тот же Седых, оценивая число авторов газеты в 1940-1950 гг. называл цифру 300157.
Примечательно, что знаменитая повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», впервые опубликованная в ноябрьском номере журнала «Новый мир», в декабре того же года в отрывках стала печататься в НРС. В выпуске газеты от 31 декабря 1962 г. она стоит на одном развороте со статьей И.М. Троцкого «У последней черты: Сумерки и закат И.И. Колышко». На статьи этого сотрудника и постоянного автора НРС Солженицын, как уже отмечалось, неоднократно ссылается в своем публицистическом исследовании русско-еврейских отношений «Двести лет вместе (1775-1995)». Но в те годы, когда Солженицын обретался в ГУЛАГЕ, И.М. Троцкий в «Новом русском слове» уже привлекал внимание общественности к факту существования сталинских лагерей. Об этом, например, свидетельствует его статья «Трагедия русского еврейства» (27 мая 1953 г.), — отклик на одноименный доклад бывшего зэка Ю. Б. Марголина, вернувшегося в 1946 г. в Палестину после 7 лет советских тюрем, лагерей и ссылок158. В ней, опираясь на результаты подсчетов, приведенные Марголиным, он с возмущением и горечью пишет:
число евреев, томящихся сейчас в советских тюрьмах, изоляторах и лагерях принудительного труда, достигает 250 тысяч... Докладчик заключает предостережением против преждевременного оптимизма в отношении намерений Кремля. Он не верит в добрую волю его нынешних возглавителей...
С началом «холодной войны» Марк Вейнбаум в своей редакторской политике твердо придерживался антисоветской линии159. Характеризуя в этом качестве авторский коллектив НРС, он отмечал:
В газете встретились люди различных группировок и различных убеждений, но объединенные своей ненавистью к коммунистической диктатуре, в своей готовности бороться за свободную Россию, за благоденствие и прогресс приютившей их Америки160.
М.Е. Вейнбаум был не только успешным издателем, но и крупным общественным деятелем США, к мнению которого прислушивались в кругах политического истеблишмента США. Он являлся членом Академии политических наук (The Academy of Political Science), Клуба иностранной прессы (The Overseas Press Club) и Общества кинокритиков представителей иноязычной прессы (The Film Critics Circle of the Foreign Language). Вскоре после окончания войны он возглавил «Литфонд» («Litfund») — «Литературный фонд поддержки русских писателей и ученых в изгнании» («Fund for the Relief of Russian Writers and Scientists in Exile»). Как уже указывалось, первый председатель Литфонда М. Е. Вильчур одновременно был редактором НРС; затем президентом стал А.А. Столкинд, а с 1948 г. этот пост до конца своих дней занимал М.Е. Вейнбаум. Под его руководством Литфонд превратился в главную филантропическую и культурно-просветительскую организацию русского Зарубежья. В разоренной войной Европе русские интеллектуалы «первой» и «второй» (Ди-Пи) волны находились в отчаянном положении. В эти тяжелые годы Вейнбауму удалось наладить четкое функционирование распределительного механизма Литфонда, который помимо денежных пособий ре-гулярно осуществлял отправку в Европу, главным образом во Францию, продовольственных и вещевых посылок. На вечерах, юбилеях и презентациях книг писателей-эмигрантов, регулярно устраиваемых Литфондом, собирались дополнительные средства, которые без промедления шли на выплату пособий нуждающимся. Следует подчеркнуть, что, будучи человеком высоких моральных принципов, Вейнбаум умело подбирал сотрудников, отвечающих за сбор и распределение финансовых средств. Его правой рукой на этом ответственном и весьма «скользком» поприще был Илья Маркович Троцкий, человек с незапятнанной репутацией, пользовавшийся, как мы видели, неограниченным доверием в кругах богатых филантропов.
Среди получателей литфондовских пособий были такие «звезды» первой величины, как Иван Бунин, Алексей Ремизов, Борис Зайцев, Георгий Иванов (являвшиеся, кстати, постоянными авторами НРС). На регулярно проводимых торжественных собраниях Литфонда практиковались сборы денежных средств в помощь нуждающимся, о результатах которых газета извещала читателей, указывая имена жертвователей. Так, например, «Сорок девятый сбор Литературного Фонда» принес в его кассу «7094.13 долларов»161.
За материальной помощью в Литфонд обращались практически все русские деятели культуры-эмигранты, пережившие войну во Франции, а также русские беженцы из Европы в странах Латинской Америки. Об этом свидетельствует и переписка И.М. Троцкого с И.А. Буниным, М.А. Алдановым, С.И. Оремом и Т.С. Варшер.
На фирменном формуляре Литфонда в 1951 г., например, помимо имен президента — М.Е. Вейнбаума и вице-президента Андрея Седых, секретарей — И.М. Троцкого и Е.И. Тартака, в числе членов Правления и Консультативного совета значатся такие знаменитости, как М.Л. Алданов, В.А. Александрова, А.А. Поляков, А.И. Столкинд, Лидия Шаляпина, князь А.А. Друцкой, Ф.З. Атран, Ю.Л. Делевский, М.В. Добужинский, Осип Дымов, А.А. Гольденвейзер, С.И. Юрок, профессор В.Н. Ипатьев, Григорий Пятигорский и др.
Как видно из приведенного перечня имен, Литфонд, руководимый М.Е. Вейнбаумом, был организацией весьма солидной и авторитетной. За всю историю ее, а Литфонд исчез с американского горизонта в середине 1990-х, не известно ни одного скандального случая, связанного с его деятельностью, упреков в утаивании или громогласных обвинений в несправедливом распределении средств. И это при том, что злоупотребления в финансовой сфере — дело, образно говоря, «житейское», а русское Зарубежье в своей повседневности, как известно, всегда буквально кипело от всевозможного рода склок, скандалов и взаимных обвинений!
В своей повседневной общественной деятельности Марк Ефимович Вейнбаум воспринимался «человеком номер один среди эмиграции»162, всеми силами старался поддерживать интерес к русской духовной традиции. Со временем, увы, интерес этот все больше и больше угасал: «Авторы старели, старел и читатель. А новых не прибавлялось. Дети неизбежно превращались в американцев»163.
Тем не менее, газета не сдавала своих позиций, а редакция стремилась держать руку на пульсе общественной жизни русской диаспоры. Сам Марк Вейнбаум, пользуясь своим авторитетом в кругах американского истеблишмента, активно помогал попавшим в беду русским литераторам из разряда Ди-Пи. А такое случалось сплошь да рядом. Когда, например, из США собирались депортировать поэта Родиона Березова, въехавшего в страну по подложным документам, он был одним из организаторов общественной кампании в его защиту. Это дело, позже получившее название «Березовская болезнь», дошло до вашингтонской сенатской комиссии. Очень помог сенатор Джон Кеннеди, будущий президент США, положительно рассмотреть дело Березова. Он внес в Палату представителей законопроект о легализации иммигрантов, давших о себе неверные биографические сведения с тем, чтобы избежать депортации, грозившей им по Ялтинскому соглашению. После принятия поправки к закону, множество людей получило легальный статус для постоянного проживания в США164.
Тема «березовской болезни» нашла отражение в «Беженской поэме» Ивана Елагина — одного из наиболее значительных поэтов «второй» волны, печатавшегося в НРС:
В своей редакционно-издательской работе Вейнбаум с середины 1942 г. опирался на высокий профессионализм Андрея Седых, перебравшегося в США из оккупированной немцами Франции. Этот опытный журналист, начавший еще с конца 1920-х, когда он жил во Франции, публиковаться в «Новом русском слове», в 1973 г., после скоропостижной кончины Вейнбаума, проработавшего в общей сложности в газете 53 года, сменил его на посту главного редактора. Одновременно он предложил двадцатисемилетнему техническому сотруднику газеты Валерию Вайнбергу, в котором, видимо, разглядел недюжинную предприимчивость, сугубо менеджерский пост генерального директора.
Кончина Вейнбаума совпала с уходом из жизни большинства старейших авторов «Нового русского слова» (М. Алданова, В. Варшавского. В. Вейдле, М. Корякова, М. Слонима, И. Троцкого и многих других) и с, одновременно, новой вспышкой эмигрантской активности из СССР: в 1970-х на Запад хлынула «третья» волна, принесшая с собой новые громкие литературные имена, новую аудиторию и, конечно же, острый конфликт поколений.
Во главе «Нового русского слова», по словам президента США Картера сохранявшей «огромное культурное и историческое наследие России»165, Андрей Седых проявил себя как толерантный и доброжелательный редактор. Он терпеливо сносил частые незаслуженные нападки со стороны буйного советского «молодняка» и старался по возможности избегать «братской» полемики, точнее сведения личных счетов на страницах своей газеты166. В разное время в «Новом русском слове» публиковались практически все известные литераторы «третьей» волны, и среди них: В. Аксенов, Ю. Алешковский, И. Бродский, П. Вайль, В. Войнович, А. Генис, С. Довлатов, Э. Лимонов, А. Солженицын и др.
Яков Моисеевич Цвибак — так по паспорту звался старый друг Ивана Бунина, Марка Алданова (и со времен «буниниа-ны»167 — Ильи Троцкого) писатель и журналист Андрей Седых — в литературном мире русского Зарубежья пользовался большим уважением. Алданов писал Г.М. Лунцу в 1949-м:
Цвибак очень честный и порядочный человек, — я, слава Богу, знаю его тридцать лет168.
Андрей Седых
родился 1-го августа 1902 года в Феодосии169. Там же он окончил гимназию. Его отец был журналистом, писал корреспонденции для газет «Южные ведомости» и «Крымский вестник»170; маленький Яша еще в раннем детстве знал, что пойдет по стопам отца. Свои юные годы автор описал в некоторых крымских рассказах, вышедших отдельной книгой в 1977 году171. Есть там автобиографическое, полное юмора повествование о том, как маленький феодосийский гимназист чуть не попал на цирковую арену, случайно став «учеником» борца-тяжеловеса чемпиона Украины Стыцуры. От циркового выступления будущего редактора «Нового русского слова» вовремя спас отец172.
В 1920 г. восемнадцатилетний Яков Цвибак навсегда покидает Россию. Устроившись наемным матросом, он отбывает на пароходе в Болгарию, а затем перебирается в Константинополь.
Его кратковременное пребывание в Константинополе запечатлено в забавном повествовании «Звездочеты с Босфора»173 (так назван и весь сборник рассказов с предисловием Бунина, выдержавший два издания: 1948, 1973) о том, как молодые, голодные, но изобретательные юноши-беженцы, купив старую подзорную трубу, стали взимать деньги с доверчивых прохожих, предлагая им взглянуть на луну в «телескоп». Конец «Пулковской обсерватории» наступил, когда небо покрылось тучами и целыми днями лили дожди. В 1935 году на 25-летний юбилей «Нового русского слова» Андрей Седых ответил на запрос о его биографических данных: «Биографии у меня нет. 18-летним юношей я продавал на улицах Константинополя русские газеты. Теперь сотрудничаю в этих газетах. Это все. И для журналиста этого вполне достаточно»174.
В 1920 г. Яков Цвибак через Италию переехал во Францию и в 1921 г. появился в Париже. Здесь он обратил на себя внимание Михаила Михайловича Федорова, который курировал русских студентов-эмигрантов. По его направлению молодой человек поступил в Высшую школу политических наук в Сорбонне, которую окончил в 1926 г. Еще раньше, в 1922 г., он устроился на журналистскую работу в милюковской газете «Последние новости», тогда же родился на свет псевдоним Андрей Седых. Впоследствии, став маститым литератором,
А. Седых всегда с большим уважением и теплотой отзывался о П.Н. Милюкове, подчеркивая, что именно тот сделал из него журналиста.
В 1925 г. Яков Цвибак работал парламентским корреспондентом «Последних новостей», получив официальный пропуск во французскую Ассамблею, а к началу 1930-х уже состоял членом редколлегии газеты. Кроме того, с конца 1920-х он являлся иностранным корреспондентом рижской газеты «Сегодня» и «Нового русского слова» и секретарем издательства Я.Е. Поволоцкого175, в котором опубликовал несколько своих книг. Первые еще под своей родной фамилией: сборники очерков «Старый Париж» (1925 г.), «Париж ночью» (1928 г., с предисловием А. Куприна), а начиная с 1930 г. — под псевдонимом Андрей Седых. Литературный дар молодого эмигранта обратил на себя внимание видных писателей русского Зарубежья — М. Алданова, Н. Тэффи, А. Ремизова, И. Бунина и др., с которыми А. Седых вскоре сблизился, и богатейший материал этого периода отразился впоследствии в его мемуарах176. Продолжая работать в прессе, Седых выпустил две книги рассказов: «Там, где была Россия» (Париж, 1931 г.) и «Люди за бортом» (Париж, 1933 г. — о парижской жизни низов эмиграции). Последняя книга была высоко оценена И. Буниным: «...отлично написана она, легко, свободно, разнообразно, без единого фальшивого слова, с живыми лицами...»
В 1933 г. Бунин пригласил Андрея Седых в свои литературные секретари, и тот сопровождал его в Стокгольм для получения Нобелевской премии и, по отзывам журналистов, освещавших «нобелиану», в том числе И. Троцкого, проявил себя очень энергичным и волевым менеджером.
Яков Цвибак был женат (с 1932 г.) на певице Женни Грей (Евгении Липовской), энергичной помощнице во всех общественных и филантропических мероприятиях мужа. Вместе с ней он бежал в 1942 г. из оккупированной немцами Франции в США.
Андрей Седых является последним представителем поколения эмигрантов «первой» волны, определявших лицо «Нового русского слова», и, несомненно, из них самым известным. Он был весьма плодовитым литератором — с 1926 г. по 1980 г. выпустил в свет 18 книг, написал бесчисленное множество корреспонденций и статей. Да и о нем лично написано немало его современниками177. Большую статью об А. Седых, «Последний из могикан», по существу — некролог, опубликовала многолетняя автор «Нового русского слова» Дора Штурман.
Шли годы, Яков Моисеевич старел и начал искать себе помощника в среде новоприбывших из Советского Союза эмигрантов. Однако найти подходящего по уровню культуры, эстетическим пристрастиям и убеждениям человека оказалось делом нелегким. Помню, я как-то позвонил Якову Моисеевичу, и на мой вопрос, как он поживает, престарелый редактор ответил: «Сижу и правлю поступившие рукописи, слово “Бог” пишу с большой буквы, зачеркиваю слово “ж...”»... В конце 1970-х в типографии «Нового русского слова» произошел взрыв, но злоумышленников так и не нашли. Впрочем, газета переехала, в результате этого, в лучшее помещение на 34-й улице. Вернувшись из Парижа, я спросил Якова Моисеевича, не хочет ли он навестить город, в котором провел свои молодые годы. «Нет, Сергей Львович, — ответил он, — у меня там никого больше не осталось». Такова судьба всех стариков, достигших преклонного возраста: они переживают своих друзей, и мир вокруг них пустеет. <...>
Попав в другие руки, газета «Новое русское слово» изменила свой облик, и не к лучшему. Вспоминаю одну статейку, озаглавленную «Наши девочки за так не танцуют»... Такого Андрей Седых не допустил бы. Конечно, времена и люди меняются. Но все же... все же... те, кто помнит старую газету, оплакивают ее исчезновение и с теплым чувством вспоминают ее старого редактора Андрея Седых178.
Тех, «кто помнил старую газету», становилось все меньше и меньше, а читательская аудитория «Нового русского слова», благодаря уже четвертой волне русской эмиграции, продолжала расти. Газета, стремившаяся идти в ногу со временем, непрерывно развивалась. Она пережила еще один период взлета, — с эпохи горбачевской перестройки и вплоть до 2000-х, — превратившись после кончины СССР из «эмигрантской» в «зарубежную» русскую газету. В этом качестве «Новое русское слово» просуществовало полных 20 лет. В 2010 г. газета торжественно отпраздновала свое столетие179, а в 2012-м тихо почила.
Илья Троцкий и русские масоны
Как один из «лучших и благородных представителей того неповторимого поколения, которое ставило служение культуре и помощь ближнему выше всех личных интересов»180, И.М. Троцкий не мог не соприкасаться с масонством «Серебряного века»; значительная часть близких ему по жизни людей имела непосредственное отношение к братству вольных каменщиков.
Посвящение И.М. Троцкого в масоны состоялось сравнительно поздно — в 1937 г., в один из его приездов в Париж из Буэнос-Айреса. 28 июня в возрасте 62 лет он был инкорпорирован в члены парижской ложи «Свободная Россия» (ЛСР) вместе со своим коллегой журналистом Г.М. Волковыским181. Эта ложа была основана в 1931 г. в системе Великого Востока Франции членами ложи «Северная Звезда», группировавшимися вокруг старейшего русского масона М.С. Маргулиеса. Ее братья стремились к активной социально-политической деятельности, рассматривая в качестве одной из главных целей своей масонской работы воздействие на иностранное общественное мнение в освещении задач, стоящих перед эмиграцией и Россией. ЛСР существовала в качестве дочерней мастерской «Северной Звезды» и заседала на рю Каде и рю де л'Иветт. Ее бессменным руководителем почти до своей смерти в 1939 г. был М.С. Маргулиес182. В этой сугубо эмигрантской ложе состояли многие близкие знакомые И.М. Троцкого, с которыми он долгие годы был связан как журналист и общественный деятель — известные писатели и публицисты, бывшие энесы, члены РДО и ОРТ.
Необходимо отметить, что И.М. Троцкий не был активным членом ЛСР, по крайней мере, мы не располагаем данными о каких-либо его тематических докладах или выступлениях. Да и вообще, судя по всему, с 1939 г. и вплоть до конца 1940-х он в Европу не наезжал.
Тем не менее, определение «русский масон» также органично присуще личности И.М. Троцкого, как «народный социалист — энес» или «русско-еврейский публицист и общественный деятель». И хотя масонская деятельность не играла столь заметной роли в его жизни, как, например, сотрудничество с ОРТ, тем не менее, она является важнейшим знаковым элементом при написании его портрета, как типичного представителя интеллектуальной элиты первой волны эмиграции.
Вопрос о масонской активности деятелей русской культуры начала XX в. остается исключительно интересным, но до сих пор мало изученным, хотя среди вольных каменщиков значатся первые имена деятелей Серебряного века183. До революции масонство в этническом отношении было преимущественно русским. По свидетельству А.Я. Гальперна, одного из наиболее авторитетных русских масонов предреволюционной эпохи, представителей других этносов многонациональной Российской империи в масонских ложах было крайне мало184.
Русское масонство было полностью уничтожено в советские времена. Однако в эмиграции, прежде всего во Франции, уже в начале 1920-х возникло несколько русских лож, в которых поддерживался дух старого русского масонства. С другой стороны,
...русское масонство Франции, несмотря на довольно внушительную представительность своих рядов и достаточно сложную структуру, было политически не слишком влиятельным. В значительной степени для отдельных культурных групп русской эмиграции оно являлось связующим инструментом, способствовавшим самоидентификации и адаптации в условиях нарастающего разобщения и подозрительности, как следствий постоянных идеологических и мировоззренческих разногласий, национального беспочвия, сознательной и не вполне — причастности определенной части в разное время покинувших Россию к деятельности советских спецслужб. В этом отношении корпоративность такого рода давала хоть и не слишком действенный, но все-таки — путь преодоления депрессии в условиях деформации и разрушения русского мифа185.
Сам И.М. Троцкий, охотно вспоминая всяческие мелочи, о масонах и масонстве не говорит ни слова. А ведь до того, как самому войти в ЛСР, он общался с виднейшими представителями русского масонства не один десяток лет. В начале 1930-х ЛСР насчитывала 100 членов, из которых примерно 33% составляли этнические евреи, 10% армяне и примерно 53% «люди коренной русской крови». Эта ситуация разительно отличается от дореволюционной российской действительности, когда масонство как духовно-нравственное, а позднее в значительной степени и политическое движение либерально-демократического направления, было распространено главным образом в среде представителей русского этноса. В русском же Зарубежье российское масонство действительно, а не декларативно, стало многонациональной, многоконфессиональной и внеденоминационной структурой.
Не может не вызывать удивления и одновременно восхищения, что на его платформе, а в культурологическом отношении она оставалась именно русской! — воистину по-братски: в мире, согласии и духовной гармонии сосуществовали, казалось бы, несовместимые традиции и их адепты. Как наглядно демонстрирует сам состав ЛСР, эта ложа полностью отвечала пониманию «масонского братства» как именно «братства между отдельными личностями, между людьми»: хотя «вне этого братства существует солидарность, общность различных интересов, равно как и совместное владение имуществом и орудиями труда», «все это находится за пределами масонского братства»186.
Шесть членов ЛСР, среди них А.С. Альперин (досточтимый мастер ЛСР и одновременно почетный досточтимый мастер ложи «Северная Звезда»), В. Гроссман, М.А. Кроль (член ЛСР и одновременно ложи «Северная Звезда», Знаменосец ее Державного капитула), И.М. Троцкий и Я.М. Шефтель (член-основатель ЛРС) были видными деятелями ОРТ.
Другие братья-масоны — Б.Л. Гершун (досточтимый мастер ЛСР), М.П. Кадиш (член ЛСР и ложи «Лотос), Я.И. Конегиссер (член ЛСР и ложи «Вехи») и Я.Б. Полонский а также столь выдающаяся фигура в области международного права, как Б.С Миркин-Гецевич (член-основатель ЛСР и ложи «Северная Звезда») — активно участвовали в еврейской культурно-общественной жизни, а упоминавшийся выше Владимир Гроссман был очень известным еврейским публицистом, писавшим на идише.
В числе членов-основателей ЛРС значатся также художники А.Б. Лаховский, И.Я. Билибин и К.М. Катков.
Арнольд Лаховский — художник-передвижник, в 1908-1909 гг. преподавал в Школе искусств и ремесел «Бецалель» в Иерусалиме, а в 1915 г. стал учредителем Еврейского общества поощрения художеств. Он был также одним из организаторов и участником художественных аукционов в пользу евреев — жертв войны. Эмигрировав из СССР в 1925 г., Лаховский поселился в Париже, где как художник также вполне преуспевал. Помимо масонской деятельности он являлся членом Правления секции художников «Союза деятелей русского искусства во Франции». В 1933 г. Лаховский переехал в США, где через несколько лет скончался от острого малокровия. В октябре 1937-го в парижской галерее J. Charpentier была организована его мемориальная выставка, а 29 ноября состоялся вечер памяти художника.
По рекомендации Билибина в ЛРС был принят художник-иконописец Кирилл Катков, в 1925 г. написавший 64 иконы для четырехъярусного иконостаса церкви Успения Богородицы на Ольшанском кладбище в Праге. В конце 1930-х Катков переехал в Буэнос-Айрес, а затем в США, где и окончил свои дни.
Во всех отношениях одиозной выглядит среди братьев ЛСР (членство с 1932 г.) фигура Георгия Владимировича Немировича-Данченко, сына одного из основателей МХТ. Георгий Немирович-Данченко был не только крайне правым публицистом, известным своими антисемитскими взглядами187, но и одним из первых русских фашистов, тесно сотрудничавшим с зарождавшимся нацистским движением, в частности, организацией «Возрождение» («Aufbau») во главе с Максом Эрвином фон Шойбнер-Рихтером188, считавшей масонов такими же врагами Рейха, как евреи и коммунисты.
Армянская составляющая ЛРС включала в себя авторитетных деятелей армянской диаспоры во Франции, прежде бывших российскими подданными. В первую очередь это, конечно, К.С. Агаджаньян (член-основатель ЛСР, 3-й эксперт и титулярный юридический делегат в 1932-1933 гг., перешедший затем в Союз Великой Ложи Франции) — председатель Союза русских армян во Франции и одновременно Общества русских врачей им. И.И. Мечникова, а также Генеральный секретарь Союза помощи русским военным инвалидам. Затем следует упомянуть и Р.И. Берберова (секретаря ЛСР со дня основания по 1932 г. и Державного капитула ложи «Северная Звезда» в 1932-1933 гг.), бывшего в России председателем «Союза российских нефтепромышленников», а в эмиграции — членом правления Англо-кавказского нефтяного общества и председателем Армянского литературного клуба в 1932-1933 гг.
Весьма впечатляет личность А.О. Хатисова (члена ЛСР до 1937 г., ее 1-го стража в 1931-1933 гг. и оратора в 1935 г., а также хранителя печати с 1928 г. и 2-го обрядоначальника в 1928-1929 гг. ложи «Северная Звезда») — активиста Армянской революционной партии «Дашнакцутюн» («Союз»), бывшего городского головы Тифлиса (1910-1917 гг.) и председателя Кавказского комитета Союза городов (с 1914 г.). В 1918 г. Хатисов стал министром финансов и продовольствия Закавказской Федеративной Демократической республики, а после провозглашения независимости Армении подписал Батумский мирный договор между Армянской республикой и Оттоманской империей (1918). С октября 1919 г. он являлся министром иностранных дел, а с августа 1919 по май 1920 г. — премьер-министром Республики Армении. Впрочем, в «русском Париже» он больше был известен как переводчик армянской литературы и публицист. Членами ЛСР являлись также известный математик и географ Э.А. Когбетлианц, в 1942-1968 гг. работавший в университетах США, и Б.В. Егиазаров-де-Норк — журналист, военный и общественный деятель.
Около 35% членов ЛСР были правоведами, 8% врачами, 9% учеными и инженерами, остальные — промышленники, банкиры, журналисты, музыканты, художники, писатели и бывшие военные.
За исключением армянских братьев, которые в той или иной степени были связаны с партией «Дашнакцутюн» и фашиста Г.В. Немировича-Данченко, все члены ЛСР, так или иначе, участвовали в работе РДО, а до революции, проживая в России, состояли в Партии Народной свободы (кадеты) или являлись умеренными социал-демократами различного толка. Среди них были такие выдающиеся политические деятели России, как:
— Н.Д. Авксентьев (досточтимый мастер ЛСР с 1938 г.) — член Государственной думы, член Центрального комитета партии эсеров, министр внутренних дел Временного правительства (1917 г.), затем председатель Временного совета Российской республики;
— П.П. Гронский (член-основатель ЛСР, хранитель печати в 1932 г., титулярный юридический делегат в 1932-1933 гг., одновременно член ложи «Северная Звезда», в 1933-1934 гг. ее юридический делегат.) — кадет, член IV Государственной думы, в Гражданскую войну товарищ министра внутренних дел в правительстве А.И. Деникина;
— В.А. Маклаков (член-основатель ЛСР, а также державный капитул ложи «Северная Звезда») — член ЦК партии Народной свободы, депутат II, III и IV Государственной думы, посол Временного правительства во Францию с февраля 1917 до октября 1924 г., директор Отдела по делам русских беженцев при французском Министерстве иностранных дел, председатель Русского эмигрантского комитета во Франции;
— М.С. Маргулиес (член-основатель ЛСР и ложи «Северная Звезда», почетный досточтимый мастер ЛСР) — член партии Народной Свободы, председатель Центрального Военно-промышленного комитета (1916 г.), член Петроградского и Всероссийского совещаний по топливу и продовольствию, министр торговли, промышленности, снабжения и здравоохранения в правительстве генерала Н.Н. Юденича (1918 г.);
— Н.М. Мельников (член-основатель ЛСР) — правовед, писатель, общественный деятель, представитель интересов Донского казачества. Председатель Донского Войскового круга. Представлял Донское войско на Московском Государственном совещании (август 1917 г.). Депутат Учредительного собрания от Дона. В декабре 1919 г. председатель Донского правительства, в феврале 1920 г. председатель Совета министров Южно-Русского правительства.
— П.Н. Переверзев (член-основатель ЛСР) — член партии социалистов-революционеров (эсеры), до 1917 г. защитник по политическим процессам (в том числе по делу М. Бейлиса), депутат IV Государственной думы, министр юстиции Временного правительства (ближайший сотрудник А.Ф. Керенского); граф А.А. Орлов-Давыдов, до революции церемониймейстер императорского двора (1906-1916 гг.), промышленник, благотворитель, член Партии прогрессистов, затем кадет, депутат IV Государственной думы, один из богатейших людей России.
Из числа именитых русских писателей-эмигрантов в состав ЛСР входили Марк Алданов (член-основатель ЛСР, член ложи «Братство» и «Северная звезда»), Роман Гуль, Дон Аминадо, Михаил Осоргин (член-основатель ЛСР), Андрей Седых и Саша Черный. Почти все братья масоны из ЛСР выступали как публицисты, а среди известных журналистов, помимо И.М. Троцкого, в ложе состояли Л.М. Неманов, — член РДО, сотрудник газет «Последние новости» и «Сегодня», «Neue Ziircher Zeitung», «Times», «Paris-Soir» (в 1930-х был постоянным представителем этой газеты в Лиге наций), журналов «Современные записки», «Русские записки», участвовавший в движении Сопротивления, за что был в 1947 г. награжден орденом Почетного легиона, медалью Сопротивления и Военным крестом «За исключительные военные заслуги», и В.Е. Татаринов — кадет, в годы Гражданской войны служивший завотделом Крымского пресс-бюро Белой армии, сотрудник многих эмигрантских газет и журналов.
Война и гитлеровская оккупация Франции нанесли всем русским масонским ложам страшный, во многом непоправимый ущерб. Нацисты ненавидели и преследовали, боялись свободомыслящих масонов ничуть не меньше советских властей. Однако как «масон» никто из членов парижской ЛСР не погиб. Все братья-масоны этой ложи, отправленные нацистами в лагеря, проходили по «еврейской линии». Среди них оказались такие выдающиеся люди, как М.К. Вольфсон (член-основатель ЛСР и ложи «Северная Звезда»); Г.А. Воронов (инсталлятор ЛСР, ее посетитель по 1938 г., в 1920-1931 гг. также член ложи «Действие», член Совета Ордена Великого Востока Франции, в 1938-1940 гг. его вице-председатель, основатель (1936 г.) и почетный президент Foyer Philosophique189 ложи «Великого Востока Франции»); И.Ф. Кельберин; Ф.Я. Рич и
С.Е. Эпштейн (член-учредитель ЛСР, состоял ее великим экспертом, исполнял обязанности архивиста-библиотекаря и юридического делегата (1932 г.), в 1929-1931 гг. был также судьей ложи «Северная Звезда»). Масон А.С. Левицкий, который был расстрелян гестаповцами 11 февраля 1941 г. как один из организаторов французского Сопротивления.
После окончания Второй мировой войны, когда российские ложи возобновили свою работу, члены ЛРС из числа тех, кто пережил годы нацистской оккупации, перешли в другие ложи, которые действовали во Франции и США190.
За трагическими событиями, разыгравшимися в охваченной пламенем Второй мировой войны Европе, И.М. Троцкий наблюдал из Южного полушария. В Аргентине, куда он перебрался на жительство, собственно русских масонских лож не существовало, а предположение, что Илья Маркович посещал аргентинские ложи в Буэнос-Айресе, кажется маловероятным. Однако в нью-йоркский период жизни (1946-1969 гг.) он возобновил свою масонскую деятельность.
Нью-Йорк после войны стал одним из центров русского масонства. Именно в этом городе в поисках прибежища оказались многие русские вольные каменщики, решившие создать здесь в 1941 г. масонскую группу.
Из-за возникших сложностей между так называемым англо-саксонским (регулярным) масонством и масонством либеральным, господствовавшим во Франции, русские каменщики были вынуждены назвать свою ложу «Клубом России» или «Россией», но с первых же дней масонская мастерская работала с соблюдением всех обрядов вольных каменщиков. <...> Одним из создателей масонской группы «Россия» и ее первым бессменным председателем был видный общественный деятель и журналист Николай Дмитриевич Авксеньтьев <...>. Председателем группы в 1943-1950 гг. был журналист, потомок декабристов Александр Васильевич Давыдов, он же был председателем в 1953-1955 гг. В 1956 г. им стал литературовед и будущий редактор журнала «Америка» Людвиг Леопольдович Домгер <...>
В группу входили <многие хорошие знакомые Ильи Троцкого по европейской эмиграции — М.У.>: Марк Алданов, Георгий Гурвич, Яков Делевский, Марк Мендельсон и др., в том числе и выдающийся ученый, общественный и культурный деятель, президент канадской радиевой и урановой корпорации со штаб-квартирой в Нью-Йорке Борис Юльевич Прегель. <...>.
9 октября 1953 г. в связи с отъездом из Америки М.А. Алданова191 и празднованием 85-летия Я.Л. Делевского была проведена торжественная arana (братский, иногда ритуальный, ужин) русских масонов в Нью-Йорке. После торжественного чествования Я.А. Делевского, на имя которого поступила поздравительная телеграмма от А.С. Альперина и В.А. Маклакова, члены группы вновь перешли к обсуждению вопроса о предмете будущих работ. Наиболее яркой была речь М.А. Алданова, остановившегося на трех положениях. Во-первых, по мнению М.А. Алданова, главная задача современного масонства состоит «в проведении мысли о мире всему человечеству», так как оно «является единственной группой людей, искренне стремящихся к осуществлению старых, но столь прекрасных лозунгов: Свобода, Равенство и Братство». Во-вторых, М.А. Алданов призвал «выбрать путь, чуждый политическим страстям. Русское масонство дорого заплатило за свою даже косвенную причастность к политической борьбе. Это привело к тому, что масонство утратило влияние на эволюцию русской мысли. В-третьих, М.А. Алданов считал, что особая роль русского масонства состоит в освобождении русской мысли от коммунистической идеологии.
Помимо текущей, русские вольные каменщики в Нью-Йорке вели большую работу с целью возобновления сотрудничества с французскими и американскими масонами. Особую активность в этом отношении проявлял М.С. Мендельсон. Отметим, что осенью 1953 г. в Америку приехал великий командор Верховного Совета для Франции и ее владений <...>, стремившийся добиться признания со стороны американских лож. К этому времени Великая Ложа Франции смогла вновь получить признание 17 Великих Лож в США. Главной целью визита Р. Раймона было установление официальных отношений с влиятельной Великой Ложей Нью-Йорка. Русские масоны наибольшие надежды связывали с намечавшимся на май 1954 г. признанием Великой Ложи Франции Великой Ложей Нью-Йорка, что позволило бы основать регулярную русскую ложу в США. <...>
Таким образом, биографии членов масонской группы «Россия» и сведения о ее деятельности позволяют утверждать, что этот коллектив играл заметную роль в жизни русско-еврейской эмиграции в Америке на протяжении почти 20 лет и оказывал влияние на деятельность образовательных и общественных организаций российских эмигрантов в Нью-Йорке192.
Илья Маркович Троцкий имел в ложе звание «дародарителя», т.е. был лицом, ответственным за благотворительную деятельность, как в пользу самой масонской группы, так и третьих лиц. Естественно, что он был в курсе всех событий, связанных с внутренней жизнью ложи, которая подчас омрачалась межличностными конфликтами. Так, писатель Марк Алданов, брат-масон еще со времен парижской ЛСР, в своем письме к нему от 31 декабря 1954 г. спрашивает193:
Я ровно ничего не знаю о положении дел в нашей Л <ложе — М.У.>. Мендельсон и Делевский мне никогда не писали. От Давыдова же я последнее письмо получил с год тому назад (видел А<лександра> В<асильевича> летом в Ницце). Ничего не слышал ни о ссоре, ни об инциденте, о котором Вы упоминаете. В чем дело? Я очень огорчен. Не догадываюсь даже, на какой почве произошел разлад. На личной?
— а в последующем письме выражает удовлетворение, что с «братским» конфликтом покончено.
Помимо текущей, русские вольные каменщики в Нью-Йорке вели большую работу с целью возобновления сотрудничества с французскими и американскими масонами. <...> Однако переговоры о регуляризации — признании другими масонскими союзами Великой Ложи Франции — зашли в тупик, что предопределило в дальнейшем прекращение работ нью-йоркского кружка. Его деятельность сворачивалась также и по мере того, как из жизни уходили его члены. — После кончины в 1961 г. М.С. Мендельсона масонская группа «Россия», вероятно, прекратила свою работу194.
«Спасенный Буниным»: Александр Борисович Либерман
Александр Бахрах, который в 1920-х был секретарем у Бунина, а в годы немецкой оккупации жил с ним бок о бок в доме на юге Франции — в Грассе, писал в своих мемуарах195:
Одной из больших удач моей жизни я считаю встречи, а иной раз — говорю это без преувеличения или желания прихвастнуть — и очень дружеские отношения с рядом людей, которых принято называть «людьми выдающимися». Одним из них был Иван Алексеевич Бунин, которому я очень, очень многим обязан (кто знает, может быть, даже жизнью).
Под бунинской кровлей я прожил свыше четырех страшных лет — с момента демобилизации в октябре 1940 года вплоть до освобождения Франции, то есть, до конца 1944 года196. Я хотел было сказать, что этот период, пожалуй, самый страшный в моей жизни, я провел под бунинской «гостеприимной» кровлей, но в данном случае такой эпитет звучал бы фальшиво. Нет, бунинский дом был не «гостеприимной кровлей», а чем-то несравненно большим. Своего гостя или, вернее сказать, жильца, чтобы не говорить приживальщика, Бунин как бы приобщал к своей семье, и хотя за глаза нередко на него бурчал и в письмах мог над ним едко иронизировать, а то и красочно ругать, он готов был всячески его опекать, в критические минуты вставать на его защиту и не хотел с ним расставаться.
В письме к Михаилу Осоргину Бахрах утверждает, что «забрел» к Буниным «на день, другой, и встретил столько ласковости и теплоты, что застрял уже на неделю», — которая затем растянулась на годы, ибо «под бунинской кровлей он был «забронирован “чистейшим арийством и комбатантностью”, и благодаря столь надежному прикрытию «мимо него пронеслись “все враждебные вихри”»197.
Андрей Седых, тоже бежавший из оккупированного немцами Парижа на юг Франции, который до 1943 г.
считался свободной зоной, <где> еще могли жить русские эмигранты, почти не опасаясь ареста. Почти — потому что время от времени французская полиция, дабы ублажить немецкие власти, все же делала облавы в поисках коммунистов и евреев198,
— вспоминает, что когда в 1942 г. встретился в Ницце с Буниным, тот ему жаловался:
Плохо мы живем в Грассе, очень плохо. <...> Живем мы коммуной. Шесть человек. И ни у кого гроша нет за душой — деньги Нобелевской премии давно уже прожиты. Один вот приехал к нам погостить денька на два... Было это три года тому назад. С тех пор вот и живет, гостит. Да и уходить ему, по правде говоря, некуда: еврей. Не могу же я его выставить...199
История фактического спасения Буниным Александра Бахраха — видного в послевоенные годы литератора, — известна как по его собственным воспоминаниям, так и по научным публикациям о русском Зарубежье200. Несмотря на очевидную биографическую значимость, она, как ни странно, никогда не удостаивалась специального внимания. А история о том, что Бунин во время немецкой оккупации южной Франции укрывал некоторое время в своем грасском доме пианиста-еврея Александра Либермана и его жену Стефу, и вовсе выпала из литературоведческой «бунинианы». Об этом знаковом событии в биографии Бунина упоминают лишь Юрий Мальцев201 и Александр Бабореко202. Первые же подробные публикации, касающиеся этого события бунинианы, принадлежат автору настоящей книги203.
Вера Николаевна в письме к М.С. Цетлин в Нью-Йорк204, посланном, по-видимому, в двадцатых числах января 1942-го, сообщает:
Из новых приятных знакомых: Либерманы... Очаровательные люди, а он такой редкий талантливый человек, что я не встречала. Всегда ему хочется своей музыкой доставить удовольствие. Редкая простота при таланте. Но сейчас его жена только что перенесла серьезную женскую операцию, вероятно, дорого им это обойдется. Жаль, что здесь он не может применить себя. Вот кому следовало бы отдохнуть у Шурочки205. Мы с ними встречали Новый Год по старому стилю <13 января — М.У.>. Было очень приятно и вкусно, кое-что у нас оказалось, а кое-что они привезли. С ними была одна наша общая знакомая из Швейцарии, и она могла достать вкусных вещей, от которых у меня утром был припадок, но я тогда еще ничего не подозревала об язве.
Тогда же, 22 января 1942 г., В.Н. Бунина писала своей близкой французской знакомой Т.Д. Логиновой-Муравьевой206:
Мы очень мило встретили Новый Год по старому стилю. У нас были наши каннские новые друзья, Анна Никитишна Ганшина207 и супруги Либерман. Он пианист. Было мясо (на счастье), водка, посильная закуска, каннцы привезли пирог, бульон, торт, пряник, я достала gâteau du roi (рождественский сладкий пирог), печенья. Словом, поужинали так, как давно не ели, затем в салоне перед камином сначала просто сидели, а затем пили чай с вкусными вещами, а в промежутке Леня сварил глинтвейн. Часть ушла спать в полночь, и мы — m-me Ганшина, Либерман, Леня и я — просидели до 2-х часов, ведя очень интересные разговоры, и чего-чего мы не касались. Много говорили о музыке, литературе. Либерман умный и тонкий человек. Спать гости легли по-вагонному, сняв только верхнее платье. Настроение весь вечер было у всех хорошее, дружеское. Я, кажется, после родного дома никогда приятнее не встречала Нового Года. И, не сглазить, с этих пор и дома хорошая атмосфера208.
А.Б. Либерман 23 июня 1964 г. сообщил А. Бабореко:
Да, мы хорошо знали Ивана Алексеевича и Веру Николаевну. <...> Во время войны они жили в Grasse, а мы недалеко от Grasse — в Cannes, на юге Франции. Иван Алексеевич часто бывал в Cannes и заходил к нам, чтобы потолковать о событиях дня. Как сейчас помню жаркий летний день в августе 1942-го. Подпольная французская организация оповестила нас, что этой ночью будут аресты иностранных евреев (впоследствии и французские евреи не избежали той же участи). Мы сейчас же принялись за упаковку небольших чемоданов, чтоб скрыться «в подполье». Как раз в этот момент зашел Иван Алексеевич. С удивлением спросил, в чем дело, и, когда мы ему объяснили, стал настаивать на том, чтобы мы немедленно поселились в его вилле. Мы сначала отказывались, не желая подвергать его риску, но он сказал, что не уйдет, пока мы не дадим ему слова, что вечером мы будем у него.
Так мы и сделали — и провели у него несколько тревожных дней. Это как раз было время борьбы за Сталинград, и мы с трепетом слушали английское радио, совершенно забывая о нашей собственной судьбе... Пробыв около недели в доме Бунина, мы вернулись к себе в Cannes. В это время Иван Алексеевич был стопроцентным русским патриотом, думая только о спасении Родины от нашествия варваров209.
Сведения о самом пианисте А.Б. Либермане крайне скудны. Он оказался в тени своего более молодого земляка, тезки и однофамильца Александра Семеновича Либермана — знаменитого франко-американского художника, скульптора, денди, поэта, создателя эталона глянцевой журналистики XX в. Тем не менее, общую картину жизни А.Б. Либермана удалось, в конечном итоге, реконструировать.
Согласно документам, обнаруженным в берлинском Отделе компенсаций государственного агентства по вопросам гражданского регулирования210 и в частности его собственному сделанному под присягой заявлению на немецком языке (Eidesstattliche Erklärung) от 1957 г.211, Александр Борисович Либерман родился в г. Стародуб Черниговской губернии 31 июля 1896 г., в еврейской семье. Там же в 1914 г. с отличием закончил местную гимназию (в документах имеется копия аттестата зрелости № 508 от 2 июня 1914 г.), после чего продолжил свое образование в Киевской консерватории, где учился искусству игры на фортепьяно у профессоров Беклемишева и Блюменфельда.
24 июня 1920 г. А. Либерман был «удостоен диплома на звание свободного художника», на основании свидетельства Художественного Совета Киевской консерватории за подписью ее директора Рейнгольда Глиэра, в котором указано, что он с отличием «выдержал публичное испытание по установленной для получения диплома программе» как в «главном, избранном для специального изучения предмете игре на фортепьяно (по классу профессора Беклемишева)», так и во второстепенных обязательных предметах». Однако в списке выпускников Киевской консерватории212 его имя не значится. Впрочем, в нем нет и имени Владимира Горовица, окончившего ее в том же году, с которым по свидетельству учеников А.Б. Либермана он был лично знаком.
После окончания Киевской консерватории Либерман работал на факультете фортепьяно ассистентом, а в 1921 г. пианист вместе с женой Стефанией («Стефа»), своей бывшей студенткой, посчитав за лучшее уехать из Советской России, перебрались на жительство в Берлине. Здесь Либерман шлифует свое мастерство у Бузони — выдающегося итальянского композитора, пианиста и музыкального теоретика, большую часть своей жизни проработавшего в Германии.
На одном из концертов Либерман познакомился с Эгоном Петри — также одним из учеников Ф. Бузони, в то время являвшимся уже его ближайшим сотрудником, ставшим впоследствии пианистом с мировым именем.
Два музыканта подружились, и Либерман стал совершенствовать свое пианистическое искусство у Петри. Вскоре Либерман был приглашен Петри на должность его ассистента в берлинскую Высшую музыкальную школу213,
— где на основании выданного ему Прусским министерством науки, культуры и народного образования разрешения работал как «внештатный профессор в 1925-1926 гг.214 Кстати, в 1925-1933 гг. штатным профессором одного из мастер-классов ВМШ был пианист Артур Шнабель215.
Получить разрешение на работу и должность в именитом государственном учреждении для молодого, никому не известного беженца без гражданства, несомненно, было удачей, граничащей с чудом.
Интересно, что согласно Выпускному свидетельству, сохранившемуся в бумагах А. Либермана, он с осеннего семестра 1921 г. по летний семестр 1925 г. изучал правоведение в Берлинском университете им. Фридриха-Вильгельма. Однако и тогда, и впоследствии зарабатывал он себе на жизнь исключительно как преподаватель игры на фортепьяно. На этот счет, помимо его собственных заявлений, имеются указания в американских газетных статьях о нем 1950-1970-х. Поскольку Илья Маркович Троцкий имел двух дочерей — Татьяна (1905 г.р.) и Ольга (1908 г.р.), а в описи его имущества, вывезенного из Германии, значится комнатный рояль, можно с большой долей вероятности предполагать, что среди многочисленных берлинских знакомых семьи Троцких был и пианист-эмигрант Александр Либерман — популярный в зажиточных слоях берлинского общества учитель музыки.
В одиозной книге Тео Штенгеля и Херберта Геригка216 «Лексикон евреев в музыке. С реестром еврейских произведений. Составлено по поручению имперского руководства
НСПГ на основе официальных документов, проверенных ответственными партийными работниками»217 А. Либерман указан именно как преподаватель игры на фортепьяно.
Краткие документальные свидетельства о дате и месте рождения музыканта можно найти также в немецкой «Энциклопедии музыкантов, преследовавшихся при нацизме»218, в американском «Регистре умерших»219 и в списке пассажиров парохода, на котором А. Либерман прибыл из Гавра в Нью-Йорк220, сведения в который заносились непосредственно с его собственных слов.
В 1926 г. Эгон Петри ушел из ВМШ и уехал в Закопане (Польша). Вслед за ним Школу покинул и Либерман, который, добившись в 1930 г. от Прусского министерства науки, культуры и народного образования официального звания «преподаватель музыки», получил неограниченную возможность иметь частную преподавательскую практику, вести занятия в консерватории и на музыкальных семинарах. По утверждению А. Либермана его имя было широко известно в берлинских музыкальных кругах, где он пользовался высоким авторитетом и имел большое количество учеников221. Судя по одному из документов 1950-х, как учитель игры на фортепьяно он был вхож в самые высокие слои берлинского общества. Годовой заработок А. Либермана в 1930-1933 гг. составлял 18000 рейхсмарок, при том, что доход среднего служащего или квалифицированного рабочего составлял тогда порядка 3600 рейхсмарок в год222.
Счастливая и весьма обеспеченная жизнь четы Ли-берманов закончилась с приходом к власти Гитлера в 1933 г. Из-за проводимых нацистами планомерных акций бойкота евреев во всех областях общественной жизни А. Либерман потерял большинство своих учеников, а летом 1935 г. его и вовсе лишили права заниматься преподавательской деятельностью.
В этом же году, благодаря помощи известного хирурга В.А. Маршака, супруги Либерманы перебрались во в Францию223, в Париж, где получили вид на жительство, но! — без права работать в стране, и два года, по утверждению Либермана, существовали только на собственные сбережения.
Однако известно224, что в 1936 г. он читал лекцию «О технике фортепьянной игры» в парижском Русском музыкальном обществе, а в предисловии к книге А. Либермана «Комплексный подход к фортепиано»225 ее редактор и составитель Элинор Армер пишет, что:
Саша концертировал и преподавал вплоть до разгрома Франции в 1940 г., из-за которого Либерманам пришлось бежать на юг страны, в сравнительно доброжелательную <по отношению к евреям. — М.У.> итальянскую зону оккупации. Русский эмигрант Нобелевский лауреат писатель Иван Бунин был одним из друзей, которые предоставили им убежище.
Когда немцы оккупировали Париж и северную часть Франции, супруги Либерман перебрались на Лазурный берег, где давно уже существовала русская диаспора. Здесь Александр Либерман, как утверждает Михаэла Бенедикт, при посредничестве Артура Рубинштейна226, открыл в Ницце собственную музыкальную школу. С прославленным пианистом А. Либерман, возможно, впервые познакомился еще до революции, во время его концертов в Киеве227, а затем в 1930-х сблизился в Париже. Известно, что Алексей Гольденвейзер, перебравшийся к тому времени в США, «пытался достать Либерманам визу для въезда в США, но безрезультатно»228.
Ницца, вместе с другими близлежащими юго-восточными городами средиземноморского побережья Франции — Каннами, Грассом, Ментоной, входила в итальянскую зону оккупации, где итальянские военные отказывались подчиняться приказам об арестах и депортации евреев. Тысячи французских евреев бежали сюда после ноября 1942 г.229, поскольку «время от времени французская полиция, дабы ублажить немецкие власти, все же делала облавы в поисках коммунистов и евреев»230.
В дневнике Бунина, хранящемся в архиве Буниных в РАЛ, имеются записи за вторник 1 сентября 1942 г.:
Еврейские дни дошли и до нас. В Париже, говорят, взяли 40.000. Хватают по ночам, 1о минут на сборы. И мужчинам и женщинам бреют головы — и затем человек исчезает без следа. Детей отнимают, рвут их документы, номеруют — будет без роду-племени, где-то воспитают по-своему. Молодых евреек — в бардаки, для солдат.. У нас взяли уже, говорят, человек 700-800231. <...> 25-го авг<уста> до Cannes <Канн> доехал с какой-то блядью, в такси, заплатил 50 фр<франков> (она — 250). Зашел к Л<иберманам>. Вечером они к нам232, — и среду, 2 сентября 1942 г.:
Евреям (взятым) не дают пить233.
В сентябре 1943 г., после капитуляции Италии, немецкие войска заняли департаменты, входившие в итальянскую зону оккупации, и приступили к ее «зачистке». Повальные облавы, аресты и депортации евреев в лагеря смерти продолжались вплоть до освобождения Франции союзниками в июне-августе 1944-го234. В течение пяти месяцев было схвачено и депортировано около пяти тысяч евреев.
Когда итальянцев сменили немцы, условия жизни ухудшились, и Стефа сняла специальную комнату, в которой прятала Сашу <согласно объяснению самого Либермана235, Стефа достала фальшивые «арийские» документы, по которым числилась одинокой женщиной. — М.У.>. Он прятался в ней до конца войны, носил специальные мягкие тапочки, чтобы посторонние люди не могли слышать его шагов, не выходил на улицу в дневное время, а Стефа, находясь постоянно под угрозой <быть арестованной. — М.У.>236, выполняла все его поручения237.
С сентября 1943-го по сентябрь 1944 года супруги жили в условиях постоянной смертельной опасности и нищеты. Как вспоминал А. Либерман, естественно, было совершенно невозможно как-то зарабатывать. Мы жили в это время на выклянченном мороженом картофеле и гнилой моркови. И при этом в постоянном страхе, что нас в любой момент может обнаружить гестапо во время проведения очередной облавы. Вполне понятно, что мы не имели возможности получить медицинскую или зубоврачебную помощь.
После освобождения Франции супруги в сентябре 1944-го вернулись в Париж. Три года они перебивались с хлеба на квас — с работой было как никогда плохо. Наконец, списавшись со своим другом и учителем Эгоном Петри, преподававшем с начала 1940-х в калифорнийском Mills College, Либерман занимает у знакомых несколько тысяч долларов и, оставив жену в Париже, отправляется за океан. Летом 1947-го он приезжает в Окленд, где живет Петри, с надеждой на то, что старый друг и учитель устроит его на работу.
В статье «Эгон Петри и “петриоты”»238 со слов одного из петриотов рассказывается следующая история:
Эгон Петри, пригласив в свое время Либермана приехать в Окленд, впоследствии, из-за повседневной бытовой суеты об этом совсем забыл. Либерман, практически не говоривший тогда по-английски, имея на руках из имущества только несколько чемоданов, пересек всю Атлантику и 3000 миль континентальной части Соединенных Штатов и прибыл в Калифорнию. Когда же он, наконец, появился в доме Петри, тот, открыв дверь, в ответ на приветствие воскликнул: «Что случилось, Саша, что ты делаешь здесь?»
Этот анекдот, по свидетельству Михаэлы Бенедикт, рассказал ей ее учитель, один из первых выпускников класса Э. Петри-А. Либермана в Mills College, профессор Роберт Шелдон239. «Забывчивость» Эгона Петри, являлась, конечно, не более чем шуткой, ибо, как явствует из последующей судьбы Либермана, его старый друг был человеком благородным и ответственным. С лета 1947 г. Александр Либерман, практически не владевший английским240, стал преподавать вместе с Эгоном Петри в Mills College — одном из самых престижных музыкальном учебном заведении в Калифорнии.
Несмотря на все трудности новой жизни, Либерманы не забывали об Иване Бунине, доживавшем свои дни в Париже. Вплоть до кончины писателя они поддерживали с Верой Николаевной регулярную переписку. Помимо писем Александра и Стефы Либерман к В.Н. Муромцевой-Буниной241, в РАЛ хранится сделанный ею 1958 г. набросок свидетельства на французском языке о тяжелой подпольной жизни Либерманов в Ницце. По-видимому, такой документ понадобился Либерманам как свидетельское показание третьего лица при оформлении ими компенсации у правительства ФРГ.
Где находятся ответные письма Бунина, неизвестно, поскольку архив А. Либермана до сих пор не обнаружен.
Гонимый по миру еврей-космополит Александр Либерман — вечный Ди-Пи, человек без гражданства242 обрел в Калифорнии свою новую родину (он стал гражданином США 08 апреля 1953 г.), где в обстановке почета и уважения и скончался после тяжелой, но, к счастью, непродолжительной болезни243 в 1977 г. Урны с прахом Александра (Саши) и Стефании (Стефи) Либерман, которая пережила его на шесть с лишним лет, покоятся в колумбарии The Chapel of the Chimes в Окленде (Калифорния).
Александр Либерман244
Окленд — Александр Либерман, именитый учитель фортепьяно, многие годы преподававший в регионе залива Сан-Франциско, скончался в воскресенье после непродолжительной болезни. Он родился неподалеку от Киева, учился музыке в Киевской консерватории, а во время Революции перебрался в Берлин. Там он стал профессором при берлинской Высшей музыкальной школе. Приход к власти нацистов заставил его перебраться сначала в Париж, а затем на юг Франции. Он прибыл в США в 1947 г. при содействии известного немецкого пианиста Эгона Петри, который преподавал тогда в Mills College, в Окленде. Либерман присоединился к коллективу сотрудников факультета «Миллс Колледжа» в 1950 г. и работал там все время, вплоть до своего ухода на покой в 1962 г. Затем, вплоть до недавнего времени, он давал частные уроки и многие концертные исполнители перед своим выступлением приходили к нему на репетицию, чтобы отточить свое мастерство. Он жил вместе со своей женой Стефанией. По просьбе семьи никаких прощальных церемоний проводиться не будет.
Примечание
1 Аvпі Н. Argentina and the Jews: A History of Jewish Immigration . Tuscaloosa, 2002 (Judaic Studies).
2 О бароне M. де Гирше и ЕКО см. также в РЕВА: Путятова Э. Эмиграция евреев из России в Южную Америку в конце XIX -начале XX вв. Кн. 3. Иерусалим; Торонто; СПб., 2009. С. 9-23; Базаров В. Воспоминания старого колониста. Описание жизни и деятельности Йозефа Эйдмана за годы 1904-1951, прожитые им в Аргентине. Кн. 4. Иерусалим; Торонто; СПб. 2010. С. 17-25; Заблоцки Э. История колонии «Маурисио»: два свидетельства. Кн. 7. Торонто; СПб. 2013. С. 22-37.
3 При создании ЕКО де Гирш вложил в него 1о млн. долларов (примерно 260 млн. по современному курсу). После смерти барона 21 апреля 1896 г. ЕКО унаследовало его капитал в 36,5 млн. долларов (примерно 1 млрд, по современному курсу), см.: Zablotsky Е. The Project of Barón de Hirsch // Working Paper 289, Universidad del СЕМА, May 2005.
4 Зальцберг Э. Сельскохозяйственные колонии евреев из России в Аргентине // РЕВА. Кн. 8. Торонто; СПб. 2013. С. 23-33.
5 Winsberg M.D. Jewish Agricultural Colonization in Argentina // Geographical Review. 1964. Vol. 54. № 4. P. 487-501.
6 Jewish Virtual Library.Latin America (www.jewishvirtuallibrary. org/jsource/judaica/ejud_ooo2_oo12_o_11921.html).
7 ORT in Latin America (http://0ld.0rt.spb.ru/hist0ry/eng/teacher3t. htm).
8 Trotzky I. Economic developments of the Jews in Argentina // ORT Economic Review. 1942. Vol. 3. № 2. P. 15-27.
9 Memoria del Presidente. Buenos Aires: Asociación Argentina ORT/ OSE, 1943.
10 Libro Aniversario: 80 Años ORT. 1860-1960. Buenos Aires, 1960.
11 Antologie fun der Yidisher literatur in Argentina. Buenos Aires, 1944.
12 Trotski, Elyohu. Goles Daytshland: ayndrikn fun a rayze. Buenos Ayres, 1950.
13 Марченко ТВ. Русские писатели и Нобелевская премия. Koln; München, 2007. С. 89; Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать. Jerusalem, 2011. Т. 2. С. 503.
14 Шостаковский П.П. Путь к правде. Минск, 1960. С. 348-353.
15 См.: http://casaderusia.bl0gsp0t.de/2011/05/bl0g-p0st_04.html.
16 О нем см.: www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_ 0002_0019_0_19408.htm.
17 Trotzky /. Bjornson und Hamsun (Aus persoenlichen Erinnerungen) // Jüdische Wochenschau. 1942. № 142. 4 Aug.
18 Бьерн Бьернсен был сыном великого норвежского писателя-демократа, лауреата Нобелевской премии по литературе Бьернстьерне Мартиниуса Бьернсона.
19 Коллоен И.С. Гамсун. Мечтатель и Завоеватель. М., 2009.
20 Жозеф-Артюр де Гобино первым в XIX в. в развернутом виде сформулировал тезис о расовом неравенстве как объясняющем принципе исторического развития и унизительности самой идеи равенства (отождествляемой им с «уравниловкой», т.е. торжеством посредственности, усредненности, одинаковости, серости). Расизм Гобино — составная часть его элитистского мировоззрения. Все виды равенства вызывают у него отвращение, тогда как расовое неравенство представляется Гобино наиболее фундаментальным, исходным и первичным. Как отмечал Н. Бердяев в своей знаменитой книге «Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии» (Берлин, 1923), «Расовая теория Гобино, очень тонкого и замечательного мыслителя, совершенно натуралистична. <...> Гобино, в отличие от современных германских расистов, был пессимистом и учил о необратимом декадансе рас и культур. <...> Избранная арийская раса есть миф, созданный Гобино. <...> Германский же расизм есть агрессивный, мирозавоевательный партикуляризм».
21 HIAS/ХИАС — Общество помощи еврейским иммигрантам.
22 Имеется в виду World Jewish Congress (WJK) — Всемирный Еврейский Конгресс, в котором М. Турков — известный еврейский общественный и культурный деятель родом из Польши — представлял еврейскую диаспору всей Латинской Америки.
23 Рикардо — старший сын Моисея Авенбурга.
24 Экзекьютив (англ. Executive) — здесь исполнительный комитет.
25 Михаил (Miguel) Николаевич Подольский — русский журналист-эмигрант, после Второй мировой войны живший в Буэнос-Айресе и печатавшийся в местной русской прессе. Автор романа «Жанета (История одной любви)». (Кн. 1. Buenos Aiers, Библиотека: В часы отдыха и досуга, 1967). См. о нем: Кублицкая М. Русские книги, изданные в Аргентине. XX век. М., 2013.
С. 232-233. По всей видимости, И.М. Троцкий был с ним близко знаком еще в свой «европейский» эмигрантский период, поскольку долгие годы поддерживал его материально через Литфонд.
26 И. Троцкий владел частью капитала фабрики, официальным хозяином и управляющим которой являлся М. Авенбург.
27 По прошествии многих лет Рикардо Авенбург с удивлением вспоминал, что, живя уже в США, Троцкий говорил по-испански вполне прилично.
28 Арон Сингаловский (Singalovski) — еврейский общественный деятель, с 1912 г. один из ведущих руководителей ОРТ, писатель, публицист.
29 Доктор Моиз Меркин (Dr. Moise Merkin) — видный деятель ОРТа, работал вместе с И.М. Троцким в Аргентине в годы Второй мировой войны. Впоследствии жил в США.
30 В первой трехгодичной технической школе (техникуме) ОРТ в Буэнос-Айресе учились главным образом еврейские дети из Польши и Германии, выходцы из малообеспеченных семей эмигрантов. В 1942 г. количество учащихся составляло уже 231 человека. Большинство учебных пособий и инструкций в школе было напечатано на идише (см.: Shapiro L. The History of ORT. L., 2010. P. 293-294).
31 Яков Заславский (Jacob Saslavsky) — промышленник, активный член аргентинского ОРТа. Его брат Абрам — близкий друг И.М. Троцкого, занимал в этой организации ответственную должность кассира.
32 Яков Венгровер (Jacob Wengrower) — генеральный секретарь аргентинского ОРТа.
33 Рикардо Авенбург стал известным психоаналитиком в Буэнос-Айресе.
34 И.А. Грузман — издатель газеты на идише «Дэр Шпигл» (Буэнос-Айрес).
35 Речь идет о юбилейном Конгрессе по случаю 75-летия со дня основания ОРТа, проходившем в конце июня 1955 г. в Женеве под председательством Арона Сингаловского.
36 Речь идет о первой технической школе, организованной ОР-Том в Буэнос-Айресе при непосредственном участии И.М. Троцкого. Как престижный Технический колледж это учебное заведение существует по сей день, ведя обучение по следующим специальностям: административное управление, химия, компьютерная техника, конструирование, электроника, информационные и коммуникационные технологии, технический дизайн, массмедиа, музыкальный бизнес (http://campus. ort.edu.ar/eng/articulo/52509/welcome-to-ort-argentina).
37 Нюня — Анна Троцкая.
38 Джойнт.
39 curriculum vitae (лат. «ход жизни») — автобиография, послужной список.
40 Первая жена И.М. Троцкого Анна Родионовна скончалась в 1957 г.
41 Книга о русском еврействе (1860-1917). Нью-Йорк, 1960.
42 Э. Синклер, выпустивший более 90 книг в различных жанрах, считался в первой половине XX в. один из столпов разоблачительной журналистики. Особенностью его произведений являлось сочетание художественной формы с актуальным публицистическим содержанием. Бернард Шоу сказал однажды: «Когда меня спрашивают, что случилось в течение моей долгой жизни, я ссылаюсь не на комплекты газет и не на авторитеты, а на романы Эптона Синклера».
43 В письме написано по-английски: «serie: World's End etc. etc». «Крушение мира» — название сериала-эпопеи Э. Синклера из 1о различных романов (1940-1949), в которой главного героя зовут Лэнни Бадд. Описываемые в них события охватывают 40 лет мировой истории и разворачиваются во многих «горячих» в ту эпоху точках мира.
44 «Avenco» — по всей видимости, экспортно-импортная фирма, занимавшаяся реализацией продукции предприятий «Аѵеп-burg Hnos» и тоже принадлежавшая этой семье.
45 Речь идет о металлообрабатывающем предприятии (sic!).
46 surprise (англ.) — сюрприз, здесь в смысле «неожиданный подарок».
47 «Juniors» (англ.) — здесь в смысле «молодые продолжатели дела».
48 Давид и Исаак — родные братья Моисея Авенбурга, так же принимавшие активное участие в деятельности аргентинского ОРТ-ОЗЕ. Давид, в частности, был в 1940-х одним из членов правления этой организации.
49 Allewai (идиш, от нем. alle Weile) — всегда.
50 Процесс Эйхмана — первый крупный процесс, на котором разбирался вопрос о Катастрофе европейского еврейства; проходил в Иерусалиме в 1961-1962 гг. Подсудимый, Адольф Эйхман — военный преступник, глава специального отдела гестапо по еврейским делам, который занимался «окончательным решением» еврейского вопроса, был приговорен к смертной казни.
51 «Кошер» — ашкеназийский вариант произношения ивритского слова — кашер, т.е. пригодный к употреблению в пищу, здесь в смысле «хороший»; его идишевский антоним — «трейф», «трефной», означающий «некошерный», восходит к ивритскому слову пэір— «трефа», буквально означающему «растерзанное», здесь используется в смысле «плохой».
52 «La Nación», «La Razón», «Di Ydishe tsaytung» — газеты консервативного направления, издававшиеся в Буэнос-Айресе и Мадриде на испанском языке и в Буэнос-Айресе на идиш.
53 «Прогрессивными» на просоветском эзоповом языке назывались близкие к коммунистическим партии или организации в западных странах, как правило, финансируемые из СССР
54 Industrial Argentina. Cámera de Metal Ertampado — Аргентинское индустриальное общество. Отделение штамповки металла.
55 По всей видимости, речь идет об английском варианте первой «Книги о русском еврействе»: Russian Jewry (1860-1917) / Edited by Jacob Frumkin, Gregor Aronson and Alexis Goldenweiser Translated Mirrra Ginsburg, Thomas Joseloff // N. Y.; London: 1966.
56 «Будущее издание» — это, по-видимому, изданная лишь через пять лет вторая «Книга о русском еврействе: 1917-1967».
57 Братья Заславские (Zaslavsky), Абрам (младший, близкий друг И.М. Троцкого) и Яков (старший), даты жизни не установлены — активные деятели аргентинского ОРТ.
58 Нахес (идиш) — счастье, радость.
59 Придя к власти в результате демократических выборов 1958 г., Фрондиси пользовался в первое время своего правления достаточно широкой общественной поддержкой. Его политика поощрения инвестиций, попытки самостоятельного развития энергетического сектора и промышленности в целом помогли Аргентине избавиться от хронического торгового дефицита. Однако либерализация цен, открытость рынка и режим жестокой экономии за счет частичного урезания социальных программ вызвали недовольство как широких народных масс, так и консервативных кругов из числа военной элиты и латифундистов. Под давлением военных Фрондиси был вынужден уйти в отставку в 1962 г., хотя в дальнейшем продолжал активную общественно-политическую деятельность.
60 ОАГ — Организация Американских Государств, международная организация, созданная 30.04.1948 г. на 9-й Межамериканской конференции в Боготе (Колумбия) на базе Панамериканского союза, существовавшего с 1889 г.
61 На самом деле в 1960-х население Кубы превышало 6 миллионов человек.
62 Генерал Арамбуру проиграл президентские выборы 1963 г.
63 AJC (American Jewish Committee) — Американский Еврейский Комитет, влиятельная общественная организация США, основанная в 1906 г. в Нью-Йорке.
64 Доктор Владимир Гальперин, прямой потомок барона де Гинцбурга, родившийся в России, с 1943 г. разделял с Сингаловским пост генерального секретаря ОРТа.
65 22 ноября 1963 г.
66 Roi ist mort, vive le Roi! (франц.) — Король мертв, да здравствует король!
67 В соответствии с конституцией США Линдон Джонсон, бывший вице-президентом, автоматически занял пост президента после гибели Джона Кеннеди.
68 Comission derectiva — организационное постановление центрального органа, в данном случае — ОРТа.
69 Reminiscences (англ.) — воспоминания.
70 New York Times — одна из крупнейших и влиятельнейших газет США. Основана в 1851 г.
71 Shame on you! (англ.) — Как Вам не стыдно!
72 Nochebuena-Weinacht-Christmas — Рождество по-испански, по-немецки и по-английски.
73 «мехутоним» (идиш) — выражение буквально означающее «отцы жениха и невесты», здесь в смысле «близкие родственники» данного действа.
74 Официальное отношение Католической Церкви к евреям и иудаизму кардинально изменилось начиная с периода понтификата Иоанна XXIII (1958-1963). В 1959 г. папа распорядился, чтобы из читаемой в Страстную пятницу молитвы были исключены антиеврейские контаминации (например, выражение «коварные» применительно к евреям). Во время правления следующего папы — Павла VI (1963-1978), были приняты исторические решения Второго Ватиканского собора (1962-1965), в т.ч. Декларация «Nostra Aetate» («В наше время»), снимавшая с евреев многовековое обвинение в коллективной ответственности за смерть Иисуса.
75 «Мешияхс цайт» (идиш) — «Времена мессии наступили!» — здесь в смысле «Слава Богу!»
76 В Южном полушарии, где расположена Аргентина, Рождество — летний праздник.
77 «Mensoje de Nochebuena al Pueblo Argentino» (исп.) — Рождественское обращение к народу Аргентины.
78 Профсоюзы.
79 Milagro Sud American — Южноамериканское чудо.
80 Речь идет о мемуарах Софьи Дубновой-Эрлих «Жизнь и творчество С.М. Дубнова» (Нью-Йорк, 1950).
81 «El Diario Israelita» — испанское название еврейской газеты «Di Ydishe tsaytung», выходящей в Буэнос-Айресе с 1923 г.
82 Казаков В.П. Политическая история Аргентины XX века. М., 2007.
83 В частности, активно работает аргентинский WorldORT, занимающийся продвижением самых современных инновационных проектов (ORT Argentina leads the way in technological innovation: www.ort.org/news-and-reports/world-ort-news/article/ ort-argentina-leads-the-way-in-technological-innovation/).
84 Al ponerse el sol (исп.) — На закате солнца.
85 Приезд И.М. Троцкого // Новое русское слово. 1946. 1 октября. С. 3.
86 Зайончковская Ж.А. Эмиграция в дальнее зарубежье // Мир России: Социология, этнология. 2003. Т. 12. № 2. С. 144-150.
87 Нитобург Э.Л. Русские трудовые иммигранты в США (Конец XIX в. 1917 г.): Адаптация и судьбы // Отечественная история. 2002. №5.
88 Нитобург Э.Л. Вклад русской эмиграции в науку, технику, культуру США (www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/_ Nitob_ImmUSA.php).
89 Русские в Холливуде // Театр и жизнь (Париж). 1931. № 41. С. 24.
90 Нусинова Н. Русские в Америке (киноэмиграция первой волны) // Киноведческие записки. 1999. № 43. С. 174-178.
91 См., например, историю студии И.Н. Ермольева — «Альбатрос»: Менегальдо Е. Русские в Париже 1919-1939. М., 2001; Домбровская И. «Альбатрос»: русская киностудия в Монтрее (www.russian.rfi.fr/kultura/20101128-albatros-russkaya-kinostu-diya-v-montree).
92 Морской Л. Бунтари // Иллюстрированная Россия (Париж). 1929. № 15. С. 18.
93 Берберова Н. Курсив мой. М., 1996. С. 575-577
94 На конверте имеется пометка: «Отвечено. У соседей, без кухни».
95 Trembach S. Russian émigré press publications in the André Savine collection: a bibliographic inventory of U.S.-published periodicals. Chapel Hill (NC), 2006.
96 Kihss P. Mrs Alliluyeva Donates $340,000 // The New York Times. 1967. 26 October.
97 Евгений Щербаков (1917-1974) — поэт «русского Парижа».
98 Фонд Толстого (англ. Tolstoy Foundation) — благотворительный фонд в г. Вэлли Коттедж (Valley Cottage), штат Нью-Йорк. Основан в 1939 младшей дочерью Льва Толстого Александрой Толстой с целью помощи русским эмигрантам. Оказывал помощь беженцам, перемещенным лицам, сиротам, финансировал образовательные программы.
99 Зацепина О. С, Ручкин А.Б. Русские в США: Общественные организации русской эмиграции в ХХ-ХХІ вв. Нью-Йорк, 2011.
100 Будницкий О. 1945 год и русская эмиграция: Из переписки М.А. Алданова, В.А. Маклакова и их друзей // Ab imperio. 2011. № 3.
101 Ростова Н. Ивана Бунина мы называем крестным отцом нашего журнала // Слон.ru. 2012. 8 октября.
102 Будницкий О. 1945 год и русская эмиграция: Из переписки М.А. Алданова, В.А. Маклакова и их друзей.
103 Троцкий И. Новые русско-еврейские эмигранты в Соединенных Штатах // Книга о русском еврействе (1917-1967). С. 405.
104 Георгий Иванов — Ирина Одоевцева — Роман Гуль: Тройственный союз. Переписка 1953-1958 годов. М.; Берлин, 2016.
С. 194-195.
105 Недогарко М.В. Газета «Новое Русское Слово», 1910-1950 гг.: История и типология. Диссертация... канд. филология, н. Ростов-на-Дону, 1997*
106 «26 февраля 1906 года (по старому стилю) военно-полевым судом Ренненкампфа в Чите Мирский, Окунцов и Шинкман были приговорены к смертной казни. Доказательств против них не было. Свидетели повторяли чужие слухи. Статьи в газетах были без подписей. Поэтому смертную казнь заменили каторгой» (http://old-ulan-ude.livejournal.com/30441.html).
107 См.: Титаев А. Федор Постников (http://historio.ru/postnikov. php).
108 Газета «Русский голос» в начале 1920-х позиционировала себя как просоветское издание.
109 Вейнбаум М.Е. 50 лет. Немного истории, немного воспоминаний // Новое русское слово, 1960. 20 апреля. С. 2.
11о Троцкий А. Затруднения читателя // Новый мир (Нью-Йорк). 1917. № 931. 9 March (www.magister.msk.ru/library/trotsky/ trotl907.htm).
111 «Рассвет» (1924-1939) — «ежедневная газета российских рабочих организаций США и Канады», основанная анархо-синдикалистами в Нью-Йорке; «Сеятель» — русский журнал народническо-социалистического направления, издавался в Буэнос-Айресе с 1932 по 1982 (?) гг. Н.А. Чоловским.
112 О жизни и деятельности Чоловского см.: Кублицкая М.А. Русские могилы в Аргентине. Никифор Аввакумович Чоловский // Михайлов День 1-й: Журнал Исторической России (Ямбург). 2005. С. 184-198.
113 Ручкин А.Б. Русская диаспора в США в первой половине XX века (www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTIC-LES/2007/Ruchkin_AB/).
114 Название для новой газеты Окунцов позаимствовал у самой популярной и многотиражной российской газеты того времени, издававшейся «Товариществом И.Д. Сытин» в Москве.
115 Цынкова О. «Новое русское слово» — феномен долголетия // Евреи в культуре Русского Зарубежья T. V. Иерусалим, 1996.
116 Седых А. (Цвибак Як.). Русские евреи в эмигрантской литературе // Книга о русском еврействе (1917-1966). С. 443.
117 Рыжков В. Устав ООН имеет украинские «корни» // День (Днепропетровск). 2012. № 120.
118 «Лойер» (англ. lawer) — адвокат, часто исполняющий также функции нотариуса и юридического консультанта.
119 Вейнбаум М.Е. 50 лет. Немного истории, немного воспоминаний.
120 The New York Times. 1917. 7 July.
121 Там же.
122 Leo Pasvolsky (n.wikipedia.org/wiki/Leo_Pasvolsky).
123 См.: напр.: Pasvolsky L. The Economic Problems of New Russia // The Russian Review. 1917. Vol. 3. № 1. P. 55-57.
124 С января по март 1917 г. Лев Троцкий (Бронштейн) жил в США. За два месяца он успел написать немало статей, выступить с докладами на русском и немецком языках в ряде городов, поработать в библиотеке, изучая хозяйственную жизнь новой для него страны, стать одним из редакторов газеты «Новый мир» вместе с другими известными большевиками — Николаем Бухариным, Владимиром Володарским и Григорием Чудновским. Здесь и застала его весть о Февральской революции.
125 Schlesinger S.E. Act of Creation: the Founding of the United Nations. Cambridge (MA), 2004.
126 Вейнбаум M.E. 50 лет. Немного истории, немного воспоминаний.
127 Кочетков Г.Б., Ступян В.Б. Ведущие «мозговые центры» США // США-Канада. 2010. № 6. С. 81-94.
128 Во вторник 1 января 1935 г. «Новое русское слово» в разделе «Важнейшие события в 1934 году», подраздел «Смерть русских» известила: «1 февр<аля> в Лос-Анжелесе на 74 году жизни скончался первый издатель нью-йоркского “Русского слова” М.Л. Пасвольский».
129 Цынкова О. «Новое русское слово» — феномен долголетия. С. 169.
130 Страница газеты «Новое русское слово» в ГПИБ (http://elib. shpl.ru/ru/nodes/10171).
131 Троцкий И.М. Новые русско-еврейские эмигранты в Соединенных Штатах // Книга о русском еврействе (1917-1966). С. 399-401.
132 Там же. С. 169.
133 См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Bильчyp,_Mapк_Eфимoвич
134 Вильчур М.Е. Русские в Америке. Нью-Йорк, 1918. С. 23.
135 Письмо Г.Д. Гребенщикова И.А. Бунину от 31 июля 1940 г. // С двух берегов: Русская литература XX века в России и за рубежом. М., 2002. С. 256-257.
136 Седых А. (Цвибак Як.). Русские евреи в эмигрантской литературе. С. 443.
137 Валерий Вайнберг в «Энциклопедия русской Америки» (www. runyweb.com/era/persons/valeriy_weinberg.html).
138 Цынкова О. «Новое русское слово» — феномен долголетия. С. 162.
139 Beinecke Rare Book and Manuscript Library, GEN MSS 106, Veïnbaum, M.E.
140 Толстой И. Новое русское слово — конец легенды (www. svoboda.org/content/transcript/1740312. html).
141 Вейнбаум M.E. 50 лет. Немного истории, немного воспоминаний.
142 В ночь с 1 на 2 января 1978 г. в реакции НРС неизвестными злоумышленниками (А. Седых полагал, что агентами КГБ) был совершен поджог. Типография, к счастью, не пострадала, и газета продолжала выходить без перерыва. Однако 14 мая 1978 г. типография была вновь подожжена и на этот раз уничтожена.
Но и тогда выпуск газеты не прервался, очередной номер набирали сразу в трех разных типографиях в различных частях города, а печатали в четвертой. После пожара, «который потряс всю эмиграцию», было закуплено новое усовершенствованное оборудование (в том числе на пожертвования читателей) и газета вскоре стала заметно «похорошевшей». См.: Седых А. 70-летие газеты «Новое русское слово» // Новое русское слово. 1980. 20 апреля. С. 3.
143 Вейнбаум М.Е. 50 лет. Немного истории, немного воспоминаний.
144 Седых А. (Цвибак Як.) Русские евреи в эмигрантской литературе. С. 443‘
145 Вейнбаум М.Е. На разные темы. Нью-Йорк, 1956.
146 Там же.
147 В.И. Гессен прибыл в США в 1946 г.
14В Врач и публицист Григорий Исаакович Альтшул(л)ер с 1920 г., жил в Праге, а в 1937 г. приехал в США. См.: Копршивова А. Династия врачей. Альтшуллеры (www.ruslo.cz/articles/816/).
149 Земской врач Исаак Наумович Альтшуллер лечил А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, М. Горького, состоял с ними в переписке. Основал в Ялте специальный санаторий для врачей, заразившихся туберкулезом от своих пациентов.
150 Седых А. (Цвибак Як.). Русские евреи в эмигрантской литературе. С. 443-444.
151 Семочкина Е.И. Газета «Новое Русское Слово» — организатор патриотических акций русской диаспоры в США в начале Великой отечественной войны // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки (Челябинск). 2012. № 10(269). С. 59-61.
152 Цурганов Ю. Белоэмигранты и вторая мировая война. Попытки реванша. 1939-1945. М., 2010.
153 Семочкина Е.И. Газета «Новое Русское Слово» — организатор патриотических акций русской диаспоры в США.
154 Ди-пи — калька с англоязычного термина «displaced person» (аббр. DP, произносится «Ди-Пи»), по-русски «перемещенное лицо». Начало широкого употребления термина связано с событиями Второй мировой войны, когда в результате действий властей Третьего рейха в Германии оказалось около 1о миллионов человек, большинство из которых составляли люди, задействованные в принудительном труде или высланные из стран своего проживания по расовым, религиозным или политическим мотивам.
155 См.: Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции / Авт.-сост. Агеносов В.В. M.-СПб., 2014.
156 Седых А. (Цвибак Як.). Русские евреи в эмигрантской литературе. С. 443-444.
157 Цынкова О. «Новое русское слово» — феномен долголетия. С. 172.
158 О книге Ю. Марголина «Путешествия в страну зека» см.: Чижик С.Н. Судьба одной прокламации: израильский коммунизм против Юлия Марголина / Собр. статей и выступлений, обращений и писем Ю.Б. Марголина 1946-1957 гг. Иерусалим, 2002 (http://lit.lib.ru/cl/d0bruskina_i_a/sudxba0dn0jpr0klamacii2002. shtml).
159 Шугайло Т.С. Антисоветская пропаганда в русских эмигрантских изданиях в 1950-е годы (на примере газет «Россия» и «Новое Русское Слово») // Ойкумена: Регионоведческие исследования (Находка). 2010. № 4. С. 24-36.
160 Вейнбаум М.Е. Немного истории, немного воспоминаний.
161 Новое русское слово. 1966. 3 декабря. С. 3.
162 Четыре жизни Аллы Кторовой. Литературная Россия on-line (http://litrossia.ru/archive/108/writer/2523.php).
163 Там же.
164 Синкевич В. Вторая волна русской эмиграции // Новый журнал. 2012. № 267.
165 Из приветствия президента США, адресованного А. Седых по случаю 8о-летнего юбилея газеты, см.: Цынкова О. «Новое русское слово» — феномен долголетия. С. 177.
166 Этим редким в журналистской среде качеством отличался, по оценке Седых, и покойный М.Е. Вейнбаум. См.: Там же. С. 173-174.
167 Седых А. Памяти И.М. Троцкого. 1969.
168 Алданов М. Письма из Ниццы // Новый журнал. 2012. № 267.
169 В Феодосии сохранился родительский дом писателя на улице Митридатской.
170 Моисей Ефимович Цвибак был владельцем магазина игрушек на Итальянской улице в Феодосии, биржевым маклером и журналистом, редактором «Бюллетеня Феодосийской биржи» (1910-1913); членом правления еврейской общины города. Дядя будущего писателя владел известной в городе типографией А.Е. Цвибака.
171 Седых А. Крымские рассказы. Нью-Йорк, 1977.
172 Синкевич В. Мои встречи: русская литература Америки. Владивосток, 2010. С. 61-72.
173 Седых А. Звездочеты с Босфора.
174 Там же.
175 «Общество Я. Поволоцкий и К.» — парижское книжное издательство, основанное в 1919 г. осевшим с 1908 г. во Франции русским культурным и общественным деятелем Я.Е. Поволоцким и просуществовавшее до 1938 г.
176 Первое издание его книги «Далекие, близкие» вышло в 1962 г. в Нью-Йорке.
177 В 1982 г. в честь восьмидесятилетия Андрея Седых редакция НРС приготовила имениннику сюрприз, издав книгу «Три юбилея Андрея Седых». Этот сборник по существу является альманахом литераторов русского Зарубежья разных волн эмиграции.
178 Голлербах С. Нью-Йоркский блокнот // Новый журнал. 2011. № 264.
179 Гуткин М. Старейшая русская газета отметила вековой юбилей в Нью-Йорке // Голос Америки (www.golos-ameriki.ru/content/ novoe-russkoe-slovo-1oo-2o1o-04-2o-9166o909/251446.html); Русскоязычная диаспора Соединенных Штатов в эти дни отмечает юбилей своего самого главного периодического издания (www.ntv.ru/novosti/191118).
180 Седых А. Памяти И.М. Троцкого.
181 Серков А.И. Русское масонство, 1731-2000 гг. М., 2001. С. 601.
182 В 1940 г. ЛСР была переименована в ложу «Вехи», которая в период немецкой оккупации Франции не действовала, а в 1955 г. эта ложа присоединилась к «Северной Звезде».
183 Серков А.И. Газданов об Адамовиче (www.freemasonry.narod. ru/Publications/gazdanov.html); Асадова К, Мацах А. Масоны и литература Серебряного века (http://echo.msk.ru/ programs/ brothers/678604-echo/).
184 Николаевский Б.И. Русские масоны и революция. М., 1990. С. 49-74.
185 Чубаров И. От составителя // Евреинов Н.Н. Тайные пружины искусства. М., 2004. С. 13.
186 Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. М., 1990. С. 222.
187 В июне-сентябре 1920 г. Г.В. Немирович-Данченко приказом главнокомандующего барона Врангеля и министра иностранных дел Петра Струве был отстранен от должности начальника отдела печати Гражданского управления Правительства Юга России, поскольку санкционированный им выпуск антисемитских газет вызвал возмущение еврейской общественности Крыма. В 1930-х он печатался в нацистском официозе «Völkischer Beobachter» и «Новом слове» — русской газете, курировавшейся ведомством Розенберга.
188 После гибели Шойблер-Рихтера во время пивного путча в Германии Георгий Немирович-Данченко опубликовал о нем прочувствованную эпитафию под названием «Прекрасная смерть»: он нашел конец лидера «Возрождения» достойным, так как тот пал «добрым немцем», закрывшим грудью друга, став тем самым «гордостью националистической Германии», чья смерть будет «вписана золотыми буквами в историю мучеников Германии».
189 Foyer Philosophique (фр.) — философский огонь.
190 Из числа всех братьев-масонов ЛСР в США после войны проживали Андрей Седых, Марк Алданов, Роман Гуль, Кирилл Катков, Илья Троцкий, Борис Миркин-Герцевич и Авенир Де Монфред, см.: Серков А.И. История русского масонства 1845-1945. СПб., 1996; Серков А.И. Русское масонство, 1731-2000 гг.
191 М.А. Алданов уехал из Америки во Францию в 1947 г., но время от времени возвращался в Нью-Йорк.
192 Серков А. Российские евреи-масоны в США // РЕВА. Кн. 9. Торонто; СПб., 2014. С. 44-61.
193 Письмо М.А. Алданова И.М. Троцкому от 31 декабря 1954 г. в YIVO-архиве Ильи Троцкого (RG 577, Вох 1).
194 Серков А. Российские евреи-масоны в США.
195 Бахрах А. По памяти, по записям. Литературные портреты. Нью-Йорк, 1979. С. 9.
196 Точнее, с 22 сентября 1940 г. по 23 октября 1944 г.
197 Хазан В. «Отблеск чудесного» прошлого.
198 Никоненко С. Свидетель истории // Бахрах А. По памяти, по записям (www.darial-0nline.ru/2004_5/bahrah.shtml).
199 Седых А. Далекие, близкие. М., 2005. С. 212
200 Хазан В. «Отблеск чудесного» прошлого.
201 Мальцев Ю. Бунин. Fa.М., 1994. С. 324.
202 Бабореко А.К. Бунин: Жизнеописание. М., 2004.
203 Уральский М. «Спасенный Буниным»: Александр Борисович Либерман // РЕВА. Кн. 10. 2015. С. 170-188; Под бунинской кровлей // Новый журнал. 2016.
204 Письмо хранится хранится в рукописном архиве Иллинойского университета в Urbana-Champaign (США) в собрании С.Ю. Прегель и В.В. Руднева.
205 Художница Александра Николаевна Авксентьева-Прегель (1907-1984); дочь М.С. Цетлиной от первого брака, в 1940 г. перебравшаяся с мужем на жительство в США и тоже проживавшая в Нью-Йорке.
206 Художник и литератор Татьяна Дмитриевна Логинова-Муравьева (Loginoff-Mouravjeff) входила в ближайшее окружение семьи Буниных. Впоследствии написала воспоминания о писателе, сопроводив их рисунками тушью, и передала их в Бунинский фонд Государственного музея И. С. Тургенева в Орле. В ноябре 1973 г. она стала инициатором проведения дней Бунина в Грассе. Благодаря ее усилиям в Грассе была установлена мемориальная доска в честь Буниных.
207 Личность А.Н. Ганшиной не установлена.
208 Письма Буниных к художнице Т. Логиновой-Муравьевой. Paris, 1982 (http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1860-1.shtml).
209 Бабореко А.К. Бунин: Жизнеописание. С. 344-345.
210 Entschädigungsbehörde des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Berlin): Alexander Libermann, Akten Reg. 315 884.
211 Либерман ходатайствовал о получении денежного возмещения от правительства ФРГ как лицо, преследовавшееся при нацистах. Ходатайство было удовлетворено.
212 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Категория: Выпускники_Киев-ской_консерватории
213 О Берлинской государственной академической Высшей музыкальной школе (ВМШ), которая в настоящее время входит в состав Берлинского университета искусства (Universität der Künste Berlin), см.: Schenk D. Die Hochschule für Musik zu Berlin. Preußens Konservatorium zwischen romantischem Klassizismus und Neuer Musik, 1869-1932/33. Stuttgart, 2004.
214 Согласно удостоверению ВМШ от 7 декабря 1929 г. (в архивных документах А. Либермана) с 15 февраля 1924 г. до 26 мая 1926 г. он (с перерывами) замещал профессора Э. Петри во время его гастролей в Советской России.
215 А. Шнабель — выдающийся пианист, с 1906 по 1933 гг. жил в Берлине, сегодня на доме, в котором располагалась его квартира (Wielandstraße 14 in Berlin-Wilmersdorf), установлена мемориальная доска в его честь.
216 Stengel, Karl Theophil (1905-1995) и Gerigk, Herbert (1905-1996), после войны жили в ФРГ.
217 Stengel Т, Gerigk Н. Lexikon der Juden in der Musik. Эта книга выдержала пять переизданий в 1940-1943 гг. и находится в фондах 105 библиотек разных стран (www.worldcat.org/identities/lccn-no99-41723).
218 Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit (www. lexm.uni-hamburg.de/0bject/lexm_lexmpers0n_00004117;jsessionid=5i2BF67FF37D4B112CE31AB7BF5C8292?wcmsID=ooo3).
219 www.death-record.com/l/174086680/Alexander-Libermann
220 Ancestry.com: New York, Passenger Lists, 1820-1957, July 12th 1947,
221 См. выше: Eidesstattliche Erklärung von А. Libermann.
222 Die wirtschaftliche und soziale Lage der Angestellen. Ergebnisse und Erkentnisse aus der grossen sozialen Erhebung des Gewerkschaftsbundes der Angestellen. Berlin, 1931. S. 106.
223 Libermann ЛА. Comprehensive Approach to the Piano. Berkeley, 1984. В предисловии к этой книге, написанном Элинор Армер, также указано, что супруги Либерман переехали во Францию «после прихода Гитлера к власти».
224 Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920-1940. Т. 3. М., 1996. С. 143.
225 Libermann A.А. Comprehensive Approach to the Piano. P. 5.
226 Элинор Армер в письме к автору отметила: «Я уверена, что он действительно говорил мне, что знал Рубинштейна».
227 Зильберман Ю., Смилявская Ю. Киевская симфония Владимира Горовица. С. 252-257. Киев, 2002.
228 Будницкий О.В., Полян ЛА. Русско-еврейский Берлин. С. 302-303.
229 Rodogno D. Fascism's European empire: Italian occupation during the Second World War. N. Y., 2006.
230 Никоненко С. Свидетель истории // Бахрах Л. По памяти, по записям (www.darial-0nline.ru/2004_5/bahrah.shtml).
231 Устами Буниных. Т. 3. Мюнхен, 1982.
232 Heywood A.J. Catalogue of the I.A. Bunin, V.N. Bunina. Leeds, 2011. MS. 1066-535. P 19.
233 Устами Буниных. T. 3.
234 Франция. Мировая война и катастрофа // Электронная еврейская энциклопедия (www.eleven.co.il/article/15504).
235 Alexander Libermann // Berkely Daily Gazette. 1968. 2 March. P. 2.
236 Согласно утверждению Элинор Армер в письме к автору статьи: «Стефа не выглядела как “типичная” еврейка, возможно, именно поэтому она осмеливалась выходить».
237 Libermann Л. A Comprehensive Approach to the Piano. P. 6.
238 Benedict M. Egon Petri and the Petriots (www.rodoni.ch/busoni/ cronologia/Note/petri.html).
239 Американский пианист и композитор, ученик Е. Петри и А. Либерман в Mills College. Автор книги: Sheldon, R. Petri-Libermann notes on the art and technique of pianoforte playing, 1958 (www.worldcat.org/h2/petri-libermann-notes-on-the-art-and-technique-of-pianoforte-playing/oclc/18388806).
240 По свидетельству Э. Армер, А. Либерман в совершенстве владел русским, немецким и французским.
241 Heywood A.J. Catalogue of the I.A. Bunin, V.N. Bunina. MS.1067/3853-3867-MS.1067/3868. C. 260.
242 В списке пассажиров парохода, на котором А. Либерман прибыл из Гавра в Нью-Йорк, в графе «Nacionality» (страна, гражданином или подданным которой являетесь) указано «Indetermined», т.е. «неопределенная».
243 У А. Либермана была диагностирована неоперабельная злокачественная опухоль мозга, которая в считанные недели свела его в могилу. После смерти мужа Стефи разбил паралич, и остаток жизни она провела в инвалидной коляске в одном из калифорнийских санаториев. Эта информация получена автором из частной переписки с одним из друзей супругов Либерман , доктором Эрнстом Вольфером (Ernst Valfer).
244 Некролог в «Berkley Daily Gazette» (7 февраля 1978 г.)
Глава 6 Приложения
Переписка И. М. Троцкого 1946-1969 годов
Политические деятели и литераторы русского Зарубежья оставили огромное эпистолярное наследие.
Переписка играла огромную роль в жизни российских интеллектуалов, в архивах сохранились тысячи писем; многие из них скорее напоминают политические или историософские трактаты, а по откровенности и литературной отточенности нередко превосходят опубликованные теми же авторами тексты на те же темы1.
Переписка на самые разные и подчас весьма серьезные в литературно-историческом плане темы занимает внушительное место в архиве Буниных2. И.М. Троцкий явно не входил в число корреспондентов-интеллектуалов. С ним — на очень доверительном уровне! — разговор, как правило, велся о проблемах частного и сугубо прагматического характера. Главным образом речь идет о деньгах, точнее материальной помощи или адресанту или третьим лицам из числа эмигрантского литературного сообщества. Таким образом, они еще раз документально подтверждают факт неутомимой подвижнической деятельности И.М. Троцкого — ходатая по делам русских литераторов в изгнании. Одновременно в этих письмах немало уникальных свидетельств культурно-исторического характера, заслуживающих подробного анализа и комментария.
Такая работа была проделана в процессе подготовки материалов к публикации. Все письма публикуются в выборочной форме по современным правилам орфографии и пунктуации. Раскрытия сокращенных слов, имеющих единственно возможное прочтение, не оговариваются. Восстановленные слова и части слов как предположения заключены в угловые скобки.
«Бедные дают взаймы, а богатые дают советы»: Переписка В.Н. и ИЛ. Буниных с Ильей Троцким
После окончания Второй мировой войны русская эмиграция в Западной Европе влачила жалкое существование. Большая часть из переживших войну литераторов заметно одряхлела и обнищала. В Париже — единственном культурном оазисе русского Зарубежья в Старом Свете, — обещанная возможность вернуться на Родину крайне обострила отношения между различными группами эмигрантов.
Эмиграция, и ранее не отличавшаяся единством, оказалась в годы войны расколота еще в большей степени — значительная ее часть поддержала нацистов, рассматривая Гитлера как освободителя России от большевистского ига. Среди тех, кто в той или иной форме сотрудничал с нацистами или открыто высказывался в их поддержку, оказались не только крайне правые политики и публицисты, но и вполне респектабельные фигуры русского Парижа, такие как танцовщик и коллекционер Серж Лифарь, писатели Иван Шмелев, Илья Сургучев <Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, художник и историк искусства Александр Бенуа, философ Борис Вышеславцев. Список далеко не исчерпывающий. Другая часть политически активной эмиграции стояла на оборонческих позициях, если не позабыв, то на время спрятав свои разногласия с советской властью. Немало эмигрантов приняло участие в движении Сопротивления.
Эмигрантский «пейзаж» после освобождения Франции выглядел не слишком радостно: численность эмиграции существенно сократилась, а моральный кредит заметно упал. В нацистских лагерях погибли сотни русских евреев-эмигрантов; сотни эмигрантов покинули страну. Немало видных деятелей эмиграции разной политической ориентации умерли в годы войны по естественным причинам, в том числе лидер либералов П.Н. Милюков, <...> писатель Д.С. Мережковский и многие другие3.
Если в межвоенную эпоху, несмотря на политические антагонизмы и расслоения, острые споры и дискуссии, конфликты и раздоры, внутри беженской русской интеллигенции все-таки сохранялось понятие общности и единства судьбы, принадлежности (со всеми разумеющимися поправками и оттенками, партийными и индивидуальными вариациями) к одному антибольшевистскому лагерю, то послевоенная реальность привела к полной и окончательной идеологической поляризации. «Пробным камнем», как и в прошлые годы, было отношение к Советскому Союзу, но теперь само это отношение приобрело крайне амбивалентный характер. С одной стороны, в СССР видели страну-участницу антигитлеровской коалиции, сыгравшую столь важную роль в разгроме нацизма, с другой — оплот тоталитарного режима и угрозу для западных демократий4.
В 1945 году перед русскими изгнанниками-«оборонцами» встал вопрос о смысле существования эмиграции: если они оказались по одну сторону с советской властью, не пора ли если не признать ее правоту, то поискать точки соприкосновения? <...>
В этом отношении знаменательным событием в жизни парижской эмигрантской колонии был <...> визит группы писателей и общественных деятелей в советское посольство. <...> Посольство 12 февраля 1945 г. посетили девять человек. Два адмирала, бывший командующий Балтийским флотом и военно-морской министр Временного правительства Д.Н. Вердеревский и М. А. Кедров, в 1920 г. командующий флотом и начальник морского управления в правительстве П.Н. Врангеля, были приглашены по настоянию посла. Кроме них, были В.А. Маклаков, A. С. Альперин, А.А. Титов, М.М. Тер-Погосян, Е.Ф. Роговский, B.Е. Татаринов и А.Ф. Ступницкий5.
Прием прошел в приподнятой и весьма дружелюбной обстановке. Однако в эмигрантской среде затем начались жаркие дискуссии на тему «Что делать?» и «Как в нынешних условиях бытия позиционировать себя по отношению к Москве?», сопровождавшиеся ссорами, громкими скандалами и взаимными обвинениями. Даже всегда дистанцирующийся от эмигрантских «разборок» аполитичный:
...В. В. Набоков отправил В. М. Зензинову текст, который тот не без оснований назвал стихотворением в прозе. <...>
Остается набросать квалификацию эмиграции.
Я различаю пять главных разрядов.
Люди обывательского толка, которые невзлюбили большевиков за то, что те у них отобрали землицу, денежки, двенадцать ильфпетровских стульев.
Люди, мечтающие о погромах и румяном царе. Эти обретаются теперь с советами, считаю, что чуют в советском союзе Советский союз русского народа.
Дураки.
Люди, которые попали за границу по инерции, пошляки и карьеристы, которые преследуют только свою выгоду и служат с легким сердцем любым господам.
Люди порядочные и свободолюбивые, старая гвардия русской интеллигенции, которая непоколебимо презирает насилие над словом, над мыслью, над правдой6.
21 июня 1946 г. был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции».
На фоне патриотического энтузиазма, охватившего русское Зарубежье, Родина-мать, преследуя сугубо пропагандистские цели, усиленно подогревала примиренческие настроения. 28 июля в православном храме Парижа митрополит Евлогий отслужил молебен и произнес проповедь, в которой были такие слова: «Это день соединения нашего с великим русским народом!» Он первым из эмигрантов получил «молоткастый, серпастый» паспорт из рук советского посла А. Богомолова. Не менее символично, что вскоре после получения советского гражданства владыка Евлогий скончался — 8 августа 1946 г.; его распоряжение служить благодарственные молебны Советам было воспринято основной частью прихожан и клира резко отрицательно и в большинстве приходов игнорировалось.
На пике послевоенного просоветского энтузиазма 1945-1947 гг. в СССР репатриировались около двух тысяч эмигрантов, главным образом, из Франции. Это были люди, все или почти все простившие большевикам за победу в войне, до крайности обнищавшие и наивно убедившие себя, будто их мечты сбылись, раз на плечи советских генералов вернулись прежние золотые погоны.
Надежды на «примирение» не обошли стороной и чету Буниных. Пожилые супруги, измученные хроническим безденежьем, находились в отчаянном положении. Они окончательно превратились в просителей, постоянно взыскующих о вспомоществовании на те или иные житейские нужды. Оттого примиренческий «зов Родины» при всем неприятии ее рабоче-крестьянской деспотии звучал для них так же заманчиво, как и для большинства эмигрантов.
Более того, Родина, верховный правитель которой высоко ценил писательский талант единственного в то время русского лауреата Нобелевской премии, всячески подогревала стремление Бунина вернуться «домой». Советский посол во Франции Александр Богомолов настойчиво демонстрировал интерес к личности престарелого писателя7: приглашал на приемы, организуемые посольством для русских парижан, посвященных разъяснению Указа от 14 июня 1946 г., знакомил с командированными в Париж советскими придворными литераторами, в числе которых был специально присланный из Москвы Константин Симонов:
В своих записках «Глазами человека моего поколения», надиктованных за несколько месяцев до смерти, Симонов говорит, что с постановкой вопроса о возможности возвращения Бунина в Россию впервые столкнулся летом 1946-го во Франции. Послом во Франции тогда был Богомолов, который, кстати, и устанавливал уже прежде контакты с Буниным, не приведшие, как рассказывал Симонов, к успеху8.
Симонов утверждает, что был послан в Париж по личному указанию Сталина. «Я не знал деталей, но знал, что контакты с Буниным, которого хотели вернуть в Россию, уже устанавливались прежде, но ни к чему не привели. А теперь ожидалось, что у меня сложится успешнее».
<...> в Кремле <пришли> к мысли, что надо бы отрядить в Париж молодого, знаменитого, дворянских кровей, княжеского рода, боевого офицера, лауреата, поэта, — классический, по сути хрестоматийный для отечественной истории тип барда, — у которого много больше шансов обольстить строптивого своего коллегу по цеху изящной словесности и склонить к возвращению в родные Пенаты9.
Симонов явно понравился Буниным, но дальше этого дело не пошло.
Перед моим отъездом в Москву Бунин просил уладить кое-какие дела с Гослитиздатом. Настроение у него держалось прежнее. До меня доходило, что Алданов сильно накручивал его против большевиков. Но старик все-таки не уклонялся от разговора. Видно, оставалось чувство недосказанного, незавершенного. Когда я воротился в Москву <...> как раз взяли в оборот Зощенко с Ахматовой, так что Бунин отпал само собою.
<...> Нет <...> в Россию он не вернулся бы. Это чепуха, что Бунин пересмотрел позицию, ничего он не пересмотрел10.
Бунин действительно ничего не пересмотрел. Да, он откликнулся на приглашение посла Богомолова, прибыл в советское посольство и имел с ним беседу, в ходе которой обсуждался вопрос его возвращения в СССР — поступок немыслимый для «довоенного Бунина»11, но здравый смысл быстро возобладал в нем над искусительным «зовом Родины».
В письме от 3 марта 1945 г. Бунин писал Я.Б. Полонскому, с которым после войны очень сблизился:
Вы <...> знаете, что еще давным-давно меня три раза приглашали «домой» — в последний раз через А.Н. Толстого (смертью которого я действительно огорчен ужасно — талант его, при всей своей пестроте, был все-таки редкий!) Теперь я не отказываюсь от мысли поехать, но только не сейчас и только при известных условиях: если это будет похоже на мышеловку, из которой уже не дадут воли выскакивать куда мне захочется, — слуга покорный!12
Бунин был не только крупнейший русский писатель XX в., живший в эмиграции, но и человек с ничем не запятнанной репутацией. К его мнению прислушивались, на него равнялись. Что же касается вопроса «о возвращении», остро стоявшего в русском Зарубежье в первые послевоенные годы, то он относился к числу людей, которых от своего имени следующим образом охарактеризовал В.С. Варшавский — впоследствии автор знаменитой книги «Незамеченное поколение» (1956):
Да, я принадлежу к числу тех, кто не берет советского паспорта. Но сказать, что я не думаю о возвращении в Россию, я не могу. Наоборот, я постоянно и много думаю об этом, и мне пришлось пережить тяжелую и трагически безвыходную внутреннюю борьбу. Наше положение писателей, остающихся в эмиграции, так безнадежно, что меня охватывает отчаянье. И все-таки я не беру паспорта, хотя я и не принадлежу к эмигрантам, ставшим равнодушными к судьбе русского народа13.
В силу означенных обстоятельств любые шаги, предпринимаемые Буниным в ответ на жесты советского начальства, однозначно истолковывались в кругах русской эмиграции как политические акции. Особенно жестко реагировали «непримиримые антибольшевики», группировавшиеся вокруг газеты «Русская мысль», совсем недавно еще числившиеся друзьями и единомышленниками (Б. Зайцев, М. Цетлина, Ф. Зеелер, С. Яблоновский14).
Вот выдержки из его писем к Алданову за 1946-1947 гг.:
23 января 1946
<...> Визиту моему <в советское посольство> придано до смешного большое значение: был приглашен, отказаться не мог, поехал, никаких целей не преследуя, вернулся через час домой — и все... Ехать «домой» не собирался и не собираюсь15. <...>
Открытка мне от Телешова из Москвы: «Государств<енное> издательство печатает твою книгу избранных произв<едений>. Листов в 25».
Это такой ужас, которому имени нет! Ведь я еще жив! Но вот, без спросу, не советуясь со мной, — выбирая по своему вкусу, беря старые тексты... Дикий разбой! <...>16.
15 сентября 1947
Нынче письмо от Телешова — писал вечером 7-го сент<ября>, очень взволнованный (искренно или притворно, не знаю) дневными торжествами и вечерними электрическими чудесами в Москве по случаю ее 8оо-летия в этот день. Пишет, между прочим, так: «Так все красиво, так изумительно прекрасно и трогательно, что хочется написать тебе об этом, чтобы почувствовал ты хоть на минуту, что значит быть на родине. Как жаль, что ты не использовал тот срок, когда набрана была твоя большая книга, когда тебя так ждали здесь, когда ты мог бы быть и сыт по горло, и богат, и в таком большом почете!» Прочитав это, я целый час рвал на себе волосы. А потом сразу успокоился, вспомнив, что могло бы быть мне вместо сытости, богатства и почета от Жданова и Фадеева, который, кажется, не меньший мерзавец, чем Жданов. <...>
Р. Б. В Москве ставят памятник Юрию Долгорукову. А Павла Дм<итриевича> Долгорук<ова> расстреляли в июле 27 г., а Петра увезли из Праги — куда? (в 45 г.)17.
Сергей Яблоновский — старый приятель Бунина — опубликовал в газете «Русская мысль» от 1о ноября 1948 г. фельетон с подзаголовком «Ему, Великому». В нем «злобно и непристойно высмеивался Бунин»18. Чуть позже в этой же газете он объяснял, что поводом для написания этого «памфлета» стало то, что «Бунин изменил своим политическим убеждениям»19.
Бунин тяжело переживал ситуацию, в которой он сделался мишенью для нападок со стороны бывших друзей и соратников:
— Слыхали, конечно слыхали — травят меня! Со свету сживают! Я, видите ли, большевикам продался. В посольстве советском за Сталина водку пил, икру жрал! А я, как только посол предложил тост за Сталина, сразу поставил рюмку на стол и положил бутерброд. Только успел надкусить его. Не стал я есть их икру и пить их водку. Это все гнусные сплетни, выдумки20.
Затем последовал новый скандал, поводом для которого послужил отказ Бунина и его «команды» от членства в парижском Союзе русских писателей и журналистов (СПиЖ), который, считая себя сугубо эмигрантской организацией, постановил, что в нем не могут состоять лица, имеющие советское гражданство21. 24 мая 1947 г. секретарь Союза (и один из его организаторов В.Ф. Зеелер) предложил «исключить из Союза всех членов его, имеющих советское гражданство». <...>
Против Зеелера выступили В.Н. Бунина, Л. Зуров, В. Варшавский и др. из числа не принявших советское гражданство. «За» исключение в результате проголосовала половина: 26 человек («против» 24, двое воздержались). По уставу, для исключения из Союза нужно было набрать 2/3 голосов, но руководство Союза в данном случае сочло достаточным принятие решения «простым большинством» (тоже сомнительным). Вслед за этим, чтобы соблюсти формальности, на собрании 22 ноября 1947 г., когда председателем был избран, после смерти П.Н. Милюкова, Борис Зайцев, поддержавший предложение Зеелера, в устав были внесены изменения, узаконившие принятое решение. После чего из Союза вышли Г. Адамович, В. Андреев, А. Бахрах, В. Бунина, В. Варшавский, Г. Газданов, Л. Зуров, А. Ладинский, Ю. Терапиано, Н. Тэффи... Вскоре, 11 декабря, оставил Союз Бунин22.
Старый друг Бунина Борис Зайцев23 сообщал по этому поводу М.С. Цетлиной 20 декабря 1947 г.:
...на общем собрании Союза нашего24 прошло большинством двух третей голосов (даже более) добавление к Уставу: советские граждане не могут теперь быть членами нашего Союза. Это вызвало некоторый раскол. С собрания ушли 14 человек в виде протеста, среди них Сирин, Зуров25 и Вера Бунина. Позже еще <и другие — М.У.> к ним присоединились — в общем мы приняли 25 отказов. Среди ушедших оказался и Иван Бунин. Единственно это было для меня тягостно — за него. Ночь я не спал. Считал: действие его — предательством — мне26.
Формальным поводом для ухода Бунина из Союза послужило выдвинутое им обвинение нескольким членов Союза в сотрудничестве с нацистами. Как вспоминал Борис Зайцев,
В эмиграции в это время начался разброд. «Большие надежды» на восток, церковные колебания, колебания в литературном, даже военном слое. Все это привело к расколу. Некоторые просто взяли советские паспорта и уехали на этот восток. Другие заняли позицию промежуточную («попутчики»).
Странным образом мы оказались с Иваном в разных лагерях — хотя он был гораздо бешенее меня <в своем неприятии Советов — М.У.> в этом (да таким, по существу, и остался...). Теперь сделал некоторые неосторожные шаги. Это вызвало резкие статьи в издании, к которому близко я стоял. Он понял дело так, что я веду какую-то закулисно-враждебную линию, а я был именно «против» таких статей. Но Иваново окружение тогдашнее и мое оказались тоже разными, и Ивану я «не» сочувствовал. Прямых объяснений не произошло, но он понимал, что я «против»27.
Под: Иваново окружение тогдашнее и мое оказались тоже разными, — следует, видимо, понимать две основные послевоенные группы парижских эмигрантов — сочувственно относившихся к СССР как к стране, победившей фашизм, и выступавших против любых контактов с Советами, исходя из принципа «от худого семени не жди доброго племени».
Печатным органом послевоенных «обновленцев» являлась поддерживаемая французским и советским правительством28 газета «Русские новости» (1945-1970), первый редактор и основатель которой А.Ф. Ступницкий29 был в свое время правой рукой Милюкова, а сотрудниками — ведущие некогда авторы газеты «Последние новости» — Г. Адамович,
А. Бахрах, И. Бунин, А. Даманская, Л. Зуров, Н. Кодрянская, Н. Рощин, В. Татаринов, Н. Тэффи, А. Ремизов и др. — по сути, все первые имена эмигрантской литературы.
На фоне бытовавших в эмиграции просоветских и репатриантских настроений «непримиримыми», в противовес «Русским новостям», была основана газета «Русская мысль» (1947-2000), первый редактор и один из ее основателей которой В.А. Лазаревский 3 мая 1947 г. в своей редакционной статье так выразил морально-политическое кредо «Русской мысли»: «Смирение перед Россией, непримиримость к советчине»30.
В первые годы своего существования «Русская мысль» предоставляла свои страницы в основном литераторам, сотрудничавшим до войны в гукасовском «Возрождении» — Б. Зайцев, В. Зеелер, С. Яблоновский, И. Шмелев, Г. Иванов, И. Одоевцева и др., закрепив таким образом новое идеологическое размежевание эмигрантского сообщества.
Обе стороны конфликта апеллировали к «третьей стороне» — заокеанским друзьям из «Нового журнала» и газеты «Новое русское слово». Редколлегия «Нового журнала», издававшегося на средства М.С. Цетлиной, которую Бунин называл даже «как бы хозяйкой журнала»31, по-видимому, демонстрировала «понимание» непримиримо антисоветской линии Правления парижского СПиЖ. В свою очередь, редакция «Нового русского слова» явно держала сторону Бунина и тех, кто вышел из этой организации. Это был весь цвет русской эмигрантской литературы. Однако, в общем и целом, оба американских эмигрантских издания деликатно соблюдали нейтралитет, стараясь не раздувать конфликт, который по мере нарастания волны репрессий в СССР затух сам по себе. К началу 1950-х «Русская мысль» превратится в наиболее авторитетную газету западноевропейской эмиграции, которая будет подробно писать о набирающем силу движении инакомыслия в Советской России, регулярно печатать самиздатовские материалы, организовывать кампании протеста против репрессий и т.д. Продолжая лучшие традиции русской прогрессивной печати, очень скоро «Русская мысль» становится одной из самых интересных и важных газет русского Зарубежья. Общекультурная часть газеты, включающая в себя отделы, посвященные литературе, живописи, музыке, театру, науке, духовно-философским течениям, пользовалась особым вниманием редакции «Русской мысли» с первых ее номеров. Отведенная вначале для культуры страница «Литература и искусство» со временем не могла уже вмещать все материалы о культурной жизни и вскоре стала занимать едва ли не половину всего объема газеты. «...Каждая статья, каждый отчет, каждое литературное произведение, помещенное в отделе “Литература и искусство” находят своего читателя, что-то прибавляют, что-то изменяют в его повседневной жизни, и поэтому — на первый взгляд второстепенное дело для зарубежной политической газеты — ее культурный отдел, — превращается в первостепенное», — писал в статье «К десятилетию «Русской мысли»» Ю. Терапиано (27 апреля 1957 г.). Почти все писатели, поэты, эссеисты и философы Русского Зарубежья <в том числе и бывшие «идейные враги»: Адамович, Ремизов, Бахрах, Татаринов... — М.У.> в течение многих лет работали в этом отделе32.
Итак, в конце 1940-х в парижском эмигрантском литературном сообществе схлестнулись два враждебных друг другу лагеря. В YIVO-архиве И.М. Троцкого сохранилось письмо Н.В. Кодрянской от 23 июля 1948 г., адресованное Я.Г. Фрумкину, — человеку в литературном мире известному и весьма авторитетному (член Правления Литфонда, Председатель нью-йоркского Союза русских евреев), но не считавшемуся литератором и по этой причине являвшемуся как бы фигурой нейтральной. Н.В. Кодрянская пишет по поводу раскола в парижском СПиЖ:
Дорогой Григорий Яковлевич,
Посылаю Вам третье письмо с документами по поводу И.А. Бунина, М.А. Алданова и меня. Очень Вас прошу дать прочесть прилагаемое письмо Якову Моисеевичу Цвибаку <А. Седых — М.У.> и попросить его оказать мне услугу и сообщить, кто из прилагаемых членов коллаборанты. Мы, сотрудничающие с Обществом Пис<ателей> и Журн<алистов> в Париже, непременно хотим знать, является ли это обвинение клеветой (как утверждают гг. Зайцев и Зеелер — председатель и генеральный секретарь парижского союза) или гг. Бунин (Вера Ник<олаевна> это утверждала в письме ко мне) М. Алданов и Я.М. Цвибак не ошибаются, а правы.
Письмо это пишу по собственной инициативе, но доложу о нем собранию исполните<льного>бюро Аит<ературного>фонда, которое соберется в ближайший понедельник. <...> хотела бы к этому дню иметь от Вас ответ, если это возможно, по поводу мнения Якова Моисеевича, если это Вас не затруднит.
Всего лучшего.
Ваша Кодрянская
К письму прилагается список литераторов, вышедших из СПиЖ, всего 21 человек:
«Вадим Андреев (сын Леонида Андреева), Вера Николаевна Бунина, Владимир Варшавский, Анатолий Величковский, А. Даманская, Александр Гингер, Леонид Зуров, Довид Кнут, Анатолий Ладинский, Сергей Маковский, Корвин-Пиотровский, Кирилл Померанцев, София Прегель, Анна Присманова, Георгий Раевский, Алексей Ремизов, Марк Слоним, Юрий Трубецкой, князь Василий Сумбатов, Князь Эристов33, Лидия Червинская».
Как мы видели, к этому перечню можно добавить Георгия Адамовича, Александра Бахраха, Гайто Газданова, Юрия Терапиано и Надежду Тэффи. Со своей стороны, зачинщик «смуты» генеральный секретарь СРПиЖ Владимир Феофилович Зеелер посылает в Нью-Йорк не менее авторитетному в эмигрантских кругах «добрейшему Борису Ивановичу <Николаевскому> пространное письмо» со «Списком членов союза русских писателей и журналистов в Париже» — всего 105 фамилий.
Хотя в свое время я список членов Союза послал в ЛИТФОНД — таковой, вероятно, имеется в делах Фонда, но ныне посылаю список «уже очищенный», после того, как ряд членов — советских граждан и попутчиков их, вышли из Союза, а часть вновь принята в Союз, которых нет, естественно, в прежнем списке.
Почитаю своим долгом добавить еще несколько слов к сведению Правления Литфонда. До сих пор советская пресса в лице «Русских новостей» не перестает клеветать на наш Союз: у нас остались «коллаборанты» <так>, «Союз распался», «Союза нет» и т.д. Мало того, в Союзе нет ни писателей, ни журналистов. Все это лганье нас мало трогает. Мы продолжаем вести нашу работу во всех направлениях. Но вот что не может не трогать нас: из Америки я получил не одно, а уже повторное подтверждение того, что «Бунин вышел из Союза якобы именно из-за того, что там пребывают коллаборанты»... Кто из нас коллаборант не указывается.
Далее В.Ф. Зеелер сообщает, что в коллаборационизме прямо обвиняется Василий Васильевич Полянский, служивший у немцев переводчиком, — конечно из-за куска хлеба <...>. Насколько он сочувствовал немцам вообще — лучшим доказательством служат его повторные допросы в Гестапо, которое получало сведения о его нелояльном отношении к немцам. Никогда никакой формы он не носил. Тотчас по освобождении вернулся в Париж. Был привлечен французскими властями к ответу за свою службу у немцев и, по выяснению дела, не был привлечен к ответственности. Дело за отсутствием каких-либо данных было прекращено производством. <...> Знаю его много лет как в высокой степени честного, порядочного и чистого человека, в его политических антипатиях к Гитлеру и к Советам не сомневаюсь. Это все. А между тем клевета проникает и в Америку. Есть люди, которые в своих поисках до сих пор не могут успокоиться, до сих пор продолжают доносительствовать. Особенно старается Ступницкий34 и его окружение. Ну — это его метье35. А вот, что Бунин сам мне писал по поводу выхода:
«Дорогой Вл. Ф. Уже много лет не имея возможности по разным причинам участвовать в деятельности Союза Р. П. и Ж. в Париже, я вынужден — исключительно в силу этого обстоятельства — сложить с себя звание Почетного члена его и вообще выйти из его состава. Сделайте одолжение, передать Союзу мое заявление и примите уверение в моих добрых чувствах к Вам». Подпись: Ив. Бунин36.
Или Бунин писал мне неправду, или сейчас вкладывается в его действия неправда. Буду писать и ему. Пора кончать с клеветой.
Среди личных писем И.А. Бунина к И.М. Троцкому 1939-1953 гг. в архиве YIVO хранится и машинописная копия открытого письма В.Ф. Зеелера от 8 февраля 1948 г. В нем Зеелер аргументировано обвиняет Бунина в искажении фактов и «откровенной клевете» в опубликованном в «Новом русском слове» письме Бунина от 30 декабря 1948 г. (где объяснял причины своего разрыва с СРПиЖ, в котором состоял с 1921 г. и был его первым председателем). В.Ф. Зеелер заявляет:
Вы пишете, что «Союз исключил из своей среды лиц, взявших советские паспорта» — первая неправда. Члены Союза, советские граждане, ушли сами из Союза до постановления Общего собрания о дополнении устава, что Союз — эмигрантская организация, в которой не могут быть членами советские граждане.
Зеелер требует от Бунина доказательств того, будто многие члены СРПиЖ «были к тому же в свое время большими поклонниками Гитлера»:
Эту клевету мы слышим давно, читаем о ней время от времени в советской парижской газете37. С ней мы не считаемся: это ее долг и обязанности, но Вы, Иван Алексеевич, должны быть ответственны за такое опорочивание доброго имени членов Союза. А потому Вы должны назвать имена поклонников. Сделать это Вы обязаны. <...> Опять-таки благоволите указать, кто тотчас пустил слух <...>, что Вы своим выходом хотел<и> поддержать советских подданных. <...> Вы не удержались от четвертой неправды, сообщив в Вашем письме, что иные (из этой кучки) во главе с В.К. Зайцевым, председательствующим в Союзе, послали сообщение такого рода даже в Нью-Йорк, в Новый журнал. Редактор Нов<ого> Ж<урнала>, профессор Карпович письмом в редакцию Н<ового> Р<усского> С<лова> опроверг это сообщение Ваше, назвав Вашу неправду неправильной информацией. Никогда он такого письма от Зайцева, конечно, не получал.
Кроме того, В.Ф. Зеелер привел в качестве приложения текст письма Бунина на его имя от 7 декабря 1947 г., в котором тот объясняет свой выход из СРПиЖ и сложения с себя звания его почетного члена «сугубо личными обстоятельствами» — см. выше его письмо к Б.И. Николаевскому.
В письме к другому адресату38 Бунин указывал иные причины своего выхода из Союза:
Недели через две после этого я тоже покинул Союз, но единолично и, как явствует из предыдущего, не потому, что тоже решил протестовать, а в силу того, что мне не хотелось оставаться почетным членом Союза, превратившегося в союз кучки сотрудников парижской газеты «Русская мысль»...39
На фоне настроений массовой раздачи «красных паспортов», репатриации в СССР и скандалов, связанных с публикациями в новой парижской эмигрантской газете «Советский патриот», издававшейся на деньги Москвы, страсти накалились до предела. В глазах многих Бунин стал выглядеть чуть ли не большевиком. Мария Самойловна Цетлина, старинный друг семьи Буниных, написала ему резкое письмо, в котором речь шла о полном разрыве:
...Вы ушли в официальном порядке из Союза писателей с теми, кто взяли советские паспорта. Вы нанесли этим очень большой удар и вред всем, которые из двух существующих Россий признают только ту, которая в концентрационных лагерях, и не могут взять даже советского паспорта. Я должна уйти от Вас, чтобы чуть-чуть уменьшить Ваш удар. У Вас есть Ваш жизненный путь, который Вас к этому привел. Я Вам не судья. Я отрываюсь от Вас с очень глубокой для меня болью, и эта боль навсегда останется со мной40.
Это свое частное письмо к И. Бунину, носившее сугубо эмоциональный характер, Цетлина (благодаря необдуманной, по всей видимости, активности Б.К. Зайцева), сделала известным очень многим лицам, как в Америке, так и в Париже.
Супруги Цетлины дружили с Иваном Алексеевичем и Верой Николаевной Буниными с ноября 1917 г., когда они все вместе оказались в сотрясаемой бурей революции Одессе41:
<...> по приезде в Париж Бунины сразу поселились в огромной цетлинской квартире на rue Faisanderie, где прожили два месяца, пока не подыскали собственной. <...> дом Цетлиных, как и в Москве, <...> стал литературно-политическим салоном, о котором Б.К. Зайцев вспоминал: «Тут можно было встретить Милюкова и Керенского, Бунина, Алданова, Авксентьева, Бунакова, Руднева... позже и Сирина <...>
Семья Цетлиных славилась своим гостеприимством, здесь находили пристанище, тепло и радушный прием все те, кому негде было жить и не на что есть. Редкий вечер обходился без встреч и литературных чтений, один за другим происходили в салоне Цетлиных вечера Бунина, Бальмонта, Тэффи (со сбором средств в пользу писателей), чествование балерины Карсавиной. Эта пора — начало 20-х годов — была и временем наибольшей близости между Буниными и Цетлиными. 4 июля 1922 г.
М.С. Цетлина присутствует в мэрии на бракосочетании И.А. и В.Н. Буниных42.
Люди материально весьма обеспеченные, Цетлины слыли в эмиграции меценатами и благотворителями. Ходили слухи, что Мария Самойловна Цетлина посылала Буниным из Америки огромные суммы. По-видимому, на этом основании Алданов в письме Бунину от 22 мая 1948 г.43 делает шутливые подсчеты:
Вчера один богатый человек (Атран, чулочный король) выразил в разговоре со мной желание поднести Вам в дар в знак того, что он Ваш поклонник, двадцать тысяч франков. К счастью с одной стороны, к сожалению с другой, деньги он хочет уплатить Вам из своих парижских капиталов. К счастью, это потому, что мне обидно переводить Вам деньги по официальному курсу: банки платят 295, да еще берут, естественно, комиссию; между тем, оказия, вроде Кодрянской (очень ей кланяемся), бывает нечасто. Но есть и «к сожалению»: если бы он тут же выдал чек на эти 66 долларов (20.000), то я был бы совершенно спокоен, а так, боюсь, дело может немного и затянуться. Правда, он твердо обещал мне, что сегодня напишет своей парижской конторе распоряжение выплатить Вам 20.000. Он при мне под мою диктовку по буквам записал Ваш адрес. Если Вы, скажем, недели через две еще этих денег не получите, дайте мне знать: я опять у него побываю. Если к этим 66 долл<арам> добавить 50 от Гутнера и 50 от Литер<атурного> Фонда, то выйдет, что Ваш убыток от ссоры с Марьей Самойлов-ной, которая ежегодно переводила Вам двадцать тысяч долларов своих денег, составляет в этом году уже не 20.000 долларов, а только 19.834. Мы с Цвибаком все «ищем женщину», т.е. богатую даму, которая устроит бридж в Вашу пользу. Это не так легко. Увы, «арийские» дамы ни для кого этих дел делать не хотят44, а еврейки теперь поглощены палестинскими сборами. И все-таки я думаю, что мы это дело сделаем.
Сам Бунин в эти годы категорически отрицал, что Марья Самойловна Цетлина оказывала ему когда-либо значительную
финансовую помощь. Так, по сообщению С.Н. Морозова, в Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына в Москве хранится неопубликованное письмо И. Бунина к Б.Г. Пантелеймонову от 12 января 1948 г., в котором он говорит: «Клянусь дворянским словом: от М.С. <Цетлиной> я никогда не имел ни гроша помощи . От прочих американцев — иногда». Несколькими неделями позже в письме к тому же Борису Зайцеву он следующим образом комментировал сложившуюся ситуацию45:
29 января 1948
Дорогой Борис, ты пишешь: «Все выходит, что ты отделению эмигрантов от советских сочувствуешь... а от нас ушел. Не понимаю...» Но я уже объяснял тебе, почему ушел, — не желаю нести все-таки некоторой ответственности — в глазах «общественности» — за Ваши «бури» и решения. Затем: «Ты, по-видимому, думаешь, что на письмо М. С-ны <Марьи Самойловны> к тебе есть доля моего влияния. Это совершенно неверно». <...> — но что меня действительно взбесило <...>: оказывается, в Париже пресерьезно многие думали <...> — что мне от М. С-ны и при ее участии от «всей» Америки просто золотые реки текли и что теперь им конец и я погиб! Более дикой х...ы и вообразить себе невозможно! Как все, и даже меньше других, я получал от частных лиц обычные посылочки, получал кое-какие от Литературного фонда <...>, больше всего получал от Марка Александровича, а что до долларов, то тут М. С-на была только моим «кассиром»: в ее «кассу» поступало то (чрезвычайно скудное), что мне причиталось за мои рассказы в «Новом журнале», поступало то, что было собрано (и весьма, весьма не густо!) в дни моего 75-летия при продаже издания брошюркой моего «Речного трактира», и еще кое-какие маленькие случайные, крайне редкие пожертвования кое от кого: вот и все, все! Теперь мне «бойкот»! Опять ерунда, х...а! Доллары уже прожиты, о новых я и не мечтал, а посылочки, верно, будут, будет в них и горох чечевица, за которую я, однако, «первородство» не продавал и не продам.
Твой Ив.
P.S. Телеграммой от 7-го января М. С. обещала дать «explication»46 на мой ответ ей. А доныне молчит.
Молчание Марии Самойловны, действительно, трудно объяснить, поскольку сам И. Бунин, человек весьма вспыльчивый и резкий в конфликтных ситуациях, ответил ей 1 февраля 1948 г. на удивление очень спокойным письмом, в котором выражал как сожаление по поводу случившегося, так и недоумение:
Я отверг все московские золотые горы, которые предлагали мне, взял десятилетний эмигрантский паспорт — и вот вдруг: «Вы с теми, кто взяли советские паспорта... Я порываю с Вами всяческие отношения...» Спасибо47.
Исключительно уважительным и примирительным по тону было и помеченное тем же числом письмо Веры Николаевны Муромцевой-Буниной, в котором она писала, что «после тридцатилетних дружеских отношений» и «такой заботы и доброты» по отношению к ней со стороны Цетлиной, та, несомненно, должна была бы сначала запросить <их> о причинах ухода, а потом уже вынесла бы свой приговор, если таковой уж так необходим. Мы живем, как жили. Ничего нового с нами не произошло. И как были эмигрантами, так и остались, ни на какие приманки никуда не пошли.
Но лишить меня права быть в том или другом союзе никто не может48.
И все же сама по себе обстановка всеобщей нервозности, разброда и шатания, царившая, как уже говорилось, в русском Зарубежье в первые годы после окончания войны, порождала как ложные слухи, так и устойчивые опасения на счет даже старых и, казалось бы, проверенных друзей. Потому голос Бунина, а он не раз объяснял причину своего ухода из Союза, не только в частной переписке, но и официально через газеты, никто не желал услышать, хотя, похоже, сама Мария Самойловна позднее сожалела о случившемся49.
В контексте же темы «Друзья Бунина» можно с сожалением констатировать, что к концу 1950-х наиболее близкий и к Бунину круг, состоящий из четырех друзей50, связанных между собой более чем тридцатилетними узами духовной близости, распался. Амари умер, Борис Зайцев и Мария Цетлина дистанцировались от Буниных, и их отношения стали весьма натянутыми.
И только Марк Алданов, несмотря на все парижские склоки и свою личную антисоветскую непримиримость, твердо держал сторону Бунина. Он для себя давно сделал вывод, что больше всего надо держаться за «принципиальность» и хранить ту самую «чистоту политических риз», над которой принято насмехаться у наших великих политиков51, — и, не желая ни на йоту отступать от этой позиции, посчитал своим долгом в сложившейся вокруг Бунина ситуации уйти из созданного им в 1942 г. совместно с Цетлиными нью-йоркского «Нового журнала»52:
...позвольте Вам сказать (хотя это всем совершенно ясно и не может не быть ясно), что финансовые расчеты не имели и не имеют ни малейшего отношения ни к моему уходу из «Н. Журнала», ни к прекращению наших давних дружеских отношений. <...> единственной причиной было Ваше письмо к Бунину, — Вы это знаете. <...> Бунин был вместе со мной инициатором «Нового Журнала». <...> Он был также и самым ценным и знаменитым из его сотрудников... Вы сочли возможным написать ему то письмо. Сочли возможным, даже не запросив его, в чем дело, почему он ушел из парижского Союза, — вещь совершенно неслыханная, Ваше действие после 30 лет дружбы. Это письмо Вы послали открытым по адресу Зайцева, под предлогом, что адреса Ивана Алексеевича в Жуанле-Пэн не знали (почта, однако, письма пересылает). Мой адрес Вы во всяком случае знали... Письмо Ваше было для Бунина оскорбительным. Оно было причиной его ухода из «Нового Журнала». Бунин тотчас объявил мне, что из «Нового Журнала» уходит. Таким образом, ушел и я. Я грубо солгал бы Вам, если бы сказал, что после такого Вашего действия в отношении моего лучшего друга Бунина (а косвенно и в отношении меня) наши с Вами отношения могли бы остаться хотя бы только близкими к прежним...
К началу 1950-х — после «ждановщины», которая отрезвила колеблющихся литераторов-эмигрантов, эмоциональные разборки первых послевоенных лет потеряли свою остроту, и место вспыхнувших было симпатий к СССР вновь заступил антисоветизм. Что же касается самого Бунина, то оказавшись в ссоре со многими своими сотоварищами из литературного лагеря, он по-прежнему пользовался огромным моральным авторитетом в эмигрантской среде.
Марк Алданов, верный друг и опекун Ивана Бунина, в своем первом за долгие годы и конфиденциальном — как он подчеркивает, письме к секретарю нью-йоркского Литфонда Илье Марковичу Троцкому — их общему старому знакомому, в свое время лоббировавшему интересы писателя в Нобелевском комитете, сообщал:
16, avenue George Clemanceau, Nice, France 26 августа 1950
Дорогой Илья Маркович, Вас, вероятно, удивит это мое письмо: то мы с Вами годами не переписываемся и не видимся <...>, то от меня длинное письмо, да еще с большой просьбой. Просьба эта об И.А. Бунине. Он лежит в Париже тяжело больной. Боюсь, что он умирает. Я вчера получил от его жены Веры Николаевны письмо: три врача признали, что необходимо сделать ему серьезную операцию (мочевой пузырь). На ее вопрос, вынесет ли он такую операцию в свои 8о лет, при многих других болезнях, осложняющих одна другую, ответили, что гарантировать ничего не могут, но если операции не сделать, то он скоро умрет в сильных мучениях! Денег у них нет. Я от себя делаю что могу (иначе не имел бы и права обращаться к другим). Нобелевская премия за 16 лет проедена Буниным. Он всегда в эмиграции и зарабатывал мало, а в годы оккупации прожил остатки. Вел себя, как вы знаете, очень достойно, — не только ни одной строчки при Гитлере не напечатал, но и кормил и поил несколько лет других людей, в том числе одного писателя-еврея, который у него все эти годы жил.
Говоря про «одного писателя-еврея», Алданов имеет в виду литературного критика и мемуариста Александра Бахраха (см. раздел Гл. 5 «Спасенные Буниным»: Александр Бахрах и супруги Либерман»).
Обращаясь к Илье Троцкому, Алданов, без сомнения, знал, что его адресат «к обязанностям своим относился чрезвычайно добросовестно: через его руки проходили все письма о помощи, он составлял списки нуждающихся, он вел со многими литераторами, учеными, артистами постоянную переписку»53.
Будучи исключительно тактичным и щепетильным человеком, Алданов формулирует свою просьбу об оказании материальной помощи Бунину в очень осторожных по отношению к третьим лицам выражениях:
Я знаю (и мне как раз вчера сказала об этом А. Даманская54), что у Вас большие связи в еврейских кругах, в частности по Вашей организации55. В этой организации работает и мой старый друг Я.Г. Фрумкин, но он едва ли умеет собирать деньги, а Вы, быть может, умеете и, так же как он, пользуетесь там большим уважением. Если Вам удастся что-либо собрать, то лучше всего пошлите деньги прямо его жене <...>. Тогда скажите ей, что от меня узнали о тяжелом положении Ивана Алексеевича. Впрочем, можете послать и мне в Ниццу: я тотчас им переведу и сообщу, от кого деньги. Быть может, Вы хороши с Ханиным56? Он очень добрый хороший человек, большой культуры и отзывчивости. Писать ему бесполезно, — так как он завален делами. Но при личном обращении <...> он едва ли Вам откажет. Он знает и любит Бунина. <...> Простите, что пишу <...> только об этом: я очень расстроен. Шлю Вам сердечный привет и лучшие пожелания.
Ваш М. Ландау Алданов.
Алданов, конечно же, знал о многолетних дружеских отношениях между И.М. Троцким и Я.Г. Фрумкиным, завязавших-ся еще в России и продолжавшихся в эмиграции. Используя в качестве эвфемизма оборот «а Вы, быть может, умеете», Алданов дает понять, что он лично видит в Троцком истинного ходатая по делам русских писателей в изгнании. Именно таким людям, как И.М. Троцкий, а их в русском Зарубежье можно было буквально пересчитать по пальцам, известные артисты, ученые, общественные деятели, а также меценаты из среды «отзывчивого еврейства» — выражение М.А. Осоргина, — доверяли свои пожертвования, чтобы те могли их с толком и по справедливости распределить среди нуждающихся литераторов.
Без сомнения, и Я.Г. Фрумкин — председатель нью-йоркского Союза русских евреев, был из их числа (его имя всегда мелькает среди активистов, занимавшихся сбором помощи Бунину), но способности И. Троцкого на этом поприще, были, по-видимому, из ряда вон выходящими с точки зрения результативности, и Алданов на это обстоятельство намекает.
Через несколько дней, 27 августа 1950 г. Алданов считает необходимым дать И.М. Троцкому разъяснения по поводу обстановки, сложившейся с конца 1940-х в кругу бывших друзей и почитателей таланта Ивана Бунина:
Я позавчера Вам написал <...> и, конечно, не знаю, согласитесь ли Вы исполнить мою просьбу. Но на случай, если бы Вы любезно согласились, дополнительно сообщаю Вам то, о чем забыл сказать позавчера: Нельзя просить о Бунине М.С. Цетлину, так как они в ссоре, и это было бы Ивану Алексеевичу чрезвычайно неприятно. Нельзя также просить М.В. Вишняка, так как он Бунина ненавидит. И нельзя <...> просить знаменитого летчика Бор<иса> В. Сергиевского, так как я сам ему написал позавчера по этому делу <...>. Это второе мое письмо конфиденциально, — пожалуйста, никому о нем не говорите.
Примите мой сердечный привет. Ваш М. Алданов.
Отголоски страстей, кипевших в парижской эмигрантской литературной среде, долетали через океан в США57, и тот факт, что отношения между Буниными и Цетлиной с Вишняком окончательно испорчены, ни для кого не было секретом. Однако Алданов, тем не менее, считает необходимым известить об этом И.М. Троцкого. По всей видимости, он, имея представление о характере и моральных принципах Ильи Марковича, полагал, что его адресат, стоящий, в силу особенностей своего положения добытчика и распределителя материальной помощи над полем эмигрантских конфликтов и интриг, может просто-напросто не принять в расчет все «тонкие обстоятельства», связанные с именем И.А. Бунина. К тому же М. Алданов не знал, какую сторону держит И. Троцкий. Поэтому он излагает свою просьбу помочь Бунину в деликатно-вопросительной форме, оставаясь при этом как бы не вполне уверенным, что И. Троцкий откликнется на нее положительно.
Опасения Алданова были излишними, И.М. Троцкий без промедления выказал готовность подключиться к кампании помощи больному писателю. 15 сентября 1950 г. он пишет Буниной58:
Дорогая Вера Николаевна! Прочтя мою подпись, вероятно, вспомните и меня. Воскреснут перед Вами, быть может, и невозвратные стокгольмские дни, когда мы вместе праздновали получение Иваном Алексеевичем Нобелевской премии. Увы, много воды с тех пор утекло и много тяжкого пережито. Вчера, с трехнедельным запозданием, мне передали письмо М.А. Алданова, в котором он мне пишет о болезни Ивана Алексеевича. <...> я был осведомлен об операции, счастливо перенесенной Вашим мужем, но и только! О привходящих обстоятельствах <...> мне рассказало письмо Марка Александровича. Я тотчас же обратился к моему другу, мистеру Н. Ханину, вождю местного еврейского рабочего движения и горячему поклоннику таланта Ивана Алексеевича. Он мне вручил чек на 75 $59 <...>, которые спешу перевести. Нажал я кнопки и в других организациях, которые, надеюсь, откликнутся на мое обращение. Предполагаю в середине октября быть в Париже и не премину случая засвидетельствовать Вам и дорогому Ивану Алексеевичу свое уважение. <...>
Душевно Ваш И. Троцкий.
Через несколько дней, 20 сентября 1950 г., ИМ. Троцкий сообщает:
Дорогая Вера Николаевна! Вы, конечно, первый чек на 75 $ уже получили. Посылаю второй чек на 50 $ от Союза еврейских писателей в Нью-Йорке. Сейчас мне Андрей Седых сообщил, что он, со своей стороны посылает Вам 50 $. В ближайшие дни состоится заседание Литературного фонда, членом правления которого я состою, и там, конечно, будет принято надлежащие постановление. <...> Очень прошу передать <Ивану Алексеевичу — М.У.> мой сердечный привет и пожелания скорее возвратиться домой с восстановленными силами.
В надежде на скорое свидание, остаюсь искренне преданный
И. Троцкий.
В свою очередь, 19 сентября 1950 г. Вера Николаевна Бунина посылает И.М. Троцкому благодарственное письмо, в котором говорилось:
Дорогой Илья Маркович, Иван Алексеевич просил Вам передать сердечную благодарность за Вашу заботу о нем и сказать, что он всегда Вас вспоминает с неизменной любовью. Благодарю Вас и я со своей стороны. Ваша посылка очень кстати: завтра мы выписываемся из клиники, где операция и трехнедельное пребывание стоило нам совершенно непосильных трат. Мне пришлось повсюду занимать, чтобы все оплатить. <...> И<ван> А<лексеевич> собственно страдал от опухоли на простате с мая месяца, и по ошибке одного специалиста нужная операция не была сделана в июле. И какие страдания перенес в августе И<ван> А<лексеевич>! Слава богу, что хирург Дюбур60 успел сделать операцию и тем спасти И.А. от верной смерти. Передайте от нас большую благодарность мистеру Н. Ханину за чек в 75 долларов.
С благодарным приветом.
Душевно Ваша В. Бунина.
Практически одновременно И. Троцкий получает письмо и от М. Алданова, датированное 22 сентября 1950 г., в котором тот сообщает:
Бунин уже вернулся домой из клиники. Операция сошла удачно, но Вы, верно, знаете, что все операции в начале кажутся удачными. Маклаков, только что посетивший Ивана Алексеевича, пишет мне, что вид у него ужасающий и что говорит он только о близкой смерти. Стоила ему болезнь уже более двухсот тысяч франков.
24 сентября 1950 г. И.М. Троцкий вновь пишет Буниной:
Дорогая Вера Николаевна! Рад был получить от Вас письмецо, а еще более тому, что Иван Алексеевич уже переведен домой. Не сомневаюсь в том, что домашняя обстановка и ваши заботы скоро поставят дорогого пациента на ноги. Вчера состоялось заседание Литературного фонда. <...> Сумей симпатии, выраженные Ивану Алексеевичу — М.У.>, отразиться на процессе болезни, <он> должен был бы уже сидеть за письменным столом. Но <с> симпатиями, как известно, на базар не пойдешь. Между тем, касса нашего фонда почти пуста, а нужда среди пишущей братии огромна <...>. С большим трудом выкроили 25 $, правление просит меня принести Ивану Алексеевичу не только пожелания скорейшего выздоровления, но и свои извинения за столь ничтожную сумму. Наша касса пополнится не ранее второй половины ноября, после традиционного вечера, устраиваемого ежегодно литературным фондом <...>.
С дружеским приветом, душевно Ваш И. Троцкий.
Через шесть дней после написания своего первого благодарственного письма В.Н. Бунина обращается к И.М.
Троцкому с трогательным посланием, в котором помимо темы «материальной помощи» имеется интересная оценочная информация, касающаяся литературной деятельности адресата:
«25.09. 1950. 1 rue Jacques Offenbach Paris, 16.
Дорогой Илья Маркович. Еще раз шлем от всего сердца Вам спасибо за Ваши заботы и хлопоты, — Вы один из самых трогательных друзей. <...> И<ван> А<лексеевич> очень еще слаб и многое не в состоянии делать сам. Много спит днем и мало ночью, когда бывают удушья. Еще плохо стоит на ногах и едва ходит, — уж очень он намучился с мая месяца!
Поблагодарите Литературный фонд и за их дружеские чувства, и за 25 д<олларов>, и они были кстати. Уже нужно расплачиваться с долгами, мне пришлось занять более ста тысяч франков. Двадцать тысяч с Вашей помощью мне удалось уже выплатить, — брала на срок.
А теперь мне хочется сказать, что я только что прочла Ваше о Левитане, о моем любимом художнике. Вы его дали очень хорошо. Я много слышала о нем от Е.А. Телешовой61, но о друзьях и о родных ничего не знала. И<ван> А<лексеевич> тоже хвалил этот портрет. Он просит Вам написать, что ждет Вас с нетерпением и обнимает Вас. <...>
Душевно Ваша В. Бунина.
20 декабря 1950 г. И.М. Троцкий посылает Алданову развернутое письмо-просьбу, — единственное в своем роде:
Дорогой Марк Александрович! Пишу вам в срочном порядке и по делу литературно-общественному. Литфонд решил организовать вечер в ознаменование восьмидесятилетия И.А. Бунина62. <...> Собирались мы <имеются в виду также И.Л. Тартак и В.М. Берг63 — М.У.> этот вечер устроить в первой половине января и уже хотели на сей счет списаться с В. Сириным, намечавшимся нами в качестве лектора. Но вот мы от М.Е. Вейнбаума, а затем и от Я.Г. Фрумкина узнали, что вы собираетесь возвратиться в Нью-Йорк в январе. Это сообщение опрокинуло наши планы. Мы решили обратиться к Вам с дружеской просьбой украсить наш вечер Вашей лекцией об И.А. Бунине. Кому, как ни Вам, столь близка эта тема!? Выдвигается и кандидатура Веры Александровой в качестве второй докладчицы, буде вы против этого не возразите. Так вот, дорогой Марк Александрович, откликнитесь, пожалуйста, и по возможности скорее. Мне не надо подчеркивать, какое приобретение для Литфонда явится Ваше участие в бунинском вечере, и как это обрадует Ивана Алексеевича.
Однако Алданов просьбу И.М. Троцкого и, в его лице, нью-йоркского Литературного фонда отклонил. В письме 25 декабря 1950 г. он сообщает его о мотивах своего отказа:
Дорогой Илья Маркович. <...> Я сердечно благодарю Вас, И.Л. Тартака, В.М. Берга и Литературный фонд за приглашение выступить на вечере Бунина. В другое время я был бы очень рад его принять и выступить вместе с Верой Александровой. Но, к сожалению, это невозможно: <...> мне по приезде в Нью-Йорк придется все время отдавать поискам заработка или службы, так как материальные дела мои нехороши, и леченью. Так как здоровье мое еще хуже, чем дела <...>. Очень прошу комиссию извинить меня: никак не могу. Нигде вообще выступать не буду. Да я, впрочем, и не мастер говорить. Всецело одобряю и приветствую вашу мысль пригласить В.В. Сирина. Он после Бунина наш лучший современный писатель и читается отлично и охотно64. <...> Ваш М. Алданов.
Далее следует важная приписка:
Перечел это письмо — мне пришла мысль, наверное, совершенно неосновательная, вдруг кто-нибудь подумает, что я выступил бы за плату в свою пользу!!! — разумеется, нет, ни в коем случае, и даже такое предположение, не скрою, показалось бы мне обидным. А вот было бы хорошо, если бы сбор от чтения В.А <Веры Александровны> и В.В. <Владимира Владимировича> пошел в пользу Ивана Алексеевича, — сбор или часть сбора.
30 января 1951 г. И.М. Троцкий пишет Буниной:
Дорогая Вера Николаевна! Спешу исправить неточность, вкравшуюся в мое предыдущее письмо. Литфонд перевел Ивану Алексеевичу, как мне сообщил наш секретарь, не 52, а 42 доллара <...> Надеюсь, дорогая Вера Николаевна, Вы с меня не взыщете за невольную ошибку. На днях у меня состоялось специальное совещание по поводу организации бунинского вечера. Присутствовали также М.А. Алданов и М.Е. Вейнбаум. <...> М.А. Алданов взял на себя миссию пригласить к участию в этом вечере В. Сирина, профессорствующего в одном из провинциальных американских университетов. Кстати, нельзя ли получить от Ивана Алексеевича десятка два экземпляров «Воспоминаний» с автографом. Мы смогли бы, вероятно, их здесь удачно продать. <...> Не считаю возможным лично тревожить Ив<ана> Алек<сеевича>, зная, что вы скорее и легче это наладите. Вот пока и все! Моя жена и я шлем Вам и Ивану Алексеевичу сердечнейшие приветы. <...>
И. Троцкий.
К большому сожалению Литфонда В.В. Сирин-Набоков, отношение которого к Бунину за 30 лет их знакомства сменилось от ученически-почтительного в 1920-е до скептически-неприязненного — с середины 1940-х, отказался от выступления на этом вечере:
Марк Алданов, которого связывали многолетние доверительные отношения и с Буниным, и с Набоковым, был одним из источников тех сведений, которые писатели получали друг о друге через океан. Так 15 апреля 1941 г. Алданов пишет Бунину о перспективах переезда и жизни в США: «Как Вы будете здесь жить? Не знаю. Как мы все — с той разницей, что Вам, в отличие от других, никак не дадут “погибнуть от голода”. <...> У Сирина книг здешние издатели не покупают, все отказали. Он живет рецензиями в американских журналах, лекциями (по-английски) и отчасти вечерами и пр.». <...> А в письме Алданова Набокову, написанном 13 августа 1948 г., есть такие слова: «Если Вас интересует Бунин (я ведь знаю, что в душе у Вас есть и любовь к нему), то огорчу Вас: его здоровье очень, очень плохое. А денег не осталось от премии ничего. Я здесь для него собирал деньги <...>»65
28 января 1951 г. Алданов сообщает Сирину-Набокову о планах Литфонда пригласить его в качестве выступающего на юбилейный вечер Бунина:
Но главное, по общему (и моему) мнению, это ВАШЕ выступление (хотя бы десятиминутное). Вас умоляют приехать для этого в Нью-Йорк. Устраивает вечер Лит. Фонд, образовавший особую комиссию. <...> Если только есть какая-либо возможность, прошу Вас не отказываться. Бунину — 81 год, он очень тяжело болен, и едва ли Вы его когда-либо еще увидите. Вам же будет приятно сознание, что Вы ему большую услугу оказали66.
Однако Набоков, твердо решив не выступать на чествовании Бунина, 2 февраля 1951 г., в письме Алданову, ответил отказом на просьбу Литфонда:
Дорогой друг, вы меня ставите в очень затруднительное положение. Как Вы знаете, я не большой поклонник И.А. <Бунина>. Очень ценю его стихи — но проза <...> или воспоминания в аллее Вы мне говорите, что ему 8о лет, что он болен и беден. Вы гораздо добрее и снисходительнее меня — но войдите в мое положение: как это мне говорить перед кучкой более или менее общих знакомых юбилейное, то есть сплошь золотое, слово о человеке, который по всему складу своему мне чужд, и о прозаике, которого ставлю ниже Тургенева? Скажу еще, что в книге моей, выходящей 14 февраля <речь идет о книге «Убедительное доказательство»> я выразил мое откровенное мнение о его творчестве. <...> Если же фонд решил бы финансировать мой приезд, то все равно не приеду, потому что эти деньги гораздо лучше переслать Бунину67.
Юбилейный вечер в честь 8о-летия Бунина состоялся в Нью-Йорке с большим запозданием 25 марта 1951 г.68 без участия Набокова.
1о февраля 1951 г. И.М. Троцкому пишет уже сам И.А. Бунин:
Дорогой Илья Маркович. Очень благодарю Вас за Ваши заботы обо мне, за попытку что-нибудь собрать мне. Вы просите меня выслать Вам для продажи на «бунинском» вечере десятка два моих «Воспоминаний». Это невозможно и технически, и материально. <...> А главное — для меня тяжело, унизительно, что на вечере будут навязывать мою книгу, и многие, конечно, будут от нее отмахиваться.
Диктую Вам это письмо, потому что все лежу в постели. Недавно перенес тяжелый плеврит, и было долгое лечение, был <пенициллин — М.У.>, сульфамиды, каждый день доктор... До сих пор я ужасно слаб, все лежу, иногда поднимается температура.
Рогнедова69 мы уже давно не видим, не знаем даже, где он? За все время его «деятельности», то есть с начала сентября и до сих пор, получили чистых сто тридцать тысяч, при валовом сборе двести тысяч франков. А что же Перль Бел70? От нее ни слуху, ни духу, ни пуху, ни пера. <...>
Шлем дружеский привет Вашей жене, целую Вас.
Ваш Иван Бунин.
К письму имеется приписка В.Н. Буниной, хлопочущей уже не о себе, а за одного из своих парижских знакомых:
Дорогой Илья Маркович. Меня интересует очень, почему Литфонд отказал Щербакову71. Он, самый, вероятно, нуждающийся из всех парижских писателей. У него больная жена, которая должна скоро родить и маленькая дочка. Они оба по мере сил работают, но иногда работы не бывает, и тогда им очень плохо. Паспорт у него нансенский, пишу об этом потому, что прошел слух, что ему отказали из-за красного паспорта. Вот и все, что мне хотелось бы Вам сказать. <...>
Душевно Ваша В. Бунина.
Письмо Бунина от 29 апреля 1952 г. посвящено сугубо литературным делам:
Дорогой Илья Маркович, пожалуйста, передайте Тартаку, что я прошу его извинить меня за то, что я писал ему <...>, вообразив на основании неверных сведений, дошедших до меня о его статье обо мне, как о поэте, будто бы только пейзажисте: я только теперь прочел подлинный текст этой статьи в Нов<ом> Р<усском> Слове, наконец дошедшем до меня, и увидал, как я был неправ и как напрасно указывал ему на не пейзажные темы моих стихов. Я прошу Вас передать это ему вместе с самой сердечной благодарностью за все, что он сказал обо мне в своих двух статьях: он оказался в них таким добрым другом моим вообще! Пишу плохо, нескладно, тупо, но это потому, что пишу в постели, болен в последнее время всячески особенно. Обнимаю Вас, милый. Ваш Ив. Бунин.
Привет Вашей дорогой нам жене.
Из письма В.Н. Буниной от 16 августа можно заключить, что в начале лета 1952-го И.М. Троцкий был в Париже и посетил Буниных:
Дорогой Илья Маркович... Б.С. Нилус72 не послала письмо Вам, потому, что денег на отдых Л.Ф. 3<урову> хватило<...> так что Лит<фонд> не нужно беспокоить. Конечно, Б<ерте> С<оломоновне>следовало Вас об этом известить, но вскоре после Вашего отъезда мы все были потрясены болезнью юной студентки, выдержавшей только что экзамен и уехавшей на <отдых >, а через три дня вернувшейся домой в сильнейшем нервном расстройстве. Вероятно, на переутомленный организм подействовала высота в 1000 метров. Все ее очень любят, а в нашем доме она своя73. Они с матерью несколько лет жили у нас и на юге, и в Париже. Она говорит мне и И.А. «ты» и зовет его Ваней. Положение было настолько острым, что пришлось поместить ее в первоклассную клинику. А родители ее люди далеко не богатые, и пришлось нам с Б<ертой> С<оломоновной> напрячь все силы, и мы ни о чем не могли больше <думать>. <...> И<ван> А<лексеевич> в таком же состоянии, в каком Вы видели его. Возится с архивом. Отношения с Ч<еховским> И<здательством> наладились.
Иван Алексеевич Бунин скончался 8 ноября 1953 г., но только почти через полтора месяца, 20 декабря 1953 г., И.М. Троцкий пишет Буниной письмо с прочувственными соболезнованиями по этому поводу:
Дорогая Вера Николаевна! Не изумляйтесь моему запоздалому отклику на постигший Вас удар. Сознаюсь, сознательно медлил, опасаясь, как бы мои строки не затерялись в потоке соболезнований, наводнивших Ваш дом. Для меня лично писать соболезнующие письма — тяжкая моральная пытка. Как найти слова, которые не казались бы банальными, не напоминали стертую монету? И чем можно утешить Вас, дорогая Вера Николаевна, потерявшую не только долголетнего спутника жизни, но и светоча русской литературы. Быть может, Вашу душевную рану утешит сознание, что заодно с Вами оплакивает уход из жизни незабвенного Ивана Алексеевича весь культурный мир. <...> со смертью Ивана Алексеевича ушел из русской литературы — ее хозяин и путеводитель. И хотя угасание И<вана> А<лексеевича> для нас, живущих по другую сторону океана, не была тайной, тем не менее, смерть его положительно всех потрясла. Литературный фонд, литературный кружок и несколько других культурных организаций готовятся почтить память Ивана Алексеевича организацией специального вечера <...>. Вам Андрей Седых, вероятно, уже переслал вырезки из американской печати, равно как и то, что он лично написал. На днях получите и от меня две статьи, напечатанные в Нов<ом> Рус<ском> слове и в крупнейшей еврейской газете The Day <«День»>, причем еврейская газета отвела покойному Ивану Алексеевичу втрое больше места, чем Н<овое> Р<усское> С<лово> Написал я также и в аргентинской печати о значении И<вана> А<лексеевича> в мировой литературе. Как только получу тамошние газеты — не премину их Вам послать. <...> Считаю <...> нужным поставить вас в известность о решении правления Литфонда откликнуться надлежаще на привходящие обстоятельства, сопряженные с уходом из жизни Вашего бессменного спутника. Анна Родионовна и я разделяем Ваше тяжкое горе, выражаем свое глубокое соболезнование и шлем пожелания душевной бодрости и воли к дальнейшей, длительной жизни.
Душевно Ваш И. Троцкий.
Переписка Троцкого с Буниными завершается письмом Веры Николаевны, датированным 7 января/25 декабря
1954/1953 г., с поздравлением по случаю Нового года и очередной просьбой, касающейся ее денежных расчетов с Литфондом:
...Дорогой Илья Маркович, сердечно благодарю Вас и милую Анну Родионовну74 за сочувствие моему вечному горю. А Вас еще благодарю за Ваше чудесное письмо, а что оно было позднее других, то это хорошо. Спасибо и за статью об И<ване> А<лексеевиче>, она всколыхнула нашу дружбу воспоминаньем.
Ведь он ушел от меня накануне двадцатилетия присуждения ему Нобелевской премии, и он вспоминал о тех днях и всех вас75.
Желаю Вам и Анне Родионовне в 1954 году здоровья, всяких удач и радостей.
Эти святки я провожу пока тяжело как никогда, и не только оттого, что нет около Ивана Алексеевича, но еще потому, что у меня ничего нет, кроме долгов, а я к ним не привыкла, и уже некоторые кредиторы нуждаются в деньгах, большинство из них бедные, а нужно внести нотариусу за утверждение в правах наследства <...>. Много денег ушло на праздничные чаи, мы сидим на рисе и чечевице, — только сегодня будем есть курицу, подарила одна добрая душа, моя приятельница. А кто виноват? Ваша Америка! До сих пор не получила блокированные деньги с 1943 г. Бедный Иван Алексеевич так и не дождался, а сколько маленьких его желаний мы хотели сделать на эти деньги. Их блокировали (550 д.) во время войны. За хранение и налоги взяли 120 д. Значит, осталось 430 д. 10% — агентам, мне 387 Д. Это бы как раз мне хватило бы до получения из Ч<еховского> И<здательства> за книгу И<вана> А<лексеевича>. А то ведь после его смерти я получила всего 2 раза по 100 д. из Лит<фонда>, и они ушли на ремонт, на переделку матрасов. Вы помните, в каком виде была квартира, и мне передали, что хозяин хочет придраться, он, конечно, спит и видит выселить меня из нее. Адвокаты посоветовали начать красить, проремонтировали половину, столовая была приведена в хороший вид еще в прошлом году. Я уже писала Марку Ефимовичу <Вейнбауму>, что мне именно сейчас нужны деньги и что, если я буду в состоянии, то я отдам их из второй получки за Петлистые уши76 из Ч<еховского> Издательствах
Очень прошу Вас поторопить мне выслать, было бы хорошо, если 2оо дол. <...> Простите, что пишу об этом, но я уже не могу спать. Стала худа. К зеркалу подхожу с отвращением. Слава Богу, Леня поправился77 и очень меня поддерживает и помогает всячески, но я пока измучена, это на меня все остро действует: бедные дают взаймы, а богатые дают советы и иногда очень неприятным тоном, а я не сплю. А тут еще и квартирный вопрос поднимается: 4 комн., а нас двое.
Надоела я Вам, обнимаю Вас, дорогой друг, и Анну Родионовну. Л. Ф. шлет Вам новогодний привет.
Ваша В<ера> Б<унина>
Приписка:
Берта Соломоновна <Нилус-Голубовская — М.У> больна гриппом, да и вообще больна. Она шлет Вам свой новогодний привет.
О положении, в котором оказалась Вера Николаевна Бунина после смерти мужа, и о неприязненном отношении к Л.Ф. Зурову (во многом несправедливом), существовавшем в кругу близких к Буниным людей, свидетельствует письмо М.А. Алданова И.М. Троцкому, написанное им из Ниццы 6 декабря 1953 г.:
Дорогой Илья Маркович. Как вы поживаете? Как здоровье Вашей супруги? Мы оба хорошо понимаем с Татьяной Марковной78, как Вам теперь тяжело живется из-за ее болезни: у всех горе, трудная стала жизнь. <...>
Относительно же Веры Николаевны, я тотчас после кончины Ивана Алексеевича написал Вейнбауму, просил о 500 долларах ей для уплаты по похоронам и на жизнь. Марк Ефимович поставил этот вопрос, и в принципе принято решение послать не менее пятисот, но по частям, так как члены Правления опасаются, что деньги будут тотчас истрачены на Зурова. Пока послали 200. Может быть, это и правильно. Однако я хочу Вас просить — следить за тем, чтобы это не было забыто и чтобы деньги высылались каждый месяц, правда, Вера Николаевна теперь живет преимущественно на деньги друзей и почитателей. В Париже собрали всего 162 тысячи франков, а только похороны стоили больше. Разумеется, сбор продолжается, но ведь друзей не так много. Все же, если деньги от фонда... будут приходить, то как-нибудь она проживет: если Чеховское издательство будет существовать, то оно, наверное, будет издавать старые книги Ивана Алексеевича и тогда В.Н. сможет жить. Вот только будет ли существовать это издательство? Я об этом никаких сведений больше не имею. Не знаете ли Вы79?
Иван Алексеевич, знаменитейший из русских писателей, умер, не оставив ни гроша! Это memento mori80. <...>
Мы оба шлем Вам и вашей семье самый сердечный привет и лучшие наши пожелания. Напишите о себе.
Ваш М. Алданов.
Приписка:
Я поместил о Бунине статью в «Le Monde»81.
После 1953 И.М. Троцкий и В.Н. Бунина, по всей видимости, не переписывались. В РОЛ, однако, сохранилось одно письмо И.М. Троцкого — от 21 октября 1958 г., в котором он от имени Литфонда обращается по «общественному делу» к
В.Н. Буниной и Л.Ф. Зурову. Текст этого письма выдержан в сугубо официальном тоне и, что примечательно, в нем отсутствуют обычные для такого рода переписки дружеские нотки:
В нынешнем году Литфонду исполняется сорок лет — срок достаточный, чтобы публично быть отмеченным. Никаких торжеств, в интересах экономии сил и денег, правление не собирается организовывать. Согласно традиции Литфонд организует ежегодно, в ноябре, кампанию сборов на пополнение кассы и на обеспечение бюджета в плане помощи. <...> В этом смысле Литфонду нужна моральная поддержка и извне. Просьба правления Литфонда к вам, дорогие Вера Николаевна и Леонид Федорович, откликнуться несколькими теплыми строками в пользу этого учреждения, столь ценного для поддержания единства эмигрантской интеллигенции. Письма будут опубликованы в Нов<ом> Русс<коме> сло<ве>.
С искренним приветом Ваш И. Троцкий. Секретарь Литфонда.
P.S. Пользуюсь случаем поблагодарить Леонида Федоровича за ценный подарок — Марьянку82, о которой Нов<ое> Русс<кое> сло<во> поместила интересный отзыв».
«Надежда живет даже возле могил»: переписка М.А. Алданова с И.М. Троцким
В статье-некрологе «И.М. Троцкий»83 Андрей Седых писал:
...мало кто знает, что уже после присуждения премии Бунину И.М. Троцкий старался использовать свои стокгольмские связи, чтобы выдвинуть на премию кандидатуру другого русского писателя, М.А. Алданова.
Известно, что Иван Бунин, после того как он в 1933 г. стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, считал своим долгом всячески способствовать выдвижению на это почетное звание кандидатуры Марка Алданова84. Их связывали многолетние отношения, скрепленные общностью политических взглядов, литературных интересов, взаимным уважением и обоюдным доверием — «как самому себе». По-человечески они были очень привязаны друг к другу. Так, например, когда Бунин отказался после недолгих, но мучительных для него колебаний от идеи переезда в СССР, он 1 августа 1947 г. посылает Алданову письмо, где, в частности пишет:
Дорогой Марк Александрович, ставя в свое время на карту нищеты и преждевременной погибели своей от всего сопряженного с этой нищетой свой отказ от возвращения домой я мысленно перечислял множество причин для этого отказа, и среди этого множества мелькала, помню, такая мысль: Как! И Марка Александровича я тогда уже никогда больше не увижу и даже письма никогда от него не получу и сам ему никогда не напишу!!85
Бунин ценил и писательский талант Марка Алданова, который, по утверждению такого авторитетного «свидетеля времени», как А.В. Бахрах, был за все годы эмиграции автором, наиболее популярным у читателей русских библиотек. <...> Бунин не раз говорил, что когда он получает еще пахнущий типографской краской номер какого-нибудь толстого журнала или альманаха, он первым делом смотрит по оглавлению, значится ли в нем имя Алданова <...> и тогда тут же разрезает страницы, заранее возбудившие его любопытство и, откладывая все дела, принимается за их чтение86.
И вот в 1937 г. Бунин номинирует Марка Алданова на Нобелевскую премию. В своем обращении в Шведскую академию он писал:
Господа академики, Имею честь предложить вам кандидатуру господина Марка Алданова (Ландау) на Нобелевскую премию 1938 г. Примите уверения в моем совершеннейшем к вам почтении.
Однако члены Нобелевского комитета, опираясь на оценку своего эксперта по славянским литературам Антона Карл-грена87, чьи «похвалы стилевому мастерству Алданова и его интеллектуальному багажу, равно как и ясности и точности в его изображении русской “интеллигенции” в революционную эпоху», были восприняты ими — в сравнении с предыдущими оценками этим же экспертом творчества Бунина — как весьма сдержанные, и постановили, что: «в настоящее время с этим предложением следует подождать».
В подробном, но весьма противоречивом в оценках прозы Алданова отзыве Антона Карлгрена привлекает внимание эмоциональная реакция шведского слависта на изображение писателем русской интеллигенции. Карлгрен считает, что у Алданов в целом крайне пристрастен и односторонен:
Русская интеллигенция предстает в его романе как подлинная человеческая сволочь в собственном смысле слова (genuin manisklig lump, лат.), состоящая из чисто уголовных типов, стопроцентных мошенников и бессовестных честолюбцев, как <...> общество бесхарактерных скотов, вздорных болтунов, неуравновешенных неврастеников, благонамеренных глупцов, легкомысленных марионеток и т.д. — во всей галерее образов едва ли найдется один или два, которые могут вызвать хоть какое-нибудь уважение или сочувствие. И если алдановское изображение верно, то революция стала поистине благим делом, раз она повымела прочь всех этих господ88.
Не вдаваясь в детальное обсуждение темы «интеллигенция и революция», интересно, тем не менее, обратить внимание на позицию Бунина, который получил Нобелевскую премию при непосредственной поддержке все того же Карлгрена.
В письме П. А. Нилусу (27 мая 1917 г.) Бунин, возможно, полемизируя с Блоком, патетически восклицает:
Ох, вспомнит еще наша интеллигенция, — это подлое племя, совершенно потерявшее чутье живой жизни и изолгавшееся насчет совершенно неведомого ему народа, — вспомнит и мою «Деревню» и пр.89.
Сейчас, когда стали доступны архивы Нобелевского комитета, становится очевидным, что у Алданова не было шанса получить премию по многим причинам.
Новаторство Алданова как писателя, сочетавшего в своих произведениях классическую ясность и изысканность стиля с принципами иронического «отстранения» и «монтажности», состояло в том, что он мастерски применил их к описанию различных исторических эпох.
Но именно этого Карлгрен и не увидел. Новации Алданова, которого он типологически сопоставлял с классицистом Буниным, и его фаталистическая историософия не были замечены критиком, чье неоднозначное поначалу отношение к творчеству Алданова со временем превратилось в стойкую неприязнь.
А ведь на Западе, особенно в Англии, США, а до войны во всех славянских странах книги Алданова были весьма популярны. Пожалуй, Алданов был единственным русским писателем-эмигрантом, чьи книги издавались в переводах на различные языки многотысячными тиражами.
Начав кампанию по выдвижению Алданова, Бунин оказался один на один перед огромным объемом рутинной организаторской работы, к чему он от природы был не способен и, более того, питал отвращение. Как и раньше, он нуждался в помощнике — вездесущем, всепонимающем, энергичном, на которого можно было бы вполне положиться. Таким человеком в той ситуации и был их общий с Алдановым хороший знакомый, его «дорогой Илья Маркович».
В YIVO-архиве И.М. Троцкого имеется также почтовая открытка от 9 января 1939 г., полученная им от Бунина, который направил ее в Копенгаген на адрес 32, Amaliegade, откуда она, из-за отсутствия адресата, переправляется в Буэнос-Айрес на указанный им адрес (Bouhard House, Bouhard House 484, Buenos Aires, Argentina). Текст ее начинается со взыскующего обращения:
Дорогой Илья Маркович, где Вы? Пишу Вам и по Вашему парижскому адресу. Отзовитесь, — сообщите мне Ваши мысли, как обстоит наше дело — Вы знаете какое: насчет Стокгольма.
Далее Бунин испрашивает совета:
Надо ли мне повторить представление и в какой форме? М<ожет> б<ыть> надо обратиться в <Нобелевский — М.У.> Комитет? В прошлом году я послал некоторые материалы при письме (кратком) в Академию. М.6., надо обратиться в Комитет? Жду ответа, обнимаю вас, кланяюсь вашей милой жене.
Без сомнения, вопрос Бунина имеет отношение к выдвижению Алданова на Нобелевскую премию. Что касается ответа на цитируемое почтовое отправление, то Бунин его если и получил, то вряд ли сумел воспользоваться советами И.М. Троцкого, поскольку 1 сентября началась Вторая мировая война. С 1941 по 1945 гг. Нобелевские премии по литературе вообще не присуждались.
Любопытно, однако, что сам Алданов — человек, тонко чувствующий динамику исторических процессов, и к тому же по натуре пессимист, как ни странно, и в эти тяжелые годы не терял надежды. В декабре 1940 г., уже из Лиссабона, где он ожидал парохода в Нью-Йорк, он, со свойственной ему скептической иронией, опять напоминает Бунину:
Кстати, уж будьте милы: в этом году тоже напишите заказное письмо в Стокгольм: никаких надежд не имею, но ведь покупал же я билеты в Национальную лотерею...90
С началом войны переписка И.М. Троцкого с обоими писателями прервалась. Первое письмо от Алданова, в котором содержится просьба к нему, как секретарю нью-йоркского Литфонда, об организации материальной помощи тяжело больному Ивану Бунину (см. выше раздел «Переписка В.Н. и ИЛ. Буниных с Ильей Троцким»), он получает лишь в августе 1950 г. Как известно,
В своем завещании Алданов просил жену все оставшиеся после его смерти черновые наброски, как и незаконченные или не обработанные им произведения сразу предать огню. Эта его воля была в точности выполнена и поэтому из его архивов сохранилось только то, что он сам еще при жизни передал некоторым американским университетам91.
Поэтому приходится оперировать неким «остатком», который, впрочем, выглядит весьма солидно. Все письма 1950-1955 гг., выдержки из которых публикуются ниже, находятся в личных архивах М.А. Алданова (BAR) и И.М. Троцкого (YIVO). Письма М.А. Алданова напечатаны на машинке, письма И.М. Троцкого написаны от руки.
Итак, в августе 1950 г. И.М. Троцкий, уже четыре года как живущий в Нью-Йорке, получает письмо от Марка Алданова, в котором тот просит его подключиться к кампании помощи их общему другу Ивану Бунину, терпящему жестокую нужду в послевоенном Париже. Троцкий живо реагирует на просьбу Алданова, а в ответном письме, сообщая о результатах своей активности, информирует своего стародавнего приятеля:
Ближайшего шестого октября еду в Женеву <...> и не премину, конечно, навестить <Бунина — М.У.> в Париже. Пробуду в Париже несколько дней. Не собираетесь и Вы, дорогой Марк Александрович, в Париж? Рад был бы Вас повидать и потолковать. Есть, что Вам рассказать.
Через месяц, в благодарственном письме от 22 сентября 1950 г., Алданов затронул больную для него «нобелевскую тему»:
Вы меня заинтриговали сообщением о встречах с членами Нобелевского комитета. Вам конфиденциально скажу, что Бунин давным-давно выставил мою кандидатуру (как Вы знаете, нобелевские лауреаты, как и все университетские профессора литературы любой страны, имеют право предлагать кандидатов). Но, разумеется, я ни малейших надежд на премию не возлагаю. Думаю, что ее во второй раз (т.е. после Бунина) никакому русскому писателю-эмигранту не дадут, а если и дадут, то не мне. Не напишете ли Вы мне, о чем вы говорили с членами комитета? Я никого в Стокгольме не знаю.
В письме от 29 сентября 1950 г. И.М. Троцкий подробно рассказывает Алданову о своем недавнем посещении Стокгольма:
В Стокгольме я виделся с проф<ессором> Фре<д>риком Бе<е>-ком, с покойным историком литературы проф<ессором> Ламмом, а также с Антоном Карлгреном. Первые двое — члены Нобелевского комитета. Карлгрен — эксперт по славянской литературе и профессор славистики. Встречался и с другими лицами, близкими к Нобелевскому комитету и осведомленными с его кулисами. Все они знают, что И.А. Бунин выставил Вашу кандидатуру в лауреаты. Почти все знакомы с Вашими произведениями. Единственное горе то, что вы эмигрант. В кулисах Нобелевского комитета царит тенденция присуждать премию только национальным писателям, и, по преимуществу, вновь образовавшихся государств. Индия, Пакистан и Израиль стоят на очереди. Виднейший кандидат от Израиля — Мартин Бубер, мыслитель, писатель и профессор Иерусалимского университета. <...> Томас Манн прилагает все усилия, чтобы литературная премия в этом году досталась Bendete Groce или Черчиллю. Шведы мечтают поднести премию своему поэту (забыл его фамилию92), вышедшему из народа, из самых низов. Будь И.А. Бунин здоров — можно было бы кое-что в этом смысле предпринять. Со смертью Сержа де Шессена у нас никого в Стокгольме нет, кто мог бы, где нужно, словечко заговорить или нажать надлежащую кнопку. Лично я состою в переписке с двумя влиятельными членами Нобелевского комитета, но судя по их поведению, они, по-видимому, связаны с кем-то обещаниями93. Вот, дорогой Марк Александрович, вкратце все, что могу сообщить по интересующему Вас вопросу. По секрету Вам скажу, что еще до войны И.А. меня всячески убеждал в необходимости завоевать для Вас Стокгольм. Он искренне стремился содействовать в заслуженном получении Вами Нобелевской премии. Но как преодолеть Ваше эмигрантское положение?
1о июля 1951 г. И.М. Троцкий пишет Алданову в Ниццу:
Дорогой Марк Александрович! Согласно вашей рекомендации, правление Литфонда ассигновало г. Сабанееву 25 $ и г. Постель-никову94 15 $. Прилагаю чек на 40 $ и дружески прошу означенные суммы передать Вашим протеже. Считаю нужным поставить вас в известность, что, согласно решению, принятому правлением, впредь все лица, обращающиеся к Литфонду за помощью, должны свои просьбы излагать в индивидуальной форме. Для Вас, дорогой Марк Александрович, вероятно, не без интереса будет узнать, что на 22 октября назначено общее собрание членов Литфонда, на котором правление даст отчет о его деятельности и ближайших планах, равно как расскажет о причинах, повлекших уход из правления некоторых его членов. От имени правления и моего собственного благодарю вас за приветы, переданные <от> А.Я. Столкинда95. <...>
P.S. Квитанцию прошу прислать в мой адрес.
В ответном письме от 16 октября 1951 г. Алданов сообщает И.М. Троцкому:
<...> Ваш чек был на мое имя, и я его послал в Нью-Йорк на свой счет в банке (хотя посылать из Франции деньги чеками не разрешено). Сабанееву я заплатил здесь в Ницце из своих франков по курсу черной биржи, — просил его этот курс узнать и указать мне, что он и сделал. По тому же курсу послал Постельникову франки в Париж. Прилагаю их расписки. Сумма во франках не указана, так как это и Фонду было бы не очень удобно. Рад, что Правление успешно работает. Слышал, что скоро начнется большой сбор. Желаю успеха. Если нужно поместить обычное обращение в «Н<овом> р<усском> слове», конечно, это сделаю. Сделает, наверное, и Тэффи. А если Бунин хоть чуть-чуть поправится (сейчас ему худо), то, без сомнения, напишет и он. <...> Надеюсь, что у вас все благополучно. У нас тоже, более или менее. Примите и передайте супруге наши самые лучшие пожелания.
Ваш М. Алданов.
Во всех последующих письмах М.А. Алданова к И.М. Троцкому, хотя по форме они в большинстве своем являются прошениями о материальной помощи тем или иным бедствующим литераторам, красной нитью проходит «нобелевская тема». Вот один характерный пример. В почтовой открытке, датированной, по-видимому, 1953-м (штемпель неразборчив) Алданов пишет Троцкому:
Дорогой Илья Маркович. Сердечно Вас благодарю за Вашу любезность, — эти пятьдесят франков <...> переданы по назначению (дело идет о Н.Я. Рощине96). Очень мило с Вашей стороны. Как Вы живете? Когда будете в Париже? Шлю Вам самый сер-дечный привет и самые наилучшие пожелания. Ваш М. Ландау-Алданов.
P.S. Я, разумеется, давно послал д-ру Калгрену «Пещеру».
Однако во всех обращениях М. Алданова последних лет его жизни к И.М. Троцкому звучат нотки, присущие именно искренним исповедям. Недаром же Алданов непрестанно подчеркивает конфиденциальность своих посланий, что опять-таки свидетельствуют о симпатии и доверии, которое именитый писатель питал к своему адресату.
Письмо от 6 декабря 1953 г., лейтмотивом которого является тоскливое замечание: «У всех горе, трудная стала жизнь», — начинается с сугубо личной просьбы:
Пишу Вам по конфиденциальному делу, — пожалуйста, никому не показывайте этого моего письма. Я вчера получил письмо от Кадиша97. Его положение (материальное, да и моральное), просто отчаянное. Как Вы помните, Фонд обещал ему помочь. Когда мы с Вами у меня прощались, Вы уполномочили ему сказать, что в ноябре ему будет дана ссуда. Я его, разумеется, повидал в Париже (отдал ему Ваше пальто, он был страшно рад и благодарен Вам) и сказал ему о предстоящей ссуде. Теперь он мне пишет, что ничего не получил. В чем дело? Вы помните, я много говорил о нем на октябрьском заседании Правления <...> Была записка от него. <...> Не будете ли Вы любезны, напомнить Фонду?
Далее сообщается о финансовых проблемах Веры Николаевны Буниной, которая после смерти мужа:
живет преимущественно на помощь друзей и почитателей, <а поскольку — М.У.> правление <Литфонда — М.У.> в принципе приняло решение послать <ей> не менее 500 <долларов — М.У.>, но по частям, <просьба — М.У.> следить за тем, чтобы это не было забыто и чтобы деньги высылались каждый месяц».
После сакраментальной фразы:
Иван Алексеевич, знаменитейший из русских писателей, умер, не оставив ни гроша! Это memento mori,98
— Алданов переходит к рассказу о своем положении:
У всех у нас дела не блестящие, не очень хороши они и у меня. Я подсчитал, что из моих 24 «рынков», т.е стран, где переводились мои романы, теперь осталась половина: остальные оказались за железным занавесом.... Сначала Гитлер, потом большевики...99 Прежде была маленькая, крошечная, надежда на Нобелевскую премию, — Иван Алексеевич регулярно каждый год, в конце декабря выставлял мою кандидатуру на следующий год. Теперь и эта крошечная надежда отпала: я не вижу, какой профессор литературы или союз или лауреат меня выставил бы. Слышал, что другие о себе хлопочут, — что ж, пусть они и получают100, хотя, думаю, у русского эмигрантского писателя вообще шансов до смешного мало. <...>. Однако дело никак не во мне, а в Кадише и в Буниной. Я за них очень на вас надеюсь, дорогой Илья Маркович. <...> Если вы сейчас вне Нью-Йорка, то, пожалуйста, от себя напишите о Кадише Марку Ефимовичу <Вейнбауму — М.У.>, не пересылая, конечно, моего письма, в котором он мог бы усмотреть упрек.
И действительно, из документов, хранящихся в Стокгольмском архиве Нобелевского комитета, явствует, что в 1947-1952 гг. Бунин регулярно обращался в Нобелевский комитет с предложением выдвинуть на премию Алданова101, но неизменно получал вежливый отказ. В ставших лишь недавно доступными архивных материалах Нобелевского комитета имеются соответствующие заключения, в одном из которых (1948), например, указывалось, что: «насколько можно судить, Алданов не обладает квалификацией, которая требуется для новой премии русскому писателю-эмигранту такого же уровня, как Иван Бунин»102.
К счастью, ни Бунин, ни Алданов не знали о существовании этой мотивировки.
31 декабря 1953 г. Алданов пишет:
Мы с Татьяной Марковной <Алдановой — М.У.> весьма огорчены, что Ваша супруга чувствует себя все нехорошо. Яков Григорьевич <Фрумкин — М.У.> может Вам сообщить, что и у нас нехорошо. Хорошо, верно, никогда больше не будет.
Поблагодарив своего адресата, способствовавшего оказанию помощи М.П. Кадишу, за которого он ходатайствовал в предыдущем письме, Алданов переходит к новостям:
О Чеховском издательстве я уже знаю, что оно получило денег на два года. <...> говорят, американцы им поставили некоторые условия относительно выбора книг. Может быть, условия и не очень стеснительные, да возможно, что вообще условий не ставили.
И только затем, почти в конце письма, следует главная тема — та, что постоянно жжет душу:
Сердечно Вас благодарю за то, что пишите о Стокгольме. <...> Но надежд никаких не возлагал и не возлагаю <...> Верно, русскому эмигранту, кто бы он ни был, никогда больше не дадут103.
Впрочем, тут же сразу возникает просьба, указующая на то, что луч надежды еще теплится в душе старого писателя-скептика и фаталиста:
Если что-либо мне о Стокгольме сообщите, буду очень признателен.
Потом, как бы принижая важность для него предыдущей темы, Алданов переходит к новостям из разряда «между прочим»:
Кускова и Маклаков сообщили мне, что в Париже в январе начнет выходить новая еженедельная газета «Русская Правда», под редакцией Кадомцева104. Деньги, по их сведениям, дал Ватикан! Что-то это уж очень неправдоподобно: зачем может быть Ватикану нужна русская газета? Еще раз за все спасибо. Крепко жму руку. Самый сердечный привет от нас обоих. Ваш М. Алданов.
В 1954 г. переписка М. Алданова И. Троцкого приобретает регулярный характер: начиная с весны этого года, они практически каждый месяц обмениваются письмами.
20 апреля 1954 г. Алданов пишет:
Дорогой Илья Маркович. От души вас благодарю за Ваше письмо от 15-го, полученное мною сегодня (позавчера и вчера почты из-за пасхи не было). Я чрезвычайно тронут Вашим вниманием и заботой. <...> Все Ваши сведения были мне в высшей степени интересны, хотя надежды на получение премии у меня почти нет, и не было. Я знал, что С.М. Соловейчик105 выставил мою кандидатуру, но Ваше сообщение, что ее выставил и М.М. Карпович, меня изумило: мы никогда подчеркнуто от руки — М.У.> с ним об этом не сносились! Известно ли это Вам от Вашего Стокгольмского корреспондента или от кого-то другого? Если это верно, то я, во всяком случае, счел бы себя, разумеется, обязанным сердечно, благодарить Михаила Михайловича. Кстати, о Вашем корреспонденте, которого вы не назвали. Покойный Бунин говорил мне, что я должен бы непосредственно или через друзей послать в Стокгольм мои книги и рецензии о них. Я не был уверен, что он прав, но, видимо, это так. Вы тоже послали ему «Ульмскую ночь» (и за это сердечно благодарю). Как Вы думаете, не послать ли ему мою лучшую, по-моему, вещь «Истоки» или «Начало конца?»106 Обе у меня есть только по-английски и на других иностранных языках, но не по-русски <...>. Если Вы что-либо из этого одобряете, то, пожалуйста, скажите, как сделать? Можно ль с несколькими рецензиями послать Вам для отправки ему? Вы мне оказываете громадную услугу, и Вы догадываетесь, как я ее ценю. Думаю, что у Зайцева шансов лишь немногим больше, чем у меня. Но, разумеется, это все лотерея.
Примечательно, что, делая предложения-подсказки своему адресату, Алданов ссылается на авторитет Бунина, который, как мы видели, не слишком хорошо разбирался в тонкостях выдвижения на премию. Подробнейшую и очень продуманно составленную справку о писателе Марке Алданове, приложенную ко второму письму Бунина 1938 г. в Нобелевский комитет, готовил явно сам номинант. Помимо нее, к письму Бунина приложены проспекты двух издательств, русского и французского, с перечнем книг номинанта и выдержками из критических на них откликов. В рекламном буклете романа «Девятое термидора» во французском переводе краткое содержание книги сопровождается традиционными отзывами прессы, призванными подчеркнуть, что творчество М.А. Алданова своим строгим документализмом и приверженностью традициям Толстого и Стендаля вносит существенный вклад в европейскую литературу.
Обо всем этом И.М. Троцкий, конечно же, был осведомлен. Возможно, судя по приведенному выше письму Бунина, он тоже «приложил руку» к отправке документов об Алданове в 1938 г. В таком случае, Алданов, предпочитая играть роль человека неискушенного во всех тонкостях требований Нобелевского комитета, желает, по-видимому, польстить своему адресату, подчеркнуть его особенную осведомленность и уникальный опыт в этой сфере.
В этом отношении очень интересно следующее письмо, от 6 мая 1954 г.:
Дорогой Илья Маркович. Еще раз от всей души Вас за все благодарю, Мне очень совестно, что Марк Ефимович <Вейнбаум — М.У> обратился к Карповичу с <...> просьбой <о моей номинации — М.У.>. Об этом я и понятия не имел. Разумеется, я сердечно поблагодарю Марка Ефимовича, а вот писать ли Карповичу, не знаю: быть может, Ваши соображения об этом вполне правильны. Практического значения представление Карповича в этом году иметь не может, так как это верно произошло недавно, а кандидатуры выставляются в январе. Но для будущего года это и важно, и особенно мне приятно. Впрочем, какое вообще тут практическое значение? Шансы мои ничтожны и по той самой причине, которую вы указываете: нансеновец, эмигрант. И все-таки как же не попробовать? Знаю, что Ремизов выставлен, что
Зайцев выставлен, хотя не знаю, кем именно107? Надо, значит, и мне «взять билет в лотерею», как бы ни были ничтожны шансы. И особенно Вам благодарен. Разумеется, не сообщайте мне имени Вашего корреспондента108, Вы совершенно правы.
Далее Алданов опять возвращается к вопросу, какие его книги «по-английски, по-французски или по-немецки (швейцарское издание)», и какие рецензии он пошлет через И.М. Троцкого его стокгольмскому корреспонденту, выказывая при этом свойственную ему щепетильность в отношениях с посторонними людьми:
Мне чрезвычайно совестно так злоупотреблять Вашей исключительной любезностью и возлагать на Вас еще и пересылку книги рецензий в Стокгольм. Но очень Вас прошу разрешить мне, по крайней мере, хоть покрывать расходы по этой пересылке. Я тотчас прислал бы Вам деньги.
В письме от 21 мая 1954 г. Алданов сообщает, что
отправил Вам заказным <...> лично для Вас <подчеркнуто от руки>, на память, экземпляр «Бельведерского торса109« <...>. В этом же конверте с книгой я вложил наудачу несколько американских рецензий о моих книгах: в выборе руководился известностью критика. Кроме того, вложил французское интервью со мной, появившееся не так давно в «Нувелль Литерер», это во Франции главный литературный журнал. Уж если вы так добры, то перешлите рецензии и особенно интервью в Стокгольм, кому найдете нужным. <...> немецких рецензий теперь не имею, так как после второй войны не абонировался в немецком бюро вырезок. После войны по-немецки, впрочем, пока вышла (в Швейцарии у Моргартена) лишь одна моя книга: те же «Истоки».
21 июля 1954 г. Алданов горячо благодарит Троцкого, особо подчеркивая, что:
Забота Ваша о моих интересах, время, которое вы тратите ради меня, и старания поразительны. <...> Ваши слова даже впервые подали мне маленькую надежду. Думаю, что в этом году получит Хемингуэй110. Что ж, он имеет все права. По-моему, Моруа имеет меньше шансов, так как французу премия была дана недавно, и Франции принадлежит рекорд по числу премий.
Далее Алданов сообщает, что
прочел в «Новом Русском Слове» отчет о Вашем празднике и сердечно порадовался большому успеху.
Речь здесь, несомненно, идет о чествовании И.М. Троцкого по случаю его 75-летнего юбилея (поздравительные телеграммы, письма и другие материалы, касающиеся данного события, хранятся в его YIVO-архиве). Затем следует комплимент «по случаю»:
Но еще до прихода этого отчета мне об огромном успехе написало три человека. А двое из них добавили, что Ваша речь была самой блестящей.
Покончив с «торжественной частью», Алданов переходит к «серым будням» — оказанию материальной помощи русским эмигрантам:
Меня неизменно осаждают ходатайствами,
— и, называя фамилии композитора и критика Леонида Сабанеева (за него перед Литературным Фондом хлопотал А.Я. Столкинд), артиста Бологовского, писателя Шейнера111, просит, хотя:
просьб поступило множество, <...> поддержите, что можете.
Далее Алданов возвращается к своему «кровному вопросу». Он благодарит И.М. Троцкого за благоприятный для него отзыв об «Ульмской ночи» и с приятным для авторского самолюбия удивлением спрашивает:
Неужели и Ваш корреспондент заинтересовался этой книгой? Если бы Вы нашли нужным послать ему еще что-нибудь мое, я тотчас достал бы и послал бы Вам. Лично я считаю лучшим из моих произведений «Истоки» («Before the Deluge»). Она имела небывалый успех в Англии, где была избрана «Бук Сосайети» — это британский «Бук оф зи Монc», но с тиражом в двадцать раз меньше, чем американский: было продано 17.000 экземпляров. Мне пишут, что Анна Родионовна <Троцкая> совершенно поправилась. Если это так, то понимаю, какая это радость.
22 августа 1954 г.:
Дорогой Илья Маркович. Должен каждое мое письмо к Вам теперь начинать с глубокой сердечной признательности. <...> Ваше последнее письмо ко мне немного меня смутило. Как же я мог бы прислать Вам заметку с оценкой моих книг? Вы меня просите преодолеть скромность, но я уверен, что такую заметку о самом себе затруднился бы составить и очень нескромный человек. <...> <Мой послужной список — М.У.> я составил и прилагаю. Тут факты и объективизация, но и это нелегко писать человеку о самом себе. Как вы увидите, на стран<ице> № 3 — пробел: эта страница обрывается там, где «можно» поместить оценку моей деятельности, краткую «общую оценку» моих книг. Если вы считаете это необходимым, (вероятно, Вы правы), то, пожалуйста, произведите оценку сами (или поручите это другому), за что я Вам буду сердечно признателен.
Далее следует очень лестное со стороны знаменитого писателя и важное для характеристики личности И.М. Троцкого и его профессиональных качеств публициста заявление Алданова:
Если вы хотите знать мое мнение, то никто это не может сделать лучше, чем Вы, и тогда это останется секретом. <...> критика очень часто меня хвалила, слишком хвалила, критик Орвилл Прескотт112 писал, например, в «Нью-Йорк таймc», что меня обычно признают первым из ныне живущих писателей. Это было незаслуженно, но очень приятно. Если хотите, скажите несколько слов не об этом, конечно, мнении Прескотта, а вообще о мнении критики. Или же скажите от себя что хотите.
В конце письма Алданов сообщает, что его «ходатайства в Литфонде о Сабанееве, Петре Иванове и Болотовском удовлетворены» и снова просит за Ю. Шейнера и С. Постельникова:
М<арк> <Ефимович> <Вейнбаум — М.У.> пишет мне, что он эти два ходатайства поставит и поддержит на следующем собрании (а то было бы слишком много для одного раза). Лишь бы только он не забыл, уезжая в отпуск. Не напомните ли тогда Вы: люди почтенные и очень бедные.
11 сентября 1954 г.:
Не сомневаюсь в том, что Хемингуэй (по моему, наиболее вероятный и достойный лауреат текущего года), Моруа, Бубер имеют больше шансов, чем я. А не сообщите ли, кто несколько других писателей, о которых Вы пишете. Кстати, именно сегодня здешняя газета «Нисс-матэн» печатает телеграмму из Стокгольма (по-видимому, телеграфного агентства) о том, что наиболее вероятный кандидат в этом году — исландский писатель Hall-dor Laxness113. Других кандидатов телеграмма не называет. Признаюсь, я этого писателя совершенно не знаю, не слышал даже имени. Впрочем, покойный Иван Алексеевич говорил мне, что редко дают премию тому писателю, которого называют задолго до решения. Верные предсказания бывают, будто бы, только за несколько дней. Но общего правила тут нет. <...> мы оба чрезвычайно рады, что горный воздух и тишина благотворно отражаются на Анне Родионовне. Да и вам очень хорошо отдыхать подольше. Т<атьяна> М<арковна> и я шлем Вам и Анне Родионовне самый сердечный привет и самые лучшие пожелания. Ваш иск<ренне> Вам признательный М. Алданов.
23 октября 1954 г.:
Дорогой Илья Маркович. Меня очень тронуло и взволновало Ваше письмо от 20-го: взволновало потому, что оно подает некоторую надежду (прежде у меня никакой надежды не было), а тронуло в виду Вашего необыкновенно <подчеркнуто от руки — М.У> милого ко мне отношения, Вашей заботы и труда в этом деле. От души вас благодарю — это просто удивительно. Не скрою, я все-таки не разделяю Вашего относительного оптимизма, не говоря уже об оптимизме Вашего <стокгольмского — М.У.> корреспондента. Здешние газеты называют Хемингуэя как почти бесспорного кандидата, а о других кандидатах и не упоминали. Парижский «Ле Монд», тоже упоминая, как о первом кандидате, о Хемингуэе, назвал еще Шолохова (как бы в виде противовеса эмигранту Бунину) и двух совершенно неизвестных мне писателей, — одного исландца и другого грека114. Были ли предположения в других газетах, я не знаю. Может быть, попадались Вам? Разумеется, я ни о чем вас не спрашиваю из того, что Вам пишет ваш корреспондент, столь мило ко мне относящийся. Но если он пишет Вам что-либо о русских кандидатах, как Шолохов или другие, то, быть может, Вы мне как-нибудь сообщите, — просто для того, чтобы знать, как нас расценивают. Если же это неудобно, то, конечно, не сообщайте и этого. Для меня лично важно и то, что обо мне в Стокгольме говорят: все становится более или менее известно издателям в разных странах (и особенно в скандинавских) <дописано от руки> — если кандидатуру такого то писателя на премию обсуждают, то уже по этой причине шансы его у издателей и даже, быть может, предлагаемые ему условия при покупке его книги улучшаются, — особенно если его фамилия в связи с этим попадает в газеты (конечно, только мировые) <дописано от руки — М.У>. Итак, надежды имею очень мало, но не скрою, немного волноваться буду в предстоящие дни, — это, впрочем, приятное волнение. До этого Вашего письма я такого волнения перед 10-ым ноября не испытывал.
В своем письме от 31 декабря 1954 г., окончание которого уже приводилось (см. раздел Гл. 5 «Илья Троцкий и русские масоны»), Алданов сообщает:
Дорогой Илья Маркович. <...> Для меня неудача не была шоком, так как я больших надежд, как Вам известно, не возлагал. К тому же и Бунин, и Хемингуэй и, кажется, все лауреаты были кандидатами много лет до того, как получили премию. Если и вы, и стокгольмские Ваши друзья-корреспонденты так любезно и мило решили продолжать усилия, то надежда остается. <...> Вы говорите, что подробно все расскажете мне при свидании. Я понимаю, что писать долго. А если в двух словах как-нибудь напишете мне, очень обрадуете. Кстати, Б.К. Зайцев мне недели полторы тому назад сказал, что узнал о своей кандидатуре из вашей статьи! По его словам, его никто не выставлял. Может быть, тут маленькая военная хитрость, хотя я его, конечно, не спрашивал; он сказал это по своей инициативе. Относительно себя я ему сказал, что меня выставил покойный Бунин, — это ведь так. Теперь другое. Я ровно ничего не знаю о положении дел в нашей Л./.115. Мендельсон и Делевский мне никогда не писали. От Давыдова116 же я последнее письмо получил с год тому назад (видел А. В. летом в Ницце). Ничего не слышал ни о ссоре, ни об инциденте, о котором Вы упоминаете. В чем дело? Я очень огорчен. Не догадываюсь даже, на какой почве произошел разлад. На личной?
Далее Алданов по обыкновению просит за нуждающихся русских эмигрантов:
<...> пожалуйста, дорогой Илья Маркович, поддержите мои ходатайства о ежемесячных субсидиях Бор<ису>Зайцеву и Леон<иду> Сабанееву, а также об единовременной субсидии поэту Георгию Иванову (кстати, В<ера> Н<иколаевна> Бунина мне говорила, что и Иванов, и Ремизов тоже выставлены кандидатами на Нобел<евскую> премию — Вы ведь назвали только меня и Зайцева). Еще меня попросил похлопотать в Фонде артист Бологовский, наш старый и постоянный клиент. Если вы от себя попросите о нем, это будет хорошее дело, он очень нуждается.
В 1955 г. свое первое письмо Алданов написал И.М. Троцкому только 14 апреля. Оно начинается соболезнованиями по поводу чрезвычайно плохого состояния здоровья Анны Родионовны Троцкой:
От души желаем, чтобы хоть стало лучше. Понимаем, как из-за этого тяжела Ваша нынешняя жизнь. Я тоже не могу похвастаться здоровьем, да не хочется писать.
Затем, после дежурной благодарности за содействие, Алданов сообщает, что М.М. Карпович о нем в Стокгольм не написал, но он и не надеялся, что <тот> напишет. Но Самсон Моисеевич <Соловейчик — М.У.> действительно написал. Хоть я мало надеюсь на премию, но я ему сердечно признателен и рад, что, по Вашим словам, мое имя и в этом году значится в списке кандидатов. А кто другие кандидаты? Есть ли соотечественники? Разумеется, пошлю Вам, когда Вы признаете это нужным, книги, которые могут Вам понадобиться. Кроме С.М. Соловейчика и покойного Бунина меня никто не выставлял. Рад, что в ложе кончились недоразумения. Надеюсь, никто не ушел? В Париже осенью предполагается устраиваемый американским Комитетом съезд русских эмигрантских писателей117. Я еще в декабре получил <...> длинную телеграмму с просьбой принять участие. Я это предложение отклонил, не указывая причин, Вы их угадываете. <...> Получил затем <...> вторую длиннейшую телеграмму — Комитет надеется меня переубедить <...>. Не могу я <...> понять, зачем это я так понадобился. Я опять отклонил, — разумеется, любезно и вежливо, как писали и они. <...> Было еще одно письмо из Парижа о том, что они намечали мою кандидатуру в председатели Съезда. Это было, впрочем, частное письмо, от русского. Как бы то ни было, я участвовать НЕ буду Все это сообщаю Вам, разумеется, никак не для печати: <подчеркнуто от руки — М.У>: мне было бы крайне неприятно, если об этом появилось хоть что-либо в газете. Кто теперь намечается в председатели, мне неизвестно. Вера Николаевна Бунина писала мне, что на устройство Съезда Американский комитет ассигновал 1о миллионов франков! Не понимаю, на что пойдут эти деньги, и чем будет заниматься Съезд. Желающих будет много. <...> О наших планах или о наших сомнениях Вам может рассказать наш общий друг Яков Григорьевич <Фрумкин — М.У.>. Столкинд еще не знает, когда возвращается в Нью-Йорк. Примите, кроме очень большой моей благодарности, сердечный дружеский привет от дома к дому.
13 мая 1955 г. Алданов пишет:
Мне предстоит в конце мая операция простаты. Она считается не опасной. Сделает ее здешний хирург Клерг. После нее в лучшем случае придется пролежать в клинике три-четыре недели. Надо будет отложить работу и корреспонденцию.
Далее Алданов благодарит Троцкого за его, по-видимому, лестный отзыв о «Ключе».
Этот роман — первый том трилогии, за ним следует второй том «Бегство» и третий «Пещера». С радостью послал бы их вам, но у меня их нет, да и в продаже можно достать разве по случайности у букиниста. Они были переведены. По-английски «Ключ» и «Бегство» вышли в одном томе под заглавием «Escape» <«Бегство» >. <...> Вам я не хочу посылать перевод <...>, но если это может быть полезным для Стокгольма, то, конечно, пришлю. Можно послать только обложку, — она с чрезвычайно лестными цитатами обо мне. Я слышал, что премия дается за написанное в данном году (по крайней мере, так это кажется с формальной стороны). В этом году у меня печатается в «Новом журнале» «Бред», — не надо ли послать его оттиски? Все сделаю, как вы укажете. Неужели ни одного русского писателя в этом году не выставляли? Думаю, что никто из нас в этом году и не получит. А надежды и старания не возбраняются, и вы знаете, как я благодарен вам и Соловейчику. Рад, что избран в Правление Литературного — М.У.> Фонда. <...> Шлем оба самый сердечный привет. Если можно, передайте его Анне Родионовне с самыми лучшими и горячими пожеланиями. Спасибо еще раз за все <вписано от руки — М.У.>. Ваш М. Алданов.
24 июня 1955 г.:
<...> Я только вчера вернулся домой из клиники. Как будто в самом деле нахожусь на пути к полному выздоровлению. <...> Несмотря на свою болезнь, продолжаю получать просьбы похлопотать. Последняя — от нашего давнего клиента артиста Бологовского. Я ее получил уже после отъезда отсюда Марка Ефимовича <Вейнбаума — М.У>. Поэтому разрешите передать ее через Вас. Заранее спасибо. <...> Постскриптум (секретно — только для Вас) <подчеркнуто от руки — М.У.>: Вы сообщаете, что скоро напишете мне о Стокгольме. Горячо благодарю. Чем раньше и подробнее напишете, тем больше буду Вам признателен, — как мне ни совестно вас об этом просить.
13 июля 1955 г.:
<...> Я поправляюсь, но медленно, — медленнее, чем обещали врачи. Все же грех жаловаться. Отравляет жизнь бессонница, которой я до операции не знал. Целый месяц каждую ночь принимал снотворные, да и они плохо помогали. Так как это грозило войти в привычку, то пять дней назад перестал их принимать и сплю — хорошо, если два-три часа в сутки. Говорят, что это очень часто бывает после операции. <...> Пожалуйста, сердечно от меня поблагодарите вашего корреспондента, которого я не знаю. Он меня тоже лично, вероятно, не знает, и тем выше я ценю его редкую любезность. <...> Теперь <...> еще три ходатайства. Все люди очень почтенные и нуждающиеся. Первым двум Фонд изредка помогал, а третьему только раз. Марк Ефимович Вейнбаум — М.У.> говорил мне в Ницце, что дела Фонда хороши, да я знаю это и из газет. Поэтому решаюсь очень просить за всех трех. Сообщаю их имена и адреса: Юлий Шейнер, автор двух хороших книг. <...> Сергей Постельников, композитор, пианист и профессор (без жалования) Парижской <русской — М.У> Консерватории. <...> Генерал Евгений Масловский, известный военный писатель, автор многих печатных трудов, герой войны 1914 года. <...> Пожалуйста, Илья Маркович, поддержите все эти мои ходатайства.
Письмо Алданова 22 сентября 1955 г. начинается с благодарности И.М. Троцкому за то, что он «продолжает думать о Стокгольме при столь грустных обстоятельствах», как прогрессирующая болезнь его жены:
Неужели нет надежды на поправку? А тут вы еще потеряли двух близких друзей. Разумеется, это известие удар для меня. Что ж делать? Это не первый. Вы понимаете, какой бедой и личной и материальной была для меня скоропостижная кончина Н.Р. Вре-дена118, который в Америке устраивал все мои книги. Все мои рукописи у него остались, я их теперь и не уверен, что найду. Все одно к одному... Сохраню память о неизвестном мне по имени вашем скончавшемся друге119, который относился к моим писаниям так благожелательно. Вы пишите: «Он... в отношении Вас все сделал согласно нами выработанному плану». Если так, то, быть может, дело еще не совсем безнадежно? Вдруг Вы и еще установите связь. Если же не удастся, то моя благодарность Вам останется не меньшей.
Переписка М. Алданова с И. Троцким по каким-то причинам, возможно, из-за тяжелой болезни жены последнего, прервалась почти на полгода. Лишь 31 мая 1956 г. Алданов посылает ему письмо:
...Пишу Вам так, без всякого дела. Очень давно не имел от Вас или о Вас известий. Ваши статьи в Новом русском слове читаю часто, всегда с большим интересом. Если б их не было, и если б я не знал, что Вы ходите на доклады, то немного беспокоился бы о состоянии вашего здоровья. Надеюсь у вас все относительно благополучно? Как Анна Родионовна? При случае, пожалуйста, сообщите, окончательно ли у вас потеряна информационная связь со Стокгольмом. Мою кандидатуру и в этом году выставил вовремя проф. С.М. Соловейчик. Разумеется, я ни малейших шансов и не малейшей надежды не имею, но по инерции, между нами говоря, еще интересуюсь. Выставлены ли в этом году и другие эмигрантские и советские кандидаты? У нас все по прежнему: и здоровье, и настроение, и дела так себе. Чеховское издательство кончено и ликвидируется. Эта большая потеря для всех нас. Татьяна Марковна и я шлем Вам и Вашим самый сердечный привет и лучшие дружеские пожелания.
Следующее — последнее — письмо Алданова датировано 1о января 1957 г.:
Дорогой Илья Маркович. Почта, обычно работающая во Франции прекрасно, в дни праздников была перегружена, все письма очень запаздывали. С немалым опозданием пришло и Ваше от 1 января <...>. От души Вас благодарю за все внимание, за большую проделанную Вами работу. Жаль, что нельзя больше поблагодарить Вашего друга, так трогательно заботившегося о писателе, которого он лично не знал. <...> Удивит ли Вас, если я скажу Вам, что теперь, быть может, надеюсь скорее чуть больше прежнего? Прежде я почти и не надеялся. Однако если дело было в политических отношениях между державами, то ведь они меняются с международной обстановкой. Вдруг создастся такая обстановка, при которой то, что вы сообщаете120, может оказаться и плюсом вместо минуса! Я уверен, что С.М. Соловейчик опять выставит мою кандидатуру: ведь это формально необходимо делать каждый год. <...> И еще раз от души Вас благодарю, чрезвычайно ценю Вашу дружбу и внимание. Вы ничего не сообщаете об Анне Родионовне: значит, нет улучшения? Татьяна Марковна и я шлем вам от дома к дому самый сердечный привет, самые лучшие новогодние пожелания.
Ваш М. Алданов.
Через полтора месяца после написания этого письма, 25 февраля 1957 г. Марк Александрович Алданов (Ландау) скоропостижно скончался в своем доме в Ницце и был похоронен на местном кладбище Кокад. Через две недели, 9 марта, Татьяна Марковна Алданова присылает И.М. Троцкому почтовую открытку, в которой, поблагодарив его за соболезнования, пишет:
Еще недавно М.А. рассказывал мне про все Ваши хлопоты о Нобелевской премии! Мы оба тогда были очень тронуты. Простите, что мало пишу. Ваша Т. Алданова.
В архиве И.М. Троцкого имеются еще два коротких соболезнующих письма Т.М. Алдановой: первое — от 12 июля 1957 г., по поводу кончины Анны Родионовны Троцкой, и второе — от 1о сентября 1957 г., в связи с безвременной кончиной его старшей дочери Татьяны Шлезингер.
«В запутанных узлах»: Переписка И.М. Троцкого, Алексея Жерби и Т.С. Бартер
В историографии русского Зарубежья имена Алексея Жерби и Татьяны Варшер до сих пор находятся в тени забвения. Если фигура Варшер привлекает к себе внимание итальянских славистов121 и о ней помнят специалисты-археологи, занимающиеся эпохой эллинизма122, то Жерби забыт прочно. Поэтому приведем биографические справки об этих эмигрантах первой волны.
Алексей Жерби — литературный псевдоним, под которым печатал свои публицистические статьи Людвиг Григорьевич Герб (4 декабря і873, Петербург — 27 июля 1966, Западный Берлин), русский журналист и общественный деятель, социал-демократ. Подробные сведения о его жизни и деятельности, к сожалению, отсутствуют. Известно только, что учился он в Германии и Швейцарии, где прошел курс естественных наук. Участвовал в революционном движении. После революции эмигрировал. В 1932-1941 гг. жил в Ницце, затем уехал в США. Многие годы являлся членом Нью-Йоркской группы российских социал-демократов. С 1951 г. ежегодно приезжал во Францию, подолгу находился в Ницце. Сотрудничал в газетах «Новое русское слово» и «Русская мысль». В 1962 г. в Ницце участвовал в вечере Литературно-артистического общества.
Татьяна Сергеевна Варшер (18 июня 1880, Москва — 2 декабря 1960, Рим). Ученый-археолог, специалист по античности, публицист. Родилась в семье видного российского историка литературы и педагога С.А. Бартера, происходившего из крещеных польских евреев. Ее мать, Нина Депельнор, имела французских предков. Отец Бартер умер, когда ей было всего 8 лет, и девочка воспитывалась на стороне. Большое влияние на ее воспитание, поддержку в получении образования и выборе профессии оказал П.Н. Милюков, благодарность и любовь к которому она пронесла через всю свою жизнь.
Она страдала от нелюбви матери, прибегая к защите отца, который, к ее огромному горю, скоропостижно скончался в 1889 г. в возрасте 33 лет — ей же было всего 8. Тогда в поисках отцовской фигуры она и выбрала Милюкова, который еще и при жизни Сергея Бартера обласкивал девочку в тяжелые моменты материнской критики. Ее старался утешать и дед по материнской линии, отпрыск французских аристократов и знакомец Пушкина, — позднее Милюков упрекал Татьяну за то, что она не расспрашивала своего деда о пережитом123.
Татьяна Бартер училась на женских Бестужевских курсах в Петербурге, на историческом факультете, у академика Михаила Ивановича Ростовцева. Под влиянием знаменитого ученого она на всю жизнь увлеклась античностью. В своей статье «Т.С. Бартер (к тридцатилетию ее научной деятельности)», машинописная копия которой, датированная «16 марта 1937 года (Сингапур)», хранится в YIVO-архиве И.М. Троцкого, М.И. Ростовцев пишет:
Моя ранняя любовь были Помпеи. От меня эту любовь унаследовала Т<атьяна> С<ергеевна>. <...> Т<атьяна> С<ергеевна> осталась верна Помпеям на всю жизнь. И я ее понимаю. <...> Т.С. Бартер — большой знаток Помпей. Один из лучших, если не лучший, среди живущих европейских и американских ученых. В Помпеях она знает каждый угол и каждый камень.
По окончанию курсов в 1907 году Татьяна Бартер переселилась в Ригу, где работала преподавателем. В 1911 г. она вышла замуж и во время медового месяца посетила с мужем Помпеи. После внезапной смерти мужа в 1913 г. Варшер вернулась в Санкт-Петербург, где, помимо научной работы, вела активную политическую деятельность как член конституционно-демократической партии (кадеты). Вскоре она вторично вышла замуж — за родного брата мужа, вдовца, чтобы помогать ему в воспитании детей. Во время Гражданской войны ее второй муж, воевавший в Белом движении, погиб. В 1920 г. Варшер эмигрировала из Советской России в Латвию, а затем перебралась в Берлин. Здесь она активно занималась журналистикой: была сотрудником газет «Сегодня», «Руль», «Последние новости» и др., написала книгу воспоминаний о стране Советов в эпоху военного коммунизма124. В Берлине Варшер, по природе человек импульсивный и общительный, обрастает широким кругом литературных знакомств. В частности, именно в это время она сдруживается с Ильей Троцким и Алексеем Жерби.
В июле 1924 г., откликнувшись на предложение М.И. Ростовцева, Татьяна Варшер уезжает в Рим125, затем перебирается в Помпеи, где в дальнейшем будет проводить большую часть времени. В YIVO-архиве имеется рукописная биографическая справка, составленная Т.С. Варшер «На всякий случай (Н.И. Яблоновская напутала)», в которой указаны следующие даты ее послереволюционной эмигрантской жизни:
Из России выехала 1 авг<уста> 1921 в Ригу. В Риге пробыла до марта 1922. Март 1922 — март 1924 — Берлин. Март 1924 — июль 1924 — Париж. С июля 1924 безвыездно в Италии — значит почти 33 года!
Варшер тесно сотрудничала с Немецким Археологическим Институтом в Риме126, а также с Йельским университетом (США), который при прямом посредничестве М. И. Ростовцева вплоть до начала Второй мировой войны частично финансировал ее научные работы. Научная активность Варшер в те годы была столь интенсивна, что ей даже пришлось оставить публицистическую деятельность. Осень 1926 г. Варшер проводит в Сорренто у княгини Е.К. Горчаковой на вилле «Сиракуза»127, где часто собирались остатки высшего общества Российской империи. В этом же году Татьяна Сергеевна исследует храм Изиды в Помпеях, фрески которого уже были перенесены в Государственный Археологический Музей Неаполя. В Помпеях и Сорренто она занимается раскопками и делает множество фотографий, которые до сих пор используются в научной литературе. По авторитетному утверждению М.П. Ростовцева в вышеупомянутой юбилейной статье о Т.С. Варшер: «Ее коллекция фотографий — фотографий деталей — единственная в мире». В 1929 г. Варшер возобновляет свое сотрудничество с «Сегодня» в качестве римского корреспондента, сменив на этом посту своего друга Михаила Первухина128, скончавшегося в конце 1928 г. Она печатается в «Сегодня» вплоть до 1940 г., когда газете была закрыта советскими властями. После войны Варшер публиковалась в парижской газете «Русская мысль». Похоронена Т.С. Варшер на кладбище Тестаччо в Риме.
В своей публицистике 1920-Х-1930-Х Татьяна Варшер, числясь римским корреспондентом газеты «Сегодня», выступала главным образом как очеркист. После Второй мировой войны «Русская мысль» публиковала главным образом ее некрологи-воспоминания129.
Ее итальянские очерки весьма и весьма интересны с исторической точки зрения. В них Варшер, в прошлом активный функционер российской партии конституционных демократов (кадеты), уделяя сравнительно мало внимания главным политическим событиям на итальянской сцене, всячески превозносит личность диктатора Муссолини, подчеркивает позитивную направленность его реформ. Присущие в те годы Варшер профашистские симпатии очевидны из ее статей:
Фашистский гимн сливается с церковными песнопениями. Порядок образцовый, — никто друг другу не мешает. Муссолини сделал великое дело, которое давно уже нужно было сделать: примирение Церкви и государства, по общему мнению, послужит только взаимной пользе, укреплению и развитию130.
Он <Муссолини> говорит чрезвычайно ясно, ни одна буква не пропадает в его речи. Наоборот: в слове irevocabilment (непреложно, неотменно) я слышу три «р» и два «б». После каждой фразы — пауза. Он ждет, пока передадут его слова на иностранных языках по радио. Больше всего вызывают восторг слова — «война окончена»131.
Один из лучших памятников античной культуры — это театр Марчелло, посвященный памяти рано умершего племянника и наследника императора Августа: теперь он выступил во всем своем величии, а всего лишь 4 года тому назад под его арками были лавки старьевщиков. Разрушили целый ряд домов, безобразных домов, и теперь с набережной Тибра открывается широкая панорама на площадь со старинными храмами, арку аргентариев и на «Палатин»; <...> Само собой разумеется, что насильственное выселение из насиженного гнезда — мера жестокая, но принимаются всяческие меры для облегчения участи выселяемых, выдают средства на переселение, дают возможность заранее избрать новое жилище. Как всегда в подобных случаях, кто-то теряет, а кто-то выигрывает, но население Рима, в общем, только выигрывает132.
Страсть к античности и архитектурным шедеврам, похоже, делает Т. Варшер нечувствительной к социальной проблематике, судьбам простых людей, теряющих свои жилища и средства к существованию. В корреспонденциях Варшер простой народ — не более чем мелкое препятствие на пути реализации великих градостроительных преобразований, осуществляемых тщеславным Муссолини:
Так ли уже изменился Неаполь за почти 30 лет, что я знаю его? Конечно, очень изменился. Рядом с почтой, о которой я уже писала, выросли и другие огромные здания. Здание Неаполитанского банка — чудо современного архитектурного искусства: один этаж сплошь стеклянный. <...> Но дело не только в новых зданиях. Изменились обычаи. Нет страшных старух, считавших, что улица — продолжение их квартир, нет мальчишек — пристающих к иностранцам... нет оглушительного крика торговцев — и не слышно больше выстрелов — бичом — этим искусством славились и гордились неаполитанцы, — ведь уже и извозчиков почти не осталось133.
Здесь необходимо заметить, что фигура Муссолини, в отличие от Гитлера, привлекала в 1930-х симпатии многих европейских интеллектуалов консервативных убеждений. В первую очередь следует упомянуть знаменитых в то время английских писателей и публицистов X. Беллока и Честертона. Последний, например, в 1929 г. встречался с Муссолини, хвалил его как человека, но не защищал фашизм как движение, хотя утверждал, что лучше чернорубашечники, чем плутократы. Честертон предпочитал одобрительно молчать о Муссолини и тоталитарной диктатуре Франко, однако резко отрицательно относился к Гитлеру, не принимая его антисемитизм и беззаконие134.
Муссолини, в первое «фашистское десятилетие» (1926-1936 гг.) позиционировавший себя католиком-традиционалистом, поборником национальной стабильности, в 1938 г. по настоянию Гитлера ввел в стране «расовые законы». Однако, в отличие от нацистской Германии, их исполнение повсеместно саботировалось на местах, и до немецкой оккупации Северной и Центральной Италии в сентябре 1943-го ни один еврей на контролируемых итальянцами территориях не был депортирован в немецкие лагеря уничтожения135.
Из известных деятелей русской культуры в эмиграции симпатии к «великим диктаторам» того времени — Муссолини, Франко, Пилсудскому, публично демонстрировал близкий знакомый Т.С. Варшер — Мережковский — вселенский христианин и «христианский анархист», возомнивший себя
<...> предтечей грядущего Царства Духа и его главным идеологом. Иными словами, в его представлении они (вожди — М.У.) должны были нуждаться в нем, а не он в них. Диктаторы, как Жанна д’Арк, должны были исполнять свою миссию, а Мережковский — давать директивы136.
В начале 1930-х Д. Мережковский, старавшийся обрести покровительство дуче, жил по приглашению последнего в Италии. Он трижды встречался с Муссолини: 4 декабря 1934 г., 28 апреля и 11 июня 1936 г. В итоге итальянское правительство оплатило пребывание Мережковского в Италии для работы над исследовательско-биографической книгой «Данте» (на итальянском: Болонья, 1938; на русском: Брюссель, 1939). Во время пребывания в Риме супруги Мережковские все время «находились под контролем политической полиции»137. Живя в «Вечном городе», они часто виделись с Вячеславом Ивановым — своим старым товарищем из стана русского символизма, и его хорошей знакомой Т.С. Варшер, с которой Гиппиус состояла в переписке с конца 1920-х по конец 1930-х.
С редкой для нее дружественностью и теплотой Гиппиус писала в 1937 г. в статье «Душа живая (К юбилею Т.С. Варшер)»138, машинописная копия которой с пометками И.М. Троцкого хранится в его YIVO-архиве:
<...> нельзя, невозможно не завидовать ее энергии, силе жизни и глубине сердца, не говоря уже о какой-то общей талантливости ее существа. Мы оба, я и Мережковский, благодарны судьбе за встречу с ней.
Однако «оба» — это всего лишь фигура вежливости по адресу юбилярши. В действительности дружила Варшер только с Зинаидой Гиппиус, поскольку Мережковский ее не выносил — она раздражала его своими бесконечными рассказами об археологии139.
Что же касается собственно Татьяны Варшер как человека и гражданина, то итальянский фашизм она, скорее всего, воспринимала не «идеологически», а сквозь призму своего профессионального увлечения античной культурой. Для нее было чуждым видение фашизма Муссолини в контексте провиденциальных мечтаний Мережковского или идей другого духовного вождя русского символизма — Эмилия Метнера, считавшим его «социальным эквивалентом возрождения через психотерапию личности»140. Прежде всего Варшер была «ученой женщиной» — археологом и специалистом по античной истории. Итальянское же фашистское правительство, заинтересованное в изучении истоков нации, открыло несколько специализированных исторических институтов общенационального значения: Институт новой и новейшей истории, Институт древней истории, Институт нумизматики, Институт истории средневековья, Институт истории Рисорджименто. Все это сопровождалось существенным расширением бюджетных ассигнований для исторических научных учреждений. При всех своих различиях в идеологии и политике все тоталитарные страны Европы (нацистская Германия, Италия, Испания, СССР) стремились превратить научные разработки, в первую очередь гуманитарной направленности, в свое идеологическое орудие. Министерство национального воспитания Италии, например, открыто требовало, чтобы исторические исследования в Италии были, наконец, направлены в русло того единства директив, которое составляет фундамент, необходимый для развития исторических наук и для нашего освобождения от иностранной культуры141.
Несмотря на ангажированность итальянской гуманитарной науки того времени, ее нацеленность на изучение артефактов Римской империи несомненно импонировала Т.С. Варшер, а идеологическую компоненту официального интереса к истории античности она не замечала или (как это наблюдалось и в научном мире СССР) воспринимала как своего рода неудобство, с которым нужно мириться и аккуратно обходить.
По заказу итальянского правительства Варшер работала, в частности, над «Топографическим кодексом Помпей» («Codex topographicus pompejanus»), до сих пор являющимся классическим научным пособием в своей области. Что же касается собственно муссолиниевской «доктрины фашизма», то маловероятно, чтобы горячей поклоннице либеральных демократов П.Н. Милюкова и М.И. Ростовцева были по душе антиперсоналистский пафос тоталитаризма, «стройность и четкость фаланг новых цезарей».
Большую часть своей жизни Татьяна Варшер посвятила изучению раскопок Помпеи и Геркуланума, а также исследованию античной истории в период расцвета этих городов. В этой области ее творчество плодотворно и разнообразно. Она опубликовала на немецком языке туристический «Путеводитель по помпейским руинам»142, который в 1930 г. перевела и издала на английском «Помпеи за три часа»143; создала подробную фотографическую документацию помпейских археологических раскопок, уделив особое внимание изобразительным мотивам их живописи (большинство фотографий датировано 1942 годом); составила в 1940-1942 гг. до сих пор, к сожалению, неопубликованный «Catalogo illustrate degli affreschi del Museo nazionale di Napoli» («Иллюстрированный каталог фресок Государственного Музея Неаполя») и монументальный «Codex topographicus pompejanus» (состоящий из 25 томов) — над ним она работала с начала 1920-х и до конца жизни144.
16 мая 1957 г. в нью-йоркской газете «Новое русское слово» была опубликована статья И.М. Троцкого «Татьяна Варшер (К 50-летию ее научной и литературной деятельности)». Читаемый сегодня, текст, написанный в манере «юбилейного панегирика», выглядит на удивление сухим и отстраненным. Поздравляя юбиляра, автор мало говорит о ней от себя лично, довольствуясь определениями общего характера: «кипучий темперамент», «неуемная энергия», «жизнерадостность», «творческий пыл», «задор молодости» и т.п. При этом он опускает даты и другие «знаковые» биографические подробности жизни Т.С. Варшер, хотя добросовестно перечисляет имена археологов и историков античности, которые высоко оценивали ее научные достижения. Текст юбилейной статьи выглядит достаточно странно, поскольку И.М. Троцкий, как уже упоминалось, был не только знаком с Татьяной Сергеевной с начала 1920-х (факт, который она подчеркивает в своем личном обращении к нему, публикуемом ниже), но и, как явствует из тональности ее письма, поддерживал с ней весьма дружеские отношения. Более того, статью Зинаиды Гиппиус «Душа живая», судя по карандашным пометкам, Троцкий читал очень внимательно; по всей видимости, ему было важно уяснить, какие именно характеристики женщины-ученого выделила в качестве наиважнейших женщина-литератор — их общая знакомая, признанный мастер литературного портрета, известная своим острым глазом, у которой, по меткому определению современника-рецензента145:
Хороши не только чрезвычайно своеобразные описания, но и замечания в сторону, всегда умные, часто злые и насмешливые.
В своей статье И.М. Троцкий цитирует З.Н. Гиппиус очень выборочно, поэтому приведем заинтересовавший его отрывок полностью:
Для русского человека быть в Риме и не видеть Татьяну Варшер гораздо непростительнее, чем не видеть Папу. Кто она? Ученая женщина? Да. Но если б она была только это, или даже если б походила, главным образом, на «ученую женщину» в обычном представлении, мне, портретисту, описателю «Живых лиц», нечего было бы о ней сказать. О ее работах, ученых заслугах в археологии, уже достаточно писалось специалистами: пусть они и продолжают, у меня же своя специальность.
«Самое интересное в мире, — говорю я в одной из моих статей, — это “живой человек”. Весь, как он есть, настоящий, с его душой, с его талантом, с его ошибками, с его особенностями... ведь каждый — единственный». Я и теперь так же думаю, но это относится, конечно, только к живому человеку: есть, и очень много, полумертвых, даже совсем мертвых, таких, чьи души по слову давно мучаются в аду, пока тела их пребывают на земле. Татьяна Сергеевна Варшер именно тем и пленяет, что она «живой» человек в самой высшей степени. В нее попало столько бергсоновского élan vital146, что не всякий бы с ним справился, да и сама она не всегда справляется. Во всем, за что она ни берется, или что на пути не встречается — от главного, научной работы, которой она живет, до журналистики, и даже вплоть до мелочей жизни, — решительно во всем чувствуется эта ее бурная сила. Если, в отдельных случаях жизни, взрывы бывают не в меру того или другого обстоятельства, то надо признать, что лишь эта сила и способность взрывов могли помочь Т.С. в ее борьбе с жизнью, с судьбой, сохранить ее «живым человеком», и ее труд.
Но и другое еще хранило и хранит Татьяну Сергеевну: это неутомимая и неутолимая, откуда-то из глубин сердца идущая, — доброта. Не та quasi христианская доброта, ровная с холодком, <...> а тоже бурная, страстная, личная, похожая, если уже сравнивать, на «расширенное материнство». Так она относится ко многим из своих учеников и учениц, местных или группами приезжающих из различных стран, чаще из Англии. Эта молодежь — не праздные туристы. Т.С. часто сопровождает их в Помпеи, — «царство Варшер», как я говорю иногда, смеясь. Некоторые из этих молодых англичан остались с ней и до сих пор в самых милых отношениях, пишут ей из Англии. Но не этих одних принимает в душу Т.С. Достаточно ей столкнуться с каким-нибудь человеком в несчастьи, временном или постоянном (эти — чаще бывают русские) — она, если ей симпатичен, начинает действовать не жалея сил и времени, бегает по Риму, пишет письма, а пока пристраивает «усыновленного» к себе, делится своим куском хлеба. А кусок этот очень невелик...
Метафора «неутомимая и неутолимая доброта, похожая на расширенное материнство», в тексте Гиппиус подчеркнута Ильей Троцким особым образом. В своей статье он пишет, что
«Расширенное материнство» Т.С. ярко проявилось в печальную эпоху кровавого разгула нацизма в оккупированной гитлеровцами Италии. Татьяна Варшер, часто с опасностью для жизни, оказывала посильную помощь жертвам наци-фашистского террора.
Несмотря на явно комплиментарную оценку личности Варшер:
ни годы, ни лишения, ни эмигрантские мытарства не охладили ее темперамента, не обескрылили творческого полета ее мысли,
— предыстория написания этой статьи связана с интригой, касающейся самой репутации юбиляра в глазах русской эмиграции в США.
Как уже отмечалось, после окончания Второй мировой войны в эмигрантской среде не утихали обвинения тех или иных литераторов в коллаборационизме или симпатиях к нацизму. Надо признать, что такие обвинения были, порой, следствием и межличностных конфликтов — склок, ссор и обид, всегда раздиравших русское эмигрантское сообщество. Фигурантами в делах подобного рода стали, в первую очередь, знаковые фигуры из числа пережившей лихую годину писательской братии: Георгий Иванов, Нина Берберова и Иван Шмелев. Если Берберовой и Г. Иванову и удалось доказать беспочвенность выдвинутых против них обвинений, то Шмелеву отмыться добела не удалось, и для таких людей, как, например, Иван Алексеевич Бунин, он до конца своих дней остался «сукой замоскворецкой»147.
Последним из подобного рода разборок является, повидимому, инцидент 1956 г., связанный с обсуждением нью-йоркской эмигрантской общественностью книги В.С. Варшавского «Незамеченное поколение» и отчетом Ильи Троцкого об этом событии, опубликованном в «Новом русском слове»148. В нем, утверждая, что лично ему
книга многое дала и объяснила, вскрыв психологию целого поколения, блуждавшего по социальной периферии эмигрантского быта, в поисках какой-то своей правды,
— И.М. Троцкий одновременно отметил:
Д.Д. Григорьев, один из деятелей солидаризма149, выступил с покаяниями, пытаясь оправдать свою организацию в легкомысленном увлечении нацистской идеологией. Говоря о книге Варшавского, он свидетельствует, что последний беспристрастно и правильно обрисовал путь развития его организации, не скрывая ее увлечения тоталитаризмом. — Казавшаяся сила, подчеркивает он, стройность и четкость фаланг новых цезарей пленила воображение новых эмигрантов, живших на обломках развалившейся империи, в часто недружелюбном мире. Эти юные эмигранты долго не замечали за стройными, стальными рядами нацистов черной духовной бездны150.
Сам Дмитрий Григорьев тут же поспешил отмежеваться от подобного рода оценки его выступления. Он обратился к главному редактору газеты М.Е. Вейнбауму с опровержением:
Глубокоуважаемый Марк Ефимович, в отчете Ильи Троцкого о симпозиуме <...> по поводу книги В. Варшавского «Незамеченное поколение» <...>, говорится, что я как «один из деятелей солидаризма выступил с покаяниями, пытаясь оправдать свою организацию в легкомысленном увлечении нацистской идеологией». Это заявление г-на Троцкого ошибочно, с «покаяниями» я не выступал, а сказал, что автор беспристрастно и правильно обрисовал путь развития организаций, созданных его поколением, в частности, НТС, не скрыл и их увлечения тоталитаризмом, но отметил извечное мистическое стремление русской студенческой молодежи служить высшему общечеловеческому идеалу и высшей Правде151.
Дальнейшего развития на страницах «Русского слова» эта тема не получила, по-видимому, вследствие ее фактической исчерпанности: большинство фигурантов уже к этому времени отошло в мир иной и вопрос из актуального превратился в предмет научного исследования.
Волны обвинений в симпатиях нацизму не обошли и Татьяну Варшер, чьи похвалы Муссолини и долголетнее тесное сотрудничество с итальянскими и немецкими научными учреждениями, находившимися под жестким контролем фашистов и национал-социалистов, были в свое время, без сомнения, замечены многими и в том числе И.М. Троцким. Об этом свидетельствует письмо Татьяны Сергеевны, посланное ею их общему с Троцким старому знакомому — Алексею Жерби, в то время тоже проживавшему в Нью-Йорке и сотрудничавшему с «Новым русским словом»:
Via Cino da Pistoia 9 18.04.1957 Roma 8-17 T. Warscer
Христос Воскресе, дорогой Алексей Григорьевич!
По случаю Пасхи — надеюсь, Вы не пошлете меня ко всем чертям! Илья Маркович упорно не отвечает мне на письма! И потому приходится надоедать главным образом Вам. Вчера пришла статья Н.И. Яблоновской152, — я ей вполне удовлетворена — хотя там есть неточности <...>. Но я перевела эту статью — сначала своему ученику — американцу153 (ему скоро будет 30, — он уже назначен assistent professor с осени 1957 — а затем итальянскому профессору; и они остались статьей крайне недовольны. Они говорят — что <в ней> пишут о даме, которая за 46 лет работы «скомпилировала» 48 томов! «А где же ваше творчество, где разрешение проблем!»
Кодекс154 я начала писать в 1930. До осени 1938 г. все тома прошли через цензуру Ростовцева. Затем мне удалось послать ему <еще> 5 томов. А затем война, а затем болезнь Ростовцева...
Дело не только в том — (Вы уже писали мне не скромничайте — а ложная скромность = (если не хуже) самомнению) — дело не в том, что знаменитый профессор Paolo Mingazzini (Паоло Мингаццини), <когда> подошел к полкам, заставленным моими фолиантами — сказал: «Не могу себе представить, что это работа двух рук! Мне кажется, что тут работала целая комиссия!»... Не только в этом дело, а в том, что на каждом шагу — приходилось ставить и решать проблемы (Ростовцев писал: а их — легион). Конечно — больше ставить! Так, например, — вопрос об эволюции дома; я поставила разрешение этого вопроса не только в связи с изобретением стекла, но и с проведением водопровода. Оконное стекло и водопровод — в конце I в. по Р. Хр. — сделали ненужным атриум! Это специальный вопрос — но я и читала и слышала: «Как окончательно установила Т. Варшер».
Затем — реализм в живописи. Ростовцеву было 23 года, когда он, описывая только что открытый дом Веттиев155, заговорил о реализме во фресковой живописи. Я этот вопрос разработала — напри<мер>: в саду дома стоит огромный dolium = терракотовая кадка. Дом был раскопан в 1829 г. Раз десять писали о том, что эта кадка попала <сюда> случайно, — внутренний сад перестраивался, кадка была с цементом. Я нашла такие dolia — в живописи — и указала на то, что кадка была с пальмой, и таких кадок было 4 — в каждом углу, и место кадки было обозначено — камушками, положенными кругом. <...> И таких — проблем — действительно, легион.
Теперь о работах моих учеников. Я беру только двух: George Kenneth Воусе — Corpus Lararium156. Наши «киоты» происходят от них. <...> Книга Воусе считается классической. <...> Lawrence Richardson — теперь профессор Yale University157.
Далее в тексте письма большая лакуна, поэтому содержание можно восстановить лишь по смыслу, исходя из отрывочных фраз о работе Lawrence Richardson по идентификации художников на росписях Древней Помпеи, Геркуланума и Стабии, которые, к сожалению, все анонимные, лишь только один художник расписался, и — по иронии судьбы — самый плохой! Имен других мы не знаем158
После рассказа о научных успехах своих учеников Баршер вспоминает о своем «первом общественном выступлении» — ее публичной отповеди профессору И.А. Шляпкину, позволившему себе в одной из своих лекций на Бестужевских курсах антисемитские высказывания. Эту историю, получившую тогда неожиданно большой общественный резонанс159, Бартер описывает и в другом своем письме (см. ниже письмо Т.С. Бартер к А. Жерби от 5 апреля 1957 г.). Здесь же она, как важный «курьез», отмечает, что <...> в 1918 г. <...> в Литературной столовой ко мне подошел Шохор-Троцкий (математик), представился мне и сказал, что он помнит о моем выступлении: барон Гинзбург160 прислал мне тогда в кассу бедных студентов 500 рублей и о случае было известно в еврейских кругах Петербурга. Если в статье обо мне будет рассказано об <этом> моем первом общественном выступлении — я буду рада.
<...> В Н<овом> р<усском> с<лове> — 1о октября 1950 года есть статья «70 летие Т.С. Варшер-Сусловой»161. Суслову надо отставить — будут говорить, что я родственница большевику162. И, ради Бога, ничего не говорите о моем тяжелом материальном положении. У меня хорошая квартира, я живу с приемной дочерью, на прокормление <...> более или менее хватает. А когда присылает «Литературный фонд» — хватает и на другое необходимое. А воззвание кончится тем, что кто-нибудь пришлет 2 доллара, — а унижений на 1000.
И.М. Троцкому я пошлю письмо Halperin'а163 — так, чтобы навсегда покончить со сплетней — клеветой, что я была наци. Откуда это исходит — я, конечно, знаю. Это грязь, — в ней не надо копаться, согласно русской пословице «не тронь... не завоняет».
Простите, что отняла у Вас много времени.
Преданная Т. Варшер
Приписка:
Мой любимый американский ученик прислал мне денег специально на почтовые расходы! Материалы высланы на Ваше имя 25.03.
Среди бумаг И.М. Троцкого письма Halperin'а не обнаружено, зато имеется предыдущее письмо Т.С. Варшер к
А. Жерби — от 5 апреля 1957 г., в котором говорится следующее:
Дорогой Алексей Григорьевич, итак я опять потерпела неудачу в Н<овом> Р<усском> С<лове> — конечно, дело не в том, что нет места, — а в чем я не знаю! <...> Я и написала гл<авным> обр<азом> для того, чтобы окончательно убедиться в том, что г. Вейнбаум меня печатать не желает. Ну и не надо!
Кстати, — я сейчас понемногу готовлюсь к смерти: уничтожаю письма. (Письма Ростовцева сохранятся в Американской Академии в Риме164) нашла письмо Алданова — поздравление к 30<-летнему — М.У.> юбилею; но главное — нашла письмо еврея-журналиста Halperin'а — он был в концентрационном лагере, и я послала ему теплую одежду (не помню что) и денег (не помню сколько). А главное: лагерь был расположен под горой165, а на горе была вилла принчипе Doria Pamphil<i>166 <...> Они посылали еду заключенным евреям. У меня были связи с Doria... и они посылали <...> рационы и по моему списку. Князь Doria и Mussolini были ярыми врагами, — одно время Doria был тоже в концентрационном лагере. Но — за несколько месяцев до немецкой оккупации — был освобожден. Что касается до немцев, то они вошли в его дворец с главного входа, а Doria — с женой, сестрой и дочерью, вышли с другого входа, и пошли в Ватикан, где их ждали. Жена Doria (теперь покойница)167 была раньше его инфермьершей168, она его выходила, и он женился на ней. Это была милейшая <особа> и я с ней встречалась у моей приятельницы-англичанки. Она тяготилась своим положением — жены одного из первых аристократов, несметно богатого Doria.
Пишу Вам об этом, чтобы Вы поняли, как все это случилось.
Об Алданове я боялась писать — все же я его мало знала.
В «Биржевых ведомостях» был сотрудник Измайлов169 — <я> с ним познакомилась в Литературной столовой. Так вот, у Измайлова были стихи о том, как человек писал воспоминания о великих людях, с которыми он был знаком. <...> Смысл их таков. «Стоял я у витрины, и рядом со мной стоял человек, и тоже рассматривал вещи в витрине. И вдруг он закричал: «Черт косолапый, наступил мне на самый любимый мозоль!» Смотрит, — а это сам Достоевский!»170
Помните Вы, как в Суворинском театре171 поставили юдофобскую пьесу «Контрабандисты»172. <...> одним словом — скандал в большом размере.
С этой историей связано мое первое общественное выступление. Проф<ессор> Шляпкин, ни к селу, ни к городу, — на лекции по древней русской литературе расхвалил «Контрабандистов».
На следующую лекцию собрались все бестужевки, кот<орые> были в здании. Мне поручили сказать ему слово. Когда он вошел, я встала и громко и отчетливо сказала: «Мы собрались не для того, чтобы слушать Вашу лекцию, а чтобы выразить Вам общественное порицание по поводу Вашей первой лекции», — потом что-то я сказала о славянофилах... а заключила речь словами: «Имейте в виду, что слово жид — совсем не парламентское слово!!» Мне было 20 лет, я была на IV курсе, была фанатической ученицей Ростовцева. Меня должны были исключить, но меня отстоял Ростовцев, да и Шляпкина заставили профессора сознаться, что он зарвался.
Как видно из писем Т.С. Варшер, она была отнюдь не лишена честолюбия и, несомненно, надеялась, что если не Троцкий, то Жерби напишет о ней подробную статью. Однако А. Жерби передал ее письма вместе с биографической справкой, заметкой Варшер о М. И. Ростовцеве и Ростовцева о Т.С. Варшер Илье Троцкому. Несомненно, сделано это было для того, чтобы обелить имя Варшер в его глазах, поскольку тот, будучи секретарем «Литературного фонда», имел непосредственное отношение к изысканию и распределению средств, направляемых фондом в помощь нуждающимся литераторам, деятелям культуры и ученым из числа русских эмигрантов. В любом случае юбилейный панегирик Т.С. Варшер — но не обстоятельная статья о ее жизни и деятельности, как того желала юбилярша — был написан для «Нового русского слова» именно И М. Троцким.
Как явствует из пометок Троцкого, заметку Варшер о Ростовцеве он проштудировал весьма внимательно, хотя и не использовал в своей статье весь этот материал:
Мое самое яркое воспоминание о М. И. Ростовцеве
Было это осенью 1934 г. Ростовцев с женой и я были в Помпеях. Директор раскопок Matteo della Corte173 пригласил нас к обеду. Della Corte тоже замечательный ученый: лучший знаток, а главное, чтец надписей. «Он чудотворец, — говорил о нем Ростовцев. — Для нас с вами несколько царапин на штукатурке стены, a Della Corte читает целое стихотворение, или, по крайней мере, глубокомысленное изречение уличного гуляки». <...> перед нашим приходом принесли из раскопок драгоценную находку: несколько обугленных деревянных табличек. Эти таблички (самая богатая находка имела место в 1875 г., в доме банкира, или просто дельца Цецилия Юкунда174) — обычно коммерческие: векселя, расписки и контракты. Della Corte и Ростовцев читали их — как обыкновенные смертные читают газеты: быстро, быстро, одну табличку за другой. И Ростовцев стал давать комментарии. Тут были цитированы законы, историки, постановления сената. И все это без всяких справочников, без единой книги. В руках были таблички, а книги — в мозгу Ростовцева.
В октябре Della Corte исполнится 8о лет175. Он в отставке, но продолжает работать. <...> И когда я приезжаю в Помпеи — мой первый визит к Della Corte и его жене. И больше всего гордится Della Corte фотографиями, где он снят вместе с Ростовцевым.
«Чем я больше всего горжусь»
Мне было 19 лет176. Я была бестужевкой. Я прочла свой реферат Семейный культ в римской религии — что-то весьма ученое! После реферата мы пошли пить чай к Ксене Бондаревой: среди нас она была богачкой и могла позволить себе роскошь — пригласить 12 человек. Она не решилась пригласить Соню Кульчицкую: для нас было ясно, что она <...> будущая жена Ростовцева и что Ростовцев будет у нее177. Во время чаепития я громогласно заявила, что Ростовцев, когда ему будет не 29 лет, а 39, будет одним из самых знаменитых профессоров в России. Многие отнеслись к этому <предсказанию> скептически...<...>
В 1928 г. <когда> я работала в Помпеях, совершенно неожиданно приехал Виламовиц-Меллендорф178 — наш полубог. В первый же вечер Виламовиц мне заявил: «В ком я не ошибся, так это в Ростовцеве... Я его встретил в 1904 году... Сколько лет ему было?» — «34», — говорю я. — «Значит теперь ему сколько?» — «Скоро будет 58». — «Ну, так знаете, я ему сказал: “Ну, Ростовцев, со временем Вы будете первым историком в мире”... И вот теперь я могу его только приравнять по значению, разве только с моим тестем!».
Тестем Виламовица был Теодор Моммзен. Вскоре после этого Виламовиц печатно назвал Ростовцева первым историком в мире. (Смотрите мою статью — Академик М. И. Ростовцев — в Посл<едних> нов<остях>).
Итак, И.М. Троцкий получил письмо Варшер к Жерби с прилагаемыми к нему материалами где-то во второй половине апреля 1957 г. и, судя по всему, сразу же связался с отправителем. Из ответного письма ясно, что он испрашивал фотографию Т.С. Варшер и осведомлялся о статье про нее, опубликованной семь лет назад в том же «Новом русском слове»:
Дорогой Илья Маркович, нет у меня фотографии, а — делать новую — надо ждать четыре дня. Это репродукция с портрета — 1940 — я мало изменилась. Посылать старую фотографию — смешно, а репродукцию с портрета знаменитой художницы — можно (Фалилеева-Качура179). Тут действительно я. Портрет был на выставке и заслужил всеобщее одобрение. Статья обо мне в вашей газете 1950 <г.> 1о октября — точная. Только в Codex'е не 1000, а тысячи фотографий. <...> Ваша Т. Варшер.
Затем, уже после публикации статьи, когда несостоятельность обвинений стала очевидна и справедливость, благодаря авторитетному перу И.М. Троцкого, восторжествовала, Т.С. Варшер посылает ему благодарственно-комплиментарное и одновременно слезно-просительное письмо.
Дорогой Илья Маркович, не знаю, как Вас благодарить и за статью и за письмо. <...>
Царство небесное Анастасии Филипповне Райсер180, <но> это она поступила опрометчиво. Она сообщила мне, что члены Литфонда говорят, что я была наци. Думаю, что таковой донос мог быть. Источник его грязный. Я сама, по глупости, ввела эту особу в нашу среду. Но раз Вы пишете, что об этом не говорили среди сотрудников Н<ового> Рус<ского> Сл<ова>, а главное, в своей статье написали, что я «часто с опасностью для жизни оказывала помощь жертвам наци-фашистского террора», то вопрос — кончен. Конечно, больно мне, что М.Е. Вейнбаум не напечатал ни одной моей строки в послевоенный период! А до войны перепечатывал мои статьи из «Сегодня» и «Последних новостей»!
Сейчас приехал в Рим профессор Арм<ин> Ник<олаевич> фон Геркан — сейчас в отставке — директор Германского Археологического Института в Риме. Он знает меня, как Вы, с 1922 г., т.е. еще с Берлина. Он готов был написать письмо в Литфонд, что в Гер<манском> Инст<итуте>было четверо наци: оба швейцара (портье), кассир и второй директор. Они подняли вопрос о моем исключении из института... и Геркану трудно было отстоять меня181. Он же — как только узнал, что я скрываю еврейку — вытащил из кошелька 2000 лир, тогда это было 100 дол<ларов>. А потом мы сумели достать фальшивый паспорт и Клара Ха-кельсон182 — рижанка — давала уроки немецкого языка, и жила своим трудом.
Но теперь кончено! Райсер нет в живых, Вы громко объявили, что я помогала жертвам нацизма — значит беспокоиться не о чем. Сам Геркан вырос в Риге и хорошо говорит по-русски. Ему чрезвычайно понравилась Ваша статья. А мои русские друзья в Риме в восторге от нее. <...>
Итог — Вы старше меня, и Жерби тоже старше меня. Не знаю, как Марк Слоним183! Во всяком случае — он не первой молодости. И вот я прошу вас троих — думать обо мне. Я кончаю свою жизнь в Италии, где нет пенсии старикам. У меня только одна пожизненная пенсия 10.ооо (16 дол<ларов>), от World Churches184. Работать больше того, чем я работаю, я не могу. За работу я имею 30 дол<ларов>, из которых я плачу и за бумагу, и за фотографии. Жить мне осталось немного — и потому я недолго буду обременять Литфонд. 50 долларов огромная помощь, но, к сожалению, у меня совершенно неожиданные расходы: рядом поселилась семья с десятимесячным ребенком. Он кричит день и ночь. Дома так построены, что решительно все равно, ревет ли ребенок у вас в комнате или за стеной. Над головой день и ночь бегала сумасшедшая американка на железных каблуках. Мы берем верхнюю квартиру — penthause — без соседей, ни с боков, ни над головой! (Американка неожиданно уехала). Это единственное решение вопроса, единственная возможность продолжать мою ученую работу: меня не будут будить ни в 2 часа ночи, ни в 2 часа дня — когда хочется хоть на часок прилечь и заснуть. <...> Правлению Литфонда я напишу отдельно.
И помните, что в далекой Италии живет старуха, которая думает о Вас и уважает Вас. <...> Ваша Татьяна Варшер.
Интересен с точки зрения характеристики личности Татьяны Варшер как «ученой женщины» рассказ известного американского ученого-археолога Вильгемины Яшемски185, которая в 1955 г., приехала с мужем-фотографом Стенли Яшемски в Италию, чтобы собрать материал для книги об античных садах. Одну главу в ней она планировала посвятить садам Помпеи. Когда же она впервые встретилась с Татьяной Варшер и рассказала ей о своих планах, то добавила, что, возможно, увы, все сады Помпеи уже описаны в литературе. Варшер посмотрела ей прямо в глаза и сказала: «Дорогая моя девочка, поверьте, Ваша первая книга будет полностью посвящена только садам Помпеи!». Яшемски пишет, что Татьяна Варшер дала ей свои ключи ко всем домам Помпеи, поэтому Вильгемина и Стенли могли заходить в любые места, которые их интересовали, открывать ворота любого дома. «О, это было просто чудо!». По ходу работы, изучая дом за домом, сад за садом, Яшемски стала понимать, насколько права была Варшер, когда говорила ей об объеме будущей книги. Из планировавшейся когда-то одной главы выросли три больших тома о садах Помпеи, создавшие Яшемски имя в научном мире.
Последнее письмо Т. Варшер к И. Троцкому из его YIVO-архива датировано 14 августа 1958 г. (Т.С. Варшер скончалась полтора года спустя). По своей тональности оно тоже вполне интимное, что свидетельствует о восстановлении прежних дружеских отношений. Письмо начинается с итоговой самооценки научной деятельности Татьяны Сергеевны — однозначно высокой! Затем следуют дежурные сетования на безденежье и бытовые трудности, соболезнующие утешения по поводу кончины жены И.М. Троцкого Анны Родионовны и в конце — очередные славословия «юбилейной статье» Ильи Марковича.
Дорогой Илья Маркович, вчера у меня был Ионотан Савиля186 — и произвел самое чарующее впечатление: скромный, сдержанный, вдумчивый и, несомненно, талантливый молодой человек, К сожалению, кроме самого простого гостеприимства, я ничего не могла для него сделать. У меня почти нет знакомых среди итальянских писателей. Есть — только те, которые пишут по археологии.
В Берлине я ведь тоже просиживала с утра до вечера в Археологическом семинаре при Берлинском Университете! А теперь в Италии! 63 толщенных тома — правда, не напечатанных, а только на машинке! 6.000 фотографий! Mingazzini — один из первых археологов Италии — сказал раз: «Не могу себе представить, что это работа двух рук! Мне всегда думается, что это труд целой Комиссии!» И моя журналистика — только «между прочим». А когда Вейнбаум перестал печатать мои статьи, у меня вообще пропала охота писать в газеты. Так — иногда, для Русской мысли, кот<орая> не может платить корреспондентам. А денег мне никогда не хватает, — хотя на квартиру мне дают деньги, но только на квартиру, — а здесь: газ, свет, отопление налоги, телефон... Без телефона ни я, ни моя подруга, кот<орая> заменяет мне дочь, обойтись не можем. Ей по службе, а мне — из-за фотографий и библиотек, а главное — переговоры с учениками. Мои ученики по археологии и есть моя слава! <...>
У меня по утрам странные боли в груди — думаю это предвестники скорой смерти. Я с удовлетворением прочла о вашем докладе, значит Вы, пережив самое страшное (увы, неизбежное) горе — остались самим собой! Как я помню, — нет, не помню, а вижу и слышу, — Григория Адольфовича Ландау187, — а этому будет 35 лет! Когда пришло известие о расстреле моего мужа, он сказал: «только продолжайте Вашу работу, готовьтесь к Помпеям и больше пишите в нашем «Руле», с работой все переносится легче!»
Бедный Григорий Адольфович — ведь мы не знаем, как он окончил свои дни!188
Ваша статья обо мне не есть только статья. Это мое утешение! Если бы Вы знали, какую радость Вы доставили моим друзьям — особенно Ольге Александровне Шор, подруге Вячеслава Иванова!
«Бедный Григорий Адольфович» Ландау сказал когда-то: «Близкими можно считать людей с той минуты, когда они теряют способность всматриваться друг в друга»189.
Илья Троцкий и Татьяна Бартер более 3о лет общались друг с другом лишь по переписке, да и то не очень оживленной; «ученая женщина» все же не являлась для Троцкого столь близким человеком, как для А. Жерби, который в своем некрологе покойной190 говорит о ней именно
...не как об ученом, а как о близком мне человеке, о ее незаурядной доброте и отзывчивости сердца. В ней сочетались редкие качества: ум, доброта и чуткость. Во время войны она приютила у себя и скрывала еврейку, когда это было сопряжено с риском для ее жизни. Сейчас же после войны она взяла к себе в дом семью с ребенком; время было трудное, ребенок был маленький, а она так просто приняла к себе этих людей. И как она любила этого мальчика <...> и была счастлива, когда он звал ее бабушкой и отвечал ей своим доверием и смехом на все ее ласки и заботы. Ее знали все дети в округе за ее живую заботу и принятие участия в их играх и горестях. <...> С какой радостью занималась она распределением вещей, которыми ее американские друзья снабжали ее <...>, зная ее отзывчивость; и одевала она не только близких ей людей, но часто и совсем незнакомых; достаточно было сказать ей, что кому-то нужно пальто, не успокаивалась она, пока пальто не было доставлено кому надо. <...> она могла действительно поделиться последним. К ней можно было придти и рассказать о своих нуждах, и люди всегда находили в ней отклик, понимание, человеческий совет и моральную помощь. В ней самой было так много энергии и живого интереса к жизни, а также, благодаря ее темпераменту, было что-то детское; она могла и легко обидеться, и вспылить, но, если бывала неправа, тут же имела мужество признать это.
Неудивительно, что у нее во всем свете было такое количество друзей, и в самых разнообразных слоях общества: от простых рабочих Помпеи до самых больших ученых. Все эти качества, <что> редко бывают собраны гармонично в одном человеке, <...> и создали ее незаурядную личность. Она оставит память о себе <...> как о выдающейся русской женщине, которая <...> в тяжелых условиях эмигрантской жизни своим талантом и настойчивостью создала огромный труд о Помпее.
По большому счету Татьяне Варшер в жизни принадлежали две вещи — душа живая да ученая работа.
«Среди потухших маяков»: письма С.И. Орема И.М. Троцкому
В письме от 20 июня 1961 г., посланном из Парижа, Алексей Гольденвейзер — хороший знакомый И.М. Троцкого (о нем см. выше в Гл. 4), рассказывает ему о своих встречах с представителями русской эмиграции первой волны — их былыми соратниками: масонами, общественниками, деятелями культуры. Поименно перечисляя тех, с кем удалось повидаться,
А.А. Гольденвейзер одновременно хлопочет о своем гимназическом товарище, живущем в Бразилии и нуждающемся в материальной помощи.
Дорогой Илья Маркович! Привет из Парижа. Приехал сюда 15-го, Евг<ения> Льв<овна>191 приезжает из Москвы сегодня или завтра. Находимся в разгоне, как всегда в Париже. В воскресенье читал доклад в очень душном зале <...> народу было не так уж много. Аудитория весьма преклонного возраста.
Получил прилагаемое прошение от моего товарища по гимназии Ивана Делекторского192. Ему Литфонд уже однажды помог. Я его очень рекомендую <...>, он находится в сильной нужде. Быть может, Фонд вышлет ему, что сможет, непосредственно в Бразилию.
Что слышно в Нью-Йорке? От Я.Г.193 получил вчера письмо. Буду 23-го в заседании «Социальной комиссии» Тейтелевского комитета194 и поговорю с присутствующими <насчет — М.У.> статьи195 о еврейской эмиграции в Париже.
В Нью-Йорк возвращаюсь 10 июля. <...>
Я видел пока Кантора196, Мазора197, Рубинштейна198. Альперина199 увижу на заседании.
Бросается в глаза, что из всей когорты одряхлевших парижских эмигрантов никто не воспользовался случаем прибегнуть к помощи А.А. Гольденвейзера, имевшего заслуженную репутацию «общественного защитника». По-видимому, во Франции худо-бедно, но уже функционировала система социальной помощи малоимущим.
В странах же Южной Америки, куда, как отмечалось выше, после войны хлынул поток русских Ди-Пи, с социальной помощью престарелым и инвалидам дела обстояли из рук вон плохо.
Уехав из Аргентины в США, И.М. Троцкий сохранил самые широкие деловые и дружеские связи в Буэнос-Айресе. Либеральные представителем русской литературной общественности в Южной Америке в его лице, возможно, видели своего рода ходатая за их интересы в Литфонде и газете «Новое русское слово», которая неизменно проявляла интерес к культурной жизни русской диаспоры во всем мире. Оказавшись, как секретарь Литфонда, в эпицентре благотворительной деятельности этой организации, И.М. Троцкий стал как бы маяком, к которому тянулись нуждающиеся южноамериканские Ди-Пи. В этом аспекте показательно вышеприведенное письмо А. Гольденвейзера, в котором он просит Троцкого помочь русскому эмигранту из числа такого рода просителей.
Нельзя не отметить, что в списке опекаемых И.М. Троцким южноамериканских просителей, хранящемся в его YIVO-архиве, значится только одна фамилия явно еврейского происхождения, все остальные — этнические русские. Однако Литфонд был «общероссийской», а не «еврейской» организацией, хотя и существовал главным образом на пожертвования состоятельных евреев. Более того, в затруднительных ситуациях финансового характера его руководство и, в частности, И.М. Троцкий, пользовавшийся большим уважением и доверием у различного рода меценатов, обращались за помощью и к сугубо еврейским организациям.
В YIVO-архиве И.М. Троцкого сохранились просительные письма от трех эмигрантов-«аргентинцев»: Евгения Николаевича Гагарина — бывшего офицера русской армии, автора мемуаров и поэта200; Ивана Филипповича Скворцова — агронома, политического деятеля народнического толка, который, согласно его собственноручной «Краткой автобиографии»,
В 1917 году принимал деятельное участие в Февральской революции, являлся членом Центр<ального> Исп<олнительного> К<омите>та Советов крест<ьянских>, раб<очих> и солд<атских> депутатов доболыпевистского созыва», до 1944 г. работал агрономом «в разных местностях России <...>, подвергался систематическим репрессиям НКВД в порядке административных выселок. При немецкой оккупации <работал> в качестве директора Губернского земельного управления по ликвидации колхозов и организации единоличных крестьянских хозяйств. В 1944 году с отступлением немецких войск эвакуировался в Германию. <С 1948 г. жил в Аргентине, где в 1956 г. издал — М.У.> печатный труд в двух книгах под названием «К земельной реформе новой России»201;
и Сергея Ивановича Орема — старого «русскословца» и хорошего знакомого И.М. Троцкого. В научной литературе практически отсутствуют сведения об этом популярном до революции журналисте и тетральном критике. Выдержки из его писем, относящиеся к первой половине 1960-х, проливают некоторый свет на его судьбу.
Первое письмо, присланное И.М. Троцкому из Буэнос-Айреса, датировано 8 апреля 1962 г. Само по себе весьма короткое, оно содержит большую приписку, сделанную М.Н. Подольским202 — журналистом-эмигрантом, ровесником С. Орема, после бегства из России жившим с ним вместе в Сербии и, по всей видимости (как явствует из текста), хорошим знакомым И.М. Троцкого.
Глубокоуважаемый Илья Маркович, месяц тому назад я получил от фирмы Avenburg <Авенбург> в местной валюте (песо) 2.050 песо, что по переводе на доллары должно составить 25 долларов. Это помощь, оказанная мне, как я полагаю, литературным фондом, как старейшему журналисту, через ваше любезное посредство. Поэтому я полагаю своим приятным долгом принести Вам свою сердечную благодарность. Мой точный адрес: <далее следует почтовый адрес местечка Villa Diamante в провинции Буэнос-Айрес — М.У> Я очень и очень тяжело болен и поэтому Ваша помощь была мне особенно ценна. Еще раз сердечно благодарю. Уважающий Вас
Сергей Орем.
Приписка:
Уважаемый Илья Маркович!
Пересылаю вам это письмо Сергея Ивановича Орема и очень прошу вас сделать для него все, что возможно. Трудно даже представить себе, до какой нищеты дошел этот некогда известный и талантливый журналист, начавший писать 54 года тому назад <в 1908 г. — М.У.>. Живет он при русской церкви в Villa Diamante203, но не в закрытом помещении, а под навесом при входе в церковный дом, т.е. фактически на дворе. Питается он буквально тем, что ему Бог посылает — если добросердечные соседи вспомнят о нем и принесут тарелку супа — хорошо, он «сыт», если забудут о его существовании — он сосет пальцы... Diamante — это гнилое, сырое место и он, живя вот уже несколько лет на дворе, получил тяжелый ревматизм + артрит. В результате — едва ползает <...>, ему 73 года, мог бы получать аргентинскую старческую пенсию в 500 песо <около 8 долларов! — М.У.> в месяц. Но бюрократы требуют, чтобы он к ним лично явился, а он едва 10-15 шагов может пройти! Удивительно, как он все-таки сохранил свежесть духа и великолепную память. Быть может, можно через г. Андрея Седых организовать ему сбор на лечение. Его многие знают по Югославии. Если найдется возможность, то помогите ему <...>. Привет Вам и супруге.
Ваш М. Подольский.
Михаил Подольский, по всей видимости, совсем не разбирался в тонкостях политического размежевания русского Зарубежья. Принадлежность к «югославской ветви» эмиграции первой волны, в массе своей монархически-черносотенной, — а С.И. Орем в свое время входил в редакцию крайне правой белградской газеты «Новое слово», — являлась не лучшим напоминанием о «достоинствах» его личности в глазах либеральных демократов из «Нового русского слова». Помимо прочего, в годы войны Сергей Орем служил офицером в пронацистском «Русском корпусе»204, о чем ни автор письма, ни руководство Литфонда не знали. Иначе трудно предположить, что М.Е. Вейнбаум, И.М. Троцкий или же А. Седых остались бы равнодушными к этому факту биографии старого журналиста. Однако, к его счастью, никто из эмигрантской братии не «настучал» на безвредного больного старика, и, как явствует из публикуемых ниже писем С.И. Орема к И.М. Троцкому, Литфонд до конца жизни этого русскословца регулярно оказывал ему материальную помощь.
Что касается лично И.М. Троцкого, то он не только «окармливал» С. Орема, но и относился к старому коллеге с искренней симпатией и, как мог, старался стимулировать его творческую активность. Это хорошо видно из письма С. Орема к нему от 19 августа 1962 г., в котором, после обычного благодарственного отчета по поводу полученных от Литфонда денег, он пишет:
<...> М.Н. <Подольский — М.У> сообщил, что уведомил вас о приговоре суда по делу его с редактором и издателем «Сеятеля» Чоловским, и что Вы не только пообещали ему дать заметку в Н<овое> р<усское> с<лово> <далее всюду НРС — М.У.>, но даже высказали мысль, что «этому приговору нужно дать более широкую огласку и оценку, выявив лицо «темных сил», орудующих у нас. Хорошо бы было, если бы Орем осветил эту историю обширной корреспонденцией в НРС. Пусть он напишет и пришлет мне — все остальное (т.е. помещение в газете и гонорар) я беру на себя». Зная, в какой мере М.Н. заинтересован в гласности исхода его тяжбы205, я написал М.Н., что оставлю себя в полное его распоряжение, о том же сообщаю и Вам. М.Н. почему-то советует мне подписаться каким-нибудь псевдонимом: «будем знать только Вы, я да Троцкий с Вайнбаумом». Я, конечно, последую его совету, но думаю, что это «тщетная предосторожность», т.к., выражаясь технически, мой «литературный почерк» сразу же будет разгадан (узнан). По написанию статьи я пошлю ее М.Н. Подольскому «для согласования с истиной», а он перешлет ее Вам. В этом же письме М.Н. рекомендует мне осветить в НРС отвратительную свалку, учиненную здесь нашими громовержцами: правящим Архиреем и Правлением Рос<сийской> Кол<онии> в Аргентине. Это тоже из цикла «темных сил». Посылаю ее Вам «вместе с сим». Думаю, что Марк Ефимович напечатает ее без нажима на него как редактора, т.к. материал сам по себе интересен и заслуживает места в такой газете, как НРС. Вот, кажется, и все. Крепко жму руку и шлю сердечный привет.
Ваш С. Орем.
Говоря о тексте, посылаемом М.Е. Вейнбауму, С.И. Орем имеет в виду свою статью «Среди потухших маяков», рукопись которой хранится в YIVO-архиве И.М. Троцкого. В статье описана типичная для эмигрантской среды склока: конфликт между местным архиепископом Русской православной церкви за рубежом Афанасием (Мартосом) и редактором местной газеты «Русское слово» — рупора русской колонии в Аргентине — профессором Е.Э. Месснером. Последний — крупный авторитет в правых кругах русской диаспоры, военный-интеллектуал, во время Второй мировой войны преподавал на Высших военно-научных курсах в Белграде, готовил кадры для Русского охранного корпуса, сформированного германским командованием для борьбы против югославских партизан. В 1950-х вместе с коллегами воссоздал в Аргентине отдел Института по исследованию проблем войны и мира им. профессора генерала Н. Н. Головина»206. Крайний консерватор, Месснер винил архиерея в симпатиях к католицизму, русофобии, антимонархизме и т.п. Причины непрерывных дрязг в среде эмигрантов «охранительского» толка, деморализующих русскую диаспору, С. Орем видит в происках «темных сил», управляемых Красной Москвой, в задачу которых входит «компрометация русских общественных организаций в глазах правительств и народа приютивших их стран». И эту позицию явно разделяют его друзья в НРС. Тем самым либерально-демократический лагерь русской диаспоры, дистанцируясь от ультраправых монархистов-ксенофобов и экстремистов всех мастей и стремясь при этом крепить сотрудничество с умеренно-консервативной частью эмиграции, был не прочь списать все конфликты, раздиравшие эмиграцию, на вездесущую «руку Москвы».
В письме от 16 апреля 1963 г. С. Орем, сообщая о получении литфондовских денег, интересуется судьбой своей заметки для НРС о доме престарелых «Санта Рита», куда ему посчастливилось, наконец, попасть:
<...> 10.04 я послал Вам письмо с извещением, что деньги, ассигнованные мне Литфондом, я получил от, М.П. Авенбурга, предварительно переговорив с ним по телефону. Еще раз благодарю Вас за заботу и помощь. Что же касается моего репортажа о «Санта Рита», то я нарочно назвал его просто письмом из Аргентины, которое редакция НРС вольна не печатать или сокращать по своему усмотрению, но, конечно, не искажая его сущности. Поверьте, глубокоуважаемый Илья Маркович, я не искал этим письмом лавров, но хотел сделать приятное администрации «Санта Рита», которая лезет из кожи вон, чтобы сделать доброе дело, и, надо сказать правду, она его делает, <хотя — М.У.>, может быть, не совсем уклюже. Но ведь все мы в общественной жизни научились ходить на 2-х ногах совсем недавно. Крепко жму руку, Ваш С. Орем.
Затем, 2 июля 1963 г., Орем сообщает:
Глубокоуважаемый Илья Маркович,
26 июня с<его> г<ода>я получил от Моисея Павловича Авенбурга письмо с извещением, что им получена от Вас некая сумма денег для передачи мне. Я тогда же снесся с ним по телефону, и мы условились о свидании <...>. К моему глубокому сожалению, я не мог лично побывать у него, т.к. наступившие холода, а главное сырость уложили меня в постель и, видимо, надолго. Вместо меня <...> проживающий здесь <...> весьма почтенный человек, в прошлом председатель союза инвалидов в Аргентине <...> побывал <...> у М.П. Авенбурга и получил у него для меня 2.375 арг<ентинских> песо, что я, со своей стороны, подтвердил письменно Моисею Павловичу, принеся ему благодарность за любезность. Вас же, глубокоуважаемый Илья Маркович, я действительно не нахожу слов поблагодарить за Вашу добрую обо мне память и помощь, поддерживающую меня на поверхности жизни, пусть тусклой и постылой, но что поделаешь <...>. Премного благодарен и Литературному фонду, не отвратившему от меня своего отзывчивого сердца.
Крепко жму руку и шлю сердечный привет. Сергей Орем.
В письме от 18 сентября 1963 г. С. Орем сообщает об очередном получении денег и, что примечательно, выказывает, несмотря на сетования о потере интереса к писательству, острое журналистское чутье относительно актуального выбора «жареных фактов»:
Вчера получил от М.П. Авенбурга 3.375 арг<ентинских> песо, пересланные Вами для передачи мне. Спешу Вас об этом известить и от всей души поблагодарить Вас и Литфонд за очередное щедрое пожертвование, единственно дающее мне возможность какого-либо существования.
Утратив решительно все позывные знаки для активной деятельности, я, тем, тем не менее, стараюсь возможно тщательно следить за актуальностью и, как ни странно, считаю, что в данный момент в центре мирового внимания должно стоять не китайско-советское столкновение, а перед Кристины Килер. В 21 год передом выжать консервативный кабинет207. Это феноменально! Вот сейчас бы в НРС был бы к месту фельетон об англий<ском> короле Эдуарде и американской еврейке Симсон208. Тогда она ссадила его передом с престола по заказу Балдвина209, а теперь Кр. Килер весь кабинет м<инистр>ов. Крепко жму руку, душевно преданный Сергей Орем.
Самым большим и интересным по содержанию является письмо С. Орема от 29 сентября 1964 г., в котором он среди всего прочего дает И.М. Троцкому оценку как журналисту. Письмо начинается с обычного уведомления о получении денег от Литфонда и благодарности:
Вам (в первую очередь), глубокочтимому Марку Ефимовичу <Вайнбауму — М.У> и всему Правлению Литфонда за помощь, позволяющую мне <...> на поверхности моря житейского. Я уже писал Вам, что НРС доходит до меня с большим опозданием <...>. Так что на сегодня я имею конечной датой <экземпляр — М.У.> НРС от 5 августа. Прочел там 3 ваших статьи о
С.Ю. Витте: 1) «В гостях у С.Ю. Витте, 2) «Беседы с С.Ю. Витте», 3) «Граф С.Ю. Витте преподает мне уроки истории». Не знаю, может быть, были еще, но я до них не дошел. У меня нет никакого вкуса говорить Вам комплименты, но читал я эти статьи как едят десерт. У вас есть свой литературный почерк, резко отличающий Ваши статьи от статей современных журналистов новой формации. Разница в слоге и литературных приемах старого и нового журналиста так же велика, как различны ароматы <неразб.> духов Coty или Houbigant210<...>. В связи с Вашими фельетонами о Витте мне вспомнилось наше московское «Русское слово». Собирались мы все в редакции к 1 часу ночи. В это время звонил петербургский телефон. Говорил обычно И.И. Колышко («Баян»). Однажды он сообщил, что умер Витте. Тогда же говорили, что Витте болен сифилисом, а умер от нарыва в ухе. В эти годы пенициллинов или стрептомицинов не было, и больных лечили втиранием ртути и вспрыскиванием Bismut-а <висмута — М.У.>. Ртуть разрушала хрящи. У Витте будто бы провалился нос и был заменен парафиновым. Верно ли это, не знаю. Но несомненно следующее: когда Витте был председателем комитета министров, одним из крупнейших революционеров был Хрусталев-Носарь211. Он одновременно состоял и осведомителем Департамента Полиции, причем в целях получения содержания был проведен по статьям Нижнегородского <так!> жандармского полицейского управления. Тогда же по рукам ходило четверостишие:
После смерти Хрусталева-Носаря место его в Нижнегородском <так> жандармском управлении занял Лев Борисович <ошибка, Давидович — М.У.> Бронштейн (Троцкий). Вы не удивляйтесь, такое двурушничество было в обычае революционных партий212 и делалось с их ведома и согласия213.
Когда во время Февральской революции жандармские отделения были заменены «Комиссиями по обеспечению нового строя», архив нижнегородского отделения был доставлен в Москву, в камеру Прокурора Московской Судебной Палаты, откуда я и спер книгу секретных приказов <...>. Из нее я и почерпнул сведения о службе Хрусталя и Троцкого в охранке. Уезжал я с поездом «взаимного доверия» гетмана Скоропадского, на другой день после неудавшегося покушения Доры Каплан на Ленина214. Невзирая на «взаимное доверие», поезд подвергался беспрерывным обыскам, т.к. Че-Ка подозревала, что атентатор215 попытается убежать с этим поездом. Предвидя подобную «петрушку», я оставил книгу секретных приказов <...> дома в письменном столе. Дальнейшая судьба ее мне неизвестна.
Чистейший воды ребус: в НРС в №№ от 29, 30 и 31.07 с<его> г<ода> появилось три подвала с моими статьями «Изменник ли генерал Алексеев216», посланных мною М<арку> Е<фимовичу> несколько лет назад. Я полагал их рейс окончившимся корзиной для ненужных бумаг, и вдруг...
Верьте, пожалуйста, моему чувству глубокого к Вам уважения и не забывайте Вашего верного почитателя. Сергей Орем.
Последнее письмо С.И. Орема к И.М. Троцкому, датированное 20 декабря (предположительно 1964 г.) — поздравление с наступающим Новым Годом. После традиционного пожелания своему адресату «всякого благополучия» следует скорбная сентенция по поводу собственного состояния:
«Когда-то в дни златые...» удавалось встречать Новый год в кругу друзей с бокалом, и не пустым, в руках. Но tempi passati (времена проходят) и вот... богадельня. Что поделаешь? Бывает хуже, но редко.
Пользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить Вас за трогательное внимание и помощь. <...> Ваш Сергей Орем.
Спустя полгода в эмигрантской газете «Наша Страна» (№ 8оо от 25 мая 1965 г.), был помещен некролог за подписью «Вс. Д.»:
6-го сего мая в убежище для престарелых «Санта Рита» после продолжительной болезни скончался на 76-ом году жизни Сергей Иванович Орем. Уроженец г. Таганрога, Сергей Иванович окончил Московский университет и полвека тому назад начал сотрудничать в московских газетах «Голос Москвы», в «Утро России» и, наконец, в «Русском Слове» И.Д. Сытина. В Югославии Сергей Иванович сотрудничал в «Новом Времени» А.С. Суворина. По переезде из Югославии в Австрию, С. И. Орем проживал в лагере Парш, возле Зальцбурга, и был выбран Председателем Союза Русских Писателей и Журналистов в Австрии. Тогда же он был выбран главным редактором издававшегося Союзом «толстого» литературно-художественного журнала «Альманах». В последние годы своей жизни Сергей Иванович сотрудничал в выходящих в Буэнос-Айресе газетах «Русское Слово» и «Наша Страна», печатая свои воспоминания, связанные с его служебной юридической деятельностью и с московскими театрами, жизнь которых он хорошо знал, работая долгие годы в качестве театрального рецензента в газетах217.
«Дорогой друг» из Нью-Йорка: Письма Дон Аминадо И.М. Троцкому (1950-1953)218
Дон Аминадо (Аминад Петрович Шполянский) вошел в русскую литературу в начале 1910-х как один из авторов журнала «Сатирикон», но по-настоящему прославился в эмиграции. Там, — в «России, выехавшей за границу», — он был «королем юмористов», высмеивавшим нелепые стороны эмигрантского быта, обанкротившуюся либеральную идеологию и т.п. Успехом пользовались его «утренние фельетоны», афоризмы («Новый Козьма Прутков», «Философия каждого дня») и сатирические стихи. Дон Аминадо высоко ценили Горький, 3. Гиппиус, М. Цветаева, Бабель и даже М. Шолохов. К его авторитету обращается в своей гражданской лирике Е. Евтушенко (см. стихотворение «Сатира знает, как ей поступать»). В книге литературных портретов-воспоминаний Андрей Седых писал:
Дон Аминадо <...> принадлежал к тому поколению русских писателей, которое продолжало классическую традицию русского юмора, пропитанную гуманностью и жалостью к человеку. Темы свои он черпал из нашей маленькой жизни. В нем сатирик всегда был сильнее юмориста. Он не только смеялся, но и высмеивал, и высмеивал подчас жестоко219.
Яркий литературный портрет Дон Аминадо и его восприятия современниками оставил Леонид Зуров:
Хорошо очерченный лоб, бледное лицо и необыкновенная в движениях и словах свобода, словно вызывающая на поединок. Умный, находчивый, при всей легкости настороженный. Меткость слов, сильный и весело-властный голос, а главное — темные, сумрачные глаза, красивые глаза мага и колдуна. <...> Он все видел — жизнь Москвы, Киева, эвакуации. Он встречал людей всех званий и сословий, был своим среди художников и артистов, у него была всеэмигрантская известность, исключительная популярность. В Париже все знали Дон Аминадо. Без преувеличения можно сказать: в те времена не было в эмиграции ни одного поэта, который был бы столь известен. Ведь его читали не только русские парижане, у него были верные поклонники — в Латвии, Эстонии, Финляндии, Румынии, Польше, Литве. Он сотрудничал в либеральной газете, но в числе его поклонников были все русские шоферы, входившие во всевозможные полковые объединения и воинский союз. Его стихи вырезали из газет, знали наизусть, повторяли его крылатые словечки. И многие, я знаю, начинали газету читать с злободневных стихов Дон Аминадо. <...> Сила воли, привычка побеждать, завоевывать, уверенность в себе и как бы дерзкий вызов всем и всему — да, он действовал так, словно перед ним не могло быть препятствий. Жизнь он знал необыкновенно — внутри у него была сталь, — он был человеком не только волевым, но и внутренне сосредоточенным. Он любил подлинное творчество и был строгим судьей. В глубине души он был человеком добрым, но при всей доброте — требовательным и строгим. В жизни был целомудренным и мужественным. Меня поражало его внутреннее чутье, а главное — сила воли и чувство собственного достоинства, а человек он был властный и не любил расхлябанности, болтливости, недомолвок и полуслов. <...> его не только слушали, но и побаивались220.
Как можно судить по тону многочисленных рецензий на книги Дон Аминадо, в «табели о рангах» литературного мира русского Зарубежья он находился на одном из первых мест. Например, Иван Бунин, в дружеский круг которого неизменно входил Дон Аминадо, называл его «одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которого дают художественное наслаждение». Эта высокая оценка и в наше время разделяется историками литературы.
Именно Дон Аминадо принадлежит знаменитый афоризм:
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным,
— а также провидческие строки:
Все возможно... Возможно и то, что грядущим поколениям даже и наша судьба покажется заманчивой. Ибо окажется, что мы присутствовали всего-навсего при конце капитализма, а их под конец социализма угораздило попасть.
Общение Дон Аминадо с Ильей Марковичем Троцким, начавшееся по его собственным словам (см. ниже) в 1912 г., когда им было соответственно 24 и 33 года, прервалось во второй половине 1930-х. С тех пор они почти 15 лет не виделись и ничего не знали друг о друге.
Годы войны Дон Аминадо с семьей провел в оккупированной немцами Франции. То, что ему удалось выжить в атмосфере тотальных облав и репрессий против евреев и масонов221, писатель, с присущей всем его текстам иронической коннотацией, относит к разряду «чуда». После освобождения Франции от нацистов Дон Аминадо переехал с семьей в местечко Иеррс (Yerres) неподалеку от Парижа, «банлье» (banlieue, фр. — квартал бедноты), как он его называл.
Во время войны и оккупации русский Париж был расколот, разбит. От страшных ударов и потерь литературная жизнь никогда не поправилась. <После войны> уже не было старых газет, издательств. Жизнь уцелевших литераторов изменилась — ничего не осталось от довоенных времен. <...> Аминаду Петровичу пришлось работать в учреждениях, не имеющих ничего общего с литературой и журналистикой222.
В области поэзии он ничего больше интересного не создал и за 12 послевоенных лет жизни выпустил всего две книги — «В те баснословные года» (Париж, 1951) и «Поезд на третьем пути» (Нью-Йорк, 1954), относящиеся к разряду воспоминаний.
Итог же своей эпохе Дон Аминадо подвел в 1951 г. следующим четверостишием:
Все письма Дон Аминадо 1950-1953 гг. «дорогому другу» из Нью-Йорка, хранящиеся в YIVO-архиве, написаны от руки. И.М. Троцкий тоже предпочитал писать свои письма, а не печатать их на машинке. Посвящены они главным образом основным прагматическим вопросам литературы: «На какие
средства издать книгу и как распродать тираж?» Содержание писем проявляет глубоко интимные черты личности крупного русского писателя, раскрывающиеся в сложной для него в морально-бытовом плане житейской ситуации. Интересны они и в историко-литературном контексте, поскольку содержат упоминания известных лиц из литературного мира русского Зарубежья, дают живое представление о его бытовании после окончания Второй мировой войны.
Тексту первого послевоенного письма Дон Аминадо к И.М. Троцкому, в котором писатель рассказывает о своей жизни в годы военного лихолетья, присуща задушевность и даже некоторая сентиментальность, что характерно для переписки людей, знающих друг друга очень давно. В последующих письмах Дон Аминадо представляется «записным юмористом»: они полны поговорок и шуток. Но хотя адресант всячески бодрится, в его смеховой стилистике постоянно звучит тоскливо-просительная нота. По-видимому, для Дон Аминадо И.М. Троцкий — старший по возрасту товарищ, и раньше выступал как доброжелательный опекун, способный активно поддерживать его писательскую деятельность. В послевоенные годы, когда дела русской литературной эмиграции в Европе шли хуже некуда, такая поддержка была ему особенно необходима.
Со своей стороны, И.М. Троцкий, как отмечалось выше, и после войны оставался фигурой весьма авторитетной в литературном мире русского Зарубежья. Дон Аминадо, несомненно, был об этом наслышан и в своих письмах сей факт неоднократно подчеркивает.
Первое письмо Дон Аминадо к И.М. Троцкому, датированное средой 29 ноября 1950 г., начинается с дружеских упреков в невнимании к персоне адресанта:
Дорогой старый друг, Илья Маркович! Живу я несколько в стороне от большой дороги, в деревне <...>. Поэтому вижу мало людей (да и мало осталось, кого видеть). Вероятно, по той же причине не встретил <я> до сих пор, т.н. «общих знакомых», от которых мог бы узнать о Вас, о Вашей семье и Вашей жизни. И вот, только на днях, от И.А. Бунина узнаю, что Вы были дважды в Париже — за эти пять лет, со дня т.н. libération223 и не захотели, что ли, или не подумали меня разыскать, повидаться... Я был этим очень огорчен! В чем дело? Почему? Что случилось? Как это возможно, после стольких лет (ведь я Вас знаю — и люблю — с 1912-го года!.. — т.е. каких-нибудь 38 лет!..) дружбы и взаимной нежности — ни звука, ни вздоха, ни слова?! Ведь в Нью-Йорке тоже Вы так легко могли узнать мой адрес! Или настигла Вас mercredi а mangé <среда заела — М.У.>, что нет времени (ни охоты) встретиться с одной из теней собственной молодости? Хочу надеяться, что ближайшей почтой получу от Вас длинное, предлинное письмо <...> со всеми подробностями о Вас самом, об Анне Родионовне <Троцкой — М.У.>, о Ваших детях, внуках и т.п. и т.д. Тогда, и только тогда, напишу и о себе самом. Покуда же в двух словах — несложная curriculum vitae224.
В 40-м году, <...>, бегство из Парижа. Пять лет скитался по департаментам и деревушкам Франции. Счастливое избавление царской семьи в Борках225. Возвращение на старое пепелище. Конец газетной работе. Служба в Agence de voyages... Надежда Михайловна <Шполянская — М.У.>226, слава Богу, здорова. Шлет Вам обоим сердечный привет. Леночка, если вы ее еще помните, счастливо вышла замуж. И мы теперь дважды grands-parents227.
Затем Дон Аминадо, посетовав о покоящемся «на кладбище в Нью-Йорке» М.Л. Браславском, «у которого мы видались в посл<еднее> время» <имеется в виду «до войны» — М.У.>, и всех «исчезнувших и ушедших», чей «печальный список — в одно письмо не уложишь!» — переходит к своим литературным планам, не забывая при этом высоко оценить активность И.М. Троцкого в кампании по сбору средств для помощи престарелому и больному Бунину.
Сейчас вот, после десятилетия целомудренного молчания, хочу выпустить книжку стихов, да и то издателя нет, а меценаты выдохлись как морские жители на вербном базаре228. Кстати, о меценатах: Бунины наперебой рассказывали о Вашей щедрости, отзывчивости, быстроте и проч. Конечно, Вы хорошо сделали, старик этого заслужил больше, чем кто бы то ни было. Видите ли вы моего друга М.В. Вишняка? Ал. Абр. Полякова229? Андрея Седых (он же Андрюша Ющинский230)? Итак, жду, жду, жду весточки от Вас — на 8 страницах убористого шрифта <...> Будьте здоровы, дорогой Илья Маркович, обнимаю всю семью! Искренне Ваш (после четырех декад!), преданный и любящий Вас
Д. Аминадо.
Говоря в столь комплиментарном тоне о Бунине, Дон Аминадо, без сомнения, имеет в виду не только его принципиальный отказ от сотрудничества с профашистскими эмигрантскими изданиями в годы войны, но укрывательство в своем доме их общего знакомого А.В. Бахраха. По всей видимости, И.М. Троцкий откликнулся на просьбу Дон Аминадо написать ему подробное письмо (в архивных фондах Дон Аминадо231, увы, не выявленное), т.к. 14 января 1951 г. тот посылает свой ответ:
Дорогая старая гвардия, Илья Маркович! Вы, наверное, и представить себе не можете, сколько эмоций вызвало во мне Ваше письмо. Нет, — все это вздор! — люди с возрастом не изменяются. Вы тот же, что и 1о, 20, 30, 40 лет назад! Тот же язык, та же ясность, та же благожелательность и даже почерк — тот же! Стало быть, дай Бог вам здоровья, Вам и Анне Родионовне, и детям Вашим, и внукам Вашим. Аминь! <...>
Цитирую из вашего письма: во второй половине января буду в Париже! Жду Вас, дорогой друг детства и отрочества! Напишите хоть два слова (заранее) — когда? И где Вас найти? Радуюсь встрече с Вами. Хочется душу отвести! Подумайте, сколько воды утекло (и не только воды) с тех пор, к<а> писал Осип Мандельштам:
— В те баснословные года...232, <...>.
Передайте самый душевный привет дорогой Анне Родионовне и непомнящим меня детям! <...> Сколько времени вы пробудете в Париже? Вы спрашиваете подробности о моей книге. Подробности, дорогой мой, сводятся к весьма существенному пустяку: книга набрана, прокорректирована, сброшюрована, и лежит в типографии — в ожидании безумца, фанатика, мецената, последнего из могикан, способного <...> вынуть 50 тыс. фр. франков, или, говоря языком Трумэна233, — 125-130 долларов. Вот Вам и подробности, а остальное Вы, как взрослый, отлично понимаете. (Все это — entre nous234!). Будьте здоровы, дорогой Илья Маркович. От Надежды Михайловны <Шполянской — М.У.> сердечный привет.
Обнимаю Вас! Ваш АмПет.
Однако надежда Дон Аминадо на встречу с «дорогим другом» из Нью-Йорка не оправдалась, на что он в несколько ерническом тоне сетует в письме от 1 апреля 1951 г.:
Дорогой друг детства и отрочества, и зрелости и остальных возрастов! Что ж Вы, меня, милый Илья Маркович, забыли? Последнее мое письмо оставили без ответа, и, зная вашу европейскую натуру, я убежден, что по ночам у Вас бывают кошмары — неотправленные письма! У вас было доброе намерение найти мне мецената — помочь мне издать мою книгу. Книга уже готова <...>. Вложил я в это «предприятие» штаны и исподние, осталось заплатить 50 тыс. хранки <так>, т.е. на Ваши американские <...> 120 долларов. Если буду иметь уверение, что до 15-го мая деньги эти могут быть, благодаря вашим чародействам и волшебствам, найдены и пересланы, то смогу получить кредит в типографии и выдать соотв. обязательство. Поэтому, усердно Вас прошу, если это Вас — среди бесчисленных Ваших забот и занятий — не слишком обременит, скажите мне Ваше голубиное слово, и ответьте обратной почтой по воздуху. У Тютчева есть стихи:
(Ее — т.е. Россию). Книга будет называться: «В те баснословные года». <...> Не посетуйте за беспокойство. Обнимаю Вас.
Ваш АмПет.
Судя по всему, И.М. Троцкий не подвел и книга была напечатана, ибо через месяц с небольшим, во вторник 22 мая 1951 г. Дон Аминадо пишет И.М. Троцкому новое письмо, в котором, учтиво осведомившись вначале о здоровье его супруги — «Хочу надеяться, что она поправилась и что все у Вас благополучно» — просит:
...ответьте мне, пожалуйста, хотя бы кратко, на следующие жгучие вопросы: 1) Получили ли Вы мою книгу? 2) Приедете ли Вы в июле, как предполагалось? И когда именно? 3) Вернулся ли из Европы «меценат» (должен был вернуться в середине мая)? И собираетесь ли вы его атаковать?! 4) Все Ваши юбиляры стоят мне поперек дороги, по которой они шли в штан<ах>, а я должен ходить без штанов... Горькая участь! Имейте в виду, дорогой и неутомимый Илья Маркович, что <...> это не в буквальном смысле, на хлеб я себе, слава Богу, зарабатываю (Ищут вежливых старушек для различных побирушек235), но издательская моя авантюра мне не по плечу, вот почему я так настойчиво прошу Вас помочь мне в этом идиотском предприятии (И. Василевский — НЕБуква236 — говорил когда-то, что издание автором собственной книги на собственный счет — есть покушение на убийство с целью грабежа!) М<ожет> б<ыть>, возможно в «данный момент» получить от мецената «аванс» в половинном размере, т.е. 6о долл, (а передать — в июле, когда Вы приедете)?! 5) Мой друг Седых — <...> распространитель нумерованных экземпляров по 5-ти долл, за штуку на египетском пергаменте типа Цимкес-Дримкес-Лаштанодер — тоже испытывает трудности. <...> м<ожет> б<ыть>, Вы можете ему в этом деле помочь и растолкать неск. экз.? 6) Кроме того (чувствую, что письмо мое носит характер — и в хвост и в гриву!) — не можете ли Вы указать мне <...> адрес в Буэнос-Айресе, куда бы я мог <эти книги — М.У.> послать <...>?! За все это буду вам чрезвычайно благодарен. И не только благодарен, а еще будет меня совесть мучить, что я такую на вас партнагрузку возложил. Ну вот, dixi et aninmum lacvavi237. <...> Обнимаю Вас с нежнейшей любовью и преданностью 40-летней давности.
Ваш АминадПет.
Через два месяца, во вторник 17 июля 1951 г., Дон Аминадо
пишет:
Дорогой мой Илья Маркович!! Прежде всего — и от чистого сердца спрашиваю, как здоровье Анны Родионовны? Как действует на нее горный воздух, покой и перемена условий жизни? <...> 2) Познакомился с д<ок-то>ром Суровичем238. Слушал трехчасовой рассказ о молодом солдатике <...> о встрече оного солдатика с будущей подругой жизни, и о том, как праздновали святки в доме старика Суровича в Крыму. Tempi passatti!239 3) Удалось ли Вам, дорогой, <...> осуществить ваше доброе намерение ликвидировать тринадцать (13) экземпляров книги вашего старого приятеля?! 4) На всякий случай повторяю <свой — М.У.> адрес <...>. 5) буду рад получить от Вас хотя бы самую краткую весточку. 6) Прошу усердно не считать меня приставом (от глагола приставать) и нудой... А еще прошу не сетовать за причиняемое беспокойство. А еще прошу сердечно кланяться <...> Анне Родионовне, к<ото>рую и по сей день вижу во главе длинного, уставленного яствами стола, на Kurfustendamm в те баснословные года! Обнимаю Вас.
Ваш Аминад Петрович.
В коротком письме от 1 августа 1951 г. Дон Аминадо радуется за хорошие новости о здоровье Анны Родионовны и благодарит за «лирическую часть» письма Троцкого к нему, за полученные 35 долларов:
<...>за Ваше обещание ликвидировать остальные четыре экземпляра книги Д.А — М.У.> за все Ваши заботы-хлопоты, верную дружбу и, в особенности, за ваше обещание приехать в Париж! Только, ради Бога, поближе к концу <...> октября, ибо недели <за — М.У.> три <до этого — М.У.> я буду на отдыхе (<...> как говорят в Париже — каникулы), Вы сами представляете, какое это было бы для меня огорчение, если бы я и на этот раз не увидел Вас в Париже. Если будет охота, напишите открытку — два слова, когда возвратитесь с гор в Нью-Йорк. Еще раз, спасибо Вам, Илья Маркович! Сердечный привет Вам обоим от Надежды Михайловны. Обнимаю Вас.
Ваш Аминад Петрович.
Понедельник, 24 сентября 1951 г.:
Дорогой друг, Илья Маркович! Надеюсь, <...> что Вы с гор уже спустились в добрый час на твердую Нью-Йоркскую землю, и готовитесь к отъезду в Европу, во Францию, и Париж... <...> Какие Иды и Календы Вы нам готовите? Дело в том, что 8-го окт., е.ж.б. (ежели живы будем) мы с Надеждой Михайловной уедем в <...> отпуск (congé payé s. v. р.240) куда-нибудь на Юг (в Италию, может быть, ибо там еще фр. франк имеет некоторое хождение)... Вы сами понимаете, как мне было бы обидно, если бы после столь долгого перерыва (чуть ли не 14-15 лет) мы бы не встретились с Вами. (Ночной шофер женился на дактило241, которая работала днем. Так они никогда и не встретились.) <...> ради Бога, черкните несколько строк и скажите о Ваших планах (Вернусь я из отпуска 2-го-з-го-4-го ноября). 2) Мэнэ текэл фарес тахлес242 — надеюсь, что Вам удалось или удастся без надрыва поместить последние четыре экземпляра известного Вам произведения... К моей благодарности номер первый прибавится еще одна — номер второй <...>. 3) Будьте ангелом, и отправьте мне с таким расчетом, чтобы письмецо ваше мне получить до 7-го октября <...>. После всей вышеизложенной прозы, следует поэзия — поцелуйте ручки дорогой Анне Родионовне <...> и да хранит Вас Бог всех — детей и внуков. Купно!
<...> Ваш АмПет.
По-видимому, И.М. Троцкий так и не встретился с Дон Аминадо в Париже, который, несмотря на плохое состояние здоровья жены, посетил в октябре. Об этом его приезде в европейскую «столицу мира» косвенно упоминается в письме к нему Дон Аминадо от субботы 8 декабря 1951 г.:
Дорогой, милый, Илья Маркович! Дошла ли до Вас моя открытка из Флоренции? Последняя весточка от Вас была в конце сентября <...> — и мы ничего не знаем о здоровье Анны Родионовны. Ради Бога — неск. коротких строк, буду надеяться — благоприятных. А Вы сами как, старый друг? Авиация авиацией, а расстояние все то же. Хотелось бы повидать Вас, услышать, рассказать, вспомнить многое, вместе и порознь пережитое! В последнее время — большое огорчение — скоропостижная смерть Я.Б. Полонского243. Скоро Новый Год, хочу заранее пожелать Вам и дорогой Анне Родионовне и детям, и внукам Вашим — здоровья, благополучия, удачи! <...> Будьте, дорогой друг, здоровы, во что бы то ни стало! Ваш всегда. Ам.Пет.
P.S. <...> если возможность будет, ликвидируйте посл<едние> три экз<емпляра> книги (было их, кажется, четыре, и один Вам уже удалось, если не ошибаюсь, поместить). Не посетуйте на то, что мордую Вас!
Пятница, 15 февраля 1952 г.:
Дорогой Илья Маркович! «Грозный молодец» Андрей Седых рассказывал мне, что Вы перенесли трудную болезнь, что все это, слава Богу, благополучно кончилось, но что Вы имели замученный и усталый вид, когда он Вас видел на заседании Лит.Фонда. Скажите мне теперь, — спустя месяцы, как Вы себя чувствуете?! И что это была за болезнь? И кому это вообще нужно в нашу эпоху и в наши годы? А Анна Родионовна? Как ее здоровье, как она себя чувствует? Напишите непременно и подробно, и сразу, не откладывая в долгий ящик! Вы сами понимаете, что меня это занимает. Кроме всего прочего, Яша244 передал мне от Вас «сувенир» за одну кн<игу>. Спасибо, дорогой друг, все это, конечно, мелочи, но очень трогательно Ваше внимание <...>. Если <...> сможете, и дабы закончить счет сувенирам, переведите последние три сувенира, чтобы мне уже Вас больше не беспокоить по этому поводу, и чтобы самому мне вылезти из типографии. Будьте здоровы и благополучны, дорогой мой, Илья Маркович. <...>
Ваш всегда и навсегда. А. Амин.
Письмо Дон Аминадо от 15 апреля 1952 г. отличается особенно пышными славословиями в адрес И.М. Троцкого, подаваемыми, впрочем, в шутливо-ерническом тоне:
Дорогой Илья Маркович, отец народов, друг общества и отрочества! Пишу Вам во первых строках моего письма, что очень был тронут Вашим исключительно добрым вниманием, т.е. яичком ко Христову дню!, т.е. последними 15 долл, за книжку, и даст Вам Бог здоровья, потому что Вы человек системы Ангела, и находите время не только писать на всех языках мира (кроме армянского и грузинского), но еще и заниматься всякой дрянью, т.е. продажей натюрмортов Ваших оставшихся в живых собратьев! Теперь жду от Вас точного, краткого и заблаговременного сообщения — когда? И на сколько времени? Ибо буду (будем) счастлив (счастливы) Вас увидеть, наконец, после столь долгой разлуки!.. <...> Обнимаю Вас дорогой Заратустра.
Ваш Аминадо.
Как отмечалось выше, горячее желание «повидаться» было лишь у Дон Аминадо, по каким-то причинам Троцкий явно уклонялся от их личной встречи. Так, в письме от 19 декабря 1952 г. Дон Аминадо с огорчением констатирует:
...дорогой Илья Маркович! Так нам и не удалось повидаться, На мое письмо, срочно адресованное из Bains-les-Bains245 в Ваш парижский отель, Вы мне не ответили, потом наступила осень, пришла зима и... как поют французские Chansonnier246:
Вот еще один год кончается. Хочу послать Вам мои и Надежды Михайловны наилучшие пожелания и поздравления к наступающему Новому году, Вам, дорогой, старый друг и Анне Родионовне! Дай Вам Бог — здоровья, радости, благополучия, покоя, удачи, денег, — и счастья в детях и внуках! <...> Не отрывайтесь, не исчезайте опять на долгий срок! Будьте здоровы, и не забывайте преданного и любящего Вас
А. Аминадо.
Последнее письмо Дон Аминадо к И.М. Троцкому, датированное 7 сентября 1953 г., лишено обычной для него цветистости:
Дорогой, милый Илья Маркович! За какие грехи <я награжден — М.У.> молчанием? Ведь после Вашего налета на Париж летом прошлого года, когда нам так и не удалось встретиться, на письмо мое Вы мне не ответили. Не упрекаю, но огорчаюсь. Покойный С.Л. Литовцев247 любил в таких случаях цитировать Тютчева:
Но и самые лучшие цитаты не утешат, когда свидание не удается. Здоровы ли ВЫ? Как здоровье Анны Родионовны? Дети? Внуки? <...>Ради Бога, напишите о себе подробно. Я остаюсь верен старой дружбе и рад отсутствию деловых поводов или причин, чтобы написать Вам эти несколько строк, продиктованных единственным желанием узнать, как Вы и что с Вами. <...> Обнимаю Вас! Преданный Вам
А. Аминадо.
Вся переписка И.М. Троцкого с литераторами-эмигрантами в основном вращается вокруг проблем сугубо материальных — просьбы о вспомоществовании, поддержке тех или иных литературно-деловых начинаний. Письма Дон Аминадо не являются здесь исключением. Однако они выделяются на общем фоне — в первую очередь за счет своей литературности. Их тексты расцвечены шутками-прибаутками, цитатами и аллюзиями на те или иные исторические факты: «Счастливое избавление царской семьи в Борках», «морские жители», «Андрюша Ющинский»... При этом сатирической ноты не прослеживается: «Ювеналов бич» всегда нацелен на современность, а Дон Аминадо с головой погружен в прошлое.
Как острослов, славившийся своими каламбурами и афоризмами, Дон Аминадо тоже не на пике мастерства: часто повторяется, странным образом забывая, что он на данную тему буквально так же шутил в предыдущих посланиях.
Создается впечатление, что этот выдающийся сатирик, знаток человеческих душ, «умный, находчивый, при всей легкости настороженный <...> внутренне сосредоточенный человек» (см. его личностную характеристику из мемуарной статьи Л. Зурова), никак не может найти верную ноту в обращении со своим адресатом. Ему явно неловко оттого, что приходится клянчиться, и нет охоты посвящать нью-йоркского друга в местные эмигрантские разборки, хотя И.М. Троцкий, находившийся как секретарь Литфонда при распределительной «кормушке», естественно, хотел бы быть в курсе всех парижских событий.
Даже об их общих хороших знакомых: Г. Адамовиче, Буниных, Алдановых и др., Дон Аминадо ничего не рассказывает И.М. Троцкому. Похоже, что в старости Дон Аминадо жил по принципу, который сам же сформулировал:
Когда прошлое становится легендой, настоящее становится чепухой.
Его не интересует повседневность. Он приглашает И.М. Троцкого встретиться, чтобы посудачить лишь о прошлом, о канувших в Лету «баснословных годах». Однако тот, будучи в гуще повседневной жизни, всецело занятый общественной деятельностью, уклоняется от такого рода посиделок.
Кроме того, доброжелательный и отзывчивый по природе Илья Троцкий был вместе с тем, говоря словами одного из донаминадовских афоризмов, «тот человек, который не верит в бесплатный энтузиазм».
Все это, очевидно, задевало самолюбие Дон Аминадо. Поэтому в книге «Поезд на третьем пути», описывая с большим мастерством и выразительностью русское литературное сообщество первой половины XX в., он не отказал себе в удовольствии проигнорировать личность своего «дорогого друга»: И.М. Троцкий упомянут им всего лишь один раз — в длинном перечне сотрудников сытинской газеты «Русское слово», без каких-либо комментариев.
Такого рода «шутка», естественно, не была оставлена Ильей Троцким без внимания, и переписка между старыми приятелями прекратилась. Ибо, как заметил однажды Дон Аминадо:
Когда люди не сходятся в главном, они расходятся из-за пустяков.
Примечания
1 Будницкий О. 1945 год и русская эмиграция: Из переписки М.А. Алданова, В.А. Маклакова и их друзей // Ab imperio. 2011. № 3. С. 254.
2 Heywood А.J. Catalogue of the I.A. Bunin, V.N. Bunina. Leeds, 2011.
3 Будницкий O.B. 1945 год и русская эмиграция: Из переписки М.А. Алданова, В.А. Маклакова и их друзей. С. 243.
4 Хазан В. Семь лет: история издания // Новый журнал. 2010. № 258. С. 179.
5 Будницкий О.В. 1945 год и русская эмиграция: Из переписки М.А. Алданова, В.А. Маклакова и их друзей. С. 244, 253.
6 Там же. С. 254-255
7 27 мая 1946 г. В.Н. Бунина записала в дневнике: «Предлагают Яну полет в Москву, туда и обратно, на две недели, с обратной визой».
8 Львов А. Неудавшаяся миссия: как Симонов возвращал в Россию Ивана Бунина (www.sv0b0da.0rg/c0ntent/transcript/242003 94.html).
9 Там же.
10 Там же.
11 Дубовиков А.Н. Выход Бунина из Парижского Союза писателей // Литературное наследство. Т. 84, кн. 2. М., 1973. С. 402.
12 Лавров В. Холодная осень: Иван Бунин в эмиграции (1920-1953). М., 1989. С. 329-350.
13 BAR, Chekver Coll, box 3, folder 3.
14 Потресов В.А. Бунин и Яблоновский. История их доброго знакомства и разрыва // Московский журнал. 2010. № 9 (237).
С. 47—56.
15 И.А. Бунин: pro et contra. СПб., 2001. С. 58.
16 Там же. С. 67.
17 Видные общественные деятели либерально-демократического направления, братья-близнецы Павел и Петр Долгоруковы погибли в СССР соответственно в 1927 и 1951 гг.
18 Зернов В.М. Воспоминания врача. С. 359-360.
19 Там же.
20 Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989. С. 189.
21 Алданов М. Письма из Ниццы.
22 Иванов Г. Избранные письма разных лет. Прим. 140 (http:// coollib.com/b/4631/read). См. также: Дубовников А.Н. Выход Буниных из парижского Союза писателей. С. 388-401.
23 Писатель Борис Зайцев был знаком с Буниным с начала 1900-х и в течение более 40 лет поддерживал с ним тесные дружеские отношения.
24 В Союзе русских писателей и журналистов состояло в то время 128 членов.
25 Леонид Зуров в 1945-1946 гг. сотрудничал в газете «Советский патриот», затем «Русские новости».
26 Алданов М. Письма из Ниццы // Новый журнал. 2012. № 267.
27 Зайцев Б. Дни. Тринадцать лет. (Об И.А. Бунине) // Русская мысль, 1966. 1о ноября (№ 2541). С. 2-3; то же: Зайцев Б. Дни. М.; Париж, 1995. С. 402-403.
28 До мая 1947 г. французские коммунисты входили в состав правительства IV Республики, где лоббировали советские интересы.
29 «“Русские новости” 1945-го года, бесцеремонно провозгласившие себя идейными продолжателями “Последних новостей”, поклонившиеся до земли, распластавшиеся, расплющившиеся в лепешку пред гениальным Сталиным, наводнившие столбцы безоговорочно советского листка статьями возрожденского молодца и немецкого наймита Льва Любимова и фельетонами ухаря-перебежчика Николая Рощина, — и все это под редакцией Ступницкого, и при директоре-распорядителе ученом агрономе Волкове, да при благосклонном участии, — правда только поначалу, потом сообразили и одумались, — многих иных, именитых и знаменитых <...>». Дон Аминадо. Поезд на третьем пути. М., 2000. С. 693. По сообщению Олега Коростелева, после 1949 г., когда все бывшие сотрудники «Последних новостей» из газеты ушли и с середины 1950-х стали печататься в «Русской мысли», «Русские новости» два десятилетия влачили свое существование как малоизвестное «промосковское» издание, публикующее главным образом произведения «возвращенцев» и отдельных советских писателей.
30 См.: Мнухин Л. К истории газеты «Русская мысль» (http://lib. rin.ru/doc/i/73217p.html).
31 Купченко В.П. Послания Максимилиана Волошина // Наше наследие. 1989. № 1(7). С. 99-10о.
32 Мнухин Н. К истории газеты «Русская мысль» (http://lib.rin.ru/ doc/i/73217p.html).
651
33 По всей видимости, это литератор и театральный деятель Михаил Васильевич Эристов. В эмиграции жил под Парижем. Во время Второй мировой войны — во французском Сопротивлении. Был награжден Высшим советом Франко-британской ассоциации Почетным крестом за услуги, оказанные движению Сопротивления. В 1945-1947 гг. участвовал в культурной деятельности Союза советских патриотов. Более подробных сведений о нем нет.
34 А.Ф. Ступницкий в 1940 г. сотрудничал с «Русским радио» правительства Виши.
35 Métier (франц.) — профессия, специальность.
36 Это письмо Бунина датировано 7 декабря 1947 г.
37 Имеется в виду газета «Советский патриот», печатный орган «Союза советских патриотов» — организации, чья деятельность направлялась советским посольством в Париже. В ноябре 1947-го по распоряжению французских властей этот Союз был закрыт, а большинство членов его правления арестованы и высланы из Франции. В марте 1948-го была официально закрыта и газета «Советский патриот».
38 Неопубликованное письмо Бунина Юрию Трубецкому.
39 «Русская мысль» (№ 1 вышел в Париже 19 апреля 1947 г.) — еженедельная газета (с ноября 1948 г. выходила два раза в неделю, с октября 1955 г. 3 раза в неделю, с 1968 г. снова еженедельно). Основана как орган русских секций французских конфедераций дружинников-христиан (первые два года название этого органа печаталось в выходных данных). Первый редактор —
В.А. Лазаревский.
40 Из письма М.С. Цетлина Буниным от 20 декабря 1947 г. (Алданов М. Письма из Ниццы).
41 Винокур Н. Новое о Буниных // Семь искусств. 2015. № 1.
42 Там же. Начав совместную жизнь в 1907 г., Иван Алексеевич и Вера Николаевна официально оформили свои отношения лишь в 1922-м: 4 июля был совершен гражданский брак, 11 ноября — церковное венчание.
43 Письмо хранится в архиве библиотеки Эдинбургского университета (Великобритания): Ed. University Library Special Collection Gen 565. Отрывок из него опубликован: Жаль, что так рано кончились наши бабьи вечера. (Из переписки В.Н. Буниной и Т.М. Ландау) // И.А. Бунин: Новые материалы. Вып. L М., 2004. С. 489.
652
44 Это замечание Алданова по тональности (sic!) созвучно высказываниям Осоргина в статье «Русское одиночество», процитированным выше (см. с. 275-276).
45 И.А. Бунин: pro et contra. С. 50.
46 Explication (англ.) — объяснение.
47 Дубовников А.Н. Выход Буниных из парижского Союза писателей. С. 402-404.
48 Там же. С. 404-405.
49 См.: Переписка Н.А. Тэффи с Буниными 1939-1948 / Публикация Р. Дэвиса и Э. Хейбер // Диаспора. Вып. 2. СПб. 2001.
С. 548-556. Дружившая, как и М.А. Алданов, с семьей Буниных Тэффи была возмущена письмом М.С. Цетлиной, а так же поведением Б. Зайцева в связи с этой историей.
50 Здесь имеются в виду Марк Алданов, Борис Зайцев, Мария Цетлина и Михаил Цетлин (Амари), скончавшийся в 1945 г.
51 Письмо М. Алданова Г.М. Лунцу от о6 января 1946 г // Новый журнал. 2012 (http://drupal.newreview.webfactional.com/Mapк-алданов-письма-из-ниццы).
52 Письмо Алданова М.С. Цетлиной от 7 января 1949 г. (.Партис З. Марк Алданов // Слово/Word. 2007 . № 54). О мотивах ухода Бунина и Алданова из «Нового журнала» см. также: Чернышев АЛ. «Как редко теперь пишу по-русски...»: Из переписки В.В. Набокова и М.А. Алданова // Октябрь. 1996. № 1. С. 121-146.
53 Там же.
54 Августа Филипповна Даманская — писательница, с 1923 г. жила в Париже, член Союза русских писателей и журналистов.
55 Имеется в виду ОРТ.
56 Натан Ханин как активный деятель еврейского социалистического рабочего движения имел большие связи в самых разных кругах американского общества.
57 Хазан В. Семь лет: история издания. Переписка В. Варшавского с Р. Гринбергом // Новый журнал. 2010. № 258.
58 Все цитируемые письма И.М. Троцкого к В.Н. Муромцевой-Буниной хранятся в РАЛ: Heywood A.J Catalogue of the I.A. Bunin, V.N. Bunina. MS.1067/7249-7254. C. 281.
59 В начале 1950-х один доллар США стоил около 350 франков.
60 «Ивану Алексеевичу делал операцию доктор Andre Dufour, крупный парижский уролог, родившийся в Петербурге, его отец был преподавателем французского языка в одном из петербургских учебных заведений, и доктор Дюфур прекрасно говорил по-русски». Бабореко А.К. Бунин: Жизнеописание. М., 2004 (www.litmir.co/br/?b=159439&p=121).
61 Елена Андреевна Телешова — художница, жена старинного приятеля Бунина, писателя Н.Д. Телешова.
62 И.А. Бунин родился 10 (22) октября 1870 г.
63 Илья Львович Тартак — литературный критик «Нового русского слова» с 1926 г.; В.М. Берг — сотрудник этой газеты.
64 В.В. Сирин-Набоков, отношение которого с Буниным и к Бунину за 30 лет их знакомства сменилось от ученически-почтительного в 1920-е до скептически-неприязненного со середины 1940-х, отказался от выступления на юбилейном вечере Бунина, поскольку, по его словам, не хотел кривить душой и петь дифирамбы писателю, которого, как прозаика, в эти годы уже ставил «по рангу» ниже Тургенева. См.: Шрайер М.Д. Бунин и Набоков. История соперничества. М., 2014.
65 «Как редко теперь пишу по-русски...» Из переписки В.В. Набокова и М.А. Алданова. Публ. и комм. Андрея Чернышева // Октябрь. 1996. № 1. С. 138.
66 Там же. С. 139.
67 Там же. С. 140.
68 Бунин родился 22. октября 1870 в Воронеже.
69 Александр Рогнедов как импресарио и театральный деятель устраивал публичные чтения произведений Бунина.
70 Имеется в виду американская писательница и общественная деятельница Перл Бак, лауреат Нобелевской премии 1938 г., которая должна была возглавить в США комитет по случаю 8о-летия Бунина и собрать для него некоторую сумму денег. Однако из этой затеи, которую, по всей видимости, активно поддерживал И.М. Троцкий, ничего не вышло.
71 Поэт Е. Щербаков.
72 Берта Соломоновна Нилус-Голубовская — жена друга И.А. Бунина, художника П.А. Нилуса, близкий семье Буниных человек.
73 Речь идет об Олечке Жировой, дочери друзей семьи Буниных, долгие годы жившей со своей матерью у них в доме. Бунин знал ее с 6 лет, очень любил и написал для нее ряд шутливых писем.
74 Анна Родионовна — жена И. Троцкого, с которой, судя по переписке, Бунины были лично знакомы.
75 «Вера Николаевна не дотянула всего несколько лет до того, чтобы иметь право отпраздновать свою золотую свадьбу с Иваном Алексеевичем (ведь так несущественно, что их брак официально был оформлен только в Париже на заре эмиграции)». Бахрах А.В. Бунин в халате. По памяти, по записям. Нью-Йорк, 1979. С. 131.
76 Речь идет о сборнике: Бунин И.А. Петлистые уши и другие рассказы. Нью-Йорк, 1954.
77 Живший вместе с Буниными Леонид Зуров, который вернулся домой после лечения в клинике 12 декабря 1953 г.
78 Жена М.А. Алданова.
79 Издательство им. Чехова, созданное в рамках проекта Фонда Форда и Восточноевропейского фонда в 1951 г., просуществовало до 1956 г. и за эти годы выпустило три книги Алданова.
80 memento mori (лат.) — помни о смерти.
81 Le Monde (фр. «Мир») — популярная французская ежедневная вечерняя газета леволиберальных взглядов с тиражом более 300 тыс. экземпляров.
82 «Марьянка» — последняя книга прозы и лирики Л.Ф. Зурова (Париж, 1958), получившая высокую оценку читателей. См.: Белобровцева И. Видно, моя судьба, что меня оценят после смерти // Звезда. 2005. № 8. С. 52-60.
83 Седых А. Памяти И.М. Троцкого.
84 Марченко ТВ. Русские писатели и Нобелевская премия. Köln; München, 2007. С. 548-588.
85 Fedoulova R. Lettrs Divan Bunin A. Mark Aldanov II: 1948-1953 // Cahiers du monde russe et soviétique. 1982. Vol. 23. № 23-3-4. Р 469-500.
86 Бахрах A.В. Бунин в халате. По памяти, по записям. С. 121.
87 Марченко Т.В. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 548-588.
88 Марченко ТВ. Вокруг Нобелевской премии: М.А. Алданов, И.А. Бунин и Шведская академия // Revue des études slaves. Tome 75, fascicule 1. 2004. Р 132.
89 Бунин И.А. Письма 1905-1919 годов. М., 2003. С. 387.
90 Грин М. Письма М.А. Алданова к И.А. и В.Н. Буниным.
91 Бахрах А. Вспоминая Алданова. // Грани. № 124. 1982. С. 175-176.
92 Шведский писатель Пер Фабиан Лагерквист (Lagerkvist), лауреат Нобелевской премии по литературе 1951 г.
93 Нобелевскую премию по литературе в 1950 г. получил британский математик, философ и общественный деятель Бертран Рассел.
94 Леонид Леонидович Сабанеев — музыковед, композитор, музыкальный критик ученый (математика, зоология); Сергей Постельников — пианист, педагог.
95 Абрам Яковлевич Столкинд — юрист, журналист, участник общественных организаций, благотворитель.
96 Рощин (наст. фамилия Федоров), Николай Яковлевич — бывший белый офицер, писатель, критик. Был близок к Буниным, с 1926 г. часто жил у них в Грассе. Однако не исключено, что речь идет о другом лице, поскольку этот Н.Я. Рощин был выслан из Франции в СССР как советский агент еще в 1946 г.
97 Кадиш, Михаил Павлович — юрист, переводчик, журналист, фотограф, активный общественный деятель и масон.
98 memento morí (лат.) — помни о смерти.
99 Писатель, с присущим ему пессимизмом мировидения, сильно сгущает краски, говоря о своем положении: «В Америке Алданову сопутствовал колоссальный — для писателя-эмигранта — успех: его роман “Начало конца” был выпущен в переводе на английский одним из лучших американских издательств — издательством Чарльза Скрибнера. К апрелю 1945 года было продано уже 314.000 экземпляров. Скрибнер, воодушевленный этим успехом, приобрел права на издание всех остальных книг Алданова. Беженец, приехавший в Нью-Йорк практически без копейки (точнее, без цента) за душой и мечтавший снять подешевле комнату с ванной, стал <к началу 1950-х — М.У.> вполне обеспеченным человеком». См.: Будницкий О.В. 1945 год и русская эмиграция: Из переписки М.А. Алданова, В.А. Маклакова и их друзей.
100 Намек на Б. Зайцева, который по слухам (впоследствии не подтвердившимся) представлял свою кандидатуру в Нобелевский комитет.
101 Бунин в общей сложности делал это девять раз: в 1937 и 1939 гг. и с 1947 по 1952 гг. См.: Марченко ТВ. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 548-578.
102 Марченко ТВ. Вокруг Нобелевской премии: М.А. Алданов, И.А. Бунин и Шведская академия. С. 135; Марченко ТВ. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 574.
юз Прогноз Алданова оказался ошибочным: в 1970 г. Нобелевскую премию по литературе получил эмигрант А.И. Солженицын, а в 1987 г. эмигрант И.А. Бродский.
104 «Русская правда» — еженедельная газета, издававшаяся в Париже с начала 1954 г., главным редактором был экономист и публицист Б.П. Кадомцев.
105 Самсон Моисеевич Соловейчик с 1940 г. преподавал русскую литературу в Сити Колледж в Нью-Йорке, затем в Университете штата Колорадо, выдвигал кандидатуру Алданова на Нобелевскую премию в 1954 и 1955 гг. См.: Марченко ТВ. Русские писатели и Нобелевская премия. С. 577-578.
656
106 «Ульмская ночь (философия случая)» (1953); «Начало конца» (1943), «Истоки» (1950) — исторические романы М. Алданова.
107 Информация о номинировании А. Ремизова и Б. Зайцева, которой располагал Алданов, была из разряда «слухов», поскольку в Стокгольмском архиве Нобелевского комитета не имеется об этом никаких документов.
108 Речь идет о личности некоего анонима — «шведского литературоведа, не знающего русского языка», на знакомство и переписку с которым постоянно ссылается И.М. Троцкий. Не исключено, что корреспондентом И.М. Троцкого был шведский историк литературы, профессор Отто Сильван (Sylwan).
109 «Бельведерский торс» — рассказ М. Алданова (1936), повествующий о событиях римской жизни эпохи Возрождения, в котором фигурируют известные исторические персонажи.
110 Алданов не ошибся в своем прогнозе, Хемингуэй получил Нобелевскую премию по литературе в 1954 г.
111 Личности писателя Юлия Шейнера и артиста Бологовского не установлены, возможно, последний был мужем Натальи Петровны Бологовской, портнихи и артистки музыкальной драмы.
112 Прескот (Prescott), Орвилл — американский журналист и литературный критик.
113 Halldor Laxness — Халлдор Лакснесс (Laxness), исландский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1955 г.
114 По-видимому, имеется ввиду X. Лакснесс и, возможно, Георгов Севере — греческий поэт, получивший Нобелевскую премию лишь в 1963 г.
115 Л./. — масонская ложа, скорее всего это американская «Масонская группа России».
116 М.С. Мендельсон, Я.Л. Делевский и А.В. Давыдов — члены ложи «Масонская группа России».
117 Никаких сведений о таком съезде в 1955 г. не обнаружено.
118 Николай Романович Вреден — переводчик, издатель, в 1951-1955 гг. был директором «Издательства им. Чехова».
119 Возможно, речь идет о профессоре О. Сильване (умер 15 января 1954 г. в Гетеборге).
120 Видимо, относительно обстоятельств присуждения Нобелевской премии по литературе в 1956 г. испанскому поэту Рамону Хименесу.
121 Кадаманьяни (Cadamagnani) Ч. Татьяна Сергеевна Варшер (1880-1960): римский корреспондент газеты «Сегодня» // Диалог культур: «Итальянский текст» в русской литературе и «русский текст» в итальянской литературе. М., 2013.
122 Richardson L. Tatiana Warsher 1880-1960 // American Journal of Archeology. 1962 Vol. 66. P. 95-96 (www.brown.edu/Research/ Breaking_Ground/bios/Warsher_Tatiana).
123 Талалай M. Самый близкий в мире человек. Т.С. Варшер и ее свидетельство о Милюкове // Мыслящие миры российского либерализма: Павел Милюков. М., 2010. С. 121.
124 Варшер Т.С. Виденное и пережитое в Советской России. Берлин, 1923.
125 Кадаманьяни Ч. Татьяна Сергеевна Варшер (1880-1960): римский корреспондент газеты «Сегодня».
126 Немецкий археологический институт (НАИ) в Риме — отделение берлинского Немецкого археологического института (Deutsche Archäologische Institut — DAI).
127 E.K. Горчакова — внучка знаменитого русского дипломата князя А.М. Горчакова (1798-1883), «Вилла Сиракузы» (Villa Poggio Siracusa), построенная в 1792 г. Паоло Леопольдо Бурбоном, графом Сиракузским, была в середине XIX в. приобретена семейством Горчаковых и с тех пор называется «Вилла Горчаков» (Villa Cortchacow).
128 Варшер Т. Вместо венка Первухину // Сегодня. 1929. № 20. С. 2; Гардзонио С. Михаил Первухин — летописец русской революции и итальянского фашизма // Культура русской диаспоры саморефлексия и самоидентификация. Тарту, 1997. С. 48-53.
129 Статья «Графине Софье Владимировне Паниной» от 3 июля 1956 г. и цикл некрологов (1956-1958 гг.) под общим названием «Заметки горестного сердца».
130 Варшер Т.С. На выходе папы в храм Св. Петра (письмо из Рима) // Сегодня. 1929. № 158. С. 2.
131 Варшер Т.С. Муссолини говорит // Сегодня. 1936. № 131. С. 2.
132 Варшер Т.С. Новый Рим // Сегодня. 1932. № 96. С. 3.
133 Варшер Т.С. В новом Неаполе // Сегодня. 1938. № 116. С. 3.
134 Kevin М. Fascism and British Catholic Writers: 1924-1939 // The Chesterton Review. 1999. February/May. Issue 1/2. Vol. 25. P. 21-51.
135 Беркович E. Банальность добра, или как итальянские фашисты спасали евреев // Вестник. (Cockeysville, MD). 2000. № 3(327).
136 Волкогонова О. Религиозный анархизм Д. Мережковского (http://philosophy.ru/library/volk/merez.html).
137 Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924-1974). Париж; Нью-Йорк, 1987.
138 Кадаманьяни Ч. Женский диалог: неизданные письма Зинаиды Гиппиус к Татьяне Варшер (Международная научная конференция «Русская эмиграция в Италии: Журналы, издания и
архивы (1900-1940)»— http://bfrz.ru/?mod=news&id=147o).
139 Гардзонио С, Сульпассо Б. Осколки русской Италии. Кн. 1. М., 2011. С. 389.
140 Юнггрен М. Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. СПб., 2001. С. 192.
141 Григорьева И.В. Историческая наука в условиях фашизма //
Восток. 2005 4/5(28/29) (www.situation.ru/app/j_art_863.htm).
142 Warscher Т. Pompeij. Ein Führer durch die Ruinen. Berlin, 1925.
143 Warcher T. Pompei in three hours. Roma, 1930.
144 Все эти материалы хранятся в Шведском Институте (Svenska institutet, SI) и Немецком Археологическом Институте (Deutsches Archäologisches Institut — DAINST) в Риме. В SI хранятся и машинописные манускрипты «Marmi di Pompei» («Помпейские мраморные скульптуры») в 6 томах (Roma, 1948) и «Le cortine nella pittura pompeiana» («Портьеры в помпейской живописи») (Roma, 1946), и «Dopera di Wolfgang Helbig “Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens” riveduta, completata, corretta: con un'appendice di indice topográfico Fiorelli-Helbig, rivisto, confrontato e nuovamente numerato» («Книга Вольфганга Гельбига “Настенные рисунки погребенных под <пеплом> Везувия городов Кампании”: переработанная, дополненная и исправленная версия с переработанным, проверенным и повторно пронумерованным топографическим указателем Фиорелли-Гельбиг») (Roma, 1945). Другие подготовительные материалы и коллекции фотографий находятся в Американской Академии в Риме (American Academy in Rome: Warsher collection, 1937-1939 (Photographic Archive) и в фонде T.C. Варшер в библиотеке американского Исследовательского Института Гетти (Getty Research Institute, Los Angeles).
145 Адамович Г. «Живые лица» З. Гиппиус // Звено (Париж). 1925. № 125. 22 июня.
146 élan vital — жизненный порыв (фр.).
147 «...однажды Иван Алексеевич Бунин, который был, вообще, такой человек, как мы знаем, резкий, высказался о Шмелеве: а, эта сука замоскворецкая! Прочитав очередной опус в парижском нацистском в „Парижском вестнике“» — Будницкий О. Русская эмиграция в нацистской Германии (http://echo.msk.ru/ programs/netak/736630-echo).
148 Троцкий И.М. Незамеченное поколение // Новое русское слово. 1956. № 15 602. 16 марта. С. 7.
149 Д.Д. Григорьев, историк литературы и православный священник, в 1950-1955 гг. был членом НТС, но затем от деятельности Союза отошел. «Солидаризм» — название идеологической платформы НТС.
150 Азадовский К.М., Суперфин ГГ. Русский в Германии: одиссея «профессора» Матанкина // Donum Homini Universalis: сб. статей в честь 70-летия Н.В. Котрелева. М., 2011. С. 25; Ганелин Р. Российское черносотенство и германский национал-социализм // Национальная правая прежде и теперь. Т. 1. СПб., 1992. С. 130-150; Jdanoff D. «Russische Faschisten»: der nationalsozialistische Flügel der russischen Emigration im Dritten Reich (http://epub.ub.unimuenchen.de/548/1/jdanoff-faschisten.pdf); Laqueur W. Der Schoß ist fruchtbar noch. Der militante Nationalismus der russischen Rechten. München, 1993.
151 Григорьев Д. Письмо в редакцию // Новое русское слово. 1956. № 15 602. 22 марта. С. 4.
152 Яблоновская Н.И. Юбилей Т.С. Варшер // Русская мысль. 1957. № 1048. 16 апреля. С. 4.
153 По всей видимости, речь идет о Ван дер Поэле (van der Poel), последнем ученике Варшер, которому она завещала свой личный архив (ныне в Getty Research Institute, Special Collections в составе фонда Inventory of The Halsted B. Vander Poel Campanian Collection, Collection Number: 2002. M.16, Series II. Tatiana Warscher papers, 1912-1997, bulk 1924-1960).
154 Речь идет о «Топографическом кодексе Помпей» («Codex topographicus pompejanus»).
155 «Дом Веттиев» — небольшой, богато украшенный и хорошо сохранившийся дом в Помпеях, принадлежавший торговцам-вольноотпущенникам Авлу Веттию Конвива и Авлу Веттию Реститута
156 Воусе G.K. Corpus of the Lararia of Pompeii // Memoirs of the American Academy in Rome. Vol. 14. Rome, 1937. P. 112; 41 Plates. Ларарий (lararium, от лат. «lares»), в римском доме культовое помещение или место поклонения домашним богам. Ежедневно после сна домочадцы молились у ларария, во время трапез оставляли подношения с едой и вином.
157 Автор статьи «Tatiana Warsher 1880-1960».
158 В этой связи в книге Ричардсона «А Catalog of Identifiable Figure Painters of Ancient Pompeii, Herculaneum, and Stabiae», первое издание которой упоминает Т. Варшер, ставится вопрос: «Какую роль играли художники в экономической и культурной жизни Помпеи? Работали ли лучшие художники вместе друг с другом? Рисовали они только главные фрагменты в самых лучших помещениях, и если да, то кто писал все остальное? Принадлежали ли дома, в которых работали эти мастера, к категории “лучших”»?
159 После этого инцидента Т. Варшер «получила венок цветов от еврейской общины Петербурга и моральную поддержку от Милюкова» (Талалай М. Самый близкий в мире человек. Т.С. Варшер и ее свидетельство о Милюкове. С. 206).
160 По-видимому, барон Давид Горациевич Гинцбург — ученый-ориенталист, литератор и еврейский общественный деятель.
161 Боссе К. 70-летие Т.С. Варшер-Сусловой // Новое русское слово. 1950. № 14046. 10 октября. С. 3.
162 Оба мужа Татьяны Варшер были братьями и носили фамилию Суслов.
163 Возможно, речь идет о Беньямине Иосифовиче Гальперине, который, согласно сведениям из Государственного архива Италии, был интернирован в годы фашизма.
164 Старейший и один из самых знаменитых научных и культурных центров США за рубежом, образованный в 1913 г. путем слияния американских школ архитектуры и классических исследований в Риме.
165 Скорее всего, старинная тюрьма di Regina Coeli в римском районе Трастевере, использовалась и как концентрационный лагерь.
166 Вилла князей Doria Pamphilj в Риме.
167 Гезина Мери Дайкес (Dykes), ставшая в браке с принцем Филиппо II принцессой Дория Памфили-Ландиви Мельфи.
168 Инфермьерша (итал.) — медсестра.
169 Александр Алексеевич Измайлов с конца 1890-х печатался главным образом в газете «Биржевые ведомости», где на протяжении 20 лет вел еженедельную рубрику «Литературный фельетон».
170 Варшер явно подразумевает сатирическое стихотворение А. Измайлова «Знаменитые встречи. Из литературных воспоминаний Анкудина Козодоева» (1908 г.), в котором, однако, она перепутала сюжетные ситуации и упоминаемые в стихотворении имена литературных знаменитостей. «В окно магазина» смотрел драматург А.Н. Островский, а ему «на мозоль наступил невзначай / Однажды маститый Старчевский».
171 Петербургский театр Суворина или Театр Литературно-художественного общества (Суворинский, реже — Малый) театр, существовал в в 1895-1917 гг. Назывался по имени одного из его создателей, а затем владельца, Алексея Сергеевича Суворина.
172 Либеральная общественность обвиняла суворинские постановки в шовинизме. Политический скандал разыгрался осенью 1900 г. на премьере пьесы В. Крылова и С. Литвина (Эфрона) «Контрабандисты» (первонач. «Сыны Израиля»). Радикальный студенческий кружок «Полярная звезда» принял решение о срыве премьеры. Правительственные круги, предупрежденные о готовящейся акции, стянули к театру полицию. Спектакль был сорван, многие участники демонстрации арестованы. После этого сам А.С. Суворин подвергся обструкции. Подробнее см.: Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать. Jerusalem, 2011. Т. 1. С. 421-438.
173 Маттео Делла Корте — выдающийся итальянский ученый-археолог.
174 Скульптурный портрет ростовщика Цецилия Юкунда (бронза), найденный на месте раскопок его дома в Помпеях, хранится в Национальном археологическом музее Неаполя.
175 Делла Корте родился в 1875 г., следовательно, заметку Варшер можно датировать 1955 г.
176 Этот эпизод относится к 1899 г.
177 М.И. Ростовцев и С.М. Кульчицкая поженились в 1901 г.
178 Выдающийся немецкий филолог-классик.
179 Жившая в Риме с 1930-х художница Екатерина Николаевна Фалилеева (урожд. Рогаль-Качура).
180 Неустановленное лицо.
181 По понятным причинам фон Геркан умалчивал, что как руководитель НАИ и профессор Берлинского Университета также состоял в НСДАП. См.: Brief Wiegand an Minister Bernhard Rust, 14. Juli 1936 // Junker K. Das Archäologische Institut des deutschen Reiches zwischen Forschung und Politik. Die Jahre 1929 bis 1945. Mainz, 1997. S. 38
182 Возможно, речь идет о латвийской эмигрантке Кларе Беньяминовне Хацкельсон (1904 -?). В 1930-х она предлагала свои услуги газете «Сегодня» в качестве римской корреспондентки (псевдоним К. Казов). Очевидно, газета, уже имея в Риме своего корреспондента Т.С. Варшер, на предложение Хацкельсон не откликнулась (Государственный исторический архив Латвии).
183 Марк Львович Слоним — литературовед, критик, публицист, переводчик, редактор. В эмиграции до 1941 г. жил в Западной Европе, затем в США.
184 World Churches — The World Council of Churches (Всемирный совет церквей), международная экуменическая организация, основанная в 1948 г. в Амстердаме.
185 Jashemski W.F. Discovering the Gardens of Pompeii: Memoirs of a Garden Archaeologist. North Charleston, 2014 (http://blogging-pompeii. bl0gsp0t.de/2015/01/disc0vering-gardens-0fp0mpeii-me-moirs.html).
186 Возможно, речь идет о Jonathan Saville, профессоре литературы The University of California at San Diego.
187 О нем см.: Повилайтис В. Философия истории и культуры Г.А. Ландау (http://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-istorii-i-kultury-g-a-landau); Гессен В. Г.А. Ландау: необходимые уточнения // Вестник Еврейского университета в Москве. 1994. № 3.
С. 189-192.
188 Ландау был арестован 14 июня 1941 г., отправлен в Усольлаг (АМ-244), Молотовской (Пермской) области, где и умер 14 ноября 1941 г. (Будницкий О., Полян А. Русско-еврейский Берлин. С. 298).
189 Ландау Г.А. Эпиграфы. Берлин, 1927.
190 Жерби А. Татьяна Сергеевна Варшер // Русская мысль. 1961. 5 января. С. 3-5 (Машинописный автограф некролога в YIVO-архиве И.М. Троцкого).
191 Евгения Львовна Гольденвейзер — жена А.А. Гольденвейзера.
192 Иван Владимирович Делекторский — русский эмигрант, с 1952 г. живший в Бразилии (Сан-Пауло).
193 Скорее всего, это Яков Григорьевич Фрумкин.
194 Тейтелевский комитет — Общество помощи русско-еврейской интеллигенции им. Я.Л. Тейтеля.
195 Возможно, для газеты «Новое русское слово».
196 Михаил Львович Кантор — эмигрантский поэт, литературный критик, редактор.
197 Михаил Моисеевич Мазор — архивист, масонский деятель из числа эмигрантов «первой» волны. В 1920-1946 гг. жил в Польше и во время немецкой оккупации провел два года в Варшавском гетто; затем жил в Париже.
198 По-видимому, Яков (Жак) Львович Рубинштейн — адвокат, государственный и общественный деятель русской эмиграции во Франции, благотворитель.
199 Абрам Самойлович Альперин — промышленник, видный общественный деятель русской эмиграции, масон.
200 См. о нем: Кублицкая М. Русские книги, изданные в Аргентине. XX век. М., 2013. С. 89-90.
201 См. упоминание об этой книге как источнике, в котором приводятся «интересные материалы о положении дореволюционного крестьянства»: Курганов И.А. Крестьянство в судьбах России (http://socialist.memo.ru/books/emigrant/sudby/kurganov. htm#z1).
202 Михаил Николаевич Подольский, автор романа «Жанета (История одной любви)» (Buenos Aiers, 1967). См.: Кублицкая М. Русские книги, изданные в Аргентине. XX век. С. 232-233.
203 В списке действующих этот приход уже не значится (http:// ru. wikipedia.org/wiki/Список_русских_православных_ храмов_и_приходов_Южной_Америки).
204 Вербицкий Г.Г. Русский Корпус в Сербии // Новый журнал. 2010. № 259.
205 История взаимоотношений М.Н. Подольского с Н.А. Чоловским описана последним: Чоловский Н. Русские библиотеки в Аргентине // Сеятель. 1961. № 100. С. 8-12; Вынужденный ответ (Статья вторая) // Сеятель. 1962. № 105. С. 3.
206 Евгений Месснер в своих многочисленных трудах предсказал наступление эры «мятежевойн» — в современной терминологии, борьбы с международным терроризмом.
207 Когда в 1963 г. обнаружилось, что красотка Кристин Килер состоит в интимной связи одновременно с военным министром Великобритании и помощником советского военно-морского атташе в Лондоне (т.е. сотрудником ГРУ), в Великобритании разразился общенациональный политический скандал («Дело Профьюмо»), в результате правительство консерваторов пало.
208 В 1936 г. в Британской империи разразился конституционный кризис после того, как король Эдуард VIII сообщил о намерении жениться на американке Уоллис Симпсон, разведенной со своим первым мужем и добивающейся развода со вторым. Это желание короля противоречило его статусу главы англиканской церкви. Не желая отказываться от брака, Эдуард VIII отрекся от престола в пользу своего младшего брата Альберта (король Георг VI). Приняв титул герцога Виндзорского, он в 1937 г. он женился на Уоллис Симпсон, которая стала герцогиней Виндзорской. Симпсон не без основания подозревали не только в легком поведении, но и в прямых связях с нацистской Германией. Данных о ее еврейском происхождении нет, и утверждение С. Орема, по-видимому, основано на том факте, что ее последний муж Эрнст Симпсон был крещеным евреем.
209 Болдуин (Baldwin) Стенли (1867-1947), член Консервативной партии Великобритании, 55-й, 57-й и 59-й премьер-министр Великобритании (1923-1924, 1924-1929, 1935-1937 гг.).
210 Coty и Houbigant — названия старейших французских парфюмерных фирм-производителей духов.
211 Георгий Степанович Носарь (он же Петр Алексеевич Хрусталев, лит. псевдоним — Юрий Переяславский), российский политический и общественный деятель. После 1913 г. находился в крайне неприязненных отношениях со Львом Троцким.
212 История С. Орема выглядит неправдоподобной, поскольку Хрусталев-Носарь был расстрелян в 1919 г. Если считать, что все рассказанное Оремом — не плод его журналистсткой фантазии, то он явно описался или его подвела память на даты. Во всяком случае, в современной научной литературе не имеется сведений о двурушничестве Льва Троцкого и Г. Хрусталева-Носаря.
213 Вопрос об агентах царской охранки в среде российских революционеров оставался актуальным и в эмигрантской среде, главным образом, естественно, социал-демократической. Интересовал он и И.М. Троцкого. В его YIVO-архиве имеется рукопись написанной им историко-публицистической работы «Исповедь бывшего царского охранника».
214 «Дора» — партийный псевдоним Фанни Каплан.
215 Атентатор (серб.-хорват.) — смутьян, террорист, саботажник и т.п.
216 Многие монархисты обвиняли М.В. Алексеева, начальника штаба Ставки Верховного главнокомандующего, в содействии свержению императора Николая II.
217 Кублицкая М.А. Русская периодическая печать в Аргентине в XX веке.
218 Уральский М. «Дорогой друг» из Нью-Йорка: Письма Дон Аминадо И.М. Троцкому (1950-1953) // РЕВА. Кн. 9. Торонто; СПб. 2014. С. 135-144.
219 Седых А. Далекие, близкие. М., 2005. С. 51-52, 78.
220 Зуров А. Дон Аминадо // Новый журнал. 1968. № 90. С. 114-120. С. 115.
221 Дон Аминадо стал масоном в 1920 г., вступив в парижскую ложу «Космос». В дальнейшем являлся активным членом ложи «Свободная Россия».
222 Шаховская З. Дон Аминадо // В поисках Набокова; Отражения. М., 1991. С. 279.
223 liberation (франц.) — освобождение
224 curriculum vitae (лат.) — биографическая справка.
225 17 октября 1888 г. на станции Борки, неподалеку от Гатчины, произошло крушение царского поезда. Все вагоны были разбиты, но, по счастливой случайности, вагон, где находился царь Александр III со своей семьей, не пострадал. Под этой шутливой метафорой Дон Аминадо скрывается горькая правда: он, как еврей, чудом пережил время оккупации Франции нацистами.
226 Надежда Михайловна Шполянская — жена Дон Аминадо.
227 grands-parents (франц.) — дедушка и бабушка.
228 Популярная игрушка — разноцветные чертики, помещенные в «маленькие стеклянные пробирки с водой и с натянутой сверху тонкой резинкой — обычно клочком от лопнувшего воздушного шара, — а внутри пробирки крошечный чертик из дутого стекла, либо синий, либо желтый, величиной с таракана, вертится и вьется при нажатии пальцем на резинку, спускается на дно и снова взвивается кверху. Стоили эти “морские жители” копеек по 15-20, и ими торговали разносчики так, как никакими иными вербными товарами. При этом бродячие торговцы сопровождали своих “морских жителей” разными прибаутками, обычно на злобу дня, иногда остроумными, иногда пошлыми, приплетая сюда имена, нашумевшие за последние месяцы, — либо проворовавшегося банкира, разорившего много людей, либо героя какого-нибудь громкого московского скандала. Затрагивались иной раз и политические темы, вышучивались разные деятели, выделявшиеся за последнее время в Государственной думе либо в европейской жизни иных государств. Любопытно отметить, что эти “морские жители” появлялись только на вербном базаре, в течение нескольких дней. В иное время года их нельзя было достать нигде, ни за какие блага. Куда они девались и откуда вновь через год появлялись, публика не знала. Потому они и покупались здесь нарасхват» (Телешов Н.Д. Москва прежде // Московская старина: Воспоминания москвичей прошлого столетия. М., 1989. С. 425).
229 Александр Абрамович Поляков — известный эмигрантский журналист и редактор. Переехав в 1942 г. в Нью-Йорк, вплоть до 1970 г. состоял сотрудником редакции «Нового русского слова» и печатался в этой газете.
230 Одна из полисемантических «шуток» Дон Аминадо, в которой Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак), в молодости крестившийся, получает ироническое прозвище по имени и фамилии русского мальчика Андрюши Ющинского, в ритуальном убийстве которого обвиняли Бейлиса («Дело Бейлиса», 1911).
231 РГАЛИ. Ф. 2257 — «Дон Аминадо (А.П. Шполянский)»; Колумбийский университет (США), Бахметьевский архив (Bakhmeteff Archive of Russian & East European Culture) — http:// clio.columbia.edu/archives/4078077.
232 Дон Аминадо ошибочно приписывает О. Мандельштаму строчки из стихотворения Ф.И. Тютчева «Я знал ее еще тогда...».
233 Согласно т.н. «Доктрине Трумэна», в 1947-1948 гг. предусматривалось выделение 300 и 100 млн. долларов соответственно Греции и Турции как странам, находящимся в зоне коммунистической угрозы со стороны СССР, что и обыгрывает Дон Аминадо в своей просьбе о вспомоществовании в размере «125-135 долларов».
234 entre nous (фр.) — между нами.
235 Двустишие Дон Аминадо из стихотворного цикла «Труды и дни» (1933).
236 Илья Маркович Василевский — сатирик, журналист, редактор, писавший под псевдонимом Не-Буква.
237 Dixi et aninmum lacvavi (лат.) — Я сказал и тем облегчил душу.
238 Неустановленное лицо.
239 Tempi passatti! (лат.) — Увы, давно прошедшие времена!
240 congé payé s. v. р. (фр.) — оплачиваемый отпуск, если вы желаете.
241 дактило (фр. daktylo) — машинистка.
242 Фраза «Мэнэ текэл фарес тахлес» — шуточный парафраз Дон Аминадо, в котором к трем известным пророческим словам из Ветхого Завета, означающим «сосчитано, взвешено и разделено», прибавлено слово «тахлес» на идиш, обычно использующееся в значении «подведем итоги».
243 Яков Борисович Полонский — доктор права, журналист, писатель, историк литературы, библиофил.
244 По-видимому, имеется в виду их общий друг Я.Г. Фрумкин.
245 Bains-les-Bains — курорт в Лотарингии.
246 Шансонье, исполнители шансонов (песен).
247 Имеется в виду Соломон Львович Поляков-Литовцев.
А. Седых. Памяти И.М. Троцкого
Некролог в газете «Новое русское слово» от у февраля 1969 г. Поскольку детали биографии И.М. Троцкого нами уже рассмотрены и прокомментированы, то допущенные автором некролога неточности в большинстве случаев не оговариваются.
Илья Маркович Троцкий скончался тихо, во сне, вечером 5 февраля. Болел он уже давно. Сердце отказывалось работать. Едва оправившись от очередного припадка, громадным усилием воли, он заставлял себя вставать, отправлялся на очередное заседание правления Литературного Фонда. Принять участие в распределении средств, в работе по оказанию помощи нуждающейся интеллигенции было для него важнее собственной болезни... А потом, снова — сердечная слабость, упадок сил и, последний этап долгого жизненного пути — тихая смерть во сне.
И.М. Троцкий родился в Ромнах 29 июня 1879 года1, — через несколько месяцев ему исполнилось бы 90 лет. Он получил в России среднее и высшее образование, был инженером, но с юных лет его влекла другая профессия — журналистика. Он сотрудничал в газетах и журналах свыше 70 лет. И начал он не в провинциальной печати, а сразу попал в «Русское слово» — крупнейшую газету России, где на него обратили внимание
В.И. Немирович-Данченко, Влас Дорошевич и сам И. Сытин, всячески покровительствовавший молодому сотруднику. До Первой мировой войны И.М. Троцкий был берлинским корреспондентом «Русского слова». Влияние заграничных корреспондентов столичных русских газет в эти годы было очень велико, — с ними считались министры и дипломаты, и нередко через журналистов неофициальным путем в Петербург давали знать то, что нельзя было сказать в официальных нотах. И.М. Троцкий много раз участвовал в этой закулисной игре.
Он знал германского премьер-министра фон Бюлова, встречался с Бетман Гольвегом, с русскими министрами, приезжавшими в Германию. Знал он лично и многих выдающихся представителей русской литературы того времени. Когда И. Сытин приехал за границу, он предложил И.М. Троцкому сопровождать его. На страницах «Нового русского слова» И.М. вспоминал, как Сытин повез его на Капри к Горькому.
...Когда началась Мировая война, И.М. Троцкий переехал в Копенгаген, откуда продолжал свои корреспонденции в «Русское слово». Революция и приход к власти коммунистов ненадолго прервали его газетную работу. Он снова вернулся в Германию и начал сотрудничать в расцветавшей в эти годы русской эмигрантской печати. Начался новый этап его жизни. Вместе с другим б<ывшим> «русскословцем» С.Л. Поляковым-Литовцевым он вошел в организацию ОРТ-ОЗЕ, и в течение трех десятилетий работал для этих организаций — сначала в Европе, а с 1935 года в Аргентине. Чтобы иметь возможность писать в еврейской печати, он изучил «идиш», прекрасно овладел этим языком и до конца своей жизни был ценным сотрудником нью-йоркского «Ферверца» и нескольких еврейских газет в Аргентине, в частности «Идиш Цайтунг».
Мы по-настоящему сдружились в 1933 году, в Стокгольме, куда И.М. Троцкий приехал на торжества по случаю получения И.А. Буниным Нобелевской премии. И.А. Бунин знал, что И.М. Троцкий вместе с журналистом С. де Шессеном проделали в Стокгольме в его пользу большую работу. Но мало кто знает, что уже после присуждения премии И.А. Бунину И.М. Троцкий старался использовать свои стокгольмские связи, чтобы выдвинуть на премию другого русского писателя, М.А. Алданова.
В С<оединенные> Штаты он переехал из Аргентины в <19>46 году, и с этого времени наладилось его регулярное сотрудничество в «Новом русском слове», где он часто помещал свои фельетоны, статьи на политические темы и отрывки воспоминаний.
И.М. Троцкий был общественным деятелем «Божией милостью», — потребность служить людям была его второй натурой. Он принимал участие в деятельности Союза русских евреев (в двух книгах о «Русском еврействе», выпущенных этим союзом, перу И.М. Троцкого принадлежит несколько интересных статей); он был долголетним и несменяемым генеральным секретарем Литературного Фонда и к обязанностям своим относился чрезвычайно добросовестно: через его руки проходили все письма о помощи, он составлял списки нуждающихся, он вел со многими литераторами, учеными, артистами постоянную переписку Никогда не прерывалась его связь с ОРТом и с ОЗЕ, — он был членом совета директоров ОРТа, часто бывал на заседаниях Европейских друзей ОРТа1. Он был оратором, всегда говорил с подъемом, зажигая присутствующих своей искренностью, очаровывая своим остроумием.
Приходил он на заседания в любую погоду, в снег и в дождь, пока хватало сил — общественная работа была для него выполнением высшего долга. И уже лежа в постели, до самых последних дней своей жизни, он продолжал посылать корреспонденции в свои газеты. В 90 лет он сохранил ясный ум и точную память.
Илья Маркович Троцкий не имел врагов. Все, кто знали этого благородного, незлобивого человека, немедленно становились его друзьями. Он любил людей, был к ним расположен, неизменно благожелателен. Он не знал профессиональной зависти, — звонил коллегам, чтобы поздравить с удачной статьей, радовался чужим успехам. В нем удивительно сочеталась любовь к русской культуре и еврейский дух. О нем можно сказать словами поэта — И.М. Троцкий всю жизнь дышал «особенным еврейско-русским воздухом»2...
Общественность теряет в лице И.М. Троцкого одного из лучших и благородных представителей того неповторимого поколения, которое ставило служение культуре и помощь ближнему выше всех личных интересов.
Перечень избранных статей И.М. Троцкого в газете «Русское слово»
Россия и Германия на Балканах. — 20 января (2 февраля) (№ 15). С. 2.
Автор приводит мнение шести известных деятелей Германской империи, в т.ч. «известного публициста и редактора журнала «Zukunft» Максимилиана Гардена, о русско-германском соглашении.
Мемуары Бебеля. — 24 января (6 февраля) (№ 19). С. 3.
Первый том перевода книги Августа Бебеля «Из моей жизни. Мемуары» был издан в Москве в 1910 г. (2 и 3 тома — в 1912 г.). Перу Бебеля принадлежит целый ряд литературных произведений, из которых наибольшим успехом пользовалась книга «Женщина и социализм» (1879). После революции в честь Бебеля, который вместе с Вильгельмом Либкнехтом создал германскую социал-демократическую партию, часто называли улицы и различные предприятия, в том числе пивоваренные заводы. Ср. стихотворение Маяковского «Пиво и социализм», написанное под впечатлением увиденной в марте 1927 г. в Витебске вывески с изображением раков, кружки пива и надписью «Завод им. Бебеля».
Блюет напившийся.
Склонился ивой.
Вулканятся кружки, пену пепля.
Над кружками надпись:
«Раки и пиво
завода имени Бебеля».
И.М. Троцкий представлял Августа Бебеля русскому читателю с подчеркнутым уважением: «старейший депутат германского рейхстага» и «один из виднейших борцов за женскую эмансипацию»1.
В осажденном Берлине. — 4(17) февраля (№ 27). С. 3.
О протестах либерально-демократической общественности Берлина против проекта новой избирательной реформы.
На высоте 1500 метров (воздушный полет из Берлина в Шверин-Тойпиц Бранденбургский). — 14(27) марта (№ 6о). С. 4.
Об авиационном полете, в котором принимал участие и сам И.М. Троцкий.
Первый германский культуртаг. — 27 марта (9 апреля) (№ 70).
С. 3.
Мнение дипломатов. — 8(21) апреля (№ 8о). С. 2 (рубрика «Германская политика в Персии»).
Локаут в Германии. — 9(22) апреля (№ 81). С. 3.
Германский воздушный флот. — 11(24) апреля (№ 83). С. 3.
Воздушные катастрофы. -17(30) апреля (№ 88). С. 2.
О падении дирижабля «Цеппелин II».
Германцы в Персии. — 23 апреля (6 мая) (№ 92). С. 2.
Немецкие пессимисты. — 30 апреля (13 мая) (№ 98). С. 2.
Политические последствия кончины английского короля Эдуарда VII2.
Дело «Ангальта». — 5(18) мая (№ 101). С. 2.
О международном судебном споре по поводу продажи парохода «Ангальт» с военным грузом в рамках сделки представителя русского военного командования с частным лицом — немецким торговцем оружием, во время русско-японской войны 1904-1905 гг. Судебная тяжба, начавшаяся в 1906 г., тянулась несколько лет. В результате русский посол в Берлине барон Н.Д. Остен-Сакен, по сообщению «Русского слова», «получает продолжительный отпуск и уходит по болезни в отставку», а пароход «вернулся из заграницы».
«Рыцарь без страха и упрека». — 4(17) июня (№ 126). С. 2.
И.М. Троцкий с большим пиететом пишет о депутате рейхстага от прогрессивной народной партии (либералы) Альберте Трегере (Traeger;
1830-1913), среди прочего — лирическом поэте патриотической направленности.
Судьба Крита. — 16(29) июня (№ 136). С. 2.
Кильский переворот. — 19 июня (2 июля) (№ 139). С. 1.
В портовом немецком городе Киль, куда ежегодно ездит на спортивные состязания император Вильгельм II, кипят не только спортивные, но и политические страсти.
В гостях у Гергардта Гауптмана. — 29 июня (12 июля) (№ 147).
С. 2.
Об этом посещении знаменитого немецкого писателя см. в разделе: Лев Толстой, Герхард Гауптман и Герман Зудерман в публицистике Ильи Троцкого.
Роковое письмо. — 4(17) июля (№ 152). С. 3.
Партийный скандал. — 9(22) июля (№ 156). С. 2.
О скандале среди германской социал-демократии.
Летний сезон. — 11(24) июля (№ 158). С. 2.
Об отношении немцев к русским туристам и курортникам:
Центр Берлина, буквально, кишит соотечественниками. Попадая на «Унтер ден Линден», «Фридрихштрассе» и «Лейпцигерштрассе», забываешь на время, что находишься в Германии.
Русская речь висит в воздухе. Громкий говор и преувеличенная жестикуляция — сразу выдают россиян.
На каждом шагу вы встречаете типичного москвича, разочарованного петербуржца, нервного одессита или стремительного ростовца. Студенческие тужурки, гимназические фуражки и обтянутые рейтузы уже больше не удивляют берлинцев. К ним присмотрелись, привыкли. Вся эта говорливая, шумная и суетливая публика вечно куда-то спешит, торопится, ест и пьет наскоро, сорит деньгами, развращает ресторанную прислугу, осаждает магазины и меньше всего, конечно, знакомится с достопримечательностями Берлина. На нас, постоянных абориге
нах, особенно отражается летний налет соотечественников. Не говоря уже о том, что у каждого имеются родственники и знакомые, считающие своим долгом по приезде за границу оторвать вас от работы и безбожно измотать всякого рода просьбами и поручениями, они еще делают вас свидетелями своих недовольств и нареканий на «проклятые» немецкие порядки.
Правда, культурные берлинцы уж больно бесцеремонно обращаются с россиянами.
Кто в этом виноват, — разбирать не приходится. Но факт тот, что к русским относятся далеко не так, как, например, к французам, англичанам или американцам. Объясняется это, отчасти, тем, что во всяком русском массовый немец видит эмансипированного азиата, представителя чуть ли не низшей расы. Отсюда и соответствующее отношение. Впрочем, немало виноваты в подобной репутации и сами русские, забывающие, что в чужой монастырь со своими правилами не лезут, и что российское разгильдяйство не всем по духу.
Если кто довольны нашими соотечественниками, так это всякого рода «гешефтмахеры». Спекулируя на погоне русскими, и в особенности, прекрасной их половиной, за дешевкой, они спускают им всякую заваль и дрянь.
Все, что за зиму скопляется в магазинах и складах, в сезон легко продается. Для уловления русского покупателя существует прекрасно организованная сеть всевозможных посреднических бюро и контор, стоящих в тесной связи с низшим персоналом отелей и гостиниц. <...>
Говоря о русских гостях в Берлине, нельзя обойти молчанием такого важного в культурном отношении факта, как экскурсия учителей и студентов-техников.
Вот они-то, действительно, многое здесь почерпнули и увидели то, что им принесет пользу и у себя на родине. К сожалению, такого рода экскурсии у нас редки. Положительная же их сторона и без комментариев ясна.
Примечательно, что тема «русский турист — объект жульнического надувательства в Германии» с рефреном:
Мне уже в свое время пришлось познакомить читателей «Русского Слова» с организаторами берлинских обиралок и их методами уловления клиентов. Однако, все разоблачения печати ни к чему не ведут».
Это постоянный лейтмотив довоенных корреспонденций И.М. Троцкого. Ср. с выдержкой из следующей статьи:
У Георга Брандеса. — 17(30) июля (№ 163). С. 2.
Об этом своем посещении знаменитого датского критика И.М. Троцкий вспоминал всю свою жизнь (см. раздел «Скандинавская нота» в публицистике Ильи Троцкого), поскольку именно Г. Брандес рекомендовал его скандинавской литературной элите.
Дания и Германия. — 20 июля (2 августа) (№ 165). С. 2.
Накануне конгресса мира. — 22 июля (4 августа) (№ 167). С. 2.
Конгресс мира в Стокгольме3. — 25 июля (7 августа) (№170). С. 2.
Каторга. — 27 июля (9 августа) (№ 171). С. 2.
Итоги конгресса мира. — 1(14) августа (№ 176). С. 3.
Конференция по вопросам о Шпицбергене 6(19) августа. —
(№ 180). С. 2.
«В когтях жизни» К. Гамсуна. — 8(21) августа (№ 181). С. 2.
Премия мира и Л.Н. Толстой. — 13(26) августа (№ 185). С. 3.
В 1909 г. Толстой получил приглашение принять участие в XVIII Международном конгрессе мира в Стокгольме. Решив принять приглашение, он начал работу над своим докладом на конгрессе, который закончил в этом же году, написав затем к нему небольшое дополнение4. Поездка в Стокгольм не состоялась. Нобелевская премия мира 1910 г. была вручена не Толстому, а Международному бюро мира. В связи со слухами о намерении Толстого приехать в Берлин, чтобы прочесть свой доклад, приготовленный для Стокгольмского конгресса мира, реакционные немецкие газеты поместили ряд статей с целью дискредитации Толстого.
Они использовали опубликованные в «Русском слове» (15 июля 1909 г.) письма С.А. Толстой, не разрешившей бесплатный выпуск сборника избранных сочинений Толстого. В России текст доклада был запрещен цензурой.
К началу сезона. — 17(30) августа (№ 188). С. 3.
Об осеннем политическом сезоне германского императора Вильгельма II.
У Эллен Кей. — 20 августа (2 сентября) (191). С. 2.
О своих встречах с Э. Кей И.М. Троцкий впоследствии вспоминал и в некрологе шведской писательнице и борцу за мир5.
Черная неделя — 22 августа (4 сентября) (№ 193). С. 3.
Политический комментарий по случаю речи Вильгельма II в Кенигсберге, в которой кайзер фактически объявил гонку вооружений.
Австрийский Маккиавелли. — 25 августа (7 сентября) (№195).
С. 2.
Германская авиация. — 27 августа (9 сентября) (№ 197). С. 2.
«Авиация в Германии давно вышла из области спорта и сделалась отраслью военного дела»; «...если через два-три года германский воздушный флот и авиация займут первое место в Европе...»; в Германии «уже десять заводов, делающих аэропланы».
Путешествие кронпринца. — 28 августа (1о сентября) (№ 198). С. 2.
Статья памяти кронпринца Фридриха-Вильгельма (отца Вильгельма II), имевшего репутацию просвещенного либерала и противника конфронтации в Европе. Кронпринц считался одним из самых многообещающих престолонаследников Европы, но взошел на престол уже смертельно больным и процарствовал всего 99 дней.
«Последние». — 29 августа (11 сентября) (№ 199). С. 5-6.
Кампания против А.П. Извольского. — 4(17) сентября (№ 204). С. 3.
О причинах отставки министра иностранных дел России.
Трагедия Цеппелина. — 7(20) сентября (№ 206). С. 2.
О катастрофе дирижабля построенного по проекту графа Цеппелина. Незадолго до окончания триумфального полета, о котором уже говорил весь мир, произошел взрыв газа. Только пожертвования из разных источников, составившие в общей сумме более 5,5 млн. марок, позволили Цеппелину продолжить работы по усовершенствованию своих летательных аппаратов.
Профессор Эрлих и русская медицина. — 17 (30) сентября (№ 213). С. 2.
Провал пьес Франка Ведекинда. — 2(15) октября (№ 226). С. 4.
Столетний юбилей университета. — 3(16) октября (№ 227). С. 4.
Процесс Вруна. — 19 октября (1 ноября) (№ 240). С. 3.
Очередной скандал в рейхстаге; против одного из правых депутатов, его брата и нескольких журналистов выдвинуты обвинения в шантаже, вымогательстве и написании пасквилей.
Смутное время. — 24 октября (6 ноября) (№ 245). С. 3.
Перед открытием рейхстага. — 29 октября (11 ноября) (№ 249). С. 2.
Берлин перед Рождеством. — 7(20) декабря (№ 282). С. 2. Принц-еретик. — 9(22) декабря (№ 284). С. 2.
О личности Макса Саксонского — наследника Саксонского королевского дома, порвавшего со своей семьей и ставшего католическим священником. Макс Саксонский выступал за объединение православной и католической церквей и модернизацию литургической практики.
Победа женщины. — 15(28) февраля (№ 37). С. 2.
Даже беглый обзор выставки «Женщина в доме и на трудовом поприще» свидетельствует о серьезном развитии женского прогресса и эмансипации.
Женский конгресс. — 23 марта (7 апреля) (№ 44). С. 2.
Бурные прения вызвали два вопроса: воспитание юношества и борьба с проституцией; мнения о необходимости совместного обучения мальчиков и девочек разделились.
Мой процесс. — 1912. — 12(25) апреля (№ 85). С. 3.
В газете от 6(19) апреля (№ 8о) в рубрике «Заграничная хроника. Берлин. 5 апреля» была опубликована заметка «Дело И.М. Троцкого» — первое сообщение о данном процессе, решение по которому в пользу И.М. Троцкого было обжаловано со стороны обвинения.
Вчера вторично слушалось дело по обвинению корреспондента «Русского слова» И.М. Троцкого в оскорблении русского студенческого землячества, которое он в одной из своих корреспонденций назвал «черносотенным». Первый оправдательный приговор по этому делу отменен по формальным мотивам. Вчера в суде собралось много публики, а также представителей русской и иностранной печати. Суд вторично оправдал И.М. Троцкого, возложив судебные издержки на землячество.
Дуэли в Германии. — 22 апреля (5 мая) (№ 94). С. 4.
В рейхстаге рассматривался вопрос о дуэлях. Депутаты-центристы и «свободомыслящие» предложили подвести дуэль под рубрику преступлений, определяемых как убийство. Социал-демократы... настаивают на исключении из военной службы не только участников дуэли, но и всякого, угрожающего дуэлью или принимающего в ней косвенное участие. Только таким путем надеются избавиться от пережитка старины.
Бурный день в рейхстаге (Пруссия и Эльзас). — 5(18) мая (№ 102). С. 4.
Эта и последующие две статьи посвящены ожесточенному конфликту между Германией и Францией по вопросу о принадлежности исторической земли Эльзас-Лотарингия (по результатам франко-прусской войны 1870-1871 гг. она отошла к Германии, после Второй мировой войны по результатам общенационального референдума вновь перешла к Франции).
Бурное заседание рейхстага. — 10(23) мая (№ 106). С. 3. Настроение в Эльзасе. — 6(19) мая (№ 103). С. 5.
Злоключения Эльзас-Лотарингии. — 11(24) мая (№ 107). С. 3.
Друг Германии. — 13(26) мая (№ 109). С. 4.
О покойном русском после в Германии Н.Д. фон-дер-Остен-Сакене (1831-1912), который характеризуется как германофил, мягкий, покладистый, всегда способный уладить все конфликты «правда, в большинстве случаев за счет России», за что его и любили в Германии.
Русский сезон (от нашего берлинского корреспондента). — 30 мая (№ 135). С. 4.
Замотавшийся простодушный россиянин, не говорящий по-немецки, становится жертвою берлинских акул.
Любой берлинский старожил может рассказать десятки трагикомических курьезов на тему: «наши за границей». Околпачивание русских и бессовестное мошенничество — бытовое явление Берлина. С русскими не церемонятся.
Особенно неистовствуют мелкие комиссионеры крупных фирм и второразрядных отелей. Они не только обирают свои жертвы, но и бросают их на произвол судьбы. Для этих господ не существует ни совести, ни долга, ни элементарной порядочности. Пока у клиента в кармане есть деньги, они не оставляют его в покое.
Борьба с этим злом немыслима. С ним примирились и смотрят как на заурядное явление.
— Человеку жить нужно! Раз русский едет за границу, — очевидно у него имеются средства... Почему не поживиться за его счет? От этого у него не убудет!..
Так рассуждают берлинцы, охотясь на русский карман.
Что творят с нашими больными, ищущими исцеления и совета у немецких светил науки, — пересказать трудно!
Если больной едет с письмом к известному профессору, то попадает почему-либо в лапы к посреднику другого профессора; над ним попросту издеваются.
— Вам к профессору X?.. Какой глупец вас к нему направил?!.. Ведь, он давно умер!
Нужно ли прибавлять, что профессор X здравствует и пока не собирается умирать.
Или наоборот... Больного везут к какому-нибудь захудалому и неведомому врачу, уверяя его, что это — знаменитость.
— Поверите ли, — рассказывал мне один из практикующих здесь русских врачей, — до сих пор еще возят к профессору Лейдену русских больных, не подозревающих, что он давно умер.
Обидней всего, однако, что сами русские добровольно отдают себя в руки проходимцев.
И сколько на эту тему уже писалось и говорилось, а, тем не менее, обирание продолжается...
«Германские африканцы». — 2(15) июня (№ 126). С. 3.
О политике Германии в ее африканских колониях и о расовых предубеждениях в кругах германского истеблишмента по отношению к африканским подданным.
Звучали громкие речи о национальном величии Германии, о германской расе, с неизменным рефреном: «Вся Средняя Африка должна быть германской». Утверждалось, что «без колониальных приобретений будущее экономическое благосостояние метрополии немыслимо, и что они только обеспечат Германии почетное положение в Европе». «Выступили с протестом против разрешения рейхстагом смешанных браков с туземцами. Негр должен остаться негром! Его необходимо держать на положении рабочей скотины. Если негр не будет чувствовать, что он — существо низшей расы, тогда всей колониальной политике грозит крах. Смешанные браки — преступление против родины и посягательство на чистоту германской расы».
Нетрудно себе после этого представить, как живется туземцам под властью немецких «культуртрегеров».
Антифеминисты. — 7(20) июня (№ 130). С. 4.
О создании союза борьбы с женской эмансипацией.
Арест русского офицера. — 12(25) июня (№ 134). С. 3.
Русского офицера подозревают в шпионаже и краже документов с оружейного завода.
Недоразумение или месть? — 17(30) июня (№ 139). С. 3-4
Об аресте русского офицера капитана Костевича.
Надежды и желания. — 22 июня (№ 143). С. 1-2
О предстоящей встрече российского и германского императоров в Балтийском Порте (ныне Палдиски, Эстония), Эта встреча окажется последней и безуспешной попыткой предотвратить войну.
«Бунт зубров». — 1о июля (№ 158). С. 3.
О недовольстве политикой императора Вильгельма II со стороны прусских аграриев.
Рискованное предприятие. — 1о июля (№ 158). С. 5.
О молодом русском авиаторе Всеволоде Абрамовиче6, который с 1 по 24 июля 1912 г. совершал перелет Берлин-Петербург.
Грюндер из Киева. — 18 июля. (№ 166). С. 2.
«Ловкий делец» — киевский табачный фабрикант А. Коген — решил захватить берлинский рынок, но оказался в Моабитской тюрьме.
1 На Западе Бебель считается «буревестником сексуальной революции». Его горячим поклонником была знаменитая Александра Коллонтай, о которой не раз с сарказмом писал И.М. Троцкий. Ср.: Коллонтай А.М. Великий борец за права и свободу женщины (Памяти Августа Бебеля) // Коллонтай А.М. Избранные статьи и речи. М., 1972. С. 113-125.
2 Обладавший немалыми дипломатическими талантами король Эдуард VII (1841-1910) состоял в родстве почти со всеми монархами на континенте и потому был известен как «Дядя Европы». Вместе с тем его взаимная неприязнь с германским императором Вильгельмом II сказалась на усилении международной напряженности в предвоенные годы.
3 Восемнадцатый Международный конгресс мира прошел в Стокгольме в июле-августе 1910 г.
4 Толстой Л.Н. Доклад, приготовленный для конгресса мира в Стокгольме (http://az.lib.rU/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0780. shtml).
5 Троцкий И. Венок на могилу (Памяти Эллен Кей) // Дни. 1926. № 996. С. 2.
6 Всеволод Михайлович Абрамович (1890-1913) — летчик и изобретатель, один из пионеров русской авиации. Внук классика еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорима (С.М. Абрамовича). Погиб в авиационной аварии.
Неизвестный Троцкий. Илья Троцкий, Иван Бунин и эмиграция первой волны
Знак информационной продукции 16+
Издатель Зав. редакцией Редактор
Художественное оформление Компьютерная верстка Корректор
Мосты культуры, Москва Тел./факс: (916)871-09-36 e-mail: [email protected]
М. Гринберг И. Аблина В. Нехотин А. Бондаренко И. Пичугин Е. Ядренцева
Gesharim, Jerusalem Tel: (972)—544—993—116 e-mail: [email protected]
| www.gesharim.org |
|---|
Издательство «Мосты культуры»
ЛР № 030851 от 08.09.98 Формат 6о х 90 / 16. Тираж 1000 экз.
Бумага офсетная. Печ.л. 44 Подписано в печать 31.10.2016. Заказ № 7193
Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография» Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1 Сайт: www.chpd.ru, E-mail: [email protected], тел. 8(499)270-73-59