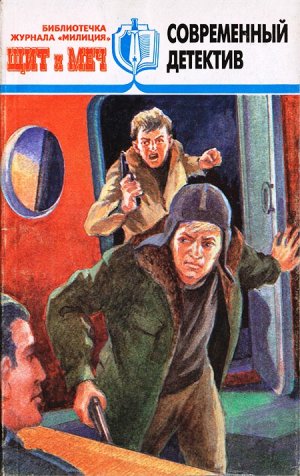
После тщательного расследования эксперты следственной комиссии министерства военно-морских сил пришли к заключению, что они совершенно не представляют себе, что на самом деле произошло. Когда поиски были прекращены, министерство военно-морских сил издало приказ, предписывающий всем судам и самолетам соблюдать бдительность в отношении всего, что может быть хоть как-то связано с исчезновением этих самолетов. Между прочим, приказ этот еще не отменен и действует до сих пор!
(Лоуренс Д. Куше. Бермудский треугольник: мифы и реальность)
Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их.
Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат.
Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали…
(Евангелие от Матфея)
Солнце сияло в сияющем вымерзшем мире.
Солнце заполнило льдисто-сизые небеса, стеклянно сверкало в зеркале бухты, застывшей ртутно меж каменно-серых сопок; оно колюче искрилось в отвалах снега вдоль укатанной полосы, безмятежно прыгало в полыхающей меди оркестра, мерзло у клетчатого черно-белого домика-«фанерки» СКП,[1] слепило глаза миллионами битых зеркал — и потому летчики, повара, стрелки, синоптики, охранники, шоферы, разный технический люд и ротозеи не могли получить предвкушаемое удовольствие, созерцая, как садятся только что прилетевшие сюда, на заполярный советский аэродром, союзники.
Первый «харрикейн» уже снижался на полосу, осторожно растопырив голенастые ноги и чуть покачиваясь от толчков. Ниже… Ниже… Слепяще вспыхнул радужный блик на высокой сутулой кабине, донесся строённый хлопок резко сброшенных оборотов, истребитель изящно и точно просел и, взметнув сверкающий шлейф тончайшей снежной пыли, помчался внутри длинного коридора в сугробах, задиристо вскинув узкую породисто-горбоносую морду.
— Хор-рош! — одобрительно крякнул коротышка в черной кожаной шапке и широком летном реглане, стоящий перед группкой пилотов в десяти шагах от оркестра.
«Харрикейн» пронесся мимо; в распахнутой кабине торчала голова пилота со вскинутыми на лоб очками, оранжево светился высокий мягкий ворот «капки»[2]; истребитель длинно затормозил и аккуратно встал в конце полосы перед солдатом-финишером, высоко вскинувшим красно-белые трепещущие флажки. Финишер поманил ими самолет на себя и ловко почти побежал спиной вперед по рулежке. «Харрикейн» оглушительно взревел прогазовкой, свирепо выбросив длинную лохматую струю синего дыма, и, устало порыкивая, сполз с полосы и послушно покатил за солдатом-поводырем на стоянку.
— Разрешите, товарищ полковник? — дребезжаще-заискивающе осведомился явно обалдевший от хрусткого холода дирижер, — он уже трясуче подергивался во флотских ботиночках, и уши его, пугающе голубея, жутко-прозрачно торчали из-под оч-чень бравой фуражечки. Неизящно упакованные в меховые летные комбинезоны, собачьи широченные унты и мягкие теплые шлемофоны медвежковатые пилоты разом радостно оживились: они откровенно развлекались. Крепыш в реглане, не оборачиваясь, запрещающе буркнул. Дирижер тоскливо прерывисто вздохнул и безнадежно опустил вскинутые было руки.
Один за другим истребители, рокоча, проносились по полосе и заруливали, вежливо-аккуратно следуя указаниям финишеров, на стоянку. Из тесных кабин утомленно выбирались улыбающиеся пилоты в коротких меховых «канадках», жали руки официальнейше-серьезным русским механикам и быстро собирались в тесную группку все у того же СКП, лихо козыряя встречающим картинно-длинным отмахом ладони вперед.
— Не волнуйтесь за нас, господин полковник, — укоризненно-мягко сказал в спину реглану прилетевший позавчера на перегонном «хэмпдене» лейтенант-переводчик. — Аварийных посадок не будет. Почти все пилоты — ветераны Битвы за Британию.[3]
Полковник непонятно хмыкнул. Русские летчики переглянулись. Высоченный, роскошноусый, неожиданно ярко загорелый британец в неподражаемо шикарно смятой блином громадной, с «аэродинамическим» широченным козырьком фуражке привычно-небрежно сунул планшет под мышку, вежливо переждал раскатистый грохот прорулившего мимо «харрикейна» и что-то негромко сказал, стягивая мягкую замшевую перчатку.
— Господин полковник? Сэр, командир нашей эскадрильи, майор Королевских военно-воздуш… — договорить переводчик не успел: над головами с обвальным ревом и свистом длинно пронеслись два «вогаука»[4] и великолепной парой, крыло в крыло, мощно взметнулись в вертикаль. Майор чуть поморщился и, демонстративно не поднимая головы, произнес сдержанно-извиняющуюся фразу.
— Два волонтера из Соединенных Штатов, — переводчик усмехнулся. — Грамотные, сильные пилоты, сэр, несмотря на возраст. Но относительно дисциплины, принятой в Вооруженных Силах Ее Величества, эти парни… — его слова пропали в стремительно раскатившемся реве: американцы, рисково переломив «свечу» в петлю, сорвали ее в пикирование с переворотом, разом выровнялись, рывком разошлись — и лихо, парой с ходу, точно пошли на полосу, синхронно вывалив шасси.
Переводчик посмеивался. Майор не сдержал в себе летчика, блеснул карим глазом и взбил согнутым пальцем великолепный ус. Русские пилоты понимающе ухмылялись, переглядываясь.
«Вогаук» прокатился мимо; из просторной кабины широчайше улыбающийся летчик размашисто помахал встречающим. Полковник рыкнул басом. Сзади засмеялись и прокомментировали с нескрываемым удовольствием:
— Высокий класс! Трое суток гарантированны. Жареная вода и сухари всмятку.
Кожаный коротышка, не оглядываясь, сунул за спину неожиданно здоровенный черный кулак.
— Й-йесть! — радостно отрепетовали сзади.
— Та-ва-рищ-пол-ков-ник?! — простонал дирижер.
Американцы, метя колючую снежную пыль, заруливали к капонирам. Технический люд скептически разглядывал красочные акульи пасти, украшающие носы истребителей: белые, ужасно кривые клыки над кроваво-мясистым извивающимся языком алчно тянулись от «бороды» радиатора почти до центроплана.
— Красиво… — сумрачно оценил улыбающегося из кабины парня будущий механик — сутулый, с темно-мятым от хронического недосыпа лицом дядька лет под пятьдесят, облаченный в российски-неизбежную замасленную фуфайку, громадные измызганные ватные штаны и до блеска лысую «веревочного меха» шапку. — А вот как насчет ганса — ему понравится? Парень выключил зажигание, пощелкал переключателями, со стуком отбросил с плеч на борта привязные ремни и, подмигнув, осведомился:
— They say, the Russians like vodka, Stalin and soccer?[5]
Механик непонимающе пожал плечами, цыкнул коричневым зубом и проворчал прокуренно, заглянув под плоскость:
— Не только, значит, языка нету — и звезды не как у людей. Все… твою… сикось-накось…[6]
— Well, old chum,[7] — американец, ухмыльнувшись, сунулся в кабину и… вскинул на ладони мяч. Облезлый, излупленный кожаный желтый мяч странной дынеобразной формы. Глаза механика полезли на складчатый лоб — то ли от невиданного мяча, то ли из-за неслыханного пренебрежения летными порядками.
— Shall we clear everything up right away?[8]
— Наш парень! — захохотал вынырнувший из-за разворачивающегося пятнистого бензозаправщика здоровенный русский летчик в меховой куртке нараспашку, из-под которой торчал толстый коричневый свитер. — Эй, Джонни, с приездом! Пас сюда!
— Hi! Take it, Mac![9] — и американец мощным профессиональным ударом кулака прямо из кабины влупил мяч в сиганувшего восторженным прыжком русского. Механик не успел выругаться — от СКП обвалом лязгающего мерзлого металлолома вразброд обрушился оркестр.
Неярко освещенный зал Дома офицеров флота с крашенными корабельной шаровой краской стенами был старательно украшен тяжелыми еловыми лапами, вкусно пахнущими морозом. В расставленных на столиках надраенных до жгучего сияния латунных гильзах-«стаканах» 87-миллиметровых зенитных снарядов торчали яркие бумажные цветы. Столики расставлены были прямо в зрительном зале и оттого стояли накренившись, и все сидящие за ними дружно кренились в одну сторону. На сцене, по углам рампы, нежно зеленели в решетчатых подставках, сколоченных из бочкообразных ящиков для авиабомб, две робко-симпатичные полярные березки. Все это забавно сообщало некую новогодность празднику встречи союзников.
Над сценой, осеняя зал, длинно провисало алое полотнище с еще влажной бело-меловой двуязычной надписью: «Да здравствует англо-американо-советская боевая дружба!»
Зал до отказа был заполнен морскими летчиками, меж которых восседали сияющие гости, а на сцене полным ходом шел концерт, в котором победоносные частушки типа «Что такое вас ис дас? — Немцы драпают от нас!» перемежались разухабистым буцаньем подкованных ботинок девушек-матросов из БАО и ВНОС,[10] отплясывающих в забористых взвизгах и разлете форменных синих воротничков-гюйсов и явно неформенных широченных юбок дежурное «Яблочко».
Англичане были в восторге. Англичане забыли про все. Они потеряли знаменитое «британское лицо» и после каждого номера азартно лупили в ладони и одобрительно перекрикивались через зал — тем более, что, судя по блеску их глаз и неудержимой щедрости движений, русские оказали им не просто русское, но истинно летное гостеприимство; во всяком случае, две нормативные бутылки на столик — водка и шерри — уже всюду стояли опорожненными, но при этом отовсюду слышалось музыкальное многообещающее позвякивание стекла. Под светомаскировочно зашторенным окном шло свое действо: нервноглазый, с темным изнутри, будто выжженным черным пламенем, лицом, седой, худощавый капитан, успевший, несмотря на свои 25–26 лет, повоевать всерьез (о чем свидетельствовали боевые Красная Звезда и Красное Знамя на потертом, тщательно отутюженном кителе), сидел со значительно-похоронным видом, сосредоточенно глядя в никуда, а руками совершал нечто под столом — там, куда были опущены правые руки его соседей — двух русских и англичанина. Английский летчик явно наслаждался происходящим: он едва удерживал мальчишеский смех, лукаво косясь по сторонам, и малиново-багровый уродливый ожог, бугристо стянувший левую щеку к шее назад, над хрустко наутюженным воротничком форменной рубашки, казался неуместным гримом.
— О-оп! — негромко скомандовал капитан. Четверо разом вынули из-под стола стаканы с плескающейся желтоватой жидкостью. — Н-ну… В небесах, на земле и на море?
— Принято, — серьезно кивнул сосед справа — устало-сдержанный, лет под сорок старшина с такой же Красной Звездой и тускло-серебряной медалью «За боевые заслуги» на темно-синем офицерском кителе.
— Нет возражений, — солидно подтвердил сосед слева — не просто молоденький, но отчаянно юный, синеглазый бледный лейтенант, изо всех сил не замечающий наград товарищей.
— Tо our common Victory![11] — решительно закончил англичанин.
Стаканы дружно звякнули. Все залпом выпили, кроме капитана: неожиданно натолкнувшись на внимательный взгляд оказавшегося за спинами его товарищей коротышки-полковника, он вежливо приподнял свой стакан:
— Никаких ДеПе, товарищ командир. Настой трав. Исключительно в целях боевого здоровья, — и, вкушающе прихлебывая, неспешно выцедил под ироничным взглядом комполка «настой», не поперхнувшись и не моргнув. Англичанин, почтительно пронаблюдав процесс, пораженно пробормотал:
— A very good job, damn it…[12]
— Кузьменко, на минутку… Веселитесь-веселитесь! — осадил полковник вскочивших приятелей и союзника, лихо щелкнувшего каблуками под отброшенным стулом. — Я бы не хотел, чтоб у вас были неприятности, капитан. М-м?
— Но ведь сегодня нет работы, товарищ полковник. И погоды нету. И немца. Даже дня — и то уж нет. И потом, только чай… — Кузьменко все-таки не сумел додержаться — давясь, сипло кашлянул, деликатно прикрыв рот ладонью.
Полковник серьезно покивал, вздохнул и тихо, только капитану, сказал:
— Я не о том, капитан. В данный момент вы не на службе. Но во-он там, под сценой, отдыхает наш «особняк». Майор у нас мужик правильный, точный мужик, но вот он-то как раз на службе. А ты, Сашка, лапы под стол принародно суешь. Босяк. Опять же с графинчиком. Что?
— То не графинчик, командир. То фляжка.
— Са-ашка!
— Есть! — спохватился Кузьменко, стрельнув глазами через слоистый дым гудящего, уже жаркого зала к сцене.
— Вот и умница. Продолжайте культурно отдыхать, товарищ капитан.
Кузьменко уселся на место и мрачно подцепил мятой зубастой вилкой лохматый лист перемороженной моченой капустки. Англичанин переждал, пока он сжует этот лист, и заговорщически перегнулся через стол:
— Don’t be upset, buddy. A tarnished reputation won’t be spoiled anymore by cold water when we are in it. God help us then…[13] — и суеверно постучал костяшками розовых длинных пальцев музыканта по крышке стола.
— Угу, — равнодушно согласился ничего не понявший капитан и деловито подтянул к себе голубенькую эмалированную миску с капустой, скептически глянув на пустые стаканы. Англичанин, живо вытянув страшно обожженную шею, радостно оглядел качающийся в табачном дыму и братском гаме зал. Сквозь разноголосый гул и патефонную музыку, которую наконец-то завели на сцене, всюду толковали:
— … мне на хвост, так ведь я на «чайке» всегда в горизонталь оторвусь. И — привет! Я вообще на ней могу прям на заднице развернуться. А твой «харрикейн» — утюг утюгом. Пардон, конечно…
— … не-не, ты ее грибочком! На, Робби, — вот этот. Во-о. Прошла? А?! Про-ошла, милая… Самый русский закусь. Оч-чень сближает!..
— … и восемь стволов — не мои четыре, ясно. Но, прикинь, пистолетный опять же калибр, так? Да ты ж в курсе: позавчера мне «сто девятый»,[14] падла худая, брюхо сам подставил, сука, а я сыплю, как из рогатки, м-мать…
— … с ходу гол влупил! Но! Оказывается, в ихнем футболе и по сусалам можно. А? Каково, а? Да вот, и англичане в ихнем футболе не рубят, верно, Тони? Во — и Тони говорит.
— Ни хрена он уже не говорит. До утра он и «мама» сказать не сможет. А плохому танцору…
— Мне?! Эй, скажи ему, скажи, Тони! Ну-к, за королевскую игру футбол… Тони! Не спи — замерзнешь… Э, мужики, да вон тот янки-футболер!
К столику Кузьменко подгреб уже крепко поддатый давешний паренек-американец. С очаровательной непосредственностью выдернув у опешивших соседей освободившийся на миг стул, он локтем привычно спихнул с живота на бок тяжко-здоровенную матерчатую кобуру, оседлал стул и с грохотом въехал на нем за стол, радостно сообщив русским летчикам:
— Sandy. Sandy McAllen, Muskhogie, Oklahoma,[15] — и, не вставая, браво отдал честь и протянул руку капитану. Был он весь какой-то нараспашку: короткая куртка со вшитым ремнем расстегнута, галстук запихнут под расстегнутую же рубашку, смятая пилотка торчит из-под левого погона, русый, потно-слипшийся чубчик задирист и весел над чистым поблескивающим лбом. Он размашисто ткнул большим пальцем в два латунных «кирпичика» на матерчатом погончике:
— Lieutenant. The valiant Naval aviation of the valiant US of A. I’ll stand a round, gentlemen,[16] — подмигнул и выволок из-под брючного ремня яркую плоскую бутылку. Кузьменко обреченно поглядел через зал в сторону сцены и решительно пихнул по клетчатой клеенке стола к парню свой стакан.
— О’кей! — сказал Сэнди, лихо расплескал виски по стаканам, задумчиво пересчитал их, и, набулькав в стакан Кузьменко еще, отхлебнул из него и торжественно сунул стакан капитану.
— О’кей так о’кей, один черт, — согласился Кузьменко. — С приездом на наш курорт, ребята.
Сэнди серьезнейше кивнул, принял недопитый по-братски стакан и, вознеся его над столом, потребовал у англичанина:
— Listen, limey, tell him…[17]
— Go to hell,[18] — добродушно возразил англичанин. — I’m not a limey, and you’re not in Oklahoma.
I’m Layton. Understand? Captain Antony Layton, an officer of Her Majesty…[19]
— O’kay. You know better. But anyway, tell him that…[20]
— I can’t.[21]
— Why the hell are you sitting here then?[22]
— And you?[23]
Сэнди поразмыслил, старательно сморщив лоб, и снисходительно согласился:
— You’re right again. You, limeys, are smart guys… Here’s to the King, gentlemen. God help him! And to the good guy Delano. I guess Lord God respects the President. And to our sweet-heart Victory![24]
Он ловко опрокинул стакан, вслушался куда-то в себя, осторожно выдохнул и вытащил из заднего кармана брюк широкий, лопатой, бумажник. Нагнувшись к Кузьменко, он доверительно протянул ему фотоснимок:
— I hear you’re from the Ukraine. This is my mother. Understand? She is from your country. Olga.[25]
— Ольга? — удивился капитан. Оба русских сунулись, сшибившись лбами, к фото.
— Olga, — подтвердил Сэнди. — Yes. You’ve got a city there — Poltava. She is from there. Understand?[26]
Русские разом странно уставились на онемевшего капитана и разом же, синхронно, перевели глаза на настырного янки. Англичанин забеспокоился:
— What have you scared them with? What have you blurted out, huh?[27]
— Полта-ава? — непонятно протянул капитан, смерив Сэнди взглядом. Тот серьезно кивнул, не отводя глаз. Лэйтон завертел головой, привстав, нашел переводчика и, перекрывая пестрый качающийся шум в зале, заорал:
— Alex! Hey, Alex! Come here, please. Just for a minute! We’ve got a damned interesting talk here.[28]
Переводчик сердито-уныло навис над столом:
— I demand a double payment, guys. God damn it all, I need a drink. And I’ve got no time. But by God…[29]
— Okay, okay, stop buzzing, — сказал Сэнди, не поднимая головы. — The drinks are on the house. Tell those guys my mother is Russian. No, I mean Ukrainian. From the Poltava district, or what they call it… Why are you staring at me? Her father came to our country God knows when! But my old man is a good hundered per cent American, a farmer and a white man. So, I wanted…[30]
Переводчик, привычно держа на отлете пустой стакан, устало переводил:
— Я не большевик. Нет, джентльмены, ни в коем случае. Они все «с приветом». Они б и меня шлепнули, как своего императора, — я ведь тот, как его… Да, буржуй. Кровопийца, значит. Сраный миллионер со сраной фермы. Знали б они те миллионы…
— Ты чего перед ними раздеваешься? — вежливо поинтересовался Лэйтон.
— Чтоб знали, с кем… Слушай, не суйся, лайми, ладно? Ты вообще не американец. А летаешь, между прочим, на нашем бензине. Да, в Оклахоме!.. Впрочем, ладно, о чем это я? А, да! Так вот, сейчас я временно вполне русский. Я не верю красным — да, джентльмены, хотя в принципе мне плевать на политику. Вот черт, выпивка опять катастрофически кончается… Лайми, у тебя есть? Ну конечно… Так вот, просто я не люблю тех, кто избивает детей. И я выслушал все, что сказала мама насчет этой заварушки с Гитлером и его психами, и сказал себе: «Сэнди, ты же вроде неплохой парень. Значит, ты должен набить морду всем этим сраным фюрерам. Ты ведь тоже немножко русский». И я понял: сейчас всякий стоящий парень обязательно немножко русский, и тогда…
— Господи, да притормози же, парень! — взмолился переводчик.
— Стоп! — сказал Кузьменко и выволок из-под стола булькнувшую флягу. — Все ясно. Скажи ему, скажи… А, ч-черт. Мою мать зовут Ольга. Ольга! И она — ох, елки-двадцать, — она из-под Полтавы. Решетиловка. Слыхал? Зря. Знаменитое село. Даже и не село — город. Ты давай, переводи давай, потом закусишь, чего таращишься. Ну, дела так дела…
— God merciful, save me, a poor sinner. I guess you guys have done a little crazy…[31] — переводчик выпил, отер пот и послушно перевел. Глаза Сэнди полезли на лоб. Кузьменко в открытую торопливо разливал из фляги. Сэнди сгреб стакан в кулак и, вскочив, неожиданно зычно заорал на весь зал:
— Hey, everybody! I’ve found him! I’ve found him himself![32]
Зал разом ошарашенно затих — будто выключили звук. Сэнди, щедро поливая стол и головы соседей, размашисто тыкал стаканом в мрачно-торжественного Кузьменко:
— This Russian… This guy… Our mothers are Olgas! They belong to the same homeland! We’ve met, my brother and me here! I drink to him, to our family, to our common cause![33]
Переводчик повторял даже интонации. Зал напряженнейше внимал. На сцене девушки-матросы стремительно дозревали до всхлипа.
— Так-с, — негромко констатировал старшина. — Спасибо родственничкам — штрафбат обеспечен. Достукались.
— Не размахивай ушами, — сказал Кузьменко, вставая. — Страшней, чем наша работа, ничего не будет. Не забудь закусить.
— Gentlemen! — с достоинством вскинул руку тоже поднявшийся английский комэск. — Since what we would like to express officially a little later has already started spontaneously, I as a commanding officer…[34]
Он остановился — меж столиков быстро и странно, не лавируя, шел командир полка в сопровождении дежурного офицера с сине-белой повязкой «рцы» на рукаве.
— Извините, господин майор… Товарищи летчики! — Музыка оборвалась на взвизге иглы. В мгновенно наступившей тишине кто-то, жалобно бормоча, подавленно всхлипывал за кулисами. Полковник медленно оглядел зал. — Экипажам Кузьменко, Ларина, Черных, Ковтуна, Антонова, Сутормина — на выход. Остальным… Продолжайте культурно отдыхать, товарищи.
По залу прокатился дробный перестук стульев. Двенадцать мгновенно закаменевших лицами мужчин одновременно из разных концов зала молча, не прощаясь и не оглядываясь, пошли к выходу, первым же шагом оторвавшись, отделившись от тепла и света, и остающиеся здесь, в этом живом тепле, так же молча, не прощаясь, провожали их, глядя в спины сквозь невидимую, но непереступимую преграду, в мгновение вставшую меж ними — между этой и той сторонами одного мира.
— Sir? — поднял брови майор. Зал настороженно ждал — темные глаза, застывшие в инерции веселья лица. — Excuse me, but… А mission? As yours allies, sir, we probably have the right…[35]
— Хорошо, майор, — негромко согласился полковник. — Конвой. Немецкий конвой. Его случайно обнаружил разведчик погоды. К нему не подходил — но «сто десятых»[36] прикрытия видел.
— But… Weather, Mr. Colonel? Time?[37]
— Именно. И удаление от побережья. Немцы — серьезные вояки, майор, и они тоже хорошо умеют считать.
— We have known them for a long time… Gentlemen![38] — Англичане, уже стоящие в ожидании, готовно выдернули пилотки из-под погон.
— Это недопустимо, майор! — предостерегающе вскинул ладонь комполка. — Все вы, кхм-м… Ну, скажем так, устали. Праздник. Вы не знаете театра. Не налажено взаимодействие. Да с меня не голову — с меня…
— That’s enough, sir. We are officers of Her Majesty, and we know our duty. I beg your pardon, sir. It’s time![39] — И майор водрузил свою непобедимо торчащую длинным козырьком вперед великолепную фуражку. Его летчики уже аккуратно пробирались к выходу.
— Well said. Excellent, Major! — громогласно одобрил Сэнди и победно оглядел продымленный зал. — Ronnie, where are you? It’s time, old chum.[40]
Прищурясь, полковник с откровенным сомнением оглядел усердно застегивающегося американца, сказал: «Гхмр-р-р…» и исподлобья заглянул в глаза майору.
— Погодите, я еще не сказал главного. Буду честен — конечно, я надеялся на вас, но… Извините, Бартлет, но наши штурмовики пойдут на цель без прикрытия.
Зал замер, задохнувшись. Двенадцать русских молча и равнодушно стояли у двери. Англичане застряли на полпути. Брови майора взметнулись на лоб.
— Караван — вне радиуса готовых к работе «И-16», — скучно пояснил полковник и пожал плечами, ни на кого не глядя. — «Харрикейн» — достанет. Да. Но минуты три над целью. Не больше. Даже две. Так-то, майор.
Мягко-синий табачный дым зацепился за край тяжелой бархатной портьеры выхода. Сквозь могучие вечные стены Дома офицеров все-таки слышен был низкий вибрирующий гул прогреваемого где-то авиационного мотора. Англичане переглядывались, косясь на угрюмо-спокойных русских со странной смесью страха и суеверного почтения.
— Словом, майор… Права я не имею. Впрочем, вы тоже. Да и вообще — смысл? Ведь будет не вылет, а… Но мы — мы дома. Так что…
— Si-o-r… — раскатисто-тихо пророкотал британец, нависая пышным усом над ссутулившимся полковником. — We fought over Malta, the Channel and London. What does your refusal mean?[41]
Зал ждал. Далекий мотор стих — и стало слышно потрескивание незатушенных папирос. Сэнди длинно вздохнул и поправил кобуру. За кулисами с грохотом упала табуретка. Полковник с кряканьем продрал пятерней брови, снизу вверх поглядел на помаргивающего британца и, протянув ему руку, тихо сказал — но услышали все:
— А я действительно надеялся на вас, Бартлет. Здорово надеялся. И ничего другого не ждал. Так что благодарить не буду.
Англичанин понимающе усмехнулся и отрицательно мотнул головой.
Спотыкаясь и оскальзываясь на накатанном снегу, летчики бежали к стоянкам в густом, качающемся тугими волнами низком реве прогреваемых механиками двигателей. Сорванный винтами снег длинно рвущимися хлесткими жгутами несся, штопорно вихрясь, за капонирами, безжалостно трепля беззвучно гремящие жалкие кустики.
Кузьменко, школярски размахивая руками, боком лихо проехался по «каталке» маслянисто-черного льда, хрустко взвизгнув подковками на каблуках сапог (эх, черт, унты не успел обуть! — хотя оно без разницы, случись что, прыгать-то в море студеное, море полярное и, значит, недолог будет тот путь…), затормозил у крыла, ухватившись за рыже-окаленный ствол ВЯ,[42] и сразу торопливо полез на крыло, вполуха слушая доклад механика о готовности, и уже прогретом моторе. Бортстрелок Попов — тот самый старшина — уже сидел в своей кабине, подчеркнуто спокойно и неторопливо проверяя УБТ.[43]
Привычно устраиваясь на выстуженном парашютном ранце, капитан заметил американца — Сэнди вприпрыжку мчался вдоль стоянки «илов». Увидев капитана, он крутнулся к нему, чудом не грохнувшись на льду. Кузьменко деловито защелкнул парашютные и привязные ремни, запихнул за пазуху куртки пистолет из вечно мешающей кобуры, включился в радиосвязь и скороговоркой забубнил, морщась от жгучих на морозе прикосновений ларингофонов к горлу:
— «Вулкан»? «Вулка-ан»? «Вулкан», я — «Свеча-Первый», связь… Ага, отлично… Ясно-ясно… Угу. Запуск?
Сэнди гулко заколотил ладонью по плоскости под кабиной:
— I’ll follow you, Captain! I remember everything![44]
— Понял, разрешили… А-ат винта!
— The main thing is that you lead me, just in case, guy! And I…[45] — голос Сэнди пропал в надсадном завыванье пускача; черный винт, скрипнув, тяжко провернулся, в моторе оглушительно стрельнуло — и из закопченных патрубков с дробным булькающим грохотом вылетел клуб черно-синего масляного дыма. Мотор сипло взревел; механик, бешено тряся ободранным красным кулаком, что-то орал Сэнди; тот засмеялся, на карачках пронырнул под крылом и бегом рванул к своей стоянке, по-мальчишески сигая через сугробы, и длиннющая кобура автоматического кольта смешно лупила его по вертлявой заднице. «Ил» мощно дрожал в густом реве; Кузьменко неспешно отрешенно застегивал шлемофон, зажав в зубах перчатку; Попов, осыпав изморозь, беззвучно захлопнул над собой просторно-квадратный желтый полуколпак; механик, скользя валенками, шустро вскарабкался на крыло, привычно воротясь от проволочно-хлещущей струи винта.
— Чего он?! — надсаживаясь, проорал ему в ухо Кузьменко.
Механик непонимающе вскинул ладони и прокричал в лицо:
— Фильтра я успел — порядок! Будь спок!
От СКП взвилась и зависла в низкой мути серого неба рассыпчатая игрушечно-зеленая ракета.
— Упремся — разберемся! — прокричал Кузьменко и вскинул за затылок руку к скобе фонаря. Механик, помогая, ухватился за край кабины — и с неслышным скрипом накатившийся фонарь стукнул в козырек, запечатав пилота в машине. Механик вдруг скривился и, глупо вжавшись лицом в промерзшее толстое бронестекло, крикнул:
— Машину хоть жалей, Сашка, — мне ж потом ночь вламывать! Ее хоть жалей! — И на толстом ватном заду скатился по плоскости назад, успев на прощание разглядеть шевелящиеся беззвучно за бронестеклом деревянно-серые на деревянно-сером лице губы — капитан уже запрашивал выруливание. А глаз капитана заметить не успел — глаза капитана, широко раскрытые в небо, уже были там…
Над зажатым скалами полярным аэродромом дымно метались, серо мерцая, мятущиеся вихри снежной искрящейся пыли. Топорно-горбатые штурмовики, заторможенно дергаясь на поворотах и раздраженно хрипло взревывая, мрачно рулили в этих вихрях к старту, тяжко проседая от перегруза топлива и боекомплекта. В дальнем конце полосы, едва различимые на фоне сумеречных грязно-серых сопок, томились у кургузой пакостно-камуфляжно размалеванной «санитарки» две фигурки — девочки-медички. Чуть в стороне угрюмо ждал слоноподобной зловещей тушей пожарный тягач.
Сэнди прыжком лихо взлетел на крыло, небрежно швырнув из-под руки механику пижонскую свою пилотку, рухнул в глубокое кресло, разом бросил на плечи ремни, махом нахлобучил шлемофон — и лицо его, глаза мгновенно странно изменились, исчез сам он, нахально-обаятельный мальчишка: в кабине боевой машины возник хозяин боя — истребитель; лихорадочно-уверенно щелкая «пакетниками», он не глядя воткнул штуцер радио, врубил электрику, топливо, пневматику, гидравлику — все быстро, безошибочно и точно; пальцы в мягких перчатках стремительно летали, жутковато-музыкально, на черной «оживающей» клавиатуре приборной панели; открыт воздушный кран, тормоза в два качка прокачаны и обжаты, краткое толчком шипение сжатого воздуха, ручка — на себя, звонкий щелчок магнето.
— This is Torch 6 to Volcano. Over. Okay. Starting?[46]
Под хрипло-радийную скороговорку переводчика-оператора в шлемофоне он выдернул из-под приборной доски кусочек нежнейшей белой замши и быстро любовно протер дымчато-голубое зеркало прицела; услышав в наушниках ответ, он сам себе кивнул, удовлетворенно перебросил «лапку» магнето и толчком вдавил красную выпуклую кнопку. «Аллисон»[47] сонно рыкнул, грузно шевельнулся в темной берлоге под капотом, хрипло харкнул застоявшимся маслом и, проплевавшись дымом, свирепо недовольно заревел. Сэнди аккуратно сунул замшу на место, постучал костяшками пальцев по лбу, по прицелу и, подмигнув русскому своему дядьке, широко развел вскинутыми ладонями: «Убрать колодки!» Мрачнея и пряча глаза, механик потащил за тросик тормозные колодки из-под колес. Сэнди сверкнул чудесно-мальчишеской своей улыбкой и, выставив большой палец над бортом, прокричал в несущемся реве мотора:
— Be a good boy and have a couple of girls and a bottle of whisky ready for old cowboy’s return![48]
Механик непонимающе глубоко кивнул, старательно улыбнулся и выбросил влево руку: «Порядок. Выруливай». Сэнди браво отсалютовал ладонью вперед, рывком надвинул только что начищенный механиком фонарь, «аллисон» оглушительно густо взревел — и «вогаук», метя свистящий шлейф колючей белой пыли и широко раскачиваясь на снежных заледенелых заметах, покатил к старту. И горько смотрел, смотрел ему в спину, не морщась от режущего стеклянно-ледяного ветра, старый русский механик.
А по полосе, напряженно приподымая плечи, уже нетерпеливо просвистела первая пара «илов» и с утробным рычанием перегруженных моторов, густо дымя под мягким пологом голубовато-серой предвечерней облачности, полезла в темнеющее небо; сорвалась со старта и помчалась на острие сверкающей поземки вторая; взвивая переливающееся радужными блестками облако снежной пыли, гулко молотила винтами третья в жадном ожидании броска.
Еще не перекрашенные в мутно-однотонный арктический камуфляж, коричнево-зеленые пятнистые истребители союзников, грузно осаживаясь на напрягающихся амортизаторах и длинно кивая острыми носами, неспешно, деловито выстраивались в ломаную очередь за стартом.
Льдисто-рваный пересвист сорванного винтами снега; пронзительные стоны тормозов; хриплые взрыки сдерживаемых тысяч «лошадей»; все покрывающий перестук винтов на малых оборотах; в шлемофонах пилотов и динамиках громкой связи на КП — в шипящем бульканье и высвистах помех — обычная предвылетная скороговорка, непривычно перемежающаяся смятой кодом английской речью:
— Я — «Свеча-Пять», исполнительный занял, тридцать пять, прошу «добро».
— …Repeat, take-off order: by flights; take-of course — 35; head wind along the runway, 8 meters; the runway is dry; the Russians ask to watch out while climbing…[49]
— Я — «Свеча-Три», в наборе, шасси убрано.
— Torch One! Follow the last Russian in 3 minutes.[50]
— This is Torch One to everybody. «Kiwi». I repeat, «Kiwi»![51]
— Серега, обождем союзников, а то они тут не…
— «Свеча-Три» — не мудри! Время! Всем — уходить на работу! Они нагонят на маршруте — долой со взлета!
— Hurry up, gentlemen. A nice evening is ahead![52]
И вот уж «харрикейны», пригибаясь сутуло, пара за парой рванулись со старта!
Полоса дымилась тряским грохотом; едва оторвавшись, истребители торопливо поджимали «лапы» и в пологом натужном наборе, едва не чиркая лопастями «лбы» сопок, парами переваливали черный хребет и сразу исчезали за ним, уходя к невидимому за скалами морю. Казалось, весь мир ходит ходуном в реве моторов, дыму, мелькании сигнальных флажков, россыпи ракет, дребезжание стекол — и вдруг разом все оборвалось. Только ошалело повис, тупо качаясь над стартом, остывающий ветер, оглушенно поматывая сине-коричневатой пьяной пеленой выхлопных газов и бензиновой вони.
Свет кратчайшего арктического дня горестно таял за низкими, обдутыми мертвыми ветрами черно-синими голыми сопками; тоскливо дрожали стукотным простудным ознобом одинокие деревца-карлики. Холодом затопила тишина опустевшие стоянки. Холодно, холодно, холодно… Пусто… Растворился в серой мгле на миг донесшийся гул последнего самолета, сгинувшего в бездонной мути…
Перевалив иззубренные черно-бритвенные скалы и проскочив береговую черту — застывший грандиозный хаос громоздящихся каменных валунов и мутно светящихся изнутри сине-зелено-серых глыб льда — шестерка штурмовиков резко снизилась и перешла на бреющий полет, прячась высотой. Она еще не вышла к открытой воде, как ее нагнали союзники, — истребители прикрытия проплыли наверху матово-серыми животами, призрачно мелькая на фоне низкого неба, и, широко покачав крыльями, замедленно растаяли впереди.
Замелькал под широченными ободранными крыльями «илов» полусмерзшийся колотый лед припая; жирная лаково-черная вода раздраженно морщилась в морозно парящих жутких разводьях. Штурмовики растянутым пеленгом[53] неслись на высоте метров сорок-тридцать, гоня перед собой мощную волну рева и свиста. Откуда-то спереди под крылья вынесся и неподвижно застыл на бело-сером льду здоровенный мокро сверкающий морж, задравший мягко-округлую огромную башку; насмерть перепуганный неслыханным громом, он медлительно-быстро метнулся боком по льдине и, взметнув медленно поднявшийся зеленый сияющий фонтан, бухнулся в задымившуюся густую воду. Кузьменко засмеялся, глядя через борт. И мчался, мчался, мчался назад лед — подпрыгивающими изломами торосов, черными молниями трещин, мгновенными узорами загадочных картин; мчался лед, отлетая назад прожитой, оставленной, отброшенной жизнью!..
Вдруг позади, над мертвенно тлеющим горизонтом, беззвучно лопнула гигантская глухая штора, рухнула невидимая стеклянная стена, и над океаном притушенно вспыхнул розово-голубой свет. Тонко высветилось впереди заголубевшее, почти прозрачное небо, в нем проявились крохотными силуэтиками едва различимые истребители, посеребрились брюшками в прощальных лучах — и пропали.
Занавес захлопнулся…
Ломаная цепочка «илов» неритмично раскачивалась, растягиваясь и сжимаясь, приседая и подвзмывая. Желто-хмуро вспыхивали неяркие рваные блики-отсветы на угловатых высоких кабинах; за желтоватыми стеклами смутно чернели застывшие головы пилотов с серыми провалами неразличимых лиц. Мерцающе застыл глубокий темный свет в бешено-неукротимом вращении хрустально струящихся винтов.
Тугой слитный рев. Мгновенно-пляшущий пролет зелено-белых узоров льда и серебряно-черных разводий под недвижными крыльями. Изредка — хищное шевеление длинных стволов турелей, короткий треск пулеметных очередей, смазанные оранжево-голубоватые взблески-молнии — бортстрелки опробывают оружие, не давая смазке затворов и подач загустеть на морозе.
Лед оборвался. Плоско легла застывшая черная гладь сплошной воды. Самолеты вышли в открытое море. Пропал берег. Растаяли истребители. И пропал, растаял береговой свет…
В тихо потрескивающих наушниках радиостанций, работающих только на прием, — радиомолчание! — щелкнуло, послышалась хрипловато-гнусавая скороговорка ведущего истребителей. После паузы что-то быстро ответил оператор-переводчик.
— Во херобень — ничего не понять… — пробормотал Кузьменко. — Взаимодействие, м-м-мать… Навоюем!
И тут же в шлемофоне раздалось по-русски — почти на выкрике:
— «Вулкан» — «Свече»! «Факел» вышел в точку, видит разведчика — эмбээр[54] горит! Караван три единицы, три! Охранение — шесть еди… — голос захлестнула английская разноголосица; секунда, другая — и эфир разнесло взрывом выкриков, команд, ругани и сленга; чудом вновь прорвался оператор: — «Факел» работает, крепко работает! Шесть… Что? Восемь «сто десятых»! А, ч-черт… — стремительное бормотание, чей-то злорадный звенящий вопль и — опять: — …дцать, о Боже, их шестнадцать! «Факел» повяжет их — но просит, просит скорее! «Свеча», поторопись!
— Узнают союзнички наркомовскую норму… — и Кузьменко размашисто покачал крыльями; его штурмовики быстро разошлись веером, приняв команду рассредоточения к атаке. А из наушников неслось взахлеб:
— …fuck you, Dicky! Break the loop! Break it, sonuvabitch!..[55]
— …and thirty degrees leftward… Seven hours… There, there! Yes…[56]
— …get him! Shoot the jerk, I’ll cover you! Kill the bastard…[57]
Кузьменко, застывая металлически серым лицом, слушал стремительно-точную работу оператора — тот гнал синхронный перевод, срываясь с русского на английский и наоборот, не замечая, что уже почти кричит, копируя голоса летчиков, завязавших тяжелый, неизбежно тяжелый бой.
— …Джефф, я — Чарли, Чарли! Я ниже на четыре, отсеки его, да-да, я здесь, отсе… О-о-о-кей, старина, с меня выпивка…
— …Есть! Есть первый! Парни, я открыл счет русским — я сбил его, сби-и-ил! Он горит, вонючий колбасник!
— Брось его, Тони, брось — оглянись! Господи Иисусе, да оглянись же — он справа сзади! Боже мой, Боже — я не успева…
Сдуваемые ледяным режущим ветром из невидимых щелей неплотно пригнанного фонаря кабины по лбу и переносице капитана ползли горизонтально, мелко дрожа и срываясь назад, огромные сверкающие капли…
— Он го-орит!! Лэйтон горит! Тони, прыгай! Прыгай, мы здесь, мы прикроем!
— Тони, сынок, если ты жив — прыгай! Да прыгай же, сук-кин ты сын!
— Кто видит меня, я мористей, я один, они зажали меня, помогите!
— Да где эти проклятые русские?!
— Еще минута, джентльмены, у нас в запасе целая минута.
— Джентльмены — Британия рядом!
И… И вот они, вот! Мелькающие над горизонтом в серой дымке размазанные скоростью и расстоянием крохотные силуэтики, вовсе не страшные и не опасные в такой дали, забавно кружатся увлекательнейшей каруселью; изогнуто застыли три багрово-черных росчерка дымов, прочертивших смятую бумагу вечера.
— «Вулкан»? Я — «Свеча-Раз». На подходе. Вижу группу расчистки. Работает на всю катушку… — и капитан неспешно стянул со лба на глаза выпуклые желтоватые очки-глазищи.
— Есть, «Первый»… «Факел» услышал тебя! Просит скорее!
— Пусть фриц увязнет по уши — а мы успеем к нашей свадьбе… — и рука сама зло толкнула вперед сектор газа. «Ил» с густым ревом пришпоренного мотора подвзмыл — и мгновенно-ошеломительно распахнулась вся картина боя.
На выпуклом зеркале моря застыли три темно-серых пузатых транспорта; рядом пропечатались вытянуто-острые тела кораблей охранения; длинные, узкие, бело-вспушенные полосы кильватерных струй и дымно окутанные белейшей разлетающейся пеной-плюмажем отточенные их носы говорили о «самом полном». Над ними чудесной новогодней игрушкой косо висел празднично-оранжевый купол парашюта. А небо — небо все и всюду было простегано сказочным, завораживающей красоты бисером пулеметных и пушечных трасс, черно-коричневыми дымами перегруженных моторов; лохмотьями рвались на ветру закрученные в пушистый штопор следы сшибленных в океан самолетов. И всюду в пульсирующей вспышками неразберихе носились длиннотелые головастые «Мессершмитты-110», кувыркались сутулые хвостатые «харрикейны», бульдогами мелькали в свалке свирепые носатые крепыши «вогауки».
— Я — «Свеча-Раз». Выходим. «Вулкан», мы выходим. Передай «Факелу» — дорогу! Нам — дорогу! — Кузьменко бросил взгляд через плечо. Да, все они были тут, братья его — шли за ним, мчались за ним, зная все — и не сворачивая.
— Пар-р-рни мои… — он не мог оторвать от них глаз в бесконечной ревущей секунде. В каждом он видел себя. Видел их всех — и знал, и видел их дорогу. Свою дорогу. И внезапной вспышкой, кратчайшим ударом адской боли он понял: «Все!» Сегодня — все. Для него — сегодня и навсегда. Но это ничего — будь проклят этот распроклятый мир! — нич-ч-чего не меняло! И значит, — атака!
— Атака-атака-атака! — бешено выхрипел он команду-код и толстым в меховой перчатке пальцем сбросил предохранительную скобу на рукоятке штурвала. Глаза его, полускрытые поблескивающими в гаснущих отсветах дня очками, яростно расширились. Море, небо, корабли, самолеты — весь мир перечеркнут крестом — крестом! — размашистым четким крестом прицела, впаянным в мутновато-желтое лобовое бронестекло.
«Илы» мчались в слитном тугом реве в пологом наборе, выходя в позицию атаки; напряженно подрагивали под грязно-голубыми, в потеках моторной копоти и пушечной гари, плоскостями черные тяжелые чушки бронебойно-фугасных бомб наружной подвески, угрюмо торчали «стрелы» реактивных снарядов; схоже чернели в кабинах над левым бортом головы пилотов, уже выбирающих цели; оживая, хищно шевелились над «спинами» машин, будто слепые, длинные стволы турельных УБТ.
— Пришло наше вр-р-ремя! — прохрипел Кузьменко. — Целеуказание — самостоя… — договорить он не успел: в предупреждающе-нечленораздельном выкрике ведомого из жуткой каши впереди вывалился двухмоторный самолет и в пологом снижении ринулся навстречу.
— … ятельно! — закончил Кузьменко и завороженно потянулся вперед, впиваясь в невероятно быстро растущий в прицеле, заполняющий весь горизонт силуэт; прыгали по щекам, дрожа, огромные мутные капли; дергал, рвал кожу над застежкой шлемофона то ли желвак, то ли оборвавшийся нерв; пережжено-синеющие губы беззвучно шевелились в ровном надежном реве мотора. — Виж-жу… Давай, сучара… Тебе нужен лидер? Вот он я — давай.
Иди ко мне, иди…
— Левей, командир! Левей, Саня, — мы встретим!
— Он мой… — Кузьменко, впиваясь в прицел, чуть отжал штурвал, — и тут в носу «мессера» слепяще-бледно сверкнуло! Капитан ударил ручку вперед и рванул ее на себя, «ил» крякнул, как будто грохнулся в ухаб, над кабиной бесшумно-страшно мигнула оранжевая счетверенная молния — и, ощерившись, Кузьменко вогнал гашетку в ручку: — Н-н-на!!
Воздух лопнул, в рваном грохоте пушек взвинтился в пламенный шнур — трассы врубились «сто десятому» в лоб, и он взорвался изнутри, разваленный снарядами и скоростью! В тот же миг в длинном грохочущем ударе штурмовик пронесло сквозь вихрь разлетающихся обломков и горящего дыма; дробно прогремело по обшивке, змеисто метнулась трещина в бронестекле, «ил» мощно протрясло — и… И вот он, конвой! Голенький, аки пред Господом Богом!
Та-ак, до-во-рот… Еще разошлись… Во-он мой транспорт — танкер… Ух, танкерюга, как просел черными бортами, здоровущий «комод»; пасут, пасут его эсминец и тральщик… Но почему они все не стреляют? Они рехнулись?..
Корабли вздымаются навстречу ввысь, летят косо выше, выше, все быстрей завораживающе кружатся в полете… Ага-а! Рванули, тар-раканы! Перестроение в «эйч»;[58] поздно, фрицы, все для вас теперь поздно! Мы уже тут, и вам хана! Ведь мы-то знаем, на что идем, и не свернем, терять нам нечего, а вот вы, сучий потрох, вы на палубах!..
… а они — они на палубах разом в ахнувшем ужасе увидали вырвавшиеся из обманной дымки вечера в пологом пике русские штурмовики и сразу все поняли. Под кошмарный, жутчайший, зубы выворачивающий, рвущий сердца и мертвящий души истошный предсмертный вой ревунов «Воздушная атака!!!» корабли рванулись в перестроение — но поздно, поздно!
Корабельные орудия оглушительно и болезненно-хлестко, как всегда на первом — и всегда неожиданном! — залпе, ударили вразброс. И караван, до сего мига лишь молча-напряженно наблюдавший воздушный бой, взорвался! Борта судов и кораблей озарились сплошным кипением слепящих в сумерках выстрелов — судорожно задергавшиеся в отдаче рифленые стволы автоматических «эрликонов», «шприцы» универсальных 76-миллиметровых полуавтоматов и пакетами сблокированные батареи-«ежи» гладкоствольных коротышек дымно-гремяще извергли лавину огня!
Методичными залпами забахали стволы главного калибра эсминцев, огненно озарив темный океан огромными оранжево-черно-белыми факелами; зашлись в радостной истерике драки скорострельные автоматы тральщиков. Коптящими клочьями полетела краска с подпрыгивающих орудийных башен; визжали в сумасшедшем ритме элеваторы подачи, выкидывая из темных погребов сотни, сотни, сотни снарядов.
Самый страшный враг корабля — самолет; самый страшный враг самолета — корабль. Атака! Атака! Атака!
Резко снизившиеся «илы», жуткими призраками мелькая в хаосе взорванной воды, уже мчались сквозь плотно и точно поставленную корабельной артиллерией эсминцев огневую завесу; зная, что второго захода не будет — некому будет заходить! — летчики еще на подходе ударили из бортовых стволов. Из озаренных белым пляшущим пламенем непрерывной стрельбы крыльев золото-сверкающим дождем посыпались гильзы; с адским режущим воем срывались с подкрыльевых балок-направляющих эрэсы и, слепя неземным лютым пламенем, черными дымными молниями шипяще проносились над самой водой; по бортам кораблей, искря, ударили пушечные снаряды. С мостиков и палуб кораблей в азартном безумии палили из пистолетов, ракетниц, карабинов: штурмовики неслись уже ниже — ниже! — бортов кораблей, выходя в страшную атаку рикошетирующими бомбами с бреющего полета. Топмачтовое бомбометание, дьявольское русское изобретение, спасения от которого нет, от которого не увернуться, не прикрыться, можно лишь молиться и… Есть! Один — есть!
«Ил» слепяще вспыхнул, дернулся вправо, зацепил в нырке крылом волну и, мгновенно разлетевшись в куски на ударе, исчез в вертящемся горящем столбе взметнувшейся воды.
Но пятерка оставшихся рвалась вперед — неудержимые русские «илы». На них обрушилась, вырвавшись из свалки с истребителями, пара «сто десятых» — и в неслышном торжествующем реве сотен моряцких глоток еще один штурмовик выбросил из мотора фонтан брызжущего бенгальского огня — и пронзительно визжащим факелом, расшвыривая раскаленные обломки, косо понесся над водой. И не видно… Но русские жутко-неотвратимо рвутся вперед, вперед, вперед! Сверху наваливается еще пара истребителей: презрев свой и чужой огонь и повиснув над спинами русских, они в упор, в упор расстреливают вышедшие на боевой курс и потому уже не маневрирующие штурмовики. Кузьменко, захлебываясь ужасом и матом, ревет в эфир — всем, всем:
— …м-м-мать! Прикрытие?! Где прикрытие?! Нас жгу-у-ут!! — А за его спиной непрерывно грохочет УБТ: старшина, зажав в упоры трясущиеся от отдачи плечи, перешвыривает раскалившийся в ледяном воющем ветре пляшущий ствол с борта на борт; полуослепленный жгущим весь распроклятый гибнущий мир огромным факелом, рвущимся из бешеного пулемета, он отчаянно-обреченно отбивается, отсекает, прикрывает — стреляет, стреляет, стреляет, беззвучно молясь, матерясь и рыдая; и плевать на патроны, плевать на расчеты, надежды, на жизнь распропащую — плевать! Сбросить — и не промахнуться; не дать себя сбить до выхода на цель — вырвать еще миг, еще мгновение, чтоб всем телом, душой, последним вздохом-взглядом успеть навести на цель не самолет — себя, себя навести! — и не промахнуться… Но всюду, всюду — смертные пролетающие тени, размазанные скоростью, мелькающие в диких ракурсах и отсветах боя.
Молнии дымов. Рев. Грохот. Шипение. Визг.
Черная размашистая тень проносится наискось над головой в блеске винтов — и «ил» рядом мгновенно охвачен огнем; это только в кино самолет горит — и летит, летит; здесь, в сражающейся жизни, все не так, все страшно! Весь штурмовик вспыхивает и вмиг превратился в кошмарно завывающую свистящим бело-голубым огнем форсунку.
— С-суки!.. — безнадежно, смертно, люто несется над беспредельным вечным океаном. — Го-о-орим! Все гор-ри-и-им! За Р-ро-дину, за Ста-ли-на-а-а!.. Будьте ж вы все про-о-окляты-ы-ы!!!
От горящих крыльев — из ручьев, из потоков стекающего с плоскостей трепетно-нежного пламени отваливаются две бомбы, косо ударяются о воду, взлетают рикошетом и, проплыв медленной дугой, бьют высокий черный борт судна; гудящее мгновение, миг смертной тишины — и палуба, вышибленная изнутри ужасным сдвоенным взрывом, взлетает, разламываясь, в небеса; а пылающий штурмовик, разбрасывая воющие лохмотья пламени, с предсмертно-хриплым ревом проносится растянутой тенью над палубой корабля охранения в трех метрах перед мостиком, и немцам отлично видно разорванное торжествующим яростным криком оранжево-солнечно освещенное пожаром лицо русского летчика в горящей изнутри кабине, его высвеченный пламенем вскинутый победоносно черный бешеный кулак, видно, как раздуваемое ураганом скорости пламя длинными косматыми хвостами рвется из разбитой кабины стрелка; по самолету остервенело бьют из пистолетов, автоматов, пулеметов, винтовок, ракетниц — десятки трасс скрестились на нем; и, разлетевшись на сотню кусков, он вертящейся грудой горящих обломков обрушивается в ледяную воду, взметнув салютно мириады радужных брызг.
— Кид-дай же… будь ты… ты прок… клят! — орет трясущийся в дикой тряске стрельбы старшина. — Г-г-гиб-нем! Кид-дай же, гы-гы-гад!
— Концевой… — неспешно цедит каменный Кузьменко; цель, только цель! Ниже, еще ниже… Справа косо мелькнули какие-то куски — кто? Ведомый… ведомый — напоролся на разрыв снаряда — и, ударившись носом в столб поднятой разрывом воды, как в стену, просто рассыпался! Осторожно, осторожно… Чуть левей, не повтори — нас только двое, осторожно! Нет ничего, забудь все, теперь правей и не качни машину — буруны тут, под винтом… Но лупят, ах, как они лупят… Все! Проскочили завесу — все! Н-ну, теперь!.. А, ч-черт!
«Ил» — последний! — брызнул стеклами взорвавшейся кабины, его швырнуло боком вверх, он крутнулся влево вниз — в кратчайшие мгновения! — и в искрении белого огня, в разгоне, в разносе гибели зацепил дымогарную трубу шквально стреляющего, извергающего потоки сверкающих снарядов эсминца. Крыло медленно оторвалось в ослепительной бензиновой вспышке и, вертясь, плоско шлепнулось о воду, а разламывающийся самолет в беззвучном громе обрушился на надстройку, волна полыхнувшего бензина окатила корабль. И уже не эсминец, а несущий высоченную волну белого пламени и клокочущего черного в россыпи бенгальских вспышек дыма, в свистящем вое и визге пара, упрямо стреляющий стальной остов в длинной раскачке, роняя на волны текучие лужи огня, несется в кипении и клубах мутно-белым облаком испаряющейся от его багрово раскалившихся бортов воды и бурунах.
«А я — я один! Остался один — на всех, за всех! Ну ладно… Я уже тут, я прошел и все успею — но трудно, как же трудно и страшно, как страшно, когда один…»
Машину трясет от ударов снарядов, пуль, осколков; гнилой тряпкой лопнула обшивка борта, жутко обнажив «скелет» нервюр и стрингеров; от алой звезды на крыле летят лохмотья; глухой удар-взрыв прямо под спиной бьет бронеспинкой в сердце, ахнуло дыхание — и ч-черт с ним, осталось две секунды на все про все; вылетает вверх, вертясь, кусок элерона — херня, еще секунда, целая жизнь; держись, мужик, держись — за всех один! Сейчас, уже сейчас… А, м-мать! Взрыв!
Оглушительным дымным звоном рванула приборная панель, — и во вспышке взрыва, в синем молнийном треске электрики осколки стекол в сечку рубят лицо пилота, визжат на прочных очках, и вмиг вскипевшее кровью лицо хрипит, перекосившись:
— Врешь — я уже тут!.. Пош-шли! Пошли, родные!!!
И бомбы летят вперед вниз. «Ил», обгоняя их, длинно проносится над шлюпочной палубой танкера; стрелок, привскочив в ремнях и что-то горланя в реве и грохоте, поливает из УБТ палубу летящего боком, наискось назад сторожевика, всю расцвеченную пляшущими вспышками зенитного огня. Удар колоссального взрыва нагоняет и с утробным густым рыком швыряет вверх многотонный штурмовик; в небеса взлетает, лопаясь, огромный черный гриб, багрово шевелящийся и булькающий внутри жутью; и Кузьменко враз проседает, обмякает в ремнях, проваливаясь будто в обморок:
— Все-все-все… Уходи-и-им… — Голова заваливается на грудь, взгляд мутно-слепой, мертвое лицо — кровавая маска.
А избитый штурмовик резко снижается — ныряет к самой воде, уходя от обстрела, прижимается израненным брюхом к мчащейся темно-серой воде так плотно, что за ним вмиг взвихрился тончайший крутящийся пылевой шлейф поднятых винтом брызг — прочь, прочь от разгромленного каравана! От бездонной мрачной могилы сотоварищей; от гнусно карабкающихся в небо огромных столбов жирного грязного дыма, от булькающих мутных облаков пара, ржавчины разорванных «животов» агонизирующих кораблей, смертного отчаяния тонущих в ледяной воде сотен людей — крохотных бессильных человечков, безнадежно барахтающихся на раскачивающейся поверхности бездны; от тихого клокотания пламени, неспешно разливающегося меж катящихся бугров и всплесков серой и черной воды; от рассыпавшегося на отдельные стычки сразу закончившегося воздушного боя.
Далеко-далеко слева светится голубоватая пелена то ли дождя, то ли снега, и последний штурмовик, по которому никто не стреляет, которого никто не видит и не помнит, стремится туда — укрыться, спастись гонит израненную, полуживую машину. Она измученно дрожит, тяжело раскачивается, за ней тянется, змеясь, тонкий шлейф радужно светящегося пара; по борту стремительно разбрызгивается черно-сверкающая струйка масла; в безобразные колотые дыры фонаря с живым визгом рвется ледяной свирепый ветер.
Морщась и урча от рези, Кузьменко сдергивает очки, стаскивает зубами перчатку и, шепотом ругаясь, промокает ею иссеченное лицо. А штурмовик медленно, осторожно, боясь боли, натягивает, метр за метром наскребает спасительную высоту — теперь уж никому не нужный и не опасный, затерявшийся в пусто-сером выстуженном небе. Заблудшая, измученная душа… Розово сплюнув, капитан кое-как зубами натянул на руку измазанную в крови перчатку, вытащил из наколенного кармана мятую карту, но развернуть ее не успел.
— Все, командир, — обреченно сказали наушники.
Кузьменко оглянулся — и взгляд его остекленел: выше справа темной грозной рыбиной бесшумно скользил наискось «мессершмитт», вытекая длинным телом из стоячей мути небес. Видит или нет? Неужели к ним? Или тоже — уходит?
Все замерло в замерших небесах, пропали все звуки, только тяжелые тупые толчки медленно ударяют во вмиг взбухшее больное сердце. Секунда. Другая… третья… Да.
Да, все: двухмоторный истребитель шел к ним.
— Стр-релок?! — не голос: дребезжащий шепот-крик.
— Я пуст, командир. Все. Все, Сашка. Мы с тобой… Мы хорошо с тобой… Ах, ч-черт! Но мы же были неплохие ребята. А, Сань?
«Bf-110» быстро нагонял, идя по снижающейся растянутой дуге. Кузьменко ткнул карту куда-то под себя, скривился, выжидая и что-то просчитывая, резко выдохнул — и, злобно на выдохе выматерившись, засадил сектор газа вперед до упора и швырнул застонавший «ил» в боевой разворот[59] — принять в лоб! Но нет — немец рывком умело ушел из-под залпа и, залихватски, но точно перевернувшись в полупетле, вышел строго в хвост, довернул и вновь оказался сзади сверху в три четверти — грамотный гад! Он как знал, как будто все знал и слышал, и ничего не остерегался… Кузьменко, шипя от боли и отчаяния, вновь рвет разворот и, немыслимым усилием воли и веры вздыбив штурмовик на крыло, жмет гашетку; длинно-дробный перестук пушек, на миг вспыхивает надеждой мерцающая цветными трассерами двойная изогнутая гирлянда снарядов. Немец, не рискуя, аккуратно и точно отваливает в размашистый вираж, уходя от неприцельной очереди, — он не торопится, куда ему торопиться, тут ведь все ясно. Но на сей раз он, переломив вираж, вывернулся из него на предельных углах, вынырнул на траверз и, блестяще сманеврировав, оказался рядом — в десятке метров! — и бесстрашно повис у борта «ила».
Уравнены скорости и высоты. Неспешно сдвинулась форточка кабины истребителя. Отлично виден немецкий летчик. Зачем-то он поднял очки на лоб и заглядывает русскому летчику в лицо — окровавленное, изрезанное, распухшее лицо-маску. Кузьменко видит боковым зрением, но, конечно же, не слышит этих немцев — пилота и стрелка; боковым зрением, потому что он, русский летчик, не поворачивается, нет, не желает поворачиваться к ним лицом. У него своя дорога…
— Стоящие парни, а? Руди? Солдаты.
— Да, командир. Мне жаль. Мне очень жаль…
— Кого же? Их?
— Солдат, командир.
— Ах, мой юный наивный дурачок, мой унтер-офицер Теллер… — немецкий летчик странно улыбается, внимательно глядя русскому в лицо, — в немигающие, сощуренные от режущего ветра глаза. — Мы ничего не можем поделать… Разворачивай свой МГ, малыш. И добивай его. Тут действительно ничего нельзя поделать. Учись, сынок. Бей.
А русский почему-то тоже без очков. Впрочем, да — они же разбиты! Крепкий малый, и досталось ему крепко. Смог бы еще кто так? Ты — смог бы? О чем же думает русский сейчас, чего ждет, на что надеется?
— Командир… — унтер медлит, мнется; что-то надо сказать, что-то быстро придумать; а русский стрелок-радист как-то отстраненно, со спокойным сдержанным любопытством наблюдает за немецкими летчиками; он намного старше и пилота, и уж тем более стрелка; отчего он так спокоен? Отчего оба они так спокойны, эти русские? — Командир, тут у меня…
— Знаю! — обрывает пилот. — Отказ пулемета? Ты будешь наказан, стрелок. Строго наказан!
Ровный тугой рев моторов. Густой свист вспарываемого ледяного воздуха — мертвого воздуха мертвого неба Арктики. Две боевые машины словно недвижимо висят в серой пустоте рядом друг с другом, лишь изредка покачиваясь — чуть вверх, чуть вниз, вот опять вверх, но — рядом.
— Так точно, мой командир!
— Так точно… — ворчит пилот. Он недоволен. Он очень, очень недоволен. — Сопляк не может быть настоящим воякой — вот это точно. Ведь мы выходили из боя — и я расстрелял свой боекомплект! А стрелок? Что должен помнить стрелок, защита машины?
— Так точно, мой командир! Виноват! Но тут уж ничего не поделаешь… — горестно соглашается стрелок.
— Жаль. И топливо на исходе — даже погонять Ивана мы не сможем. Жаль доброй забавы… Ну да ладно. Значит, сегодня — его день. Боюсь, если мы с тобой и дальше будем болтливы, у нас могут быть неприятности! Запомни, стрелок! — И «мессер», резко отвалив, пошел в сторону изящным пологим разворотом с плавным набором высоты.
А Кузьменко плевать; он не маневрирует; он вообще в упор не видит немецкий истребитель; ему дела нет, чего там задумал и чего вытворяет немец; выпятив изрубленный кроваво-сине-черный подбородок, он ведет свой избитый, но свирепо-упрямый «ил» прямо — строго прямо. Куда?
В быстро сгущающемся полумраке бледно, но уже заметно пульсирует голубовато-розовое пламя выхлопов из патрубков «сто десятого»; лупоглазо таращится длинноспинная задиристая «такса» эмблемы эскадрильи на борту, задравшая ушастую башку к длинному ряду символов побед — сбитых немцем британских и французских самолетов. И в тот миг, когда из патрубков вылетели длинные лохматые клубы дыма — немецкий летчик резко увеличил газ, торопясь до темноты домой, — в тот самый миг на его кабину упала выгнутая скоростью сверкающе-дымная трасса!
Замедленно тусклыми вспышками разлетается бронестекло; изумленные глаза немецкого пилота медленной тугой пульсацией заливает черно-густая лаковая струя из-под шлемофона; стрелок в беззвучном оглушающем ужасе кричит, кричит, кричит, оглядываясь на убитого командира; а самолет неторопливо и уверенно заваливается набок и начинает падать — падать в разверстый черный океан, вычерчивая в застывшем небе извилистую траурную ленту, — и, наконец, беззвучно, в тишине и покое, без всплеска исчезает.
И рядом со штурмовиком, со свистом выходя из пикирования, проносится «вогаук». И в его кабине сияет прожектором бледная физиономия. Сэнди! О, Господи! Этот мальчик сдержал слово…
Сэнди торжествующе что-то неслышно орет, тряся кулаком и тыча в стекло два растопыренных пальца.
— Заткнулся бы… — Кузьменко хрипит от нечеловеческого утомления; просто и буднично хрипит запредельно уставший человек; он устал так, что ничего удивить его не может. — Ну, стрелок, куда? У меня тут все в хламье… Где север, где восток — куда рулим?
С трудом, со слышным даже в реве мотора скрежетом сдвинув поврежденный фонарь, он проталкивается головой в мощную, рвущую лютость и вой ветра, высовывается за борт и сквозь режущие слезы разглядывает жирную радужно-черную полоску по обшивке:
— Вот теперь точно все, стрелок. Отлетались. Масло — тю-тю.
— Но сколько-то протянем? Прыгать-то…
— А хрен знает — доски нету. Пока тянет. Но этому чего надо?..
— We’re homebound, guys, — радостно болтает в шлемофоне Сэнди. — I’ll stand a round. Today I shot my first one down. You know where? I’m a guest here! Of course, I’ll cover, but it’s time to go home. To have bath here… A sore throat is the last thing I want as a guest here. It would be simply indecent.[60]
Кузьменко, равнодушно-оживший Кузьменко, мрачно шаря глазами по горизонту, разворачивается, как ему кажется, на юго-восток. Но хоть бы какой ориентир!.. И сколько еще топлива, и где давление масла, и что головки цилиндров? Нет — приборная доска разворочена; с разорванного дюраля свисают, толчками качаясь, разноцветные обрывки, черными кружками болтаются выбитые «чашки» приборов, разбитыми зубами блестят их внутренности; компас — рваная дырка. Но вот почему ноги целы? Колени засыпаны битым стеклом и эмалью, — а ноги целы. Война, м-мать ее… И солнца нет, и луны, и звезд, и суши — суши тоже нет. И не будет? Всюду, всюду — гнусная мутная мгла.
— «Факел»! «Факел»? «Вулкан»? «Свеча»? Я — «Свеча-Первый», кто слышит меня? Связь. Прошу связь!
Но в потрескивающих наушниках — тихо. Шипяще посвистывает, жутко щелкает, взбулькивает пустой, безжизненный, недавно еще горящий эфир. Но теперь… Холодная, алчная терпеливость выжидания жертвы; брюхо — вот что оно такое; чудовищное, голодно урчащее далекими разрядами, сглатывающее ненасытность брюхо.
Ночь надвигается на мир. Черная вода — бесконечная ночь; без рассвета, без берега. Без надежды… Но Сэнди! Сэнди висит справа выше — живой, надежный, неугомонный, бесстрашный Сэнди!
— «Свеча-Один» просит связь. Всем, кто слышит меня, — «Полюс». «Свеча-Раз» просит «Полюс»![61]
Нет — тишина. Не вырваться — гулкая пустота… Одинокий в мертвом арктическом холоде штурмовик летит в пустоту, в неизвестность. И с ним болтается неприкаянной душой юный американец. Собратья — живые души, затерявшиеся в стылой, выстуженной, бесконечной безжизненности. Говорят, это и есть ад…
— Хоть бы топливо знать! Во, бля, даже говорить — и то больно…
Сэнди мягко подходит, как подплывает, ближе — он явно встревожен. Кузьменко отрицательно мотает головой, тычет пальцем в свой мотор и в потек на борту. Вскинув руку над бортом, стучит по своим здоровенным часам, показав пятерню.
— I’ve got you, old chum. You’ve had a hard time. North is there. There![62]
Кузьменко кивнул — уж слово «норд» понять-то можно! — и, старательно улыбнувшись, пошел в вираж с набором.
— Потянем к берегу. Куда-нибудь да приплывем. Хотя оно — вряд ли…
Ровно и пока устойчиво рокочет усталым басом мотор, гребет широченными размашистыми лопастями невидимо-густую пустоту; винт — затяжелен, газ — средний: экономичный режим. И теперь остается только одно: ждать. Тянуть — и ждать… На ка-кой-то неведомой застывшей точке зависло время; зависла вся жизнь, как завис самолет, застыл в холодном темно-сером, почти непрозрачно-бутылочном стекле той пустоты…
Сэнди замедленно проплыл вперед выше; смутно виднеется он в кабине, отчаянно вертя башкой. Ну а как там масло? А то уж пора бы — что не дай Бог… Но интересно, как оно будет. Просто заклинится двигатель или разнесет шатунами все к растакой матери? А может, просто загоримся…
— Стрелок? Тебе там видней будет — когда задымим, скажешь. И нечего хмыкать!
— Ладно-ладно. Внизу воды хватит — потушим.
— Тьфу!..
Ставший в ощутимой уже мгле светло-серым силуэт «вогаука» мягко накренился впереди и плавно заскользил куда-то влево. А славный, видать, парень. Лихо он гитлеровца завалил — с одного захода. А на вид — пацан пацаном. Куда ж это он потянул? Во-он, почти пропал; ага, возвращается. Пошел выше вправо — похоже на противозенитную «змейку», точнее, на противолодочный зигзаг. Ясно, сынок; только зря ищешь, высматриваешь. Кой хрен тут найдешь, кроме могилы, — да и та без имени. Океан… Одна сплошь мокрая вода, да еще и люто холодная. Ох, холодная. Плохо будет умирать — ребятам сегодня куда веселей было. Опять он пошел влево. Зря горючку жжешь, ей-ей, зря. Здесь по карте — да так оно и есть — сплошное чистое поле. Даже промеров глубин и обозначений течений — и то нету. Да и потом, все ж едино до суши не дотянуть; минут через десять, а может, и пять масло вытечет — и-и-и… Жалко пацана-американца. Свой в доску малый. Зря он, в самом деле, во все это впутался. Эй, чего это он?
«Вогаук» лежит в крутом развороте, лихорадочно мигая АНО;[63] ч-черт, неужто немцы?!
— Неге it is! I see him! Follow me, guys![64]
Коротко качая крыльями, истребитель ринулся по дуге вниз во мрак, резко выровнялся, от него сверкающей кометой метнулась вперед ракета и, красивейше сыпля золотосверкающие искры, ушла изогнуто во тьму океана. Кузьменко, высунувшись за борт, пытался хоть что-то там разглядеть — то, что явно видел американец. А Сэнди, рывком перевалив машину, опять нырнул глубоко вперед, почти пропал в серой тьме — и опять, широко раскачиваясь, выровнялся; и вновь выстрелил вперед ракетой.
— Саня! — дико заорал стрелок. — Гляди! Живем — гляди!
Уши заложило звоном от вопля, — а впереди… Неужели… Остров? Впереди — остров! Черное пятно на черной равнине! Так, в руки, взять себя в руки. Остров сам по себе еще ничего не значит…
— Сашка! Ух, пацан! Ну, родной ты наш! Ну, пацаненочек!..
— Да вижу, вижу… А чей он?
Вспышка третьей ракеты, четвертой; в неверных, пляшущих сполохах глубоко внизу размазанно дрожит, прыгает крохотный кусочек суши среди тускло поблескивающей стылой воды. И тишина; ни ответной ракеты, ни проблеска света, ни выстрела — хотя б случайного. Тьма. Тишина. Ох, тишина!.. Истребитель разворачивается над самым островом, опять бабахнул ракету — во тьме ярчайшую. Тихо. Тихо!
— Оперативная зона — наша?
— Да хрен его знает, где мы! Ну, так, перетак, растак… Ладно, Серега. Хоть сову об пенек, хоть пеньком об сову — все едино сове не куковать. Принимаю решение!
— Может, там вообще никого и не…
— Садимся! Выбора нет. Или сядем тут — или дальше упадем. Проверь ремни. Сбрось замок фонаря. Парашют отстегни. Ну, чего еще?
Островишко невелик — весь на виду с одного взгляда. Остров как остров — какие тут везде. Куча булыжников посреди здоровенной лужи. Черные скалы. Светло-серая извилистая полоса галечного пляжа. Во-он светится мутно кайма прибоя, качается в белой пене. Рулить надо только сюда, на пляж — больше некуда приткнуться… Как тут ветер работает? Ага, по волне вроде так… Хорошо, хоть что-то еще видно… Ра-азворот…
— Саня, вон вроде кран торчит! Людей не вижу!
— Оно и лучше, может…
— Может, старая метеостанция или радиопост? Да нет, я б знал.
— Рот закрой — последний парад… Все. Заходим!
Аккуратненький разворот на ветер со снижением; в конце посадочной прямой темнеет вроде мыс, но для пробега как будто хватит; ох, не сяду, ох, дров же будет — до утра костра хватит… Тихо, тихо мне, смотри высоту — перебор! Во-от так, еще прижать ее. Где американец? Ага, ушел вверх — прикрывает, золотой парнишка; скучно ему без нас будет… А валунов-то, а булыжников-то понакидано! Всюду, всюду черные ломаные углы, капканы, остро сверкающие клыки в пастях-изломах скал и каменных осыпей. Нет, не сяду, не смогу, никто не сможет. Это ж немыслимо; ниже, еще ниже… Подскальзывай под ветер, прикройся, прикройся ветерком… Нет! Прыгать — и к черту. По газам и вверх, и… Но куда? Куда прыгать?! То ж безнадега, капитан, то гибель! Чего ж ты воешь — первый раз тебя прижало, что ль? Иль помирать впервые, стервец? Н-ну, капитан, — рубеж принятия решения! Да. Поздно уходить — теперь все поздно. Теперь — только вперед.
И Кузьменко «дал ногу», скольжением подвернув под обрыв, и решительно рванул вниз до упора красный, скособоченный взрывом того снаряда кран шасси, не веря, боясь верить, но… Но сработало! Успокоительное кратко-жесткое шипение пневматики, длинный толчок выходящих под крылья стоек отдается через ручку в ладонь, сдвоенный неслышный щелчок замков — шасси выпущено. Вышло, вышло шасси!
— Сашка, рехнулся?! На брюхо! Давай на брюхо, ведь угробимся! Да что ж ты дела…
— Ма-алчать!!
Не дыхание — тяжкое хрипение в наушниках. Глаза слезятся от ветра, тьмы, усталости непомерной; на грани слепоты глаза, на пределе взрыва измученное сердце; но я справлюсь, я должен, я еще повоюю!
— Не лезь, ох, не лезь под руку…
Гася скорость, Кузьменко ткнул не глядя «Закрылки» — посадка по всем правилам! Странно — закрылки сработали, машина привычно «подвспухла». Уже вдоль самого обрыва несся штурмовик, опасно раскачиваясь в его изгибах — опасно и точнейше, уже осторожно приподнимая нос. У самой консоли слева жутко пролетали во тьме черными сполохами скальные застывшие обвалы; справа ждуще затаилось в той же тьме такое ж черное море; и единственной надеждой вылетала из мглы впереди пушисто-белая извилистая лента гальки. Измотанный мотор прерывисто прохлопывал на малых оборотах, постреливая из раскаленных коллекторов прозрачными красно-голубыми вспышками пламени. Капитан, вытягивая шею, держал под взмокшей ладонью «хитрый газ» и, не дыша, ждал, ждал… Вот! Вот она, моя дорожка, — прямой участок! Пора — ручку вперед и на себя, газ сброшен весь, «ил» тяжко просел, всю ручку на себя, всю, та-а-ак… Есть касание! Сдвоенно бахнули в гальку — в сушу, в твердь земную! — колеса; в крякающем ударе амортизаторов парашют врезал кувалдой под зад, клацнули в крошево зубы; стоп-кран мотору! Оглушительный по плоскостям гулко-железный дробный грохот гальки, пушечно вылетающей из-под трясущихся, подпрыгивающих колес; а педалями — правей, левей, опять правей, еще левей, еще! И ладонью всей мягко красную скобу тормозов — мягко, но до упо-о-ра! Во-о-от так!
И, дергаясь, трясясь, дребезжа рваной обшивкой, разбрызгивая остатки масла и охлаждающей жидкости из пробитых магистралей, окутанный паром и копотью, то и дело влетая правым колесом в пену и взметая шипящий веер брызг, разбрасывая гремящую гальку, истерзанный штурмовик громыхающей железякой пронесся в двух метрах от ухнувшей эхом скалы и…
И встал. Да. Остановился. Замер. Затих в тишине. В оглушительной, звенящей, уму непостижимой тишине.
Секунда. Пять. Десять…
Тихо.
Кузьменко, завороженно-медленно стирая сочащуюся из прокушенной губы кровь, тупо глядел вперед — в глухую стену, мрачно-зловеще чернеющую метрах в двадцати впереди, не дальше. Пыльно-белый лицом Попов, зажмурившись, лежал недвижно затылком на переборке кабины и, кажется, не дышал.
Внизу звонко капнуло. И еще. Сухо треснул, остывая, горячий бедолага двигатель. Длинно зашипела невидимая в окончательно сгустившейся темноте прихлынувшая к берегу волна; мелко простучали в откатившейся воде камешки. И — тишина, тишина, и опять тихое, как дыхание, шипение пены…
Тишину смял быстро нарастающий рокот, перешедший в густой рев — над штурмовиком, закренившись, пронесся «вогаук»; мелькнуло бледное круглое лицо Сэнди над бортом, ударил по ушам тугой звон винта, где-то просыпались камни шумным дождем — и истребитель пошел на второй заход.
— Во, тит твою, и помереть не дадут… — то ли подумал, то ли пробормотал грузно лежащий в сиденье капитан.
А Сэнди, напрягая до рези глаза, разглядывал застывший темной распластанной птицей штурмовик. Да, сели русские вроде нормально. Но как-то тревожно тихо внизу…
Он завертел головой, высматривая поблизости хоть какую-то площадку; если русские сели на тяжелой машине, значит, он тем более сядет. Но, дьявольщина, как же быстро тут темнеет… А указатель топлива на нуле, и красный огонек в его шкале уже не мигает — он, сволочь, горит ровно и грозно, зловеще горит. Но площадки здесь нет; всюду одни чертовы камни — пики и каньоны; Кордильеры, пропади оно все… Ну, что делать? Прыгать?
Закусив губу, Сэнди развернулся над самыми скалами, рискуя угробиться, и вновь пронесся над русским самолетом, замершим возле то ли мыса, то ли какого-то сооружения, выдающегося в воду от скал; Сэнди успел-таки разглядеть шуструю фигурку, которая суетливо карабкалась от самолета вверх по осыпи; второй русский стоял в раскрытой кабине в рост, призывно махая Сэнди руками. Сэнди чертыхнулся: махать машет, а занял своим «танком» единственный более-менее приличный прямой кусок берега. Может, попробовать притереться на брюхо в полосу прибоя? Но ведь бита, гарантированно бита машина! Жалко, ох, жалко ее; уж тогда и вправду проще выброситься с парашютом…
Распахнув фонарь и высунувшись за борт, он опасно низко просвистел над скалами; под крылом промелькнули кошмарные каменные провалы черноты, трещины, колотые пики и валуны, проскочила какая-то решетчатая вроде конструкция — и остров оборвался в океан. Сэнди вздыбил истребитель, вертя башкой, и окинул взглядом весь островишко целиком: тонущий во мгле бесформенный огромный камень в беспредельности затаившегося океана.
Металлом блеснула узенькая изломанная речушка. Сэнди даже не сразу сообразил, чего он мгновенно испугался в этой убогой речонке; лежа в вираже с набором, он глядел назад вниз — и вдруг, сообразив, аж присвистнул в свисте и реве бешеного ветра: да ведь текла-то она от одного края островишки до… до другого! Соединяя берега! Берега одного океана? Какие-то секунды он ошарашенно разглядывал ее, перевалился в снижение — и тут сразу за рекой увидел полосу. Он не изумился — он просто ошалел, потому что это была… Да, полоса. Она словно открылась, распахнулась, будто вмиг показала ему себя. Обыкновенная взлетно-посадочная полоса. Почему он сразу это понял, он не сказал бы. Но как пилот, он с ходу угадал, для чего служит это творение рук человеческих, а может, и иных каких-то, тут, на краю света.
— Hey, guys! Can you hear me? There’s a king of airfield here! I’m landing![65]
— Садись! — отозвалась рация на русском, словно его поняли. — С ходу садись или прыгай сюда!
— I don’t get you. I’m landing! Wateh me. Se you later![66]
Он рисково развернулся, «на пузе» над самой площадкой, последним взглядом оценив ее, смутно сереющую небольшим прямоугольником в черном каменном хаосе.
Да, это была ВПП[67] — но не для таких самолетов. Да вообще — чужая она была! Почему? Не знаю — но чужая! Чертовски коротка и несуразно широка, и ни один нормальный самолет не мог бы ни взлететь с нее, ни сесть нормально, по-человечески. Так кто и для чего долбил, утюжил эти камни?
Но не было ни времени, ни выбора — и Сэнди, прикинув расчет, зашел на нее с бреющего. Двумя-тремя рывками, не глядя, подтянул ремни, старательно не замечая жарко горящий глаз «Fuel»,[68] и отжал кран шасси. Щитки, закрылки, шаг винта… Фонарь кабины — назад и на стопор, чтоб не захлопнуло, случись беда, намертво, не запечатало во гроб. А ветер, свирепый ветер стегал в лицо, рычал в кабине, забивал дыхание колючим мерзлым кляпом, но глаза — очки глаза спасали.
Чуть покачиваясь, поводя острым носом, истребитель шел точно и уверенно в самый кончик, самый торец площадки. Расчет шел в метр — один-единый метр; малейшая ошибка — расплата высшей мерой. Господи, помоги! Господь мой, Благой и Всеединый, — помоги! Ты видишь, ты же видишь — я решился на невозможное, но решился, лишь уповая на помощь Твою! Смотри, как я стараюсь, я даже страх отринул в вере — и я же неплохой пилот, черт бы меня подр… — ох, прости, прости!
Врублена посадочная фара: из левого крыла вниз вперед слепяще вырвался узкий дымно-голубой луч, сверкая в простреленной им пустоте блестками-отражениями летящих под крылья страшных оскаленных каменных клыков. Ты ведь не покараешь меня, Господи, в неизреченной милости Своей не казнишь из-за мальчишеского хулиганства в разнесчастной воскресной школе, ведь не было во мне злобы к унылой стерве-училке, жаждущей девственнице мисс Джоук? Да, конечно, я испоганил ее кляузный журнал, но сейчас, Господи, сейчас я ведь ничего не вижу! И фара не может мне помочь — я погибаю, Боже мой, ведь я разбиваюсь — но не могу свернуть, ничего не могу, у меня уже нет ни высоты, ни скорости, ни времени, чтоб выжить! Помоги, Господи, спаси слугу своего, и я…
И в этот миг исступленной предсмертной молитвы почти слепого летчика впереди высоко беззвучно взорвался ярчайший сноп света! Господи, что это? Ракета? Ракета — и вторая, и третья!
Сэнди испустил краткий победоносный дикий вопль и захохотал в сумасшедшем счастье — да это ж русские, русские палили из ракетниц, помогая ему!
— It’s okay, guys![69] — заорал он в визге ветра и гуле мотора; площадка впереди скачуще дергалась и плясала в разноцветных сполохах пачками рвущихся сигнальных и осветительных ракет: безжалостно расходуя аварийный запас, русские лупили над камнями без разбору, освещая американцу путь.
Ручка плавно подобрана; истребитель мягко оседает; «трах-трарах-трах-трах» — прохлопывает на малых оборотах мотор. Внимание… Сэнди протягивает руку к магнето, истребитель осторожно приподнимает нос, готовясь прикоснуться к долгожданной, такой желанной и спасительной земле, и…
И тут все и случилось.
Мотор.
Обрезало мотор — кончилось топливо. И двигатель разом, без предупреждения, встал — только стрельнул последним гулким выхлопом. И тогда Сэнди впервые в жизни услыхал этот леденящий душу жуткий звук: тонкий плачущий свист воздуха, рассекаемого зависшими лопастями медленно проворачивающегося толчками винта…
Самолет грузно задрожал, словно завис над пропастью, — и тяжко провалился; Сэнди отчаянно-рефлекторно выхватил на себя ручку, охваченное ужасом все естество его вскричало: «Нельзя! Нельзя — неправильно!», истребитель подстегнуто рванулся вверх, бессильно горестно задрал дрожащий нос — и обреченно повалился на крыло. Сэнди, опомнясь, толкнул ручку вперед вправо — уже пустую, обессилевшую вмиг ручку, — но поздно, поздно! Он еще успел выбросить вперед руки, упершись в приборную доску, — и страшный, сокрушительный, чудовищный удар швырнул его вперед.
Истребитель зацепил левым крылом мощный клык валуна, в визге рвущегося дюраля крутанулся влево, ударился правым крылом и «бородой» радиатора в край площадки, истошно взвизгнули в штопор взвинтившиеся лопасти, — и, взметнув грохочущую тучу искр, каменного крошева и пыли, задирая хвост и перебитое крыло, самолет медленно поднялся на нос хвостом кверху — в скрежете разламывающихся нервюр, треске ломающихся лонжеронов, звоне разлетающегося стекла и стали, тоскливо застонал, перевалился вправо — и бессильно упал, обрушился на спину, обвалился грудой смятых в трепещущий ком жеваной бумаги металла, дерева и трепыхающегося перкаля. И — наступила тишина. Вселенская тишина.
Секунда… Вторая… Ветер: шелестящий ровный гул в вершинах скал…
Что-то со вздохом хрустнуло, еще… Взбулькнуло… И в тишине все громче, все уверенней забулькала, забормотала, нарастая, струйка масла, сверкающим даже во тьме фонтаном хлестнувшая из разбитого картера; фонтан, туго пульсируя, рвался из разваленного, сумрачно и густо дымящего мотора и, рассыпаясь тяжелыми каплями, падал в камни.
Русские летчики пару долгих секунд стояли, замерев в ломаных позах альпинистов. Попов, опомнясь, дико выматерился, ринулся к самолету — и, сорвавшись сапогом с камня в расщелину, боком рухнул в темноту; загремела по камням ракетница, что-то с треском лопнуло по шву под лютое рычание страшенного мата; Попов вырвался из темноты и, широко хромая, дергаными длинными прыжками устремился дальше. Кузьменко, расчетливо прыгая с валуна на валун, бросился назад, выкрикнув на бегу:
— Темно! Я — фонарь, аптечка, лодка! Там же река! Дуй к нему, я мигом! И помни — река!
Старшина, который крепчайше расшиб колено и вдребезги рассадил руку, ругаясь шепотом от зверской боли и вихляюще хромая, вприпрыжку бежал туда, где, не видный в ночных скалах, лежал истребитель.
Позади, из-под берегового обрыва, косо метнулся в низкие липкие тучи размазанно-мутный приглушенный свет — подсвечивая себе фонариком и хрипло выдыхая: «О-оп! Оп-так!», капитан грузными прыжками карабкался уже от «ила» вверх, неловко волоча сумку со спасательной лодкой; из-за пазухи «канадки», то и дело больно втыкаясь в подбородок, торчала углом коробка аптечки.
А Сэнди, крепко схваченный ремнями, в затаенной тиши замершего острова недвижно висел головой вниз в черной разбитой кабине. Кровь тяжело ползла с подбородка, носа, губ к глазам, мертвенно натекая в глазные впадины, заливая брови и лоб, медленно и густо впитываясь в курчавый мех шлемофона.
Он не видел и не слышал, как с разбегу шумно обрушился в металлически-черную бегущую воду выскочивший к реке Попов, как с отчаянным воплем тщетно рванулся он назад — река вмиг хищно впилась в меховой комбинезон и мощно поволокла его вниз, в ледяную глубину, вышибая камни из-под пальцев человека; как подбежал к реке Кузьменко, с сиплыми матюгами на бегу раздергивая сумку и выхватывая длинный белый шнур от шлюпки.
— Идиот! — орал он, задыхаясь, — хватай, придурок! Это ж скалы, глубина! Есть?! Дер-ржи — тащу!
Всхлипывая, Попов мокрым трясущимся тараканом выволокся на шнуре на берег. Вдвоем они лихорадочно вывалили лодку на камни, приладили баллончик с углекислотой; резко зашипел в арктической тиши сжатый газ, вздувая резину. Кузьменко, часто привскакивая, судорожно лапал расстегнутую кобуру и вертел головой; Попов сопел и гулко стучал зубами в мокром холоде.
Ну все — шлюпка готова; в четыре руки они махом сбросили ее на воду. Попов сунулся было к ней, но капитан, рявкнув:
— Шкертик держи! — ввалился, едва не опрокинувшись, через мягкий борт в лодку, завертевшуюся под ним. — Кидай сюда медицину — ага! И держи шкерт — за мной перетянешься сам!
Поймав коробку, он мощными рывками погреб на ту сторону. Попов разглядел, как он умело вывернулся из лодки на скалы и с ходу полез вверх, — и сразу потащил к себе шнуром «надувашку»; через три минуты и он уже карабкался за капитаном.
Поминутно оступаясь, срываясь с валунов, в кровь расшибая руки и колени, падая, они бежали во тьме, в каменном жутком хаосе к невидимому самолету, будто кем-то уверенно ведомые, и сразу выскочили к посадочной площадке. С грохотом и руганью скатившись с последней осыпи, они оказались у опрокинутого истребителя одновременно и, кинувшись с ходу под чуть приподнятое левое крыло, на карачках, обдирая брюки и ладони, пролезли к фюзеляжу под центроплан.
Загнанно дыша, капитан щелкнул фонариком. Высветилось залитое маслянисто сверкнувшей кровью страхолюдное лицо Сэнди; в удушливо-бензиновой горячей тьме искрились осколки стекол, поблескивал рваный металл.
— Жив? — сорванно прошептал из-за плеча Кузьменко Попов.
— Да вроде… Течет? — капитан шумно втянул носом; они прислушались, жутковато мерцая глазами. — Бензинчик? Ох, течет. Ох, шандарахнет…
— А он? — испуганно возразил старшина.
— Да он же, он, куда ж его… А ну, под крыло!
Они задом наперед, «раком», торопливо подлезли под смятую консоль крыла, уперлись спинами в плоскость и натужились, кряхтя; Кузьменко яростно засипел, в натуге выпучив глаза и ощерясь:
— Ну же, зар-р-раза!.. — Крыло чуть приподнялось, скрипнув.
Он уперся в валун руками; крыло еще чуть подалось. — Лезь!
— А ты — один?! — старшина в ужасе скосил к нему глаза.
— Он же рванет щас! — бешено простонал Кузьменко. — Лезь, лезь же, х-хад!
Старшина упал на локти и, выхватив из ножен на бедре тускло блеснувший финский нож-пуукко, проворно подобрался к кабине. Капитан снаружи утробно мычал.
— Сейчас-сейчас, ребятки… — бормотал Попов, орудуя ножом на ощупь. — Ага, один есть, где ж второй, м-мать вашу… Во, есть. Ч-черт, это парашют! A-а, вот он… — лежа на спине под смятым бортом кокпита, он лихорадочно резал привязные ремни. Сэнди трудно чуть расклеил один глаз, слепо моргнул — и вдруг смачно выплюнул то ли кровь, то ли раскрошенные зубы.
— Ага, живой-таки! — обрадовался старшина. — Сейчас-сейчас, парень, я ж и так…
— Се-ерый! — стонуще донеслось из тьмы снаружи.
— Все, последний, Саня! Та-ак… Все! — Тело летчика рыхлым мешком повалилось вниз — на руки и грудь старшины. Поддерживаемый им, Сэнди наполовину сполз на камни и, нелепо завернув за плечо голову, замер; ноги его застряли где-то наверху, за приборной панелью. Попов шепотом матюкнулся и поволок его на себя. Сэнди хрипло взревел; старшина, не обращая внимания, тащил его наружу; Сэнди люто рычал и мотал башкой; извернувшись, старшина перевалился на карачки, сгреб его под мышки и, срывая подошвы сапог и собственное сердце, поволок Сэнди из-под самолета. Задыхаясь, он выкарабкался наружу, — и тут же капитан, крякнув, вывернулся из-под консоли и боком отпрыгнул к ним; длинно хрустя, истребитель тяжело осел, а двое русских подхватили американца и, закинув его руки на свои плечи, сломя голову кинулись прочь, волоком таща стонущего парня. Захлебываясь, они ковыляющим бегом добежали до гряды валунов, разом перевалились через нее в яму и замерли там, всхлипывая одышкой и трясясь. Сэнди застонал и попытался встать, — но капитан вмиг сгреб его за шиворот и пхнул себе под бок.
— Чего он не взрывается? — почему-то шепотом спросил старшина, перевел дух и вдруг хихикнул. — Теперь-то можно!
— А хрен его душу знает… Уф-ф, работка! — капитан осторожно высунулся. — И не горит, сатана. А должен. Капитализм хренов — ничего не понять…
Попов хмыкнул и, ладонью под затылок приподняв голову Сэнди, осторожно стащил с него разбитые очки.
— Ну, буржуй, живой? — улыбаясь, он глядел в черно-белое в темноте лицо.
Кузьменко включил фонарик, прикрыв его сверху козырьком ладони. Сэнди, щурясь, смотрел на них опухшими, в кровище, щелками глаз и… И улыбался черным раздавленным ртом.
— Х-хай!..[70] — косноязычно выговорил он и опять сплюнул.
— Хай-хай, — сердито сказал Кузьменко. — Здорово еще раз. Ну, выходит, жить будешь?
Сэнди завозился, высвобождая руку. Кузьменко непонимающе отодвинулся — Сэнди сунул ему под нос два растопыренных пальца.
— Чего, двоих свалил? — равнодушно осведомился капитан и опять осторожно выжидающе выглянул. — Умелец. Хвалю. Только тут, брат, оно нам теперь без разницы.
— Нет, — возразил Попов вполголоса. — Он говорит — победа.
— В смысле? Что караван все-таки раскатали? Эт точно. Нет, но чего ж ты не горишь, сука, а?..
— В смысле — знак победы. Буква «V» латинская.
— A-а… Да уж — победа. Ладно, давай вставать. Это, наверно, масло текло. Или амортизаторы. Раз не рванул сразу — уже не рванет. Утром упремся — разберемся.
Но сам Сэнди встать не мог. Он шипел, плевался, ругался сквозь зубы, но мгновенное головокружение швыряло его оземь, правая нога подламывалась, и каждый раз он сдавленно орал от боли.
— Все ясно, — мрачно констатировал Кузьменко. — И лекпом не нужен. Сотрясение плюс клешня сломана. Влип паренек. Ну-к, давай его опять под шарниры…
Сэнди закинул им руки на плечи и, обнявшись, они побрели в темноте, спотыкаясь и поминутно расшибая ноги о невидимые камни. Кузьменко фонарик упрямо не включал — то ли экономил, то ли осторожничал.
— К чертовой матери! — заявил он, зыркая быстрыми глазами по сторонам. — Где мы, что мы — неизвестно. И так доковыляем. Стоп, кажись, пришли? Речка.
Оступаясь, почти неся Сэнди, они спустились к воде. Кузьменко включил фонарь.
— Где ж она тут… Ага, есть. Молодец, старшина, — привязал. А то б унесло… — Кряхтя, Кузьменко перепрыгнул на валун и подтянул закачавшуюся шлюпку.
— Не привязывал, — странным голосом возразил сверху старшина.
Уже было нагнувшийся к шлюпке капитан замер, не разгибаясь.
— Что? — тихо спросил он. — Не привя… Что? Но она тут! Та-ак…
Он стремительно, как ящерица, крутнул снизу головой по сторонам. Пятно света быстро скользнуло по черно искрящейся воде, прыгнуло на камень, вокруг которого бесшумно завивалась, крутилась вода, — и погасло. Попов молчал, глядя в спину командира. Сэнди, тяжело дыша, терпеливо грузно свисал с плеча старшины.
— Ладно, не привязывал… Так, на шкерт. Где твой ТТ? Расстегни кобуру. Ясно, нет? Я погрябаю туда первым. Потом союзника перетянем. Потом — ты. И глядеть, глядеть, старшина. Ну, все. Поехали.
Вскоре, стараясь не греметь камнями и почти неся Сэнди на руках, они осторожно спустились по береговому откосу к своему самолету, одиноко чернеющему на сером в ночи пляже. Оглядевшись, капитан настороженно обошел штурмовик, держа руку на расстегнутой кобуре, облазил кабины и негромко поинтересовался с крыла, глядя в темноту:
— А во что, по-твоему, мы едва не впилили? Во-он то, впереди?
— Не глядел, не до того было. Куда парня пристроим?
— Ко мне, куда ж еще… Сымай комбез, — и капитан спрыгнул с крыла вниз.
— Так нет же третьего? — все-таки с надеждой отмахнулся Попов.
— Зато белье сухое оденешь. Давай-давай! Здесь не Сочи… — Капитан уже стаскивал широченные лямки-подтяжки меховых брюк. — Правда, брюхо у тебя…
— Это — брюхо? — возмутился старшина, с трудом раздергивая набухшие застежки.
— Ну да. Не брюхо — военно-морской мозоль. Знаем… Долго ты?
— Да мокрое же… — Старшина торопливо стаскивал тяжеленный насквозь промокший комбинезон. — Так вот. Это не мозоль. Это комок нервов.
— Ага… Держи вот рубаху. Подштанники… Во черт, и вправду колотун… Ладно. Сейчас займемся союзником.
Сопя, Кузьменко выволок из задней кабины парашют стрелка, раздернул люверсы ранца и вывалил купол в свою кабину поверх сиденья и пола. Вышла весьма привлекательная берлога. Вдвоем они в потемках кое-как — до утра, до света! — взяли ногу парня в самодельную, из тут же найденных коряг плавника, шину, подняли его на крыло и старательно устроили в кабине. Потом капитан притащил несколько округлых здоровенных валунов, привалил их к стойке шасси и, примостившись боком к ободранному, остро — по-домашнему! — пахнущему смазкой и резиной колесу, длинно зевнул. Повозившись с минуту, он негромко посоветовал стрелку, развешивающему по борту своей кабины мокрый комбинезон. — Слышь, Сергей? Ты пистолетик-то покеда под рукой имей.
— Почему? Тут же явно нико…
— По кочану. Говоришь, не разглядел, чего там впереди?
— Н-нет.
— Корабль. Понял?
— Ну и что?
— Ты видал где, чтоб корабль тебе посуху плавал?
— А, ерунда. Штормом выкинуло.
— Голову тебе штормом выкинуло. Когда заходили, я все-таки успел разглядеть — немцев высматривал. Так вот, целехонький он. И на ровном киле. Так что не было шторма… А люди его где? А лодка наша почему не уплыла — течение видал? То-то. А ты ж у нас образованный! Ну, ладно. Утро, говорят, мудреней. Давай-ка ты баиньки, а я тут посижу, покемарю… Эй, союзник? Сэнди, — ты там как, живой?
В ответ на гальку у ноги капитана звучно шлепнулась вылетевшая сверху ярко-пестрая, даже в темноте, пачка сигарет.
— Не-е, ребята! — помотал головой Кузьменко, подтолкнувши к себе пачку каблуком. — Не курить. Тут все так пробензинилось — взлетим на воздуси, не успевши крякнуть. Ну, спокойной ночи, славные соколы…
Он вытянул ноги, подумав, что хочет — должен хотеть — спать. Но по опыту знал, что закрывать глаза нельзя — по меньшей мере, сразу. Иначе все тут же начнется сначала — все, что было сегодня, и даже страшней, потому что «киноленту» увиденного и пережитого можно прокручивать снова и снова. Больше того, она будет прокручиваться перед глазами сама, вне желания, да еще и во сне, и тогда увидятся все подробности, которых он днем разглядеть не успел или не смог, но которые сохранила опасно услужливая память, а это уж и вовсе…
В нескольких метрах глухо ворчала волна, тихонько усердно гремела галькой, хлюпающе возилась в камнях в угрюмой темноте; смутно серели застрявшие в невидимых скалах мокроватные облака.
Привалившись спиной к «ноге» шасси, зябко вздрагивая и ежась в колючем влажном холоде, Кузьменко полулежал под крылом, слушал, как рядом мерно раскачивается тяжеленный океан, и не мог понять, что, кроме неизвестности и нечеловеческой усталости, не так, что не дает покоя. Ведь, похоже, на острове действительно никого нет. Что, учитывая времечко и место, не так уж плохо… A-а, ветер! Ветра же нет. Облака есть — причем неестественно, несуразно, просто нарочито даже низкие. А ветра — вовсе нет. Так бывает? Да еще посреди моря-океана? Нет. Так не бывает. А главное — шлюпка, не уплывшая по речечке. Бред…
Он отвалился от стойки и боком, на локте, высунулся из-под гондолы шасси, глядя вверх, на едва заметный в ночи скальный хребет. Да, нету ветра. Черт-те что… Он сплюнул, поморщился от боли в порезанной распухшей губе и залез назад.
Старшина спал в своей кабине, привалившись к борту щекой. Во нервы у мужика… Но лицо его судорожно подергивалось, веки дрожали; он то и дело насморочно всхлипывал, глубоко и жадно прерывисто вздыхал.
Сэнди неслышно и недвижно лежал в белейшем ворохе купола, выпростав поверх шелка руку с длинноствольным черным пистолетом. Фонарь его кабины был распахнут.
Капитан поерзал задом на круглых голышках, умащиваясь, и наконец, полулежа на спине, пристроился затылком на резиновую, истертую до лохмотьев покрышку колеса. Мотор, оказывается, еще не остыл, и от него даже сюда, вниз, домашне и надежно тянуло густым сладковатым теплом, перебивающим чужую горьковатую сырость и стынь океана, одуряющий аптечный дух выброшенных волнами водорослей и коряг, царапающую глотку влажную прель каменной пыли и песка. Хорошо б костеришко спроворить — однако до утра, до окончательной ясности, придется-таки потерпеть…
Кузьменко, не вставая, перетянул кобуру на живот так, чтоб она удобно, под рукой, провисала между бедер, не глядя расстегнул ее и, наполовину вытянув ТТ, положил ладонь на привычно ребристую, надежную массивную рукоятку пистолета. Поразмыслив, он решил, что тянуть безнадежно — спать все равно придется, обреченно вздохнул и закрыл глаза.
А в ушах одной тяжелой бесконечной нотой гудела тишина. И ни огонька, ни звука, ни движения в мире, кроме едва уловимых, не фиксируемых сознанием звуков и шевелений безжизненного крохотного островка в безжизненном полярном океане…
…Кузьменко вздернул голову. Кто-то что-то сказал? Позвал? И вообще — где он? Что происходит?!
Он вскочил и гулко грохнулся затылком о мятое серо-голубое, заляпанное черным маслом и пушечной копотью брюхо самолета — спасибо, шлемофон мягкий, выручил башку…
Вокруг был сплошной непроницаемый туман. Капитан, все мигом осознав, быстро огляделся из-под крыла, крутнувшись на затекших, подламывающихся «полусогнутых». Обрыва рядом, черной туши судна впереди, океана — ничего не было. Все окутал серый утренний туман. И даже не туман, нет; все словно растворилось в недвижно-ровном, мягком серо-голубом свечении.
Трясясь в ознобе от сырости и тяжкого недосыпа, Кузьменко неловко на еще не повинующихся ногах торопливо пробрался под остывший мотор и настороженно замер под лопастью, вслушиваясь, вглядываясь в этот странный, никогда им не виданный свет.
Да. Впереди кто-то был. Там, возле невидимого отсюда корабля.
Разговор? Возня? Осторожное буцанье по железу? Как отдаленное радио: живые неживые голоса, несуществующие люди. И какая-то странность, очень неприятная странность во всем — явственно ощутимая двойственность происходящего: и есть, и нет. И точное предощущение — до жути! — уже слышанного…
Он оглянулся вверх. Американца отсюда видно не было; затылок насморочно сопящего старшины чернел над бортом кабины. Комбинезона не было — наверно, сам Попов ночью, окончательно задубев, укрылся им, сырым. Спят орлы, спят. Бери их голеньких — ведь сам-то как?
Кузьменко медленно вытянул ТТ и, по колени погружая ноги в качающиеся на месте волны мокрого серо-голубого дыма, осторожно шагнул вперед. Оглушительно хрустнул невидимый камешек; он поморщился, осторожнейше оттянул тугой затвор и, всей ладонью прижимая ствольную коробку, чтоб не лязгнула, взвел пистолет — но патрон, ложась в ствол, все-таки звонко-раскатисто щелкнул. Капитан обмер и пару секунд стоял не дыша. Услыхали? Нет? Тихо. Вовсе тихо. Может, оно и плохо…
Он сбил на затылок шлемофон, чтоб лучше слышать. Ох, тихо… Ну, капитан? Будить ребят? Ждать хоть дуновения ветра? Но ведь туман — для всех туман. Ты тоже невидим. А времени нет, вовсе времечка нету. Значит, вперед? Ведь, случись чего, ребята услышат. Да и вообще, может, померещилось — тут, видно, и не такое примерещится…
И все уже решив, он оглянулся напоследок. Его «ил» грузно и спокойно темнел за спиной. Надежный, прочный. Сколько ж мы с тобою, братан, прошли, а? Рядом длинно зашипела невидимая волна. Тихо простонал-пробормотал во сне Сэнди. Где-то скрипнула галька. Не-ет, кто-то там все-таки есть…
На полпути он перевел дух. «Ил» зыбко утопал в туманной мути. А впереди уже проступала сквозь нерезкость грузной расплывчатой массой темная высоченная стена. И там, за той стеной, были люди. Во, тихо! Ага, отдаленно лязгнула металлическая дверь; кто-то протопотал мягкими быстрыми лапками — как ребенок! — по гулкому настилу; и ощутим в недвижном воздухе запах — какая-то мерзкая горечь с привкусом старой, давно застывшей копоти…
Кузьменко едва не чихнул — но вовремя ухватился грязной, ободранной ладонью за лицо и замер, вытаращив красные, опухшие глаза. Справившись с собою, он задавленно нутряно всхлипнул, выдохнул, смахнул холодный пот и двинулся дальше. Шаг… Второй… Все. Борт. Пришел.
Черная мятая сталь. Ободранные до окалины листы обшивки. Выбитые каким-то сотрясением заклепки. И заклепки целые. Мощные вмятины. Блевотного цвета натеки застарелой ржавчины на рыжий сурик. Ну, и дальше?
Он задрал голову. Туман… Туман, в котором теряется эта могучая стена. Но… Ну-ка, ну-ка!
Не веря себе, он приложил ухо к мертвенно-стылому металлу, вслушался — и, вздрогнув, инстинктивно вскинул пистолет! Там, внутри, в нескольких сантиметрах от его лица, тоже замерло и тоже слушало — его слушало, капитана Кузьменко! — живое. Он словно видел того, за бортом, — темного, мягкого, прыгучего и очень-очень сильного, и было от того жутко, кололо под сердцем, покалывало тонкими иголками затылок и вдоль позвоночника, и он знал, твердо знал невероятным, никогда доселе не представимым ощущением, что его самого тоже видят. И еще — запах, тот странный мерзкий запах…
Не сводя глаз с глухой обшивки — словно глядя в темное, непрозрачное для глаз стекло, он отстранился, судорожно сглотнул и, неприятно касаясь плечом вросшей в остров стены, медленно двинулся к корме корабля — туда, где из замедленно-ритмично то приподнимающейся, то опадающей воды торчали оголенные мелководьем, искореженные, в выбоинах и рваных вмятинах широченная округлая лопасть винта и перо руля, и откуда можно было бы попробовать влезть наверх, будучи прикрытым кормовым подзором.[71] Странно — тот, за бортом-стеной, вдруг тихо пропал, бесшумно и мгновенно сгинул в какой-то тьме; Кузьменко облегченно перевел дыхание, лишь в этот миг обнаружив, что, оказывается, почти не дышал — мешал тот, темноликий. Тьфу, да почему темноликий? Во чертовщина…
— А туманец-то уходит, — прошептал он. — Шевелись, герой…
Он осторожно вошел в зашипевшую газировкой воду, подобрался к нависающему ржавому кринолину[72] гребного винта и, сунув пистолет за нагрудник комбинезона и стараясь не сопеть, подпрыгнул и подтянулся наверх. С трудом, едва не сорвавшись сапогами, он тяжело вскарабкался на колючий от коррозии кронштейн кринолина; балансируя, аккуратными шажками передвинулся к рулю, передохнул, рассчитанно откачнулся — и точным прыжком перемахнул на свернутое набок ржаво-ободранное перо руля, ухватившись за баллер.[73] С сухим шелестом просыпалась под каблуками ржавчина, мертво скрипнуло железо. Он сунул руку под «канадку», нащупывая пистолет, — и замер, похолодев: рядом, в полуметре, откуда-то сверху длинно пролетела и с плеском плюхнула внизу в волны струя воды, будто наверху выплеснули чашку. Не дыша, он вжался под подзор, весь изогнулся — и тут вдруг раздалось:
— Эй, Саня! Ты где? Командир!
Крик ухнул эхом в скалы, раскатисто запрыгал по камням и пропал в глубине острова. Кузьменко кошкой прянул к баллеру и вывесился на левой руке наружу, готовый стрелять. Но было тихо. Тихо! Все разом смолкло!
Захрустели по гальке быстрые сторожкие шаги, из редеющего тумана почти бегом выскочил Попов, размахивая ТТ, сразу увидел командира и уже раскрыл было рот, но Кузьменко, сделав страшные глаза, мотнул ему пистолетом вправо; стрелок, захлопнув рот и пригнувшись, боком метнулся под борт и пропал за его изгибом.
Теперь они слушали вдвоем. Но было тихо. Странно тихо. Опасно тихо. Потому что нечто мешало, сбивало с толку, что-то было опять не то, опять неправильно, и потому… Ах да — чайки! Чаек же нет! Почему? А если есть, то почему они не заорали на крик старшины? И еще одно — о чем капитан боялся думать, но что лезло под руку: куда девался тот, внутри судна, — если был вообще?..
— Сань! — едва слышно окликнул капитана невидимый ему стрелок. — Слышь, Сань? К машине?
— Дуй! — хриплым полушепотом прокричал капитан. — И пушки — на «товсь». Они как раз сюда смотрят. Чуть что — пали, не глядя. Абы шороху дать! Готов? И-и раз… И-и два… И-и-и… Давай! — И он вывалился на руке наружу и вскинул вверх пистолет, не глядя, как старшина спринтером рванул к штурмовику, как, гремя сапогами, враз взлетел на крыло и боком ввалился в кабину.
Вынырнувший неожиданно из-под брюха самолета Сэнди, рвал из запутавшейся под курткой кобуры «кольт». Попов даже не успел сообразить, как парень со сломанной ногой смог сам там очутиться, — он уже лихорадочно открыл вентиль пневматики, сбросил предохранитель и рванул рукоять перезарядки оружия. Коротко в тиши шипнул сжатый воздух, цепно брякнули в крыльях звенья подачи выстрелов, эхом раскатился над пляжем сдвоенный звонкий лязг захлопнувшихся затворов пушек.
Туман почти рассеялся. Даже слишком быстро рассеялся, как-то сразу, словно распахнули занавес. Отсюда, из кабины самолета, уже отлично просматривался сквозь прицел не черный — серый в еще плывущих редких лентах мороси длинный борт-стена корабля. Выше темнели когда-то, вероятно, шарового[74] колера массивные надстройки, покосившаяся несуразно толстая короткая мачта без вант с опорами врастопырку, утыканная непонятными выпуклыми ажурными решетками и длиннющими штырями; тяжко провисали ржавые леера, толсто-пушистые от коррозии и мохнатых наростов. Прицел самолета действительно глядел точно в борт — вернее, в надстройки этого безжизненного, странного, неизвестного, непонятного проекта, назначения и национальной принадлежности корабля, какой-то дикой силой выброшенного на сушу почти целиком — только корма сидит в мелкой воде, нос же уперся в скальную осыпь. Кстати, вот там-то и можно наверх — по откосу, и оттуда — на палубу; правда, наверху окажешься мишенью в тире, но… Ага! — Сашка рысцой бежит туда!
Где-то внизу под кабиной завозился Сэнди; размахивая громадным своим пистолетом и что-то бормоча, он боком, как краб, сноровисто отбежал на четвереньках под обрыв и, лихим перекатом перемахнув гряду камней, шумно обрушился за ней на гальку — и исчез, затих там, выставив поверх валуна поблескивающий ствол. Ого! — вдруг сообразил старшина. — Это что ж он так — со сломанной-то ногой? Да ведь на парне и шины-то вчерашней нет? Лихо! Но то все потом, потом…
А Кузьменко уже вскарабкался по осыпи к нависающему над ним фальшборту и, согнувшись за ним пополам, уперся рукояткой ТТ в планширь и замер, оглядывая открывшуюся ему носовую часть корабля — бак и лоб надстройки, готовый стрелять.
Но врага не было.
Вообще никого не было. Была только очень голая, ржавая и очень грязная железная палуба.
Ребристый фальшборт всюду помят и ободран. Леерные стойки сбиты как тараном. Туман ушел, и возникший ветерок, тихо посвистывая в странном кургузом рангоуте и изодранном такелаже, чуть раскачивал пушисто обросшие лишайниками, что ли, штаги. Кузьменко выжидающе разглядывал черно-слепые стекла ходовой рубки, в которых мыльно отражались лежащие на топе мачты облака, мертво задранные в равнодушные небеса несуразно тонкие стволы спаренных артустановок на широко разнесенных крыльях-барбетах надстройки, всматривался в пятнисто-серую от грязи стальную дверь шкафута. Он видел даже отсюда, что она намертво заржавела, приварилась коростой лет, что судно мертво, что оно действительно давно покинуто — и понимал, знал, чувствовал, что на него смотрят. Да. Опять — то же самое. Тот же тяжелый, сквозной, прожигающий взгляд. Кожу — не кожу, а душу! — буквально саднило, жгло этим взглядом. Взглядом снисходительного выжидания с прищуром сквозь прицел. Ла-адно. Посмотрим…
Он демонстративно неторопливо выпрямился в рост над бортом, расслабленно опустив руку с пистолетом. Н-ну и?..
И — ничего. Ничто нигде не шелохнулось. Все так же мертвы глухие окна рубки. Не скрипнула ни одна дверь. А ржа, оказывается, разъела даже круглую раму вертушки-стеклоочистителя лобового стекла… Тьфу, да что ж, в самом-то деле! Ведь нет же, нету — никого здесь нет и давно не было. Мертво тут все!
Он вскочил на планширь, секунду-другую выжидающе постоял на нем — и длинно прыгнул на палубу. Гулко, как в бочку, громыхнули каблуки тяжелых летных сапог; он упал на четвереньки и, злясь на себя и все-таки не устояв перед рефлексом осторожности, шустро пробрался к барабану якорь-шпиля и присел за ним. Хватит, ребята, побаловал я вас мишенью — и хватит, мы люди военные и мы на войне… Где-то глубоко в низах, ухая, прокатилось и замерло эхо — далеко, пустынно, железно и мертво.
Кузьменко послушал, подумал, зло сплюнул, рывком встал — и, не сгибаясь, буцая подковами, широко зашагал по палубе, на которой почему-то валялись разбитые ящики с выпирающим гнилым склизким барахлом, металлические проржавевшие банки с вылинявшими, расплывшимися когда-то разноцветными разноязычными наклейками, какой-то другой ломаный, битый, сгнивший и одинаково гнусный хлам. Он осторожно продвигался вперед, неотрывно глядя в мрачно-пустые окна надстройки и широко отмахивая шаг пистолетом. Под ногу попал кроваво-красный баллон «минимакса» — капитан отшвырнул его сапогом, и баллон с пустым лязгающим дребезгом покатился по палубе. Капитан проводил его взглядом: что, был пожар? Он быстро огляделся — да, вон еще «минимакс», причем со сбитым вентилем. Вдоль ватервейса пятнистым от гнили и какого-то омерзительного мха навек застыл толстенным дохлым удавом истлевший до черных дыр рукав пожарной магистрали. И всюду — всюду рассыпаны опорожненные, полупустые и полные обоймы 23-миллиметровых снарядов к зенитным автоматам, тысячи стреляных гильз, сотни снарядов — с гильзами почему-то давлеными, измятыми; драное тряпье; битое стекло и какие-то пустые бутылки; когда-то оранжевая сгнившая «капка»; лупоглазый противогаз, мертвым идиотом тупо пялящийся из разодранной сумки; рассыпанная упаковка вздувшихся консервов без маркировки; невероятно ржавая ракетница неизвестного образца, переломленная в затворе; смятая каска неведомой армии; раздавленные цивильные очки; непонятно истерзанный, будто изгрызанный, коричневый ботинок, гнилой и дикий.
Дичь. Жуть.
Смертная безнадега катастрофы, запустения, погибели…
И было что-то во всем этом непостижимом хаосе неуловимо закономерное, логичное, что-то очень внутренне сообразное — что-то, от чего колючий озноб острыми ноготками вкрадчиво и пробующе притрагивался к спине, тихонечко дышал в затылок.
Кузьменко передернул плечами, отгоняя наваждение, оглянулся назад, на невидимый уже из-за борта самолет, и всем телом нажал длинную, изъеденно-колючую от коросты рукоять дверной задрайки. Скрежетнули дог-болты, замок с ломающимся железным скрежетом провернулся, и он рванул на себя тяжеленную стальную дверь. Гнусный дрожащий визг разъеденного металла; тоскливо заныли петли; на голову сухо посыпалась ржавчина.
Он постоял, привыкая к открывшемуся тихому полумраку, и осторожно шагнул через высокий комингс в коридор шкафута.
С прогнившего подволока, дымным облачком испустившего пробковую горькую пыль, недвижно свисал на рваных проводах расколотый плафон освещения. Капитан чуть качнул его стволом пистолета. Тоненько-жалобно звякнуло стекло. От кого ж тут так отбивались, а?
— Крепко рванули… — пробормотал он. Голос прыгающе укатился в коридор. Капитан присел на корточки и, сощурясь, провел пальцем по плотно-мягкому слою не то влажной пыли, не то сухой плесени, сплошь затянувшей зеленый настил палубы. Так, значится, и вправду — никого? А? Так, значится, — галлюцинации? Ну-ну…
Он решительно встал и, пнув сапогом полуоткрытую недвижную дверь, вернулся на палубу и подошел к борту. Там, на берегу, было все то же. Темнел самолет; за желтоватым полупрозрачным отсюда бронестеклом маячила голова стрелка; Сэнди выжидающе торчал башкой из-за кучи валунов под обрывом.
— Эге-ге-ей! — капитан помахал им пистолетом. — Серега! Давай сюда!
Все-таки сжимая в опущенной руке пистолет, он быстро взбежал по трапу на ростры, уверенно поднялся на спартдек и оторопел. Все шлюпки были на месте. И разъездной катер — тоже. Они покойно стояли на кильблоках под добротно и грамотно обтянутыми чехлами, шлюпочные тали намертво вржавели в блоки…
Изменившись лицом, Кузьменко почти бегом кинулся на ют, где могли храниться спасательные плотики. Так и есть — там они и лежали на скошенных металлических рамах-опорах, готовые в любой момент к сбрасыванию — только сбей стоп-анкер.
Кузьменко перевел дух. За спиной загремели по ступеням трапа сапоги Попова. Капитан шмыгнул носом и отер рукавом холодную испарину со лба.
— Фонарь взял? — резко спросил он, не оглядываясь. — Пушка с собой? Ну, вперед.
Он рванул дверь тамбура в машину. Она раздраженно-тоскливо завизжала и нехотя отвалилась, открывая темный холод. Кузьменко сунул пистолет за отворот куртки и, лязгая подковками сапог, ловко полез по скоб-трапу вниз, в сырую могильную тьму вертикальной шахты, старательно думая о том, что судно действительно давно покинуто и пусто. Попов, сидя на корточках, светил ему сверху. Спустившись вниз, капитан подождал его, и уже вдвоем они вошли из стоячего мутно-серого полусвета колодца шахты в гулкую огромную пустоту машинного отделения, затопленного недвижной, стылой, мертвой чернотой.
Они стояли рядом на верхней решетчатой площадке, как на балконе. Желтоватый луч фонарика, подрагивая, перепрыгивал по застывшим механизмам, высвечивал пустоты, иссеченные штрихами-зигзагами холодных магистралей и трубопроводов, мерцал радужными искрами в давно высохших лужах соляра и масла, проваливался в бездонные черные колодцы под пайолы.
— Свалкой пахнет, — прокомментировал старшина. «Ахнет, ах нет, ахнет!» — громыхающе ответило железо.
— Кладбищем… — угрюмо буркнул под нос капитан и распахнул боковую дверь. Открылся ломано уходящий в темень коридор. Нарочито гремя сапогами в недовольно затаившейся тишине, они подчеркнуто уверенно зашагали в темноту: капитан — впереди, Попов — за ним, светя фонариком. За первым же поворотом серо висел тусклый свет — из замызганного иллюминатора, расколотого строенным зигзагом. Капитан через плечо ткнул стволом пистолета в трещину:
— Оно не колется даже взрывной волной. А?
Попов молчал, быстро шаря призрачным лучом фонаря в темной глубине коридора.
— Так, ладно… Двинули в жилую палубу? Вон трап вроде наверх. Свети под ноги, чтоб глазу не мешать.
Коридоры. Площадки. Пронзительно-скрежещущий в затхлом, неживом визг бесконечных дверей. Тошнотворно устоявшаяся холодная сырость. Желто-зеленая короста коррозии на поручнях трапов. И тьма…
Они шли по каютам — каютам непривычно комфортабельным: двух- и трехместным, с индивидуальными санблоками, продуманной изящной планировкой, ласкающей глаз отделкой переборок и дверей, настоящей мебелью. И всюду, всюду — запустение, плесень, муть застоявшегося, безнадежного давнего страха, удушья давно сгнившей смерти…
Койки, заправленные и развороченные. Выпотрошенные чемоданы и чемоданы запакованные. Висящая вперекос на одной петле люто выдранная дверца туалетного шкафчика. Черепной оскал зверски разбитого зеркала над треснувшим зеленым умывальником. Свороченный набок кран над нежно-розовым куском мыла, ссохшегося до трещин. Ощерившийся разодранной молнией штормовой сапог, одиноко стоящий перед койкой, сплошь усыпанной по коричневому шерстяному одеялу в крошку битым стеклом лампы-бра. Когда-то желтая пустая, склизкая от гнили кожаная кобура в выломанном из палубных зажимов кресле перед письменным столом; револьвер с пустыми патронными гнездами открытого барабана дико торчит ржавеющей рукоятью вверх из чем-то прожженной дыры в крышке стола. Гнуснейший вонючий лишай, свисающий из аптечки над, похоже, заблеванной подушкой. Истлевшие до неразличимости фотографии под раздавленным стеклом на переборке. И в каждой каюте — висящие справа у двери необычные красные спасательные жилеты-куртки с красочными неизвестными эмблемами-гербами на груди. Кузьменко многозначительно качнул один стволом пистолета. Старшина молча пожал плечами.
Они неторопливо спустились в твиндек. Под каблуками скребуще захрустело битое стекло, дребезжали в темноте какие-то жестянки, в спертом горьковатом воздухе тяжело воняло застарелой гнилью. И вдруг капитан вскинул врастопырку локти и замер в полушаге, шепотом выкрикнув:
— Тихо!
Попов с разгону налетел на него, ушибся носом о локоть и выщелкнул фонарь. Мгновенно обрушилась тьма. Замерла недвижно.
Секунда. Две… Пять…
Черная недвижимая тишина…
Нет, глаза уже что-то различают…
Они разом перестали дышать — и разом услышали. Нет. Не услышали. Ощутили. Да. В себе ощутили. Очень цепко и очень остро. Словно команду в ночи.
Кто-то тут был. Рядом. Живой. Умный. Все видящий. И очень опасный. Потому что они услышали его. Почувствовали. Поняли. Он, оказывается, все время был с ними, был здесь, но они не видели его, не слышали, не ощущали — и он это знал и потому опасен — столь опасен! — не был. Но теперь…
Кузьменко беззвучно перевел дыхание, большим пальцем на ощупь, осторожно, чтоб не лязгнуло, оттянул тугую «собачку» курка и, вжимаясь спиной в переборку, медленно двинулся боком вперед, приподняв взведенный пистолет. Старшина — фонарь уже в левой руке, пистолет в правой — за ним чуть сбоку в двух шагах.
Темно. Ох, темно! Вроде поворот… Да, коридор поворачивает вправо — и как будто тупик. Дверь? Дверь. Широкая, на весь проем. И оно — рядом. За дверью? За переборкой? Нет. Оно — тут. Рядом. Везде. Замерло — как ты. Выжидает — как ты. Затаилось — как ты. И смотрит, вслушивается — будто в тебе, будто из тебя. Дышит твоим придушенным дыханием. И, как ты, изготовилось… И уже очень — очень, очень! — опасно и сильно.
Спину не знобит — спину жжет опасность. И не спину — но душу, душу рвет когтями! Дыхания нет — в горле шерсть. Тянущий подлый холод под животом. А за дверью — возня, живая! Суета, писк, поскребывание, стуки, топотание… Ни на что не похоже — детсад пополам с голубятней в ночном кошмаре. Черти, ведьмы, свадьба упырей…
Капитан вывернул локоть, отер поблескивающее во тьме лицо и шепотом приказал через плечо:
— Распахну — свет. И падай влево в угол. Готов? Н-ну…
Он взялся за длинную рукоять задрайки, вздохнул, присел, прерывисто выдохнул — и мощно рванул дверь на себя. Она с диким визгом и гулом развернулась — и в коридор рванулась могучая волна душераздирающего крика! Слепяще вспыхнул луч фонаря, в нем черно-огромно заметалось великое множество визжащих, ухающих, свистящих теней, что-то жутко-летучее, подвывающее прыгнуло враскорячку в лицо капитану и, промазав, тупо бухнулось в сталь переборки — и он, сорванно-тонко заорав, нажал курок. Оглушительный, тысячекратно усиленный железной коробкой судна выстрел грянул в черноте, сине-алая вспышка призрачно высветила орущий мечущийся отсек — и, подрубленно упав на колени, капитан открыл огонь! Над плечом пушечно ахнул ТТ стрелка — раз, другой, третий. Гром пальбы, отраженный металлом, бил в уши звенящей кувалдой; полуослепшие, оглохшие летчики что-то сорванно орали, всаживая пулю за пулей в мятущиеся жуть и мрак; вспышки молниями высвечивали прыжки каких-то летучих чудищ, звенели гильзы, высверками летело стекло, грохотание стрельбы заглушал ужасный предсмертный разноголосый крик; рикошетируя, тяжелые пули с паровозным гулом метались по отсеку, высекая длинные бледно-розовые искры, и в клочья рвали, убивая, что-то живое и страшное.
— Стой! — вдруг заорал Кузьменко. Старшина сбоку оторопело глядел на здоровенную седую крысу, медленно-тяжело раскачивающуюся в желтом трясущемся свете; ее хвост застрял в расщепленной пулей доске какого-то ящика, передние лапы судорожно подергивались, тело извивалось слабыми толчками. Капитан просипел:
— Свети!
Крыса подыхала, капая густой черной кровью с растопыренных когтистых лап. Еще одна, разорванная пулей почти пополам, валялась на палубе под ней. Где-то дальше во тьме агонизирующе жалко взвизгивало.
Луч быстро перепрыгивал с ящика на ящик, со стеллажа на стеллаж, проваливался в темень каких-то полок и выгородок. Да ведь это же продуктовый склад — корабельная провизионка!
Кузьменко, сразу устало ссутулясь, будто стыдливо помотал оглушенно головой и брезгливо отшвырнул носком сапога трупик раскинувшей огромные неприятно кожаные крылья летучей мыши — наверно, той самой, которая кинулась ему в лицо, ослепленная фонарем. Где-то в глубине бесконечного твиндека-склада еще пищало, еще шла какая-то быстрая, убегающая суета.
Провизионка оказалась огромной, явно рассчитанной на долговременное снабжение сотен человек, причем снабжение очень даже не бедное и со вкусом. В глубокую темноту уходили ряды закромов и стеллажей; в неверном свете фонаря инейно-остро мерцали тысячи термосов, бидонов, банок, ящиков, коробок, мешков; некоторые упаковки были вскрыты, какие-то ящики разворочены самым варварским образом, причем явно людьми; всюду на настилах виднелись бугристые кучи крупы и муки, слежавшихся в камень, гнойно блестящие, скользкие даже на вид горы когда-то овощей или фруктов, щерились ржой дыры разъеденных коррозией металлических баков.
Морщась от удушающей горькой, сладкой, уксусной, сивушной и черт-те какой еще вони, они, помаленьку отходя от шока, хотя в ушах еще звенело, медленно шли вдоль стеллажей, завороженно разглядывая застывший карнавал всех мыслимых цветосочетаний, эмблем, надписей, указателей, полуистлевших ярлыков и этикеток.
— Сколько ж тут жратвы, а… — голос Кузьменко прыгающими железными раскатами гулко укатился в темноту.
— Думаешь? — Попов странно поежился, озираясь.
— Да не трясись — никого тут нет. Один крысятник. Развелось тварей на халяву… Ну-к, свети сюда. Да уж, не пропадем. Пока то да се, берем это, это… Вот еще держи банку. Ага, «пузырь» симпатичный. И это. И пока все. А там видно будет. Так, мы отсюда шли? А, вон же та дверь.
Они провернули за собой дог-болты, аккуратно запирая дверь, когда Попов вдруг встал.
— Ну? — осведомился уже от поворота к трапу Кузьменко.
— Там холодно, — тихо сказал Попов и зачем-то оглядел подволок, словно ожидая там кого-то увидеть.
— Ну, ясно. Не Коктебель, — усмехнулся капитан.
— Нет, Саня. Там же очень — очень! — холодно.
Кузьменко, задрав брови, глядел на него через плечо.
— Иней, — медленно пояснил Попов. — Иней же?
— А снаружи везде плюс? А ведь плюс… — пробормотал Кузьменко. — Стоп. Плюс.
— А у нас — дома, южнее! — у нас мороз.
— Еще какой.
— Да. Еще какой. А тут снежинки нету. А — здесь? На складе?
— Лихо…
Они поглядели на дверь. Друг на друга.
— И вообще — что это было? — почти прошептал Попов и не удержался — опять зачем-то оглядел подволок, но ничего, кроме старо свисавших черных проводов, там не увидел.
— Тут? — ткнул пальцем в дверь Кузьменко.
Попов молча медленно покачал головой. Капитан быстро огляделся, подергивая щекой, сплюнул демонстративно под ноги и щелкнул языком:
— Хватит! На покуда навоевались. Упремся — разберемся. А я так вообще — на пустой желудок не воюю. Война войной, а обед — по расписанию.
Выход они нашли как-то почти сразу, не плутая в переходах, и скоро выбрались из тамбура на полубак. Наверху был все тот же серый полусвет, глухо гудел враскачку океан, низкое драное небо свисало на скалы скисшим молочным киселем пополам с мокрой пылью.
— Интересно, тут солнце бывает? — задрал голову Кузьменко. — Вроде и не завтракать — обедать пора. Во, глянь — во дает союзник! Это ж как он туда забрался? — Капитан пронзительно свистнул и помахал яркой толстенькой бутылкой. Сэнди залихватски свистнул в ответ и вскинул из передней кабины штурмовика сцепленные руки.
— Прикрывает! — засмеялся старшина. — Как-никак свои!
С шумом прыгая по камням, они по осыпи почти съехали на пляж. Сэнди из кабины самолета приветствовал их широчайшей «американской» улыбкой.
— Виски! — преувеличенно-обрадованно заорал он, поймав на лету подброшенную бутылку, — и вдруг брови его взлетели на лоб, он испуганно-ошарашенно уставился на русских.
— Ты чего? — забеспокоился капитан, снизу ухватил Сэнди за руку с бутылкой и прочел издали по складам: — У-и-ски. Ну? Нормальный ход. Там всякого добра полно — не пропадем. Еще и с собой прихватим.
— «Сантори»! Японский виски. Японский!
— А, один черт — отрава. Зато без нормы. Так что сами себе…
— Да нет же! Виски — это наше, только наше, американское! Не бывает японс…
— Что? Что?! — шепотом крикнул — нет, ужаснулся Попов и мгновенно, как от пощечины, вспыхнул бело-красными пятнами по лицу. — Что ты сказал? Ты сказал?!
— Ну, да. Виски — чисто американская штука, и… — Сэнди задохнулся, его глаза, сверкнув, кошачьи запрыгали. Он понял. Он услышал себя и Попова. — О, Боже… Что, я? Язык?!
Кузьменко, тоже сообразив, ухватился за плоскость.
— Во даем, — прохрипел он. — Ай да мы. Хотя неважно…
— Что неважно? — тупо осведомился Попов, моргая.
— А все неважно, коли крыша поехала.
— Так он — по-русски? Или мы — по-английски? О, ч-черт…
— Не-ет, я… Я не хочу! — неожиданно жалобно сказал Сэнди, жалко вздрагивая, с треском отодрал винтовую пробку бутылки и присосался к горлышку. Задрав головы, русские завороженно слушали гулкие глотки и внимательно наблюдали снизу, как прыгает мальчишески-острый кадык парня. Наконец он оторвался от бутылки, жадно всосал в себя воздух, икнул и ошалело выдохнул:
— Виски, ребята. Настоящий. Настоящее некуда. О, Господи, — опять я говорю по-ихнему. Или нет, они по-нашему… — он перекинул бутылку капитану, опять опасно икнул и, лошадино мотая головой и сопя, полез задом наперед из кабины так, будто отродясь не то что не летал, а и самолета не видывал. Капитан завороженно наблюдал за ним. Попов не сводил глаз со сломанной — ведь сломанной же? — ноги. Сэнди грузно съехал на животе по плоскости наземь и, спотыкаясь, пошел к воде. Спотыкаясь — но не хромая! Оба русских остолбенело глядели ему в спину. Он встал у воды на колени и, задрав зад, сунулся головой в накатившуюся волну, шумно фырча, кашляя и постанывая.
Кузьменко шепотом выматерился и ухватил зубами горлышко; виски желтоватой струйкой стекало по его темно-небритому, мятому подбородку, а Попов, не мигая, глядел на тонкие свежерозовые шрамы — шрамы! — порезов на шее и лице командира. Тот глотал торопливо-взахлеб, косясь одним глазом на Сэнди. Парень же, смачно прополоскав рот морской водой, выбрался обратно и, жалко криво улыбаясь, сказал, вздрагивая то ли от холода, то ли от собственного голоса:
— Но все равно вы ни черта не поняли. Японского виски не бывает. А как говорить — плевать. Язык… Хотя я сам теперь не знаю. Или знаю?.. Японский виски! — он свирепо сплюнул.
— М-да… — сказал Попов и отобрал почти опорожненную бутылку у капитана. — Вляпались. Как жить будем? — он неумело глотнул, подавился и закашлялся.
— А ты тут жить собрался? — вдруг злобно осведомился Кузьменко. — А ну, дай сюда. И разводи огонь. Да, костер, туда-растуда-перетуда! И за работу! Все за работу!
— За работу? — изумился Сэнди, забыв про язык.
— Давай! — заорал Кузьменко старшине. — Зимовать тут собрался?! — он грохнул кулаком в плоскость и выругался от боли.
— Озверел? — вежливо полюбопытствовал старшина.
— Да нет же на картах этого острова! — Кузьменко тряс ушибленной рукой. — He-ту! И никаких коммуникаций вокруг! Мертвая зона, глушь! Еще не понял? Мы тут одни, сами! И никто, никто нам не поможет, и уже завтра — зима, ночь, полярная ночь! Теперь все понял?! — Он перевел дух, шумно захлопал себя по карманам, нашел портсигар и уже почти спокойно сумрачно осведомился: — Слушай, а Ковтун как, упал или успел взорваться? Как загорелся, я видел, а вот…
— В эсминец он врубился, — мрачно ответил старшина. Сэнди щелкнул капитану зажигалкой. Попов покосился на ногу парнишки: — И что, совсем не болит?
— Сам врубился? Навелся? — капитан мощно, аж с хрипом, затянулся, глядя на серый в мертвенно-сером свете мертвый корабль.
— Да кто ж его теперь знает? А тут, кажется, дело серьезное…
— С ногой? Да не-ет! — мотнул головой Сэнди. — Порядок.
— То-то и оно, что уже порядок. С нами всеми… — пробормотал Попов.
— Ладно, мужики. Готовим костеришко и харч, — капитан отшвырнул папиросу, проводил окурок взглядом и неожиданно осведомился: — Слышь, Серега, курево-то экономить не будем? Но только там-то мы его вроде не видали, а?
Костерок из сухого легкого плавника, в огромном количестве выброшенного океаном за все былые годы на берег, прозрачно-желто трепетал на солоноватом ветерке, едва залетающем сюда, под каменный откос-козырек, где устроились летчики. Во вскрытой жестянке, пристроенной на камнях, душисто побулькивала закипающая тушенка. Сэнди римски-лениво возлежал на боку, разглядывая принесенные с корабельной провизионки и сваленные в кучу банки, и бурчал под свой конопатый нос что-то недовольно-вопросительное.
— Нас ведь даже искать не будут, — хрустя соленой галетой, говорил капитан. — От союзников мы оторвались, наши погибли все. Значит, должны выбираться сами. Ну, полосу-то мы наладим, справимся. А с двигуном вот… Если только масломагистраль — может, и сделаем, лишь бы картер цел. Хрен с ним, с ружьем…
— С каким ружьем?
— Цивильный ты человек, старшина. Ну до крику нестроевой. Я про приборы.
— А ружье?
— Анекдот есть такой. Добротный старый армейский анекдот. Но тут — дети.
— Ага! — смешливо хихикнул Сэнди. — Которые знают, что дети берутся в капусте.
— Ладно-ладно! Да… Так вот, и приборы — всмятку. Вроде моей морды. Кстати, как я гляжусь? Наверно, кошмарная жуткость?
— Да уж, — хмыкнул Попов. — Даму в переулке не порадуешь. Стекол в шкуре хоть не осталось?
— Да вроде нигде не колется… Так вот, без приборов я как-нибудь дотяну, был бы компас и часы. Мы ж славяне: два лаптя влево, пол-лаптя вниз — и в точку. Вот горючку где взять? В баках и на такой костеришко не хватит. А масло? — Он перевалился на живот, прикурил от костра и задумчиво уставился в немой корабль, сощурив глаза. — Вот кто мне покоя не дает. Жратва эта американская непонятная…
— И французская. И немецкая. И еще какая-то, — вставил Сэнди.
— Во-во, еще и немецкая. Виски эти японские. Бредятина… Но ты когда-нибудь видал такие пушки? Во-он на крыле ходового мостика — башенка. Два ствола, калибр хиленький — но почему на стволах шланги? Газоотвод? Тормоз? Охлаждение? И из чего ж надо сделать такие шланги, чтоб они при стрельбе не сгорали?
— Далась тебе артиллерия… — Попов попробовал с щепочки мясо, осторожно подув. — А славненько! Дай-ка ту банку на сугрев, ага… — он летной рукавицей аккуратно снял жестянку с огня и тщательно устроил ее в гальке. Сэнди тем временем кое-как воткнул в тлеющие угли вторую банку. — Ну-с, господа робинзоны… Слышь, Саш, а общение наше тебе дает покой? Наш общий язык? Хлеба нет, жалко…
— Сразу видно — академик. Объясняю для шибко ученых. Там торчит два ствола примерно тридцатого калибра. Но в такой башне расчет не поместится. Даже один человек. А надо минимум три. Это я авторитетно заявляю. И снизу им нету места — вишь, барбет и опоры легкие, отсюда видно. Значит, что?
— А что? Слушай, полководец, ты пищу принимать будешь? Сэнди, подать генералу большую ложку. Самую большую и самую генеральскую.
— А то, что эта пукалка должна иметь, во-первых, сумасшедшую скорострельность, и, во-вторых, огонь ведется вообще без расчета.
— Как?! — подавился галетой Сэнди.
— Не знаю. Дошло, академик? И, главное… Ч-черт, горячо же! Главное: почему этот парень не может понять, что написано на ихних же банках? Нас он понимает, а банки свои не понимает. А? Усекаешь, академик?
— Да уж… — буркнул Сэнди. — Хотя не все тут банки мои, как ты говоришь. Но в принципе мне и вправду плевать, на каком языке я говорю, но…
— Не уверен, — пробормотал старшина. — Вот как раз это весьма занятно. И, возможно, поучительно…
— … но вот жратва эта, и вообще… Да еще и моя нога! — Сэнди покачал головой и, подкинув на ладони красочную высокую банку, показал этикетку капитану. — Вы хоть знаете, что принесли? Хлеб!
Кузьменко уставился на жестянку.
— Хлеб, хлеб, о котором вы жалеете!
— Консервированный хлеб? — недоверчиво улыбнулся Попов. — Но это невозможно, малыш. Что угодно можно закатать в банку, но только не хлеб.
— Вот именно, — неожиданно грустно согласился Сэнди. — Все — но не хлеб. Но и это не все. Что это за фирма? И почему здесь указано, что он готов к употреблению? И вот сюда смотрите, парни, сюда! — здесь указана дата, до которой он вполне годен. Ну? Год одна тысяча девятьсот — ну?
— Чушь! — заявил Кузьменко. — Обещанка хозяина, обман трудящихся.
— Да. Точно. Обман. Но даже и такого обмана в наше время не было! — и Сэнди швырнул банку в груду других.
Попов задрав брови, шепотом повторил: «В наше время. В наше…» — и покосился на капитана. Но тот, похоже, ничего не услышал. А Сэнди — тот, похоже, не понял, что сказал. «Впрочем, понял ли я сам, — подумал старшина. — Мне, например, куда интересней, почему эта посудина целехонькой на камнях сидит, на таких камнях — и такой целехонькой. И еще интересней — где ее команда, если все корабельные плавсредства на месте, кто и зачем устроил весь этот невероятный и безобразно-бессмысленный, и жестокий дебош по всему судну, причем явно театрализованный, и… Стоп! Театрализованный? На показ? Для кого? Ведь не для тех же, кто был и ушел — но для тех, кто придет — для нас, например. Значит, можно предполагать…»
— Порубаем — перезарядишь УБТ, — предупредил Кузьменко, деловито жуя. Попов непонимающе глядел на него. Капитан что-то перебил, не дал додумать, сообразить что-то крайне важное — и притом очевидное. Настолько очевидное, что его и заметить почти невозможно. «Значит, речь шла о театре и о тех, кто придет, так что надо все быстро, но без суеты». — Сэнди, знаешь что такое быстро в авиации?
— Выпить и закусить? — гоготнул Сэнди.
— Слушай, малыш, а не рано ли ты такой умелец? — капитан сощурился на смешно покрасневшего парня. — Ладно-ладно, не размахивай ушами… Так вот, делать что-то быстро — это делать медленные движения без перерывов между ними. Проникся? То-то. Кушай, сынок.
Скинув куртку, Кузьменко, с головой скрывшись под капотом, возился в моторе, стоя на накатанных валунах. Попов с помощью Сэнди выволок из крыльевых патронных ящиков пулеметные ленты и, оттащив их под карниз обрыва, свалил в кучу, возле которой они вдвоем и принялись за работу: Сэнди сноровисто и умело разряжал звенья, а Попов набивал патронами ленту к своему пулемету, уже снятому с турели в задней кабине.
— Кажется, приплыли! — глухо, как в бочку, прогудел под створками капота капитан. Потом из-под его локтя вылетел кусок трубопровода и брякнулся на гальку, разбрызгав черное масло. — Дюрит[75] — в хламье. Водорадиатор, выходные заслонки, патрубок всасывающих — все в смятку. «Флаки»[76] точняк в туннель охлаждения запердолили — умеют же, с-сучье… Инертный баллон[77] — вообще вдрызг. Помнишь, перед самым сбросом в кабине рвануло? Как он нас не поубивал… Считай, граната в штанах взорвалась, а яйца все равно под задницей, а не на затылке…
— Одно слово — сталинские соколы… — пробормотал под нос старшина. Сэнди беззвучно затрясся, от смеха мотая головой.
— А маслобак почему-то цел — аж дивно, — растопырив черные руки и пригибая голову, капитан выбрался наружу и, спрыгнув задом наперед, опустился на валун рядом с неспешно работающими старшиной и Сэнди. — Прикури-ка мне, малыш, а то ты чего-то быльно развеселился… Значит, рассказываю. Для такой драки повреждения нормальные. Но то — если дома. А тут… Ага, спасибо… — Щурясь, он затянулся углом рта и принялся с хрустом обтирать руки вощеной бумагой от галет. — А тут ни инструмента, ни тебе ЗИПов, ни… Корче, так. Подзарядился маленько? Ну, тогда бери свою молотилку и пошли.
— Куда?
— Где нет конвая. Во-он туда. На горку высокую.
— А пулемет зачем? — поинтересовался Сэнди.
Капитан длинно поглядел на него и негромко ответил:
— А затем, что не верю. — Он внимательно оглядел пляж и скалы, задержал взгляд на темной туше судна. — Нет. Не верю. Ничему и никому.
— Точнее, мне?
Капитан непонятно усмехнулся.
— Да если б… Вон ему! — он неопределенно мотнул головой — но опять быстро глянул на корабль. — Тут все живое. По живому ходим. Ощущалом чую. Ты знаешь меня, стрелок, — я всегда чую. А тут… Даже задница орет: «Гляди, хозяин, ой, гляди, куда сажаешь!» Будь оно все неладно… Сэнди, мы идем к твоей машине. Может, поживимся чем. А ты паси тут… Ладно-ладно! Тут попаси, говорю! Еще неизвестно, где чего… Крепко гляди по сторонам, малыш, ох крепко! И держи это под рукой, — он кивнул на торчащую из-под куртки парня кобуру. — Ну, все. Всех впускать, никого не выпускать. Старшина, подъем?
Через пять минут Попов, волоча наперевес тяжелый пулемет и то и дело цепляясь пулеметной лентой за камни, едва поспевал за капитаном, громыхая, как грузовик.
Надувная лодка была там, где они ее вчера вечером оставили, — все так же перевернутая и прижатая от ветра парой камней. Переправившись вчерашним порядком, они вскарабкались наверх и остановились — внимание привлекла покосившаяся неподалеку в скалах ржавая то ли мачта, то ли стрела метров десяти-двенадцати; на верху ее торчало что-то вроде разбитого рефлектора, с ржавого цоколя которого обвисал оборванный лохматый кабель. Ни дорожки, ни тропы туда видно не было.
— Эту штуковину ты вчера видел с воздуха? — тихо спросил капитан.
— Неужели только вчера?.. — так же тихо пробормотал Попов.
Капитан пожал плечами и, приказав старшине устроиться с пулеметом («… и занять огневую позицию!») на скальном гребне, двинулся к изломанному истребителю, бессильно и жалко распластавшемуся под ними на камнях. Осмотрительно выбирая путь меж острых валунов, капитан неторопливо спустился на площадку — да, действительно, явно руками сработанную площадку средь каменного хаоса. Он медленно, озираясь, обошел самолет; пнул ногой приподнятое крыло — горестно скрипнул полуоторванный элерон, тихо качнувшись сломанной рукой на вывернутом суставе-шарнире; постоял над обнажившимся, сорванным капотом мотора, высматривая, куда натек бензин; и, наконец, уполз под мятый фюзеляж.
Попов наблюдал за ним поверх ствола УБТ. Тоскливо посвистывал ветер в камнях — единственный звук на этом Богом забытом острове. Прямо напротив, через площадку, змеисто тянулся по откосу, исчезая наверху под зубасто выпирающим огромным сине-черным утесом, какой-то толстенный кабель или моток кабелей. Дальше, за гребнем, виднелась еще одна мачта — вроде той, первой. И нигде ни кустика, ни деревца — нигде ничего живого, лишь изредка темные пятна мхов. Чаек — и тех не слышно… Но, если есть сооружения, должны же где-то быть и жилые постройки — ну пусть не жилые, пусть не складские, не рабочие, но хотя бы пещеры, ангары, ниши в скалах, в конце концов!.. Но где ж Кузьменко? Тьфу, черт, как знобит — но вроде и не холодно…
Наконец капитан как-то уж очень торопливо выбрался из-под самолета и полез наверх, сердито озираясь. Добравшись к Попову, он уселся рядом, вытащил папиросы, нервно опять огляделся и раздраженно сообщил:
— Во-первых, надо отсюда сматываться. Вообще — отсюда. И чем скорей, тем лучше.
— Почему?
— Потому что не верю в Бога. А заодно — и в черта, — он торопливо затянулся, будто ждал кого-то, и посмотрел вниз. — Видал кого?
Попов вопросительно молчал, ожидая продолжения; капитан буквально вращал глазами, зыркая по сторонам и глотая табачный дым взахлеб.
— Есть, ох, есть тут что-то. Прям мозги набекрень… Кто-то щупает, зар-раза, прям сапогами в башку лезет — я же чувствую, я слышу…
— Это «во-вторых»?
— Во-вторых? A-а… Во-вторых, я там карты искал. Думал, в ихних картах есть чего-нибудь про тут. А их нет! Понимаешь? Нету у союзника карт в кабине.
— Ну и что?
— Так ведь у него их и с собой нет! Чего ж он, без карт летает? Дальше. Какая-то та же зараза лазила в патронные ящики — левый вскрыт чем-то вроде… — Он передернулся. Он боялся! У Попова тягуче заныло под ложечкой. Это было страшно — напуганный Кузьменко. Неубиенный капитан Кузьменко, который жив четвертый месяц, летая на полярные конвои. А капитан отшвырнул высосанную папиросу и поежился. — И еще, из кармана на правом борту — ну, где рация, — пропала ракетница. А сама рация… Чего?! Что это?! — вскинулся он, хватаясь за кобуру. Вдали замирал тоскливый и жуткий железный стон.
— Где? А, ветер это, ветер! — лихорадочно сообразил, нет, придумал, как схватил, объяснение Попов. — Конечно ветер. В мачтах, видно, тех. Чего ж еще…
— A-а, ну да, ну да… Так вот, рацию пытались снять. Не сняли. Тогда разбили. Спалили. Не, сварили. Во — сварили. Точняк.
— Как это?
— Как яйцо — вкрутую! — вдруг диковато хихикнул капитан. — О Х-Хосподи… Сходи-ка сам погляди. Это вроде по твоей части. Ты ж мне кой-чего про свои подвиги довоенные рассказывал — вот и сходи. Общнись. А в случ чего — без разговоров и тем паче героической пальбы-стрельбы дуй сюда. Не боись — ты знаешь, как я владею инструментом, — и он похлопал грязной ладонью по незыблемо прочному и надежному стволу пулемета.
Опрокинутый «вогаук» вблизи был страшен: на его теле не было живого места. Металл всюду изорван; все залито черным маслом; искрится битое стекло; по-человечьи болезненно торчат пропоровшие обшивку ребра нервюр и стрингеров; из разорванного брюха выпирают запекшиеся черным, коричневым и синим внутренности сорванного с подмоторной рамы двигателя. Старшина неожиданно вспомнил жизнерадостную улыбку симпатяги Сэнди — и ему стало жутко. Потому что сегодняшний шустрый, душой нараспашку парень и этот вот лежащий на спине вчерашний истребитель никак не совмещались, не укладывались ни в какие представления и мерки о живом.
Вот оно, левое крыло. Обнажившейся сломанной костью торчит кверху остаток «ноги», снесенной ударом стойки шасси. А нижняя плоскость… Плоскость действительно разрезана — жутким каким-то ножом, тупым и огромным. Не человеческим ножом. И нож тот был… раскаленным! Не удержавшись, старшина тихонько присвистнул и осторожно потрогал иззубренно-вывернутый, окаленный, в копоти и страшных каплях-потеках металл.
Спираль пулеметной ленты, уложенной в патронном ящике, вскрытом тем же ножом, была цела; масляно-золотисто поблескивала латунь гильз. Старшина потянул на себя ленту, патроны тихо стучаще загремели. Он отбросил ее — и тут взгляд его привлек носок[78] крыла. Тот, кто разодрал это крыло, пытался выдрать торчащие из амбразур стволы крыльевых «браунингов». Когда же ему это не удалось, он тем же ужасным резаком попросту заплавил пулеметы.
Старшина задрожавшими пальцами осторожно, будто боясь обжечься, провел по спекшимся буграм металла — высокожаропрочного металла! — пламегасителей скрюченных температурой стволов. На лбу его выступил пот. Он нервно оглянулся. Высоко над камнями успокоительно торчало длинное дуло родимого УБТ.
Попов вытащил из кобуры пистолет, засунул его на живот под ремень и, устроившись на спину, забрался под фюзеляж. Та же жутковатая — и опять явно кем-то придуманная в своей театральности картина была в кабине. Панель радиооборудования действительно спеклась непостижимым образом в какой-то ноздреватый шлакообразный ком. А светло-зеленая матовая окраска борта под этой панелью даже не закоптилась — не то что не обгорела! Действительно — уму непостижимо…
Приборная доска была смята вчерашним «капотом»[79] — но компас оказался цел. Попов вытащил нож, отвернул им два крепежных винта, сунул под гнездо дуло ТТ, нажал, что-то скрежетнуло — и в руки, вернее, на грудь вывалился целехонький компас. Он, извернувшись, затолкал компас в правый карман куртки, пистолет сунул опять под ремень, огляделся в поисках якобы пропавшего планшета с картами — и вдруг…
И вдруг, лежа на спине в полутьме под чужим разбитым самолетом на Богом забытом островке, бывший молодой ученый, подававший большие надежды в той позабытой, нереальной отсюда, разноцветной довоенной, и доарестной, и допреданной (ох, если б и вправду позабытой и нереальной!) другой жизни, Сергей Попов, ныне старшина авиации Северного флота, стрелок-радист самолета «ИЛ-2», сдержанно-мрачноватый, очень осторожный в словах и жестах с сослуживцами мужик по дружеской кличке Серый, — он вдруг увидел себя. Увидел! Очень близко и ясно.
Он едва не потерял сознание. Он действительно смотрел на себя сверху вниз — лицо в лицо, глаза в глаза! В упор, с расстояния не более десяти сантиметров. Он рассматривал свои же расширившиеся, непостижимо трясущиеся зрачки в шквально нарастающем ужасе; всматривался в подергивающуюся, бесшумно вскипевшую потом серую кожу лба; он отчетливо слышал свое судорожное, рвущееся дыхание; с потрясающей, вгоняющей в смертный холод усмешкой — он даже на миг позабавился собой, перепуганным до безумия, до звериного вопля! — он с этой чудовищной усмешкой увидел, как сухо зашевелились надо лбом враз ставшие какими-то пепельными всегда почти черные волосы. И он ясно, хладнокровно-точно понял, что сейчас, в следующую секунду — умрет. Тот он, который внизу. Который… Да! Который не знает. Его сердце — нет, не сердце, а мозг — выключится. Без боли, судорог и надежд. Словно мгновенно, бесшумно сгорят, отключатся предохранители — и мозг просто сплавится в ледяной мгновенной вспышке — как сплавилась эта вот рация…
Вот она, эта секунда, — подходит. И…
И — все. Мгновенно все кончилось. Исчезло. Пропало. Как не было. Как оборвавшийся сон.
Он обессиленно уронил голову затылком на ребристый камень и закрыл глаза, переводя дыхание и боясь вслушаться в себя. Но не было ни страха, ни жути, ни паники — нет. Не стало самой возможности даже допущения страха. Потому что исчезло не просто видение — исчезло само ощущение видения, или воспоминания, или взгляда. Словно кто-то, испугавшись того, что нежданно натворил, отключил изображение. Так перещелкивают канал работающей на прием радиостанции: щелчок — и прежний звук, сей миг еще живой, голос, чьи-то боль и радость, и страх, воспоминания и надежды — все, все — сама жизнь! — мгновенно исчезают. Но было и что-то новое, неведомое, никогда никем доселе не испытанное, непривычное — да что там не испытанное, непривычное! — невероятное, просто невозможное! И все-таки, все-таки очень знакомое, настолько знакомое и родное, что влажнеют глаза. И он не вспомнил, а кожей, сердцем, всей своей усталой, отупелой, вымотанной бедами, неверием и холодом душой ощутил тихое поглаживание маминой теплой ладони по плачущим — плачущим? — глазам, и тихо-тихо мамино дыхание прошептало в его мокрую щеку, в крохотное, трепещущее, наивное сердчишко, мятущееся под бязевой солдатскою рубахой, под толстенным летным свитером, под мохнатой курткой, под всей его несвежей, пропахшей потом, порохом, бензином и страхом мужской сбруей: — Тихо, маленький мой, тихо… Тс-с-с… Все хорошо, малыш, я здесь, с тобою, и ничего плохого уже не будет, все будет только хорошо, и никогда, малыш, не будешь больше плакать…
Он судорожно схватился всей ладонью за лицо, за глаза — и ладонь сразу стала мокрой… Он едва не вскочил, грохнувшись лбом о нависший кронштейн прицела-«зеркалки», задергался на спине и, нечленораздельно шипя, срывая каблуки, раком лихорадочно выкарабкался из-под самолета — и там, под пустым вязким небом, на едва ощутимом здесь ветерке, сел, как упал, под борт, привалившись спиной и затылком к центроплану.
Его трясло. Дыхалки не хватало — он никак не мог продохнуть какую-то вату внизу горла. Но ведь не страшно! Да, не страшно, не страшно — напротив! Но, может быть, это «напротив» — как раз самое страшное? Боже мой, Боже… Какая немыслимая сила, какая власть…
Неподалеку захрустел гравий. К самолету спускался, размахивая пулеметом, как дрыном, Кузьменко. Увидев компас в руке старшины, он буркнул, стаскивая куртку:
— Можешь выкинуть к едрене-фене. На свою молотилку — я делом займусь…
Старшина проморгался и тряхнул компас. И только сейчас увидел: картушка его истерично крутилась, дергалась, будто гнала ее дурная сила. Компас был неисправен. Старшина тупо глядел на пляшущие в черном белые цифры. А капитан уже с лязгом отодрал полусорванную створку капота и нырнул с головой в мотор.
— Но он же не ломается! — вдруг в бешеной ярости заорал старшина. Кому — в небеса, капитану, себе? — Ты кому мозги пудришь? Мне?! Я профессионал! Он не ло-ма-е-тся! Не может он сломаться! Так не бывает!
— Все бывает, — буркнул глухо из-под железа капитан. — Еще и как. Особенно тут. Во, славный дюритец нашел, уже не зря тащились…
— Ты видел те пулеметы? В крыле, а? Ты хоть представляешь себе, какая нужна температура? И какое пламя? И все беззвучно, да? А эти мачты? Кабель там… Но лодка, лодка-то вчера, и речка та идиотская! Но сегодня я тут…
— Что? Что — тут? — капитан замер, согнувшись, спина его напряглась над мотором. — Ну?!
— Что… Да вот хоть это! Компас этот дурац…
— Да кинь ты эту херотень к чертовой матери! — страдальчески заорал капитан и, подскочив, с грохотом врубился головой в искореженно вывернутую подмоторную раму. — Хорош трепаться! Ты жить хочешь? Хочешь, да? А мне не жить — мне воевать надо! Иди сюда, хватай вон ту железянку и дави — сюда дави, сюда, мать твою об перекресток! Э-эть… — Он с лязгом что-то вывернул и, разглядывая задумчиво добычу, почти спокойно сказал: — Вот что, старшина. Ты, конечно, весь из себя кадровый ученый. Горная академия, экспедиции, диссертации, то, се. А я кадровый военный — хоть и без академий. Так, это подойдет… — Он опять полез в нутро мотора, бубня оттуда: — И я, военный, сразу учуял, чем тут пахнет. А пахнет вонью в штанах. Сначала думал — немцы. Во зараза, и тут разбито. Картер вдрызг — надо ж так машину разложить… Держи здесь, ага… Потом вижу — не, не фрицы. Тогда кто? Америка? Англичане? Нет. На то у нас эксперт есть — Сэнди. Ага-ага, не давай ему проворачиваться… Норвеги там, шведы всякие? Куда им… Но главное — все чужое, гнилое. За версту кладбищем несет — но кладбищем живым. Возня непонятная, опасная… Да держи ж, сказал! Вывод? Поскольку война, и наша зона, и нету на картах, и вообще — надо сматываться до дому. И доложить. И направить. Во, редуктор цел — значит, целы и… Если не в нашу пользу — раздолбать. Вот! Во-от он, милый… — Капитан вытащил черную от смазки деталь и удовлетворенно разогнулся. — Все. Пока идем. Это вот поставим — дальше видно будет.
— Как — раздолбать?
— С воздуха. В дымину. И лучше — одним ударом. Ч-черт, извозился, как маслопупый…
— Ты… Ты спятил?
— Я? На нас фриц каждый день бомбы валит — так нам еще и такую бомбу под боком иметь?
— Господи, о чем ты? Какую бомбу?
— Ты знаешь, кто тут все понастроил? И для чего? Да островишко этот плюгавый даже на метеостанцию не годится! А тогда кто и зачем тут ковырялся? Чего тут — база? Подскок?[80] Склад? Ты ж пушечки те видал — а чего они еще такого могут? А во-во, эти вот стволы, глянь! Как масло потекли! А теперь прикинь, какая у них может быть моща, и все их возмож…
— Да ты хоть понимаешь, что…
— Да. Да, мать твою! Я — понимаю! И без академий! А ты — нет. С академией… А ну, бери свой УБТ, задолбался я твое железо тягать. Нам еще ночлег оборудовать надо. И гробину ту осмотреть. Бдительно. Чтоб во избежание… Ну, все. Пошли…
К ночи, работая как одержимые, они неподалеку от штурмовика закончили под каменным козырьком обрыва, на прикрытой от ветра площадке, расположенной выше уровня пляжа, нечто среднее между каменной хижиной и карикатурным дотом.[81] Во всяком случае, океан сюда добраться не мог, а от чьей-нибудь атаки они были прикрыты почти отовсюду — правда, и ускользнуть в таком случае они тоже не могли, оказываясь в полной блокаде. Ну да выбирать на острове смысла нет — дальше берега не убежишь…
Уже в темноте они разожгли внутри постройки костер, чтоб прогреть на ночь свое устрашающее жилище. Глядя снизу на рвущиеся из входа-лаза языки огня, Попов задумчиво сказал:
— Слушай, командир, а ведь главного-то мы и не сделали…
— Знаю, — хмуро ответил Кузьменко. — Ты про пароход, про рубку и прочее? Знаю… С утречка слазим. Сэнди, пойдешь? Со своим могучим «кольтом»?
— Не советую, — сдержанно возразил старшина.
Сэнди вопросительно-удивленно поднял брови.
— С «кольтом», — пояснил старшина. — И вообще со всякими такими штуками. Очень не рекомендую. Именно — во избежание.
— Оч-чень интересно… — Капитан мальчишески прицелился и метнул в пляшущий переливчатыми отсветами огня проход их «дома» пепельный кусок плавника. Старшина вздохнул.
— Ты «браунинги» те видел? И рацию. Видел, что они с металлом делают? А ведь ночью все тихо было… Понятно, да? И что ж, ты такой вот хлопушкой от них отмахиваться собираешься? Коль уж так боишься — брось оружие вообще. За явной ненадобностью. Потому что они…
— Я — боюсь? «Они»? Кто — «они»?! Да ты…
— Они. В том-то и дело… — пробормотал Попов. — Сам говорил — привидения.
— Я? Я говорил — черт! — капитан насмешливо оглядел старшину. — А привидения — они не материальны. А я — материалист. Н-да, орлы. Довоевались… Ладно, кидаем на пальцах очередь вахты — и баиньки. Во, раскочегарили топку — и не подберешься. Ну-к, раскидаем разом и нормальный ход. Надо отоспаться. Уперед, бойцы!
Их разбудил странный звук — далекий зудящий качающийся гул. Да они, впрочем, и не спали. Сна не было. Было какое-то вроде похмельное, заторможенное состояние полудремы-полуяви, крайней усталости и предельной настороженности к каждому шороху, стуку, посвисту, поскрипыванию, шелесту, — а таких звуков, возникающих ниоткуда, на не просто безлюдном, но вообще безжизненном острове куда больше, чем кажется и чем могло бы быть, и уж наверняка еще больше, чем хотелось бы издерганным, запредельно измотанным людям.
— Эй? — сунув голову в лаз, настороженно-негромко окликнул их Сэнди, дежуривший снаружи под утро. Но капитан, моргая подпухшими глазами, уже стоял на коленях у стены, пригнувшись ухом к щели-амбразуре, из которой тяжело тянуло сырым холодом. Дрожащий звук катился где-то далеко, словно огибая остров по широкому кругу. И звук этот был чем-то настолько странно знакомый, что они даже не поняли сразу, что это… летит самолет. Ну да! Или на высокой скорости идет катер вроде торпедного. Старшина, осознав это, на миг испугался: ведь если на третий — или второй? — день здесь они забыли и не узнают звук авиационных моторов, то что ж будет дальше? Или, хуже того, — теперь?
Но капитана волновали другие проблемы. Подпихнув Попова плечом — к выходу, к выходу давай! — Кузьменко проворно на четвереньках выкарабкался наружу. Старшина пару секунд подумал, беззвучно ругнулся и, с трудом волоча за собой пристроенный на ночь у лаза пулемет, выбрался следом за капитаном.
Гул быстро нарастал, уже приближаясь. Переходил в отчетливый рокот. Да, то был самолет. Причем тяжелый, судя по звуку нескольких — двух или больше — моторов. И он шел на остров.
Разом, как по команде, сдернув шлемофоны, чтоб лучше слышать, они дружно задрали головы, но в проклятой рассветной мути, которая здесь, похоже, другой и не бывает, ничего не просматривалось. Попов неожиданно подумал, что подобного он вообще нигде и никогда не видывал: здесь и ночью и днем ни пасмурно — ни ясно, ни темно — ни светло, ни туманно — ни прозрачно; ветер вроде и есть, но вроде и нет его; какое-то затаенно-ломаное движение воздуха, но никак не океанский — плотный, длинный, ощутимо живой и осязаемый — материальный! — ветер.
— Ни хрена не пойму… — по-птичьи вертя черной всклокоченной башкой, бормотал Кузьменко. — Че за движки? То ли он наддув гонит, дурак, то ли рассогласова… — Он вдруг рывком вытянулся, замер в стойке охотничьим псом, застыв с полуоткрытым ртом, и, запрокинув голову, выдохнул — как скомандовал: — Немец. Фашист, ребята!
Но старшина уже понял и сам — ярко выраженная «немецкая» асинхронность подвывания моторов ЮМО не давала и шанса на ошибку. А «тот», похоже, отвернул — вибрирующий гул затихал, удаляясь… Или нет? Кажется, пошел в разворот… Да. Точно. Возвращается. И уверенно идет сюда.
Старшина быстро переглянулся с капитаном, куснул губу и, подхватив УБТ наперевес, пошел, почти побежал к «илу» — поднять пулемет в турель: ведь пытаться стрелять вверх из крупнокалиберного турельного пулемета с рук — все равно что заколачивать в потолок гвозди отбойным молотком. Очень шумно, очень больно, очень бестолково и, главное, гвозди наверняка будут забиты в собственную голову, но никак не в потолок. Никакие руки не удержат работу тяжеленной 12-миллиметровой скорострельной машины, бьющей вверх.
— Не дрейфь, мужики! Хоть какая-то ясность! — почти весело крикнул Кузьменко. — Эх, м-мать, к тем пушчонкам бы добраться. Ну-к, рвану-ка туда, а ты Сэнди… О, ч-черт! Ло-о-ожись!!!
Из вязкой непрозрачности небес вдруг ужасающе рядом вырвалась — будто лопнула невидимая преграда! — здоровенная трехмоторная «летающая лодка» и, кренясь влево, с мощным оглушающе звенящим ревом пронеслась над ними — над самыми головами; на светло-серых плоскостях ярко пропечатались геометрически-четкие размашистые черно-сдвоенные кресты в белой окантовке; в темной квадратной дыре сдвинутой форточки кабины левого летчика ясно увиделось склоненное к ним белое недвижно-внимательное лицо командира в черном круглом обрамлении туго застегнутого шлемофона.
— «Дорнье»! — истошно заорал Кузьменко в несущемся тугим вихрем реве. — В камни, Сэнди, в камни! — Он крутнулся за старшиной, зацепил сапогом валун и в рост полетел носом в гальку — но, как подброшенный, вскочил и, размахивая руками, вприпрыжку помчался к «илу»; а старшина, добежавший уже до штурмовика, грохнул УБТ на плоскость, упал локтями на носок крыла, сам не зная, на что надеясь; а широкобрюхая, растопырившаяся фюзеляжными крылышками-плавниками остойчивости, «До-24» лихо и грозно шла в развороте; набежавший Кузьменко, хватая низко гудящий воздух разинутым ртом, раздернул патронную ленту, махом воткнул ее в приемник и сгреб обеими руками ствол пулемета, прижимая его к плечу.
— Вон! Вон на… отсюда!! — взревел старшина. — Я сам! Сам, идиот!
— Давай-давай, родимый, я тут, я с тобой! Давай-давай-давай! — почти неслышно кричал капитан в сотрясающем остров низком могучем реве трех моторов. Попов отшвырнул капитана, вспрыгнул на крыло, как пушинку вскинул многокилограммовый УБТ, ввалился боком в свою кабину и, ломая ногти, лихорадочно засадил пулемет в турель; уже защелкивая держатели, он сорванно прокричал в смазанное, перекошенное лицо карабкающегося к нему Кузьменко:
— Сматывайся! Ты же летчик — ты должен домой! Долетишь и расска… — его голос пропал, потонул во вновь накатывающемся невозможном реве. Выпятив подбородок и зная, что это — все, конец, теперь уж точно — все, что через несколько секунд уже ничего и никогда не будет, но все равно он должен сделать, успеть выполнить в один миг, как во всю жизнь, все свои слова, присяги, клятвы и надежды, независимо от того, где была правда и осталась ложь, в чем заключалась вера и самообман, что сотворил страх и где погибло мужество. Зная все, все узнав, вспомнив и осознав в один кратчайший миг, он ударил локтем в черный разинутый рот Кузьменко и, забыв о нем, полетевшем с крыла спиной вниз, неслышно захлопнул крышку ствольной коробки, успел ударом ладони подправить игрушечно-весело блестящую золотыми патронами ленту, привычно передернул затвор — и уже почти спокойно, уверенно-обреченно задрал ствол навстречу стремительно надвигающемуся темному, несуразно расплющенному силуэту, подвешенному под тремя мутно-стеклянными струящимися дисками винтов. Он даже успел разглядеть поверх прицела застывшие по окружности этих дисков тонкие желтые кольца, образованные законцовками бешено вращающихся лопастей; он даже еще прикинул, успеет ли Сашка добежать под прикрытие скалы, не оглушил ли его он своим ударом; и, аккуратно задержав дыхание и плавно поведя спуск, уже выбирая слабину курка, он вдруг со слепящим ужасом осознал: напрасно! Все напрасно! Он же в кабине самолета, и немец целится сюда, и бомбы сейчас взорвут его, а значит, и бессильный «ил» — и в пламени взрыва исчезнет не только он, старшина Попов, исчезнет единственная надежда, единственная возможность для ребят спастись — и вынести, и рассказать, и показать! И в невероятно долгий, растянувшийся бесконечно миг он успел понять: чтоб спасти не самолет как самолет, не русского капитана и не американского лейтенанта — но нечто величественно-прекрасное, в этот предсмертный ревущий миг явившееся ему во всей своей непостигаемой земным существам грандиозности и надежде, исполненной всех его предков и потомков надежде, надежде даже не родившихся его детей и детей его врагов, — он должен убить. Убить! Здесь, где — это сверкнуло ослепительной молнией — убивать нельзя. Убить — и умереть. Ибо убийство прощено не будет. Отныне и вовеки — не будет. И все-таки — убить. Такова цена.
Прицел уперся в нижний обрез черного растущего силуэта, замер — и стрелок мягко дожал спуск. И…
И случилось невозможное.
Боек звонко, слышно даже в этом трясущемся грохоте, лязгнул под металлически ударившим затвором. Осечка. Осечка?!
Попов икающе нечеловечески взревел, рванув рукоять перезарядки; неслышно звякнул о борт кабины выброшенный экстрактором патрон; уже не целясь, всем телом задирая пулемет, старшина опять нажал спуск, и… И — осечка!
«Дорнье-24» закрыла все небо; Попов рычал и бешено рвал затвор; патроны один за другим, вертясь и кувыркаясь, вылетали под ноги, под локти, в лицо — и, наконец, в рептилийно-плоском носу «лодки» беззвучно ударил спаренный пулемет; размазанные белые вспышки завораживающе тряслись перед черным блистером-башенкой; пули синими искрами, разбрасывая гальку и разноцветно сверкающую каменную крошку, дробно рассыпающимся грохотом вспороли пляж, вздыбив вихрящуюся тучу пыли; длинно заныли рикошеты, штурмовик болезненно задрожал под ударами попаданий, а Попов все еще был жив и, привстав, дергал, дергал, дергал распроклятый затвор!
Нестерпимый, пробивающий барабанные перепонки звенящий гром плоскости вращения винтов ударил сверху; «лодка» тяжелой размазанной тенью длинно пронеслась над самой головой; мелькнули мятые, обитые ударами о волны серые листы редана, ржавые пунктиры заклепок и швов обшивки, длинные бархатно-черные полосы копоти на плоскостях за мотогондолами — и «Дорнье-24», грациозно кренясь, пошла в разворот с набором, явно выходя в позицию бомбометания.
Попов оттолкнул УБТ и, глядя туда, где были последние его сотоварищи, неспешно поднялся в кабине в рост. Он уже все знал — и хотел, чтоб они его хотя бы увидели, запомнили; он шептал беззвучно то ли забытые стихи, то ли неведомую ему молитву и не желал видеть разворачивающийся вражеский самолет; он искал взглядом своих товарищей — но видел только Сашку Кузьменко, который, задрав голову, упрямо стоял возле крыла зачем-то с пистолетом в опущенной руке и не видел его, своего стрелка.
Попов медленно вскинул руки над головой и обернулся навстречу неумолимо-стремительно несущейся к нему смерти; он недвижно упер сжатые, бессильные, ободранные кулаки в ревущие небеса и, не мигая, плакал — плакал страшными, ледяными горящими слезами сильного, храброго, умного — и ничего не могущего ни спасти, ни изменить — мужчины. Он не видел, как из-за камней выпрыгнул американец и, спотыкаясь, побежал к русскому на пляже, что-то неслышно орущему ввысь; не видел, как русский оглянулся и вскинул навстречу американцу руки, — он видел лишь, как из-под размашистых длинно прогибающихся крыльев медленно выплыли черные мячи, превратились в четыре бочонка и полетели все быстрей и быстрей к нему, прямо в лицо; запрокинув голову, он следил за ними и ждал, ждал избавления; нарастающий свист резал уносящийся в вечность рев моторов, леденил сердце и океан — и…
И бомбы тяжко ахнули в остров!
И в грохоте разлетающихся камней… разлетелись сами!
В борт штурмовика тупо ударил здоровенный ноздреватый кусок тротила и, мыльно-желто блестя, свалился на крыло и с шорохом сполз по мятой обшивке назад. Дико подскакивая, с жестяным вывесочным дребезгом прокатился к воде погнутый обломок стабилизатора бомбы.
Какие-то тонко звенящие в заложенных ушах секунды Попов полуобморочно-бессмысленно глядел на разбросанные повсюду обломки неразорвавшихся авиабомб. А гул пропавшей было в мути небес «лодки» быстро нарастал — она издалека заходила на бреющем.
Он, опомнившись, прерывисто всхлипнул, прыжком выбросился на крыло, скатился вниз — и увидел, как, нестерпимо сияя сверкающими винтами, «Дорнье-24» вынеслась из голубого морока ниже гребня обрыва и над самой водой пошла вдоль берега на штурмовик. Разом придя в себя, он на четвереньках кинулся под спасительную броню мотора. Гулко застучали с небес пулеметы — и вдруг случилось непостижимое: грозная атакующая машина бесшумно вся вспыхнула белым до радужной слепоты сиянием и мгновенно превратилась в невыносимо жгущее зеленое пламя; неукротимый рев моторов, злобный треск пулеметов, низкий гул вспоротого воздуха, отточенный визг винтов — все пропало, сгинуло, исчезли все звуки; ослепший Попов упал лицом в гальку — и в долгом затухающем потрескивании сквозь ватную глухоту он услышал, как катятся, подпрыгивая, перестукиваясь, камешки на скальной осыпи, и рядом равнодушно-покойно шипяще всплескивает вечная, как само мироздание, все видевшая волна.
Тишина… И ничего не было, и нет, и не будет — ничего, только черная лютая боль в глазах…
Кто-то хрипло застонал в безумной тиши. Попов втянул в себя влажный студеный воздух, приподнялся на руках и, мотая головой от все той же свирепой, пекучей, мозги выедающей боли в слезящихся глазах, выбрался из-под «ила».
Кузьменко широко, ритмично раскачивался на коленях в десятке шагов от него, сипло-стонуще матерился и, прижав к лицу темные ладони, тряс головой; сквозь сжатые его пальцы текли слезы. Сэнди, лежащий рядом с ним на локтях, мял ладонями лицо, мычал, всхлипывал и так же тряс головой, выгибаясь и ерзая ногами от нестерпимого жжения в глазах.
Старшина, слепо растопырив руки, с трудом встал на подламывающихся «чужих» ногах. Голова сразу гудяще заныла, в затылке зазвенело, пляж поехал набок, и Попов с размаху сел; тягучая слюна мигом заполнила рот.
Он, закрыв глаза, посидел, пережидая приступ сладкой тошноты, убедился, что берег вернулся на свое место и прочно утвердился там, и выхрипел:
— Я… Я пошел!..
Упираясь руками в землю, он упрямо поднялся и вновь встал, раскачиваясь и растопырив локти. Он знал, что должен встать. И идти. Потому что… Да! Потому что на него смотрят. И ждут… И он с холодной яростью несломленного, неубитого человека — Человека! — встал. Его занесло боком назад, он поймал воздух руками, устоял и, давя рвотный кашель, уперто глядя перед собой, шагнул вперед. Обрыв справа заскрипел и медленно наискось повалился на него; он, мотнув головой, отшвырнул его, шагнул еще, и еще — и, широко раскачиваясь, тяжелыми хрустящими шагами двинулся к цели. Туда, где только что погиб самолет. Погиб у него на глазах — страшно и невероятно. И погибли люди. Не немцы. Не враги. Кой черт! Не враги — люди. Люди погибли!
Через сотню шагов он остановился. Дальше идти было некуда. И нельзя. И невозможно.
Перед ним в десяти-пятнадцати метрах сверкала расползшаяся и спекшаяся в сине-черно-зеленое пузыристое стекло масса — застывший чудовищными буграми клей. Он замер, качаясь, облизнул сухие горячие губы — и вдруг жутковато захихикал: так это же клей! Это ж приманка для мух! А мухи… Ну, кто тут муха? А? А-а-а, во где фокус! Или… Или вовсе не фокус?
В затылке быстро нарастал тяжелый звон, глаза слезились, адски ломило позвоночник. Это «стекло» — или что там оно впереди — было очень опасным. Непонятно и небывало опасным. От него просто осязаемо несло страшной смертью. И, хотя «оно» быстро гасло, теряло силу, торчать тут не стоило…
Старшина попятился, прикрывая лицо, отворачиваясь, щурясь от накатывающего нестерпимого, но быстро спадающего жара; волны, накатываясь на «стекло», бешено шипели, бурлили гейзерами, лопались ядовитой газировкой, над водой расползался тяжелый удушливый пар.
Попов, изо всех сил сдерживаясь, чтоб не побежать, повернулся и старательно, неспешно, чувствуя спиной взгляд — чей взгляд? самого острова? — пошел к товарищам. Им надо было помочь. Сами они не могли сейчас даже встать — удар, поразивший «лодку», зацепил их, оказавшихся на открытом месте. Тяжело загребая сапогами, старшина шел к ним и знал, что там, сзади — и сверху, и слева, и впереди, и повсюду здесь — живое. Этого он не постигал — пока. Да и не пытался. Потому что сейчас он — но почему?! — ощутил Надежду.
И боялся, обернувшись, увидеть, что Надежды — нет…
Теперь они торопились. Теперь они словно очнулись. И вспомнили, что находятся не на таинственном острове капитана Нэмо из кино, а на обыкновенной войне. Где холодно. Грязно. Тяжело. Где приходится много работать и время от времени… Да. Убивать.
Трагическая атака то ли патрульного, то ли — что вероятнее всего — заблудившегося, как и они, а значит, и потерпевшего, как и они, бедствие немецкого гидросамолета включила вновь счетчик неумолимо застучавшего секундами-жизнями времени.
Война продолжалась! А они посмели забыть о ней — живя ею. Живя подсознательно — сущностно! — ее «смертным боем». И она, злобно-ревнивая тварь, тут же о себе напомнила — страшно и безжалостно. Напомнила, что они даже здесь, даже в полном одиночестве полярного острова, все равно каждое мгновение остаются просто солдатами в мире, в котором ничто не изменилось и в котором ничто не зависит от них, чернорабочих, предназначенных убивать из выкопанных ими же то ли окопов, то ли могил…
Поэтому у них были причины торопиться. Правда, с полярно противоположными посылками у каждого. Командира уже несуществующей эскадрильи, капитана Кузьменко, ждала его собственная, принадлежащая только ему война — большая война личной мести. Бывший ученый, бортстрелок старшина Попов стремился… даже, нет, не стремился, а должен, обязан был опередить безудержно воюющего командира. Сэнди же… Парень был попросту на пределе. На срыве. Он ни морально, ни физически, ни по возрасту не был готов к тому, что обрушилось на него и что еще ждало впереди.
Едва более-менее придя в себя после жуткой гибели (да и гибели ли? — что еще страшнее) фашистской «летающей лодки», они окунулись нагишом в ледяную до ощущения кипятка воду — на том настоял Кузьменко: после того «взрыва» их и час, и два, и три, лишь понемногу отступая, душила муторная обессиливающая тошнота, глушил протяжный звон в затылках и буквально слепила головная боль. И оказался прав. Приняв эту «лечебную процедуру» и запив устрашающее купанье горячим, с костра, виски, они действительно почувствовали облегчение, хотя сразу потянуло в сон. Впрочем, возможно, отчасти полегчало еще и потому, что это почти остыло, море больше не шипело и не бесилось на сползшем в него «стекле», и даже жаром вроде уже не веяло — хотя в воздухе улавливался чужой вкусу живого моря какой-то странный, горьковатый запах, привкус то ли химической лаборатории, то ли короткого замыкания.
Отдышавшись после оздоровительных упражнений, они кое-как перекусили — все по приказу неугомонного капитана, с матерной руганью запихавшего в рот сорванно закапризничавшего Сэнди кусок разогретого ароматнейшего мяса непонятных консервов. Поев и окончательно очухавшись, они деловито перекурили — ни словом, ни жестом не вспоминая о случившемся и даже не оглядываясь туда. Ведь обернуться и вспомнить, сказать или спросить означало попытку понять — а на это сил уже не было. Слишком многое произошло — и явно еще большее ждало их впереди. И они — осознанно, нет ли — но и такой малостью пытались защититься.
В общем, передохнув и все так же не замечая пакостно-клеевого (или какое оно там) застывшего уродства посреди галечного пляжа, Кузьменко и Попов молча двинулись к давно их ждущему кораблю. Сэнди же они заставили остаться у самолета. Без слов поняв друг друга, русские буквально наорали на парня, когда он с мрачным, но мальчишеским упрямством увязался было за ними, и оскорбили его «трусом», заявив, что он, сопляк, попросту боится оставаться в одиночку у самолета — их единственной, между прочим, надежды рано или поздно все-таки выбраться отсюда. Не могли они взять этого славного парнишку с собой!.. Оба твердо знали (хотя один другому ни за что бы в том не сознался): на корабле, как, впрочем, вообще здесь повсюду — но все-таки особенно на корабле — не чисто. Что это означает и что за этим стоит — они толком объяснить не могли бы и себе, не то чтобы друг другу. И ни тот, ни другой не хотел, да и не смог бы, пожалуй, признаться себе до конца честно, что же именно он начал понимать — или сознавать, или попросту видеть. Называть-то можно по-разному, важно — как принимать… Ведь намного легче — безопасней! — поверить в реальность фантастической сказки, нежели признать осознанно, с принятием всех последствий, очевидную фантастику реально происходящего — и происходящего не где-то, или когда-то, или с кем-то, но с самим тобой. Не с кем-то — с собою! Но и того мало. Главное ведь заключается в том, что, признав и приняв, должно ведь что-то тогда делать! Вот именно это, вероятно, и не успел понять Джордано — и погиб на костре; как раз это, видимо, легко уяснил себе Галилей — и спасся… Впрочем, ни о Галилее, ни о законах мироздания, как и о прочих глобальностях, два русских летчика не думали. Капитан искал источник опасности и бензин, Попов же… Вот Попов — что искал он?
На этот вопрос и пытался ответить себе старшина, карабкаясь за простуженно сопящим командиром вверх по шуршащей камешками осыпи и уже отчетливо, со знобким холодком прикосновения осознавая: не «что» пытается он уже искать, но — «кого». Кого же? И как искать (не то, чтоб найти — хотя бы искать!) — искать того, кого не знаешь? И, надеясь на встречу, встретить страшишься… Страшишься, потому что столько раз обманутый и сам обманывавший — теперь поверишь. Поверишь в веру в человека — навсегда Человека. Стоп! Человека? Почему? Откуда вдруг эта жутко-счастливая уверенность, откуда убежденность мгновенного и безошибочного знания? Неважно! Важно — следующий шаг. И твой, и… Да! И шаг тебе навстречу! И будет страшно в открывшейся бездне и величественно-прекрасно — в открытии Мира. В этом и заключена жизнь. Не его. И не в его «вчера», его только надежде и даже «завтра» для всех. Но — Жизнь…
Только бы успеть. Успеть, увидев, не ошибиться, успеть понять — и шагнуть первым…
Они забрались на него опять с носа и, настороженно пройдя все так же мертвенно-заброшенным коридором шкафута, поднялись на спардек. Расположение трапов было в общем-то логичным и потому вполне понятным. Со спардека взошли левым наружным трапом на крыло ходового мостика, с улыбкой разглядев с верхотуры фигурку мающегося Сэнди под бортом притихшего «ила», и на минуту задержались над башней артустановки — она оказалась как раз под ногами. Переглянувшись (да, это явно автоматическое и явно мощное, несмотря на хлипкий вид, устройство наводило на опасливые размышления), они осторожно открыли чуть скрипнувшую серую тяжелую стальную дверь и выжидающе остановились, вглядываясь в тихий сумрак просторной ходовой рубки. Что-то было в ней не то, что-то совсем неправильное… Держа ТТ в опущенной руке, капитан покосился на стрелка через плечо — но Попов упрямо даже не расстегивал кобуру.
— Эй?.. — негромко-осторожно окликнул капитан тишину. Но не отозвалось даже эхо. Тихонько скулил где-то наверху запутавшийся в разбухшем ржавчиной рваном такелаже ветер. Едва слышно посвистывали оборванные ванты. Глубоко под ногами в невидимой бездонности низов замедленными басовитыми вздохами гудело, дрожаще резонируя угрюмо-спокойному прибою, ржавое железо пустых отсеков. Капитан подумал, втолкнул пистолет до половины в кобуру и, шагнув через высокий комингс, сразу, будто натолкнувшись на преграду, замер. Попов шагнул за ним и встал рядом. Он не сразу сообразил, что его остановило — как и капитана. И, глубоко вдохнув воздух корабельной ходовой рубки, на выдохе понял.
Здесь было чисто и свежо. Свежо и чисто.
Мягко зеленел отмытый линолеум палубного настила. В ясные — вполне изнутри чистые! — стекла рубки ровным сияющим потоком лился незамутненный дневной свет. В нем золотистыми искрами тепло мерцала надраенная медь нактоуза. На внутренней рукояти распахнутой двери не было и намека на годы омертвения и безлюдья. Попов отчего-то тихо улыбнулся про себя и неспешно огляделся.
Он был спокоен!
Слева от входа перед высоким, на толстой винтовой «ноге», креслом стоял странный аппарат: некая квадратная тумба с переключателями и верньерами на полированной как будто деревянной панели, на коей покоился металлический ящик, обращенная к креслу скошенная стенка которого представляла собой овальный черностеклянный экран, покрытый масштабной координатной сеткой, нанесенной неизвестным зеленовато светящимся материалом — явно не краской, но и не фосфором. Справа от двери с переборки свисали две уже виденные ими в каютах красные «капки». Прямо, в середине ходовой рубки, торчал штурвал — необычно маленький, с автомобильный руль, но все-таки по-флотски традиционно полированного с медными накладками дерева, и тоже с непонятными тумблерами, лампочками и изогнутой шкалой на колонке. А дальше, по диагонали всей рубки, в правом ее переднем углу, где на походе у крайнего лобового стекла мается вахтенный офицер, свисал с крепления великолепный громаднейший бинокль в роскошном твердом пенале черной тисненой кожи.
Кузьменко вопросительно оглянулся и шагнул вперед. И тут в уютной чистой тишине рубки послышался вкрадчивый хрусткий шелест. Капитан взялся за торчащую из кобуры рукоять ТТ, медленно, вытянув голову, повел взглядом по заставленному еще какими-то неведомыми агрегатами помещению — и вдруг шарахнулся вбок, рванув пистолет! И тут же дернувшийся Попов увидел: за ограждением ведущего вправо вниз трапа стоит прокладочный стол, а на столе… А над столом…
Попов не удержался и положил чуть задрожавшую, мгновенно взмокшую ладонь на кобуру.
Потому что над столом мягко, вполнакала и оттого сразу незаметно, светила — да, светила! — включенная зеленоватая лампа-бра, светила по-домашнему покойно и ровно. Под ней же… Под ней в хрустальной, что ли, пепельнице, массивно разлапившейся на расстеленной на столе карте, медленно корежилась, тихонько длинно хрустя и прозрачно бездымно догорая, бумага. И был то кусок морской карты. И шевелилась в суетно-жадном язычке розовато-желтого огня надпись. И надпись та была… немецкой.
Капитан уставился на шершаво вытершуюся на складках карту побелевшими глазами, и, перехватив его взгляд, Попов вдруг сообразил: карта-то не морская! Карта летная! Типично авиационная: с разноцветными кружками и стрелками радиоприводов и маяков, значками ориентиров, аккуратно продолженных карандашными нитями подходов и секторов. И правый нижний угол ее — вероятно, с расшифровкой или кодом — был оторван.
Пламя в пепельнице затрепетало, потянулось вверх, дернулось — и, бесшумно испустив тоненько-извилистую синюю струйку дыма, угасло. В пепельнице лежала ломкая кучка черного праха…
— Н-ну? — сипло осведомился Кузьменко, косясь на трап вниз и боком, чуть косолапя, медленно выдвигаясь плечом к закрытой двери, сразу за столом слева. — Хозяин? Поговорим?
Звонко лязгнул в тишине взведенный курок пистолета. Никто никак не отозвался. Старшина с усилием, превозмогая собственную руку, оторвал горячую ладонь от скользко мокрой кожи кобуры. Дернув ему подбородком: «Вправо!», сгорбившийся капитан неуклюже, на цыпочках — это в сапогах-то! — обогнул, поскрипывая разбухшими от сырости подметками, ограждение трапа, стол, подобрался к двери, присел на корточки слева от нее, поднял пистолет — и, оскалившись, рванул дверь на себя и вправо!
Попов замер.
Но… ничего не случилось. Дверь легко и бесшумно распахнулась. Капитан чуть выждал, сидя на корточках с задранным ТТ, привстал, сунулся внутрь — и вдруг, утробно крякнув, махом захлопнул дверь и навалился на нее плечом, аж свалившись на колени. Разинув рот, будто ему не хватало воздуха, и кося дурным глазом на Попова, он выхрипел:
— Т-там!.. Ох, матерь…
Это Кузьменко-то? Неустрашимый воинственный комэск?! Попов оттолкнул его бедром, перевел дух и решительно распахнул дверь, отбросив назад капитана. Но войти не успел.
Уже занеся через комингс ногу, он с размаха ударился всем телом об угрюмо сверкающий предупреждающий взгляд — и застыл в дверном проеме в полушаге, с нелепо занесенной ногой.
Сердце булыжником грохнуло в затылок, онемело и свалилось куда-то в холод, вниз.
В глаза старшине внимательно смотрел… живой мертвец.
Он сидел в крохотной каюте за несоразмерно шикарным, темно-полированным письменным столом лицом к двери, откинувшись аккуратнейше причесанной седеющей головой на изогнутый, высокий темно-коричневой кожи заголовник кресла. Под стать столу — солидного, богатого кресла. Темноволосый, бледный, интеллигентно тонколицый моряк. Старшина ошибся: моряк был мертв. Но мертв от ужаса. Невыразимого, чудовищного, древнего, как сама смерть, ужаса. Этот ужас и ударил старшину в двери. Этот навек живущий ужас-предупреждение нетленным, вечным мертвецом смотрел в зрачки старшине.
Толстоствольный хромированный крупный пистолет, тускло посвечивая темным серебром, увесисто покоился на столе под ладонью левой руки дулом к двери. Правая, судорожно сжатая в кулак на сломанном карандаше, рука морского офицера покоилась на чуть смятом, прорванном грифелем посреди строки, листе бумаги — ослепительно, снежно-белом прямоугольнике на темной глубокой плоскости стола. Издали глядя в застывшие в косых скачках рваные строчки, Попов отрешенно подумал: «„Вальтер“. Так называемый офицерский. Дорогая штука…» И тут же понял, что перед ним не корабельный офицер. Перед ним сидел морской летчик. В полной парадной форме люфтваффе. И он, старшина Попов, уже видел этого человека. Но не смерть, не пистолет, не дикость узнавания фарфоро-белого замерзшего лица, не смятый шлемофон (он заметил его краем глаза на толстом ковре справа от стола — совершенно неуместный здесь истертый летный шлемофон), даже не глаза — влажно-стеклянно поблескивающие немигающие глаза этого… этого мертвого человека сжимали душу в корчащийся клубок ужаса. Тут было что-то другое. Что отшвырнуло назад полгода убивающего и убиваемого капитана Кузьменко. Что не давало дышать старшине, скручивая чистый прохладный воздух, чуть пахнущий металлом и линолеумом, в шершавый ком.
Попов, боясь вздохнуть, осторожнейше попятился назад, косясь на валяющийся шлемофон и ощущая в нем какую-то подсказку, намек, ловя ускользающее понимание, открытие, ощущая всем телом, каждой его клеточкой рядом — вот тут, сейчас, в сей миг! — какую-то невероятную в своей простоте и грандиозности разгадку. И, оторвав глаза от шлемофона и взглянув в искаженное смертью странно нелюдское лицо, уже почти понимая, в чем дело, уже почти ликуя и ликующе ужасаясь, он обернулся к капитану — и не успел. Ничего не успел: ни понять, ни сказать, ни удержать. Кузьменко, отшатнувшись всем телом назад, запрокинул черный от шрамов и щетины подбородок и жутко, яростно, рвуще заорал в низкий нежно-кремовый подволок рубки.
— Ты ж здесь, кур-р-рва! Так принимай гостей! Сажай за стол, падаль, — или я разнесу твою!.. — и вскинул пистолет. Боек звонко щелкнул. Осечка. Конечно же осечка, успел подумать старшина. Капитан бешено передернул затвор, с лязгом вылетел и завертелся юлой на линолеуме патрон. Осечка! И еще раз — осечка! Глухо рыкнув, капитан тяжело сиганул через ограждение на трап, сокрушительным ударом сапога вышиб внизу дверь и ринулся в темный проход. Попов же медленно, пятнами быстро бледнея, вытащил свой ТТ, взвел его, крепко упер дуло себе куда-то под ребра в бок и, весь залившись взмокшей потом белизной, спустил курок. Да. Да! Щелчок! Нет выстрела!
Он так же медленно, осторожно, будто взвешивая, отвел пистолет и, странно разглядывая его, прошептал трясущимися губами:
— Вот теперь все правильно. Вот теперь я вам верю…
Снизу донесся звон, тяжкий грохот, рычание.
— Стой! Стой, идиот, не тронь! Не смей!.. — и, размахивая ненужным пистолетом, старшина ссыпался вниз и, нырнув в темный коридор, влетел в какое-то зашторенное от коридора полутемное тесное помещение — туда, где средь тончайшей аппаратуры бушевал Кузьменко; рыча, он крушил выломанной табуреткой-вертушкой экраны, шкалы, индикаторы и лампы; грохочуще валились с переборок полки с документами и книги; летели клочья пленок и бумаг, разлетались испещренные цифрами и значками ленты, карты, таблицы, диаграммы; оглушительно взрываясь, лопалось стекло, трещало дерево, визжал пластик. Попов с маху, в прыжке от тяжелой шторы обрушился на него сзади, опрокинул, отжимая подбородок, на стол и навалился на бьющегося командира всем телом.
— Пус-сти… Пусти, сука! Я им… Пугать? Меня — пугать?! Ну я попугаю, я пугану…
— Кому? — в глаза ему, в зрачки выкрикнул старшина. — Кому, трус? Он тоже струсил! Он — и все они! И ты… А ты…
— Что-о? Что ты сказал?! Я — трус? Ах-х-х ты ж… Ви-ижу, все вижу… Тут мылишься пересидеть, академик х…в? А ваньки там за тебя должны… Н-ну, гнида!
Попов отпрыгнул назад и, кривясь, смотрел, как лежащий локтями на столе капитан вскинул в лицо ему пистолет.
— Не трудись, — зло улыбнулся он. — Тут, теперь — не выйдет. Вообще не выйдет. Я — не крыса.
— Что?! Что… — капитан дергал щекой, тяжелый пистолет плясал в его руке, длинный ствол ходил ходуном. — Не?..
— Да. Как там, в провизионке. Я — человек. Везде. Стреляй.
Капитан, не сводя воспаленных глаз со старшины, вскинул пистолет в подволок и всей ладонью, всей рукой, всем телом даванул спуск. Сухо клацнул металл.
— Правильно. На, — протянул ему старшина свой ТТ. — Проверь обойму. Патрон — в стволе. Я не обманываю. Все проверь. Ну, чего ты? Валяй, пробуй. Бери, ну же?
Капитан, полусидя боком на разгромленном столе, молчал, недвижно глядя на протянутый ему пистолет.
— Даже теперь не понял? Тот, наверху, — он тоже испугался. И умер. От страха. Так он думал, впрочем, — когда думал, что умирает. Точно. Так он и подумал.
Кузьменко молчал, застывше уставившись в никуда пустым взором. Попов же старательно, подбирая слова, пытался объяснить, вновь ловил петляющую рядом, вот тут, разгадку…
— Он ждал их — но с пистолетом в руке. Ты же сам видел. Со смертью в руке ждал гостей. Или сам пришел. Почему? Он видел их? Слышал? И так испугался? А они не тронули его. И теперь подсунули нам…
— Не тронули? — неожиданно оскалился капитан.
— Это — не то, что ты подумал. Это — он сам. Но и не он.
— Кто — не он?
— Тот летчик.
— Летчик? — капитан хрипел севшим голосом. Лицо его стало почти черным от изнурения. Старшина слышал, видел, физически с усилием выдерживал невыносимую тоску, охватившую этого человека. Но он не знал, чем помочь ему. Да и никто не мог бы тут помочь. Он должен был все понять сам. Тут каждый все должен сам…
— Я узнал его. Это тот самый летчик. Который сегодня атаковал нас. Командир той «дорнье».
— Которого сбили?
— Сбили? Ты говоришь — сбили? Ты сам сказал. Кто? Кто сбил?
Капитан молчал, прикрыв обожженные, без ресниц, глаза, все больше и больше сутулясь, сгибаясь под какой-то тяжкой ношей.
— Ведь он умер давно. Нет, не умер. Ты же видишь кого нам подсунули. Нет, не кого, а — что. А тот, настоящий, которого мы видели утром, — ушел. На время. Или навсегда. Туда… — старшина неопределенно взмахнул куда-то вверх, пытаясь все-таки разглядеть глаза капитана. — Это не смерть. И мы еще узнаем, куда он ушел. Но это осталось. И…
— «Это»?.. — капитана начинало трясти. Он опустил голову, мучительно пытаясь справиться с сотрясающей все его тело дрожью.
И вдруг, ощутив высокую, чистую и невыносимо огромную жалость к этому, безусловно, честному, мужественному и гордому человеку, подавленному, раздавленному сейчас не наивным страхом труса — нет, Попов знал своего командира! — но оглушительным крушением понятного, привычного, надежного в несокрушимой простоте мира друзей и врагов, только друзей и только врагов, без условной правды и ясной лжи, точного знания справедливой истины и прямого пути в светлое будущее всего человечества, — старшина шагнул к нему:
— Пошли-ка домой, Саш. Ну к нам, туда. А? Ведь не все же сразу. Ведь я-то уже знал. Самую малость — но знал. Мне легче. А ты сейчас… — договорить он не успел. Кузьменко дернулся, отшвырнул уже обнявшую его за плечо руку, вскинул голову и страшно, вздувая изрезанное синими шрамами, черно заросшее серой ломко-толстой щетиной горло, нутряно закричал в никуда, тяжко взрыдал в невидимое отсюда, из-под тяжелых стальных перекрытий, недостижимое, непостижимое для человека небо:
— Но где же вы?! Сволочи! Ублюдки! Где ж вы раньше были?! Мне же нельзя умира-а-ать!!!
Огонь — живой, земной огонь — тепло и дружелюбно светился и приплясывал в стоячей серо-мутной, затянутой плесенью темноте. Оказывается, опять настала ночь — вернее, то, что здесь можно называть ночью. Попов, когда увидел из окна ходовой рубки костер, подумал, что только первая после посадки ночь (а сегодня, кстати, какая — третья?… надо бы отмечать…) была по-настоящему, по-ночному темной.
Когда они сошли с корабля, опять по-настоящему его так и не обследовав из-за нехватки времени и нервов, ночь, как ни странно, уже наступила. Далеко внизу, у входа в хижину, призрачными проблесками высвечивая дрожащий в розовых отсветах огня черно-багровый склон берега, горел, трепыхаясь, разожженный встревоженным Сэнди костер. Оказывается, они — по его утверждению — провели внутри корабля всю вторую половину дня — во всяком случае, наступление темноты свидетельствовало об этом. Но Попов, как, впрочем, и мрачно-пришибленный капитан, был уверен, что пробыли они там максимум час и нигде, кроме ходового мостика и подвергшейся разгрому злополучной штурманской рубки, не были. Единственное, что еще успел осмотреть старшина, — ту самую крохотную каюту-кабинет за переборкой рубки. Впрочем, осмотреть — что? Труп? Тело? Механизм? Манекен? Старшина не знал, как назвать то, что он увидел, распахнув ту же дверь вновь десять — пятнадцать минут спустя — после того, как они захлопнули ее и безуспешно пытались понять, кто мог зажечь бумагу в пепельнице и как может гореть электрическая лампочка там, где вообще нет электричества.
Впрочем, что — лампочка? Чепуха лампочка! Лампочка, пепельница — все для страшненького антуража, явная пиротехника. Все, по большому счету, декорация.
Потому что оборванная на полуслове записка была на том же месте и та же, записка на немецком языке, которого старшина не знал. Был на столе и пистолет. И шлемофон на ковре. И тело — тоже было. Но… Но оно было другим.
Оно было постаревшим на многие, многие годы. Летчик — именно тот самый летчик — был стар, сед и обрюзгл. Форма на нем истлела и во многих местах, натянувшись на массивно раздавшемся теле, потрескалась, потускневшие пуговицы где выскочили из петель, где вообще отвалились, серебряное шитье почернело от сырости, времени и гнили. За те четверть часа, что двое русских летчиков провели в штурманской рубке и осмотрели надстройку, тело постарело лет на тридцать. Но живее оно не стало… Именно это и было самым страшным, именно это и сбило с толку старшину и окончательно добило Кузьменко.
Это создание — манекен, труп или дьявол его знает, что оно такое сидело в кресле — никогда не было живым! Живым в нормальном, человеческом понимании. Оно было именно оно. Кукла. Но… Но кукла, «живущая» во времени. Больше того. Попов успел заметить, что тело меняло положение. В первый раз он удивительно четко запомнил, зафиксировал фотографической вспышкой шока все подробности. И, войдя сюда вновь, сразу увидел: офицер либо сам вставал с кресла, либо его перемещали. Не так лежит рука на столе, иначе откинута голова, чуть набок смещена спина, и тому подобное. Но самое странное: никакого страха старшина, стоя второй раз перед этим столом, не испытывал. Не только страха, но даже тревоги, беспокоящего ощущения чужого, не было. Ну не боится же ребенок куклы, которую подсунули ему взрослые, верно? Ведь именно для того они ему и сунули увлекательную игрушку, чтоб он забылся, не обращал внимания на окружающих, отвлекся и не путался у всех под ногами, не так ли? Но — только ли так? Ребенок — игрушка — игра… Ну, и дальше?
Где-то тут, в явно простенькой загадке на логику, таилась грандиозная отгадка. Именно в разнице восприятий, реакций, устремлений — в разнице принятия происходящего им, старшиной, бывшим ученым Поповым, капитаном морской авиации Кузьменко и лейтенантом флота США Мак-Алленом и крылось едва ли не самое главное. И попытка все происходящее представить не более чем неудачным или давно забытым, списанным в расход опытом явно не годилась. А уж о случайности — или сумме совпадений — не могло быть и речи…
Старшина ничего не трогал, не осматривал; уже когда они покидали судно, он, покуда капитан ждал его на верхней палубе, быстро вошел еще раз в ту каютку, огляделся, осторожно вытянул из-под старчески дряблой, трупно тяжеленной руки записку — и ушел. И лишь распахнув наружу дверь рубки, увидел, что наступила ночь. Оглянулся — за спиной в дверном проеме недвижно стояла темнота. Вроде ничего странного, если не считать того, что полминуты назад в рубке были светлые сумерки. Но ни тот, в кресле, ни морока со сменой дня и ночи уже ничего не могли ни убавить, ни прибавить. Измученный разум закрылся для изумлений, страхов, паники. Измученный разум спасал сам себя…
Старшина пожал плечами, моргнув от неожиданности, аккуратно защелкнул за собой дверь и неспешно двинулся по решетчатым ступеням наружного трапа вниз, поглядывая на нетерпеливо ждущий костер.
Сэнди при их приближении встал от костра и молча сунул им распечатанную уже бутылку. Попов покачал головой, отведя его руку, и вопросительно протянул ему записку, мельком подумав, что она-то, в отличие от ее автора, не истлела. Американец, сощурясь, вгляделся в перекошенные, корявые буквы, прыгающие в неверных сполохах костра, и пожал плечами, еще не сообразив, не успев сообразить того, что сейчас скажет;
— Кажется, немецкий. Не знаю, впрочем. А что? Вы ее там нашли?
— Мило… — пробормотал старшина. — «Да, паренек еще не понял. Как, видимо, и капитан. Итак, парнишка немецкого не знает, как и не знал. И он, старшина — или уже все-таки вновь ученый? — именно такой ответ и ожидал. Значит…» — Значит, говорить меж собою говорим, а ничего, оказывается, не изменилось?
— Где? — хрипло осведомился капитан, с хрустом сворачивая пробку-башку бутылки.
— В нас. В нас не изменилось. А я думал…
— Ак-кадемик… — Капитан жадно отхлебнул из пузатого горлышка и поморщился, поперхнувшись: — Во гадость!
— Это не гадость, это джин, — улыбнулся Сэнди. — Его надо со льдом, с тоником или…
— Да пош-шел ты… — Кузьменко запрокинул голову, и бутылка гулко забулькала в такт его гулким глоткам.
Попов с тревогой смотрел на капитана. Жалость, сострадание, понимание, вера, безнадежность — что в его мятущейся душе? И в своей собственной? Смятение и страх, и только? Или все-таки вера? И счастье? Да. Да — и вера, и счастье. Потому что теперь он твердо знал — он, уже было сломленный тогда, в те жуткие и бессмысленные дни, все-таки не сошел с круга. Ничто в мире не происходит случайно, само по себе и безрезультатно. И та карусель, на которую он попал, на которую ему удалось, посчастливилось попасть десяток лет назад и на которой он, оказывается, все-таки тогда удержался, хотя искренне, во спасение свое, думал, что слетел, спрыгнул. Теперь, сегодня ясно, что удержался-таки, устоял! — карусель все же не сбросила его, все же он на ней кружится, едет, летит, плывет в сказку — как счастливый ребенок, оседлавший волшебного оленя, и, как ребенок, он страшится глянуть под ноги назад, чтоб не увидеть, что олень-то — гипсовый и что вокруг, за краем карусели, всюду — черная пустота…
А капитан враз опорожнил треть бутылки и, шумно отдышавшись, просипел:
— А жратва?
— Успокойся, Саша, — мягко попросил Попов. — Не так уж все и страшно.
— Ладно, — ворчливо согласился Кузьменко. — Дайте человеку дух перевести…
— Ребята, но все-таки — как мы говорим? — Сэнди был даже не встревожен. Он явно был напуган. — Нет, неправильно… Почему мы так говорим?
— Как? — исподлобья буркнул Кузьменко, взбалтывая бутылку.
— Ну да — как? — Сэнди все еще разглядывал записку, стоя спиной к костру, на котором аппетитно сопело в опорожненном патронном «цинке» какое-то варево.
«Значит, он тоже начал понимать», — подумал старшина.
— А тебе есть разница? — саркастически сказал капитан и грузно уселся на давно выбранный им «свой» валун.
— Но если мы так заговорили сразу, то мы должны теперь и читать сразу по-любому?
— То-то и оно, — удовлетворенно хмыкнул старшина. Он был доволен. Он понял: Сэнди — его союзник. Склад ума у паренька совсем иной, нежели жесткая, целеустремленная, запрограммированная изначально определенность командира. — Вот что, малыш… — он осторожно помедлил. — Сколько нас не было? По времени — сколько мы были там? Очень примерно?
— Там, в той коробке? Н-ну… Часов шесть, не меньше. А что? Кстати, ребята, а чего вы там столько торчали? Я уж тут было…
— Ладно-ладно! — торопливо запихивая галету в рот, быстро, слишком быстро, словно не давая Сэнди досказать что-то лишнее, что-то явно опасное, быстро проворчал капитан. — Рубай давай. А завтра сходишь на экскурсию. Ух, до чего ж там завлекательно! — он хрипло хохотнул и вдруг захрипел, выпучив глаза и раздув щеки. Галетой подавился! Старшина застучал его кулаком по спине и сам не удержался от смеха — смеха злого, трясучего:
— Точно, малыш! Сходи — во насмеешься!
Капитан завертел шеей в толстом меховом воротнике, гулко выкашлял галетину, смачно отплевался и, мгновенно осунувшись, угрюмо сказал — как сам себе:
— Нет, мужики. Не выпустит она нас. Нельзя ей нас выпускать. А меня — уж точно…
— Кто — «она»? — встревоженно покосился на старшину Сэнди.
Капитан мрачно хмыкнул и потянулся за бутылкой.
— Ты устал, Саня, — укоризненно сказал старшина. — И потом, насчет выпивки. Может, тормознешься?
— Эх, ребятки-ребятки, ни хрена вам меня не понять, — горько сообщил бутылке капитан и нежно погладил этикетку. — Чего ты про меня знаешь, старшина? Вояка, мол, капитан, сапог — и точка. А? Угу… А ты, американец? Ты вот скажи мне: за каким хреном вообще к нам вперся? Ну-к, цуцик, поведай, м-м? Наше это дело, пацан. Вся эта война. Понял? Наше! И таким, как ты, нечего в нашу войну нос совать. Вник, мальчоночка?
Сэнди молчал. Сэнди растерялся. Сэнди смотрел на Попова, и глаза его наполнялись отчаянием и ужасом.
А Попов… Попов горел срамом и не мог вымолвить ни слова.
— А ты, стрелок, увянь. Не размахивай ушами. Вижу тебя, насквозь вижу. На-ка, тяпни. Давай-давай, за упокой души своего командира, лихого летчика-североморца.
— Что ты несешь, Боже мой, что ты несешь…
— A-а, так ты и вправду еще ни черта не понял? Тогда — тс-с… — Кузьменко, жутко играючи, помотал снизу вверх грязным скрюченным пальцем перед носом старшины. — А ведь она все про меня знает, сучка. И про тебя, умник, тоже. Зна-а-ет, не надейся! Мне отец все рассказал. Так что ты, святоша, тоже тот еще гусь. Гус-сеныш…
«Плохо дело, — подумал Попов. — Совсем плохо. А Сэнди вон как побелел — аж светится…»
— Боишься? — прищурился капитан. — Спятил, мол, бравый вояка со страху? Полные штаны, мол, натрухал? А вот это видал? На-кось! — бутылка чуть не вылетела из его руки, подброшенной в похабном жесте.
Капитан разинул рот, подумал, мальчишески фыркнул и скептически махнул рукой. И вдруг Попов с болезненной, рвущей душу жалостью увидел, как стар его двадцатипятилетний командир. Как он сед и измучен. Как же ему досталось-то — ни в чем ведь не повинному… Или — повинен? Разве нет вины человека в том, что жизнь с ним творит? Всегда есть, всегда. Так ли, эдак. Знать бы все свои вины — горше тогда, но тем и легче. Не страшно тогда жить дальше — тяжко, но не страшно. А умирать — и подавно, если вины свои ведаешь…
Капитан же зачерпнул варева из «цинка», подув, осторожно попробовал и одобрительно поглядел исподлобья на настороженного парнишку. И Попов в какой уж раз за все свои годы — годы таежных экспедиций и экзекуторских оправданий, любви и партсобраний, надежд и отречений, веры и отчаяния, беды, наконец, всей этой непостижимо страшенной войнищи подивился выносливости и гибкости человечьей вроде слабой до прозрачности души. Вот он… Кто — он? Солдат, мужик, парень? Словом, человек по фамилии Кузьменко. Сколько он за один этот день пережил и выдержал! Но вот сидит, прихлебывает дымное варево и вкусно покряхтывает. А ведь и вправду, с таким, как он, можно пройти все — и победить. Ах, капитан, мой ты капитан… Ведь она кончится, все равно, рано или поздно — но кончится эта распроклятая бойня. И что ж тогда ты будешь делать со своей жизнью, если уже нельзя будет геройски умереть? Ах, капитан, капитан…
Вины наши, ведомые и неведомые… Ну семья — понятно. Паника, поезд, бомбы. Погибла семья — где ж тут твоя вина, разве лишь в том, что не знал и не был там, и защитить не смог. Но вот как он при живых родителях в детдоме-то оказался? Когда-то давно, еще в той жизни, кажется, недели две назад по нетрезвому делу — чего он тогда говорил про отца? Что-то тут есть — во вроде бредовой фразе вновь про отца, произнесенной пять минут назад. Что-то мучает его, жжет изнутри, ест лютым поедом…
— Чего, старшина, так и просемафоришь? — поинтересовался, не поднимая от котелка головы, капитан.
Старшина очнулся, поглядел на свои ладони, едва не черные в темноте, и, усаживаясь, проговорил:
— Скоро по уши навозом зарастем, капитан.
Кузьменко неопределенно хмыкнул и поинтересовался:
— Слышь, Сэнди, а у вас в Америке картошка есть?
— Так ведь это наш продукт, — угрюмо ответил тот, с сомнением разглядывая уже осточертевшую галету.
— Это как это?
— Так ведь к вам в Европу картофель из Америки привезли!
— М-да… Выходит, опять прав наш комиссар, — после паузы сказал капитан.
Американец и старшина вопросительно уставились на задумчиво жующего командира.
— Прав, ясно… Даже с картошечкой союзнички-буржуи надуть норовят.
— Слушай, да первую картофелину еще лет двести тому назад к нам… — почти развеселился старшина, но Кузьменко, как не слыша, гнул свое:
— Надо ж — на любой копейке капитал делают. Вот те и марксизм. На картофельной базе.
Сэнди, едва не разинув рот, изумленно глядел на капитана. Потом перевел взгляд на молчащего старшину — и вдруг, резко в темноте посветлев лицом, негромко сказал — как выстрелил:
— Назад!
— Что-что? — не поднимая головы, поднял глаза капитан.
— Или ты извинишься передо мной, перед гражданином великой страны, которая гуманно помогает вам, или я вобью твою красную наглость в твою красную глотку, — Сэнди выцедил эти слова четко и неспешно, так же неспешно вставая.
Капитан, держа на отлете жарко парящую в ночной промозглой сырости кружку, откровенно издевательски глядел на парня снизу вверх. Сэнди возвышался над костром в багровых сполохах. Попов не успел ни вмешаться, ни даже хоть что-то сказать — капитан ухмыльнулся и негромко увесисто посоветовал:
— Можешь взять свою могучую помощь под яйца и улететь на ней верхом. А заодно засунуть свою картошку себе в зад. Для скорости, — и он громко отхлебнул из кружки.
— А ну встань! — Сэнди широко шагнул вокруг костра. — Вставай, ну?!
— Эй, ребята! Да вы что, мужики? — вскочил между ними старшина. Капитан же неспешно утвердил на камне кружку и принялся подниматься, с тяжелым и грозным предвкушением сутулясь. И старшина с отчаянием понял, что это — не пистолет, который можно остановить. Что это не послушное и бездушное железо. Что сейчас все и случится — и ничего потом нельзя будет исправить. Железо дает осечку. Его можно заменить. Сломать можно! Но человек… Сейчас, в эти секунды, они трое — уже не они. Да, именно так оно все и происходит. И в тот миг они трое — действительно белые лабораторные крысы. Крысы в лабиринте неведомом. Белые — и бедные, напуганные, задерганные, потерявшие путь и разум животные. Твари Божьи, затерявшиеся, заблудившиеся на задворках Божьего огорода… Но ведь живые — но ведь Божьи же!
— Ох-х и устал же я… — жутко улыбнулся черным в дергающихся кровавых сполохах огня лицом капитан. — Раз уж всякая сопливая скотина меня «лечить» вздумала… Я убивал, меня убивали, но чтоб… Ладно. Значит, разберемся, сынок? — И вдруг лицо его залило зеленое сияние; он замер, застыл, глаза его остекленели, в них заплескался зеленый свет, даже не свет — ледяное зеленое пламя. Сэнди отшатнулся, вскинув беззащитно руку к лицу, старшина крутанулся на каблуках — и увидел, куда смотрели застывшие зрачки командира и американца.
Над черными, бритвенно-иссеченными изломами скалами сверкало, стремительно наливаясь мощью, зеленое узкое пламя. Примерно там, где лежал разбитый истребитель («Как раз там, — мгновенно вспомнил Попов, — и торчат ржавые мачты-рефлекторы!»), ударил вверх — нет, не ударил, а просто бесшумно возник остро светящийся зеленым вертикальный огненный столб, быстро, на глазах сжимающийся в тонкий луч пронзительно режущего света; пульсируя, луч наливался явственно ощутимой, жгучей силой, материальной резкостью и сверканием клинка, все выше и выше просвечивал, прожигал ледяным огнем бесцветно-серые, мутные облака.
Трое летчиков не дышали, завороженные. В полной тишине из неведомых подземных недр, из самой преисподней истекал, беззвучно рвался, ввинчивался чудовищной иглой в бесконечное пространство луч; по его нити побежали, дрожа и искрясь, темно-зеленые в белых сполохах-проблесках волны, все быстрей и быстрей. Краем глаза старшина успел заметить, как черно и пусто стало вокруг, все словно накрыла сплошная, непроницаемая, абсолютно пустая чернота, даже пламя костра странно пропало. Лишь мутно-зеленые лица размазанно маячили рядом; пропали звуки, сгинули запахи. Только луч, только его нить зелено-огненным пунктиром дрожала вертикально, строго вертикально. Секунда… Вторая… Где-то глубоко внизу, в глубинных недрах океана глухо ахнуло, вода всплеснула к берегу, невидимому, неосязаемому, отчетливо донесся мощный рывок и грохот опадающего гребня прибойной волны, будто взброшенной далеким взрывом глубинной бомбы; посыпались в темноте, дробно гремя, камни — и… Все. Все мгновенно исчезло. И тут же рядом возникло из ночи пламя костра, заблестела в его прыгающих сполохах металлическим боком кружка, где-то в скальных расщелинах вновь паскудно заныл проснувшийся ночной ветер.
И сейчас старшина мог поклясться, что все эти зеленые секунды острова тут не было — или, наоборот, их самих тут не было — вместе с островом. Действительно не было — так ли, эдак ли…
— Боже ты мой, — прошептал он потрясенно. — Это какая же энергия, какая мощь…
И вдруг рядом коротко простонал, как взвыл, капитан и боком повалился наземь, схватившись за лицо; Попов, упав на колено, едва успел подхватить его, а капитан, корчась, стоном кричал:
— Они! Опять они! У-у, с-с-суки!..
Сэнди подхватил его сзади; вдвоем они усадили командира на гальку; американец, шипя сквозь стиснутые зубы от лютой боли в слезящихся глазах, мотал головой; капитан же, мыча, буквально рвал ногтями взмокшие вздувающиеся веки.
Усадив Кузьменко, старшина схватил кружку и, чувствуя пульсирующее жжение под веками, добежал до воды, спотыкаясь в темноте, и махом зачерпнул полную кружку, заодно сунув в воду моток бинта, который всегда таскал в кармане вместо носового платка.
Вернувшись к капитану, который тихо шипел и шепотом ругался сквозь зубы, он быстро ополоснул его лицо и, не слушая рычащих возражений и отпихивая протестующую руку командира, сноровисто и быстро, пятью-шестью рывками, обмотал его голову по глазам мокрым и холодным бинтом.
Сразу стало как-то тихо — словно вырубили напряжение. Капитан замер, сутуло сидя мешком на камнях, и не подавал признаков жизни. Сэнди быстро-быстро моргал, посапывая, кривясь и стараясь не тереть глаза; потом он встал, подумал, разглядывая неподвижного капитана, и полез к хижине.
Старшина осторожно присел на валун и, утомленно уставившись воспаленными глазами на потрескивающие, пульсирующие внутренним малиновым светом головешки, подумал, что неплохо бы закурить. Сейчас, похоже, самое времечко — после многолетнего перерыва. Но курево у командира. А тревожить его… Но как же тихо кругом! Мерно, как и тысячу, и две, и сто тысяч лет назад, отсчитывают вечность волны прибоя за спиной…
— Хоронить будете? — хрипло негромко поинтересовался капитан, не шевелясь.
— Да пошел ты к черту… — вздохнул старшина.
— Это можно. Эт как раз запросто, — согласился капитан и ощупал мокрую повязку. — Только мне-то все едино — что коньки отбросить, что глаза потерять. Как, кстати, и вам насчет меня. Чего, нет, скажешь?
— Нет, — мотнул головой старшина. — Не верю.
— Мне?
— Им. Ты не крыса.
— Да-а? — зло удивился капитан. — Ага. Им, значит. Надо ж. Не верим. Не крыса? Ну, видать, за это они меня и врезали так по очкам.
Сэнди, с шумом что-то обрушив в темноту, на карачках вылезал из хижины, держа в задранной руке новую бутылку. Попов, всерьез разозлившись, хотел ее сразу отобрать, но тут же решил — пускай его. Тут такое творится, что выпивка уже ничего не меняет. Сэнди же, подобравшись к Кузьменко, ткнул ему в ладонь распечатанную бутылку.
— Во-о! — ухватив ее, подчеркнуто радостно оживился враз капитан. — Парнишка-то самую суть сечет!
Старшина вздохнул:
— Да уж… Насчет выпить — тут мы всегда мастаки, — он задрал голову. Черное небо недвижно свисало из черно-серой темноты мокро-вялыми гнусными пузырями какой-то странной, тягучей, что-ли, облачности. — А ведь такую штуку я уже видел…
— Что? — сипло спросил капитан. — Чего ты там бухтишь? Громкость, старшина!
— Я это уже видел, командир, — раздумчиво повторил Попов. — На Памире. Энергетика, скорее всего. Прием-передача. Знать бы, кому. И как. И…
— Во-во, — подтвердил капитан. — Умница. Всего только прием-передача. Привет к праздничку. Сэнди, ты где тут? Держи. Взял? Спасибо, малыш. Выручил маленько.
— А ведь меня предупреждали, что у русских весело… — нервно пробормотал тот и присосался к горлышку.
— В общем, так, — серьезно сказал капитан, откидывая обмотанную бинтами слепую голову назад. — Слушать приказ. Если к утру не откину копыта, если глаза целы — все силы на полосу. Заканчиваем и затем ищем топливо. Если найдем — а найдем, найдем! — я довожу двигун и поднимаю машину. Летим все вместе. Если же… — он закашлялся. Старшина и Сэнди недвижно ждали. — Так вот, если что — сами кончаете работу, заправляетесь и, буду жив, втаскиваете меня в кабину, чтоб…
— Саня!
— Заткнись! Втаскиваете — и ты, старшина, взлетаешь по моим командам. Вопросы?
— Командир, но ведь я обучен лишь минимуму. А Сэнди настоящий пилот и…
— Приказы не обсуждаются. Они исполняются. А я сказал — вопросы. Есть вопросы?
Сэнди пару раз ошалело мигнул. Старшина молчал.
Через полчаса американец был уже крепко поддатый. Прикончив на пару с капитаном, не встающим с камней, «мировую», он в потемках, спотыкаясь и путаясь в собственных ногах, добрался до того места, где то ли погибла, то ли пропала «Дорнье-24», минут десять возился, отколупывая то пальцем, то камнем кусок «стекла», сердито ворча и время от времени горестно икая. Когда ему это не удалось, он, окончательно рассердившись, шумно и демонстративно пописал на «стекло» и, вернувшись к костру, заявил, что в гробу видел все и всяческие происки всех и всяческих врагов — как на том, так и на этом свете, что «Stars and Stripes»[82] будет победно реять над Токио, а он, Сэнди Мак-Аллен, Маскоги, Оклахома, гордо и презрительно «пожурчит», как «пожурчал» сейчас, в том самом отхожем месте, куда ходит распроклятый засранец Тодзио, а настоящий американский виски — это американский виски, а водку закусывать надо.
Старшина отобрал у него почти пустую бутылку, пинками загнал ее в хижину, уселся к уже угасающему костру, подкинул дровишек и, поглядывая на недвижно лежащего навзничь капитана, мучительно пытался понять, почему так обожгло тому глаза? Не самому старшине, не мальчишке — но именно капитану. Что-то тут не сходилось. Объяснения вроде «знамений» и «предупреждений» были на трамвайном уровне. Сбивала с панталыку дневная стрельба с немецкой «лодки» — ведь его-то пулемет напрочь отказал, и вообще оружие тут явно того… Да нет, не то! Не может же механизм сам себя «вести», он же железо, утиль! Да уж… А про взрыв — или что оно там было — самолета лучше сейчас вообще не думать. Хотя, возможно, с глазами как раз все просто. Объяснение может быть совершенно тривиальным. Ну, например, как обыкновенное нарушение техники, скажем, безопасности. Бедолага капитан получил такой ожог лишь потому, что по нему сначала в упор ударила вспышка гидросамолета, а теперь он с начала и до конца пронаблюдал ночное свечение. Подходит? Вполне. Сюда же, в такую схему, отлично укладывается и Сэнди: ему сейчас значительно легче, поскольку он вдвое меньше капитана все видел. А сам он, Попов — так он вообще взрыва самолета и не видал, нырнув тогда со страху под «ил».
Но оружие, оружие! И не только оно… Эти неожиданные и всегда удачные находки именно в тот момент, когда они нужны; странное поведение приборов и механизмов, да вот того же мотора: капитан клянется, что нужная гайка отвинчивается не просто легко — она, змея, сама будто под пальцами вертится! Мотор под руками будто другой становится — он словно ждет команды человека, он превращается под его рукой в послушное домашнее живот… Стоп! Опомнись, старшина, — это же бред! Жуткий бред.
Бред? А тот, в каюте?
Старшина передернул плечами в ознобе.
Но ведь кто-то же — не что-то, а кто-то! — за всем этим стоит?! Да чего там за всем — одного покойничка хватит!
— Старшина? — капитан приподнялся на локтях.
— Здесь я, — Попов присел рядом с капитаном на корточки.
— Сними тряпку.
— Ты чего, Сань? — тихо сказал Попов. — Ты ж знаешь, бинт не завязан.
— Боюсь, — почти прошептал капитан. — Если глаза пропали — все. Всем вам хана. Тут и подохнете.
— Ты что, Саня? Сашка, друг…
— Ладно. Сам. Снимай.
Попов осторожно сжал ладонью плечо капитана и услышал даже сквозь толстую мягкую «канадку» и летный свитер, как трясет парня озноб. Да ведь он же действительно совсем молодой парень, ведь этому «старику», вдребезги седому, еще жить и жить!
— Да не тяни, т-твою в… Ну?!
Старшина нащупал свободный конец бинта, собрался с духом, хотел было удивиться тому, как дрожат пальцы, и рванул бинт с головы капитана, едва не ободрав тому ухо, — и его окатило горячей радостью: на него в упор из-под воспаленных, без ресниц век, круглыми, как у ошалелого кота, глазами глянул бешеными зрачками капитан; Кузьменко, будто приходя в себя, судорожно замигал на костер, кривясь то ли от боли, то ли от счастья, — и вдруг, повалившись на спину, хрипло захохотал. Лицо его было страшно; черные слезы прыгали по прыгающим щетинистым щекам, жуткие шрамы дергались и ломались на измятом горле. Господи, воля твоя, ужаснулся старшина, да за что ж Ты так караешь? А капитан враз оборвал жуткий смех, рывком, как подброшенный, уселся и, быстро оглядевшись, сипло всхрипывая, спросил:
— А почему мы сели с ходу и точно, знаешь, академик? Почему она нас пустила? Ведь гробовая была посадочка-то, а?
— Она? — автоматически откликнулся старшина.
— Потому что я ей обрадовался.
— Ей?
— Ага. Молился на нее. Сразу поверил, что она — наша.
— Она? Саша, ты…
— А ты не понял сразу, вернее, до сих пор? А я вот понял. Он мне все рассказал.
— Кто?
— Старик мой, я ж говорил. А ты что ж?.. — капитан насторожился. — Так ты здесь совсем один?
Он странно — жалостливо! — уставился воспаленными глазами на старшину. Тот молчал, застыв.
— A-а, вон оно что… Ясно. Но эт ничего. Не печалься, старшина. Все твое при тебе. Никуда от тебя не денется, не надейся. Сам захочешь — не уйдешь. И все узнаешь. Такое кино тебе покажут… Ох-хо-хо, но погано, погано-то мне как! Башка как не луснет… Про очи и не говорю…
— Так кто о чем, командир? — почти шепотом осторожно спросил Попов.
— Старик-то? В том-то и момент, что мой. Да. И ничего! Да уж… Ладно. Не торопи любовь. Сейчас главное… Слушай, вода есть? Внутри пожар… Спасибо. Так вот, главное. Завтра по утряночке переселяемся на корабль. Хватит, нечего тут «очком» играть. Наигрались. Потешили ребятишек — теперь играем по нашим правилам. Все перетащим помаленьку и…
— Погоди, Саша. Кто — «он»? Какой старик? И какие…
— Да не шалей, не рехнулся я, — Кузьменко зашарил по карманам куртки. — А может, он и не старик. Может, он — то я сам. Во дуплет, а? Да где ж они, пропади все пропадом…
— Так ты потому запсиховал, что видел, то есть, прости, тебе показалось, что видел… Ну, в общем…
— Ага, показалось, — ухмыльнулся черным ртом капитан, отыскав, наконец, курево. — Тебе вот покажется — ты не так запсихуешь… Ну да оно все на пользу. Главное — вовремя себя узнать. Не обознаться. Чтоб хотя бы не обделаться.
И вдруг старшину как током ударило! Он вновь увидел тот миг под разбитым истребителем: он здесь — он там, глаза — в глаза, я вижу себя — он видит меня; и главное: едва тот, под самолетом — то есть я сам — ужаснулся, он — то есть я — вмиг откликнулся, вмиг понял, успокоил, потому что он же и был я… Постой, постой!
— А знаешь, где тот фриц? — задумчиво сказал капитан, разглядывая огонек папиросы. — На том свете.
— Где ж еще… — думая о своем, машинально пробормотал Попов.
— Не-ет, не знаешь, значит. Еще раз повторяю: на том свете. Не нашем, понял?
Старшина тупо смотрел перед собой, морща лоб:
— Так, выходит, тогда я…
— A-а, тихоня! Так я и знал! — помотал грязным пальцем перед его носом капитан. — Только, выходит, ты еще ни хрена про него не знаешь, раз боишься.
— Про кого?
— Про тебя! — не без ехидства ответствовал капитан.
— Я боюсь?
— Ого! Еще как.
— А про него? — старшина ткнул большим пальцем за спину, на корабль.
— Про фрица-то? А чего его бояться. Я ж говорю: он действительно на том — на то-о-ом свете. Нету его тут. И ты сам так говорил.
— Ты веришь, что он мертвый? — осторожно оглянувшись на темно затаившуюся махину корабля, тихо спросил Попов. — Ты же не видел его потом. А я видел, и…
— Я всяких мертвяков видел. И голос не понижай. Тут хоть как говори — все слышно. Так вот, тот, кого мы видели — или ты видел, неважно, — он вовсе не он. Настоящий, который был он, — там, — капитан размашисто ткнул пальцем куда-то вверх.
Старшина поглядел за этим пальцем на осевшие, почти касающиеся скал, внимательнейше застывшие облака — облака замершие, обратившиеся в слух, помотал головой и глубоко вдохнул холодный влажный воздух. Не-ет, так дело не пойдет. Капитан поехал в мистику, а я уже боюсь «живых» облаков — я, ученый. Так что спокойненько. А не то мы тут все до утра рехнемся. Чего, кстати, и добиваются — правда, знать бы, кто! — опыт, он и есть опыт; эксперимент, максимально, так скать, приближенный…
— Мертвый — он и есть мертвый, — с натугой сказал он. — И, кроме того, я узнал его, я же говорил тебе. Он — тот самый немецкий летчик, который…
— Ага, — ехидно сказал капитан. — Который у нас на глазах вознесся ангелом, а нам опосля себя мощи святые оставил. Я ж тебя насквозь вижу, старшина. Насквозь — и на два сантиметра дальше.
— Значит, ты решил, что мы… — старшина остановился, не сводя глаз со странно улыбающегося командира.
— Значит, ты думаешь, мы попали на… Мы очутились в другом…
— Да нет же! — нетерпеливо перебил его капитан. — Мы — дома. В смысле — дома вообще. На земле. Ну, пусть в океане. А он — нет. Он — там, в том свете, который где-то. Вот черт, не могу… Ну на том свете. Из которого тут все. Вообще — все. Во, точно. Теперь понял?
Старшина замер, сгорбившись. Что он сказал? Что?!
— Ага! — удовлетворенно сказал капитан. — Проняло. Наконец-то. Но ты не расстраивайся. Это не я сам допер. Куда мне. Это он мне помог.
Втолковал по моему разумению. Старик мой — или, может, я сам, который еще будет. Тут черт поймешь. Да оно вроде и без разницы.
Старшина медленно выпрямился, глядя на незнакомого, высоко улыбающегося, странно взвинченного Кузьменко; этого капитана Кузьменко он не знал… Да и был ли сидящий перед ним человек комэском Кузьменко?
Так как он сказал? На том свете, который рядом? Из которого все тут?
Но… Как же он понял? Хотя нет, понял — это-то ладно, это-то как раз нормально. Но как принял?
— И еще, — капитан с удовольствием отхлебнул из кружки. — Я знаю, почему наш американец грохнул машину.
— Точно! — изрек рокочущим басом Сэнди, высунувшийся лохматой башкой из норы-лаза. Он огляделся, диковато поблескивая глазами в темноте, гулко икнул, длинно смачно сплюнул и пообещал: — И еще грохну. Со страшной силой. Тодзио в задницу.
— Он испугался, — мягко сказал капитан, понизив голос. — Как я тогда. Но я по-настоящему испугался потом, уже там… Не понял? Ну и ладно. Тут каждый должен сам дойти. Так, давай руку… Ну-у-к, встали? О-оп! Встали. И пойдем, старшина?
— Руку на плечо, крепче. Ага, вот так… Ну, двинули, капитан?
— Ну-к, отхлынь, я сам попробую, — капитан сбросил руку с плеча старшины, постоял, подумал, прислушиваясь к себе, и решительно приказал — сам же себе:
— Давай, капитан. Глаза целы, руки-ноги на месте. Повоюем. Только б выбраться отсюда. Ох, повоюем! — он победно потряс кулаком, его широко мотануло боком, старшина поймал его под руку.
— Не боись, стрелок! Наши танки — лучше всех. Двинули в койку…
… Не было. Все-таки не было. Ну никак не было сна — в нормальном, человеческом смысле. А что тут вообще есть в нормальном и человеческом смысле? А ни черта тут нету в этом смысле, думал старшина, глядя в непроницаемо черную стоячую тьму. Нету, и быть не может. Даже не должно. И, возможно, оно-то как раз и есть то самое открытие, тот самый ключ, который я когда-то искал и даже не надеялся найти — и который от меня старательно прятали те и эти (те — понятно кто; а эти — наши, что ли? да наши, парень, в таком деле пострашнее всех не наших…) — и который сейчас кто-то столь же старательно мне — или нам — подсовывает. Кто-то — кто? И обязательно мне? Именно мне? Ох, гордыня…
Старшина лежал в замершей темноте хижины с открытыми в никуда глазами, всей спиной прижимаясь к прогретому костром за день камню и уже привычно не ощущая ни горько-кислого угарного чада сажи от прокоптившихся валунов-стен, ни льдисто-мокрых острых струек ночного воздуха из бесчисленных щелей и дыр. Все происходящее вымотало неотпускающим напряжением до такой степени, что, кроме привычной рези в воспаленных хронической бессонницей глазах, особой усталости вроде даже и не было — пожалуй, действительно ничего вообще не было, кроме тяжкого отупения. То ли окончательно сорванные «с нарезки» нервы, то ли какая-то немыслимо могучая энергетика, магнитно-неведомые какие-то поля постоянного напряжения держали в состоянии тяжелого заторможенного возбуждения так, что границы между «можно» и «невосполнимо», «могу» и «непреодолимо» просто исчезли.
Сэнди, правда, благополучно дрых под стеночкой, как подстреленный, вкусно посапывая и временами детски вздрагивая, возясь и всхлипывая. Капитан же и спать умудрялся угрюмо — он недвижно и неслышно застыл темной неживой кучей хлама головой к выходу, положив вытянутую вперед руку на рукоять обнаженного пистолета. Да, и все-таки — пистолет. Оружие. Всегда и везде — оружие…
Отчего он вечно на таком воинственном пределе, чего боится? Сталинский сокол…
Член ВКП(б) с чистейшей, прям-таки образцово-показательной биографией. Никому ничего не должен, перед всеми чист и светел.
Происхождения свято пролетарского. Родителей, говорит, не знал. То ли детдомовец, то ли комсомольско-макаренковский колонист. До армии — фабзайчонок на заводе. Ни в чем подозрительно-интеллигентском замечен не был. Парень действительно честный и прямой до удивительного — натура, что называется, цельная. За год до войны женился. Перед самой войной родился сын. Жена — кстати, тоже детдомовка — погибла, по разговорам, в самом начале июля. Как — никто не знает. Кузьменко страшнеет при одном намеке на эту тему. Но вот с отцом что-то у него связано — что-то там есть, что-то опасное и темное. Он ведь уже проговорился здесь, на острове. И если хотя бы малая часть догадки старшины оправдана, то тогда… Тогда…
Старшина нащупал в темноте сигареты, добытые в провизионке на корабле.
Кстати, отличные сигареты — вкусные, душистые и крепкие. С какой-то непонятной штуковиной на конце — то ли мундштучок, то ли эдакая непонятная вата в симпатичной коричневой обертке. Что-то вроде очищающего фильтра, по всей видимости. Капитану они не нравятся, он отламывает тот мундштучок — иначе, говорит, слабо и вкус конфетный. А Сэнди — тот прелюбопытную вещь отметил: твердо заявляет, что сигареты американские, виргинские, но что — внимание! — в его время таких не было и быть не могло. Так-то вот. В его, понимаете ли, время. Но не это самое любопытное.
Самое-то заключается в том, как легко они трое принимают сейчас подобные дикие предположения и фразы. «В мое время… В том мире… Тот свет…» Каково?
А в каком они, кстати, времени, в каком мире? Сколько хотя бы дней и ночей уже прошло с того дня, когда все случилось? И почему не меняется погода? Ох, островочек…
Огонек зажигалки на секунду высветил внутренность их убогого жилища. В красных скачущих отблесках запрыгали до черноты закопченные камни, посверкивая сквозь сажу острыми гранями. М-да, и вонища же тут от копоти… Но иначе пол не прогреть.
Сколько ж они тут пробудут? Командир уверен, что сумеет отремонтировать и поднять машину. Забавно. При всем своем скептицизме и практичности он совершенно уверен, что и горючее найдет.
На том корабле, говорит, есть все — надо только искать и знать — не надеяться, а знать! — что оно есть. Кто верит, тот добьется — и так далее… Любопытно, а? Но все-таки — время?
Стрелки «кировских» капитана навеки застыли на том мгновении, когда зенитный снаряд прошиб бронированный живот «ила» и взорвался под противопожарной перегородкой. Она-то и спасла жизнь самолету и экипажу. У Попова часов вообще не было — зачем они приговоренному?
Сэнди же свои подарил в тот достопамятный вечер кому-то в клубе. Как знал, право, как знал… Старшина! Не раскисать!
После кошмаров следствия о его «антинаучной деятельности», которое так удачно закончила война, Попов понял, как ему везет. Или, может, не просто везет? Было во всем этом что-то нелюдское, ни с чем несообразное. Да и потом, нельзя же всерьез воспринимать начало бедствия, начало войны, как избавление, а Сашку Кузьменко как посланника! Но то, что его, Попова, командиром и пилотом судьба назначила именно этого темного от горя и войны яростного капитана, действительно фантастическое везение, хотя со стороны этого никак не скажешь.
Реальность войны над полярным океаном опрокидывала все расчеты, представления, инструкции и песни. Работа по морским конвоям — штука страшная. Смертная.
Пять боевых вылетов — и все еще живы? Удивительно. Семь — асы. Девять — высшая награда и жизнь авансом. Десяток, как у них с Сашкой, — уже странно…
Их специальность — атаки боевых кораблей с предельно малых высот с выходом «на пистолетный выстрел» вкупе с безнадежно специфическим театром боевых действий (человек в полярной воде живет не более десяти минут; после этих минут еще живого беднягу можно из воды не выхватывать — он все равно уже покойник; да и какой к черту парашют на таких высотах…) — все это никаких шансов экипажам не оставляло. Неоправданный же выход из атаки или уклонение (а какой — оправданный?) гарантировал немедленный расстрел на берегу. Так что прибыв сюда, на заполярный аэродром, бывший ученый сразу понял: вот теперь точно все. «Ящик». Патриотизм патриотизмом, везение везением, но и на войне бывают разные специальности в разных местах с соответственно разными шансами выжить. Эта же, да еще здесь — смертный приговор.
Так он стал летать с этим вдребезги седым нелюдимым капитаном, взлетавшим каждый раз как в последний, выходящим в каждую атаку как в последнюю. Мало того, что этот отчаянный сирота оказался прирожденным воздушным бойцом — утюгоподобный «ИЛ-2» плясал в его руках! — но этому летчику еще и невероятно, фантастически везло. Впрочем, судьба ведь действительно балует своих любимцев — храбрецов…
Хотя, если разобраться, никакого особенного везения и не было. При высочайшем мастерстве, абсолютном знании машины, точном учете погоды, времени и психологии моряка каждый бой он принимал как заведомо безнадежный и дрался обреченно-жестоко.
Сигнальщики вражеских кораблей даже не успевали опознать его как цель, когда он черным ревущим чертом вырывался по их души из лопнувших небес или, наоборот, ужасающе выпрыгивал рядом чуть не из волн, с ходу запредельно дерзостно атаковал, бил молниеносно точной коброй — и так же, сметая все привычные принципы аэродинамики и тактики, выжимая, вырывая из себя и машины все, мигом исчезал, отрывался от цели — цели уже пораженной, которая еще двигалась, стреляла, казалась живой и сама себя живой полагала, но которая уже агонизировала… Всегда все просчитав заранее, этот летчик никакому противнику времени и возможностей для расчетов не оставлял. Самолет в его руках был мстительной, неукротимо бешеной тварью. Истребителей же противника он ошарашивал своей безумной манерой боя, не уклоняясь от их атак, но, напротив, сам на истребителей бросаясь — и горе парню из люфтваффе, попавшему под убийственный огонь мощной батареи штурмовика, способной сокрушать броню танков и борта кораблей.
Так что заканчивалась осень ожесточенной морской войны в Арктике, а эта троица — пилот, стрелок, самолет — была жива. Раз за разом капитан Кузьменко дотаскивал до дому свой «ил». Этот по меркам войны уже древний, переживший все сроки, ободранный, закопченный, сто раз заклепанный и латаный штурмовик возникал над береговым хребтом даже тогда, когда не вернулись, опять не вернулись, и вновь не вернулись все, все сбиты над целью, и истекло всякое время, и флот сообщил, что искать некого и надежды нет, и ВНОС даже не смотрит в сторону моря — но он вновь возникал над берегом и, в изнеможении перевалив скалы, с ходу мрачно-уверенно шел на посадку: дырявый, дребезжащий изодранной обшивкой, раскачиваясь рваными рулями, истекая черным маслом, паря пробитыми магистралями, дымя измученным мотором; вновь и вновь он возникал из ниоткуда в копоти, в чаду, в угаре. И раз за разом эти двое — летчик и его стрелок — с почерневшими, опухшими, отекшими лицами долго и неуклюже, ни на кого не глядя, молча выбирались из простреленных, помятых кабин целыми и невредимыми, но в глаза их никому заглянуть было не дано. Было страшно. Потому что глаза их были там…
Лишь сам старшина, лишь верный стрелок-радист Попов, защита, «спина» самолета и командира, — лишь один он знал, как угрюмо выпивает каждый вечер его, старшины, пайку капитан; как жутко мечется, стонет и плачет во сне неустрашимый сталинский сокол; как тихонько передает соколу-храбрецу склянки спиртишка совсем очумелая свалившимся на нее горем — встретить и узнать этого возлюбленного Войны младший лейтенант медицинской службы, худенькая, невзрачненькая, безответная в женской любви-беде то ли девочка, то ли женщина…
Все это должно было рано или поздно закончиться; впрочем, очевидно, теперь — уже рано. На сей счет у старшины иллюзий не было. Да, конечно, храбрецам действительно везет — но тут было что-то еще, что-то темное, горькое, могучее и глубочайше интимное, куда старшина не хотел и не мог заглядывать. Война, будь она проклята, никак не походила на ожидаемо быструю и победоносную, все шире, все глубже перепахивая, пережигая все и всех. Не салютами побед и реяньем наградных знамен пахло — накатывался необозримый, черный и зловонный вал кровищи и трупов. И, взлетая там праздничным, тем последним вечером, старшина неожиданно, глянув на привычно поплывший внизу назад скалистый хребет, разом ясно все понял, все осознал и сказал себе: «Все. Вот теперь, сегодня — все. Прощай…»
Их экипаж уже оставался последним и единственным из первого состава прибывшей сюда к осени эскадрильи. Так что все запасы и возможности теорий больших чисел, вероятностей и тому подобных утешительных штук давно были ими исчерпаны. Оба они уже ждали своего дня — и этот день пришел. Но вот все, что произошло потом…
Почему они остались живы? Как вообще все произошло?
Ну сама атака, гибель группы — тут все нормально. В смысле — война. Сука поганая. (Хотя тут тоже, знаете ли… Ведь Сашка шел лидером — почему ж его не сшибли? М-да…) Но дальше… А что — дальше?
Сэнди их не бросил, слово сдержал. Так оно тоже в общем-то нормальное дело.
Ну остров. Ну подвернулся. Случайность? Или опять сработало прям не людское, а какое-то звериное чутье и везение Сашки Кузьменко? С таким, как он, ничему не стоит удивляться… Ладно. Как простейшее объяснение — сгодится. На пока. Но ведь лихой командир неспроста психует. Как точно он сформулировал вопрос: почему они сели благополучно, а Сэнди разбился? Впрочем, нет. Опять не туда. Опять мистика. Начнем сначала.
Что более всего поражает тебя, старшина? Трюки вроде сегодняшних (что ж оно было в той каюте — труп, муляж, машина, фантом?) — нет, как ни парадоксально. На бравого старшину-бортстрелка оно, конечно, действует; на ученого-аналитика — честно говоря, не очень. Слишком все нарочито, даже декоративно…
Тогда что? Вся чертовщина с пиротехникой по ночам? Сорванная атака и исчезновение немецкого гидросамолета? Ведь «лодка» не была сбита; она не могла погибнуть абсолютно беззвучно и бесследно — так не бывает, чтоб ничего, вовсе ничего не осталось. Обломки, разливы масла там, какие-никакие железяки, или уж хотя бы взрыв бензина — с соответствующим шумовым оформлением и выбросом температуры. Да хоть дым, что ли! Словом, что-то материальное. А то ведь вообще ничего. Так куда же тогда она подевалась? И еще интереснее — как подевалась? Не говоря уж о ее командире, встреченном чуть позже и в другом месте — через час с вечностью, кгхм-м… Стоп-стоп! Опять не туда!
Так. Корабль. Что мы имеем в виде покинутого судна? Мы имеем здоровенный сундук, в который некто непонятно зачем и для кого напихал, явно заранее посмеиваясь, уйму сокровищ, загадок и милых шуток… Так в том-то и фокус, что нет! Более всего тебя поразили две вещи. Вернее, две фразы. Командир: «По живому ходим». И его же: «Тут все чужое». И невероятное замечание Сэнди, брошенное вскользь, о том, что в его время таких сигарет не было. В его время! Каково? Неужели он действительно столь спокойно воспринимает эту догадку — или же просто само собой выскочило? Впрочем, чему удивляться. Разве кто-либо из них троих был шокирован моментом, когда они заговорили на одном языке — кстати, на каком? И при том никто из них не смог прочесть записку, написанную на немецком. И почему никаких надписей, кроме английских, Сэнди прочесть не может — как, впрочем, и они не могут прочесть ничего. А уж о переломанных и вмиг срастающихся костях, мгновенно исчезающих порезах, нестреляющих боеприпасах, пресных речках посреди океана и говорить неохота. Бог мой, да одного их общения тут на неведомом языке хватит не на одну — на сотню хватит каких угодно диссертаций и изысков.
Так неужели верна догадка? Точнее, не догадка, пока лишь набросок, попытка сложить в хотя бы подобие картинки все ощущения, испуги, странности и находки. А догадочка-то вырисовывается замечательно страшненькая в грандиозности своей и многообещающая необъятно в перспективах, скажем так, для науки. Как минимум.
Великолепная в высочайшей надежде — и пугающая бездной неисправимо опаснейших ошибок, за которые расплачиваться придется, увы, не им — не им, нечаянно влетевшим в самую гущу идущих вне их маленьких людей-человечков, событий и операций. Если оно вообще так…
Но самое удивительное — уже успокоенно, уже мягко подумалось Попову — самое удивительное в том, что я никогда не верил в такую встречу.
Мечтал! Мечтал о том, как я, человек, протяну руку брату — и никогда не верил. Ни в эту мечту, ни — что гораздо хуже — в брата. Да и предстань он предо мною — и ему бы самому не поверил. Брату?.. Откуда брату? Какому брату — младшему, старшему, ровне? Доброму или злому? Доброму. Конечно же, доброму. Полноте, сударь мой! Откуда в жизни — настоящей жизни, не той уродливой пародии на жизнь, в которой мы все корчимся, но в Жизни вообще, в Мироздании — откуда взяться злу? Зло, если достигает таких вершин и просторов, неминуемо самоуничтожается собственной агрессией — сие элементарная арифметика. Откуда ж тут взяться Злу?.. … конечно же откуда? Вон она внизу, та самая Дыра. Яма. Воронка. Ты столько раз думал о ней, не думая, что узнал ее сразу. Она угадывается под толстой пузырящейся пеной желтовато-серых, грязно дымящихся облаков по тому, как в одном месте они, сплошные облака, закручиваются гигантской многокилометровой спиралью; отсюда, с высоты отлично видно, как некая обволакивающе-мягкая, широченная воронка вращается к своему центру все быстрей и быстрей; облачные сплошные потоки рвутся, разматываются, растекаются во все убыстряющиеся полосы, которые стремительно и мощно завинчиваются в могучие жгуты, уже несясь от центра вниз — ниже, ниже, все скорей и скорей! Мелькают там какие-то силуэты, пугающе узнаваемые… Косо летит, замедленно переворачиваясь, непостижимо запрокидываясь через спину хвостом… Ну да, да — именно он! И это ничуть не удивляет, именно он именно тут и ожидался — П-40 «Вогаук», на котором разбился Сэнди; интересно: он там, в кабине? Хотя, конечно, нет — даже с такого расстояния видно, как ужасно разбит самолет, и, во-вторых, парнишка ведь тут, в нашей хижине, спит рядом… Тут? Где — тут? Ну здесь, на острове, где мы все; то есть там, внизу, посреди невидимого отсюда океана, глубоко под облаками…
…А ведь я наконец-то уснул, первый раз по-настоящему хорошо уснул… нет, вовсе нет, ты не спишь! не можешь спать, если не сплю я, если мы уже вместе идем, мы уходим!
— Мы?
— Мы — ты, который я, который был, мы всегда шли вместе — но раздельно, потому что ты не только не знал, не только тебе рано было знать — но и опасно было знать.
— Рано только мне?
— Рано всем. Но не всем приходит время.
— Лишь умершим? Значит, я мертвый?
— Умершим? Нет. Смерти нет — той, которой ты боишься. Есть другая — не проснуться. Но всегда все зависит от тебя.
— Я проснулся?
— Нет. Просто пришло время. Ты же сам понял — карусель. Не совсем точно, но достаточно похоже ты назвал. Пусть будет.
— А ты…
— Да. Тот, кого ты так испугался. Забыл?
— Нет. Помню. Тогда, под самолетом. Я ведь понял сразу…
— Вот видишь. Потому сейчас ты уже здесь. Но это ненадолго.
Хотя и много для первого шага.
— Несмотря на страх?
— Это можно понять. Заглянуть себе в глаза — такое выдержит не всякий. Почти никто. Во всяком случае, в твоей, в той жизни.
— В той жизни? Значит, все-таки я…
— Нет же, говорю тебе. Ты жив. Просто тот ты остался там. Остался прежний ты. До продвижения. В котором ты сделал первый шаг.
— На острове? Значит, для той жизни я все же умер, умер там, на острове? Умер сейчас — по-твоему, давно?
— Но ты говоришь со мной. Ты не можешь быть мертвым, если говоришь, и спрашиваешь, и мыслишь, и…
— Ну да. Я мыслю — следовательно…
— Правильно. Существуешь. Ведь ты же слышишь меня? Значит, ты жив. В бесконечно настоящем. Не в том иллюзорном и невозвратимом, которое полагал жизнью.
— Ты сказал — мы идем?
— Я сказал — ты готов. И потом, ты же сам всегда хотел.
— Да. Верил.
— Верил? Что ж, пусть верил. Хотя вера — нечто иное, но всему свой черед… Главное — ты стремишься учиться. А раз так — ты уже начал учиться.
— Пожалуйста, не так быстро.
— Да, конечно. Ты прав. У нас впереди вечность.
— Вечность только у мертвых…
— Вот как? Странно… Значит, ты все-таки не понял. Будь внимателен в себе. Первый шаг опасен неточностью во времени и выборе — ошибка стоит пропасти. Той, которой ты страшишься.
— Страшусь? Нет. Просто…
— Просто ты мой младший брат?
— Да. Наверное. Хотя, кажется, я начинаю понимать, кто ты. А Сэнди там, внизу?
— Нет. Он, как и ты… Впрочем, это еще рано. Пока помолчим. Смотри вниз — смотри, запоминай, вдыхай. А Сэнди, и ты, и Александр, и все другие — все тут. Везде. Всегда. Но для тебя это пока сложно. Пока.
Важно, что ты — уже здесь. Мне многого стоило устроить нашу встречу и прогулку. Я же сказал — опасен первый шаг. Ну, а теперь внимание — идем вниз!
…Старшина вытянулся в застывшей темноте хижины поудобнее; уже выстывшие камни давили в бока, спина онемела, но все было неважно.
Лежа в черной холодной пустоте, он погружался в желто-зеленовато-серые облака, его нес беззвучный, влажный, невесомый полет. «Вогаук» уже расплывчато троящимся, растекающимся силуэтом мелькнул далеко-далеко внизу, скользя в марлевых обрывках дыма, кружась в спиральном падении в воронку (она была под облаками, но старшина неведомым ему доселе вторым или третьим зрением видел ее — словно спроецированную на первый план изображения), — и пропал. Ниже, ниже, в гудящем беззвучии полета… Скоро облака… Сейчас… Та-а-ак… Все!
Сплошная летящая мокрая муть; свет почти пропал; качающееся желто-зеленоватое свечение; ощутимо замутило, тошнота пульсирует в висках, тошнота в спине, в затылке; тьма… Кажется, меня переворачивает и кружит в воздушных потоках, которых нет…
Свет! В глаза ударил слепящий свет — слепящий лишь в тот миг, когда оборвались облака и, уходя — назад? вверх? куда? — все медленней, все дальше поплыли над головой, нет, над спиной, уходя в дымку. Свет ровно мягкий, зеленоватый; всюду, сколько хватает глаз, под высоким облачным покровом тянется, нет, простирается, возлежит серо-зеленая равнина, чуть разбавленная бурым колером, словно сплошной, без полян и прогалин, лес — тайга, джунгли, или, напротив, пустыня — с такой огромной высоты не разберешь. Огромной? Конечно, огромной — я чувствую, я знаю…
Хорошо хоть крутить перестало, тошнота прошла…
Далеко-далеко у горизонта, которого не видно (горизонта? Да, конечно, должен же быть горизонт; просто я пока не вижу его, но он обязан быть — ведь мира без горизонта не бывает, мир невозможен вне геометрии и перспективы!), немыслимо далеко, на пределе видимости, летит самолет; его силуэтик — единственный осязаемый ориентир, за который может зацепиться здесь взгляд. Впрочем, нет: дальше в том же направлении, куда, похоже, летит самолет, виднеется возвышенность — что-то вроде гигантской, судя по дымке расстояния, сопки или горы со срезанной вершиной; у ее подножия клубится нечто сплошное, с такого расстояния не определяемое: то ли вода, то ли облака, так что, собственно, и подножия-то нет, и нет опоры, нет основания, словно под нею — бесконечность.
— Бесконечность? Однако… Впрочем, именно туда мы и направляемся.
— Мы? Ах да. Знаю. Мы — значит, я и я. Но это не полет? Это похоже… похоже…
— Еще раз повторю — однако! Выбор удачен. Итак, смелей, мой брат, смелей. Не полет?
— Да. Неопределима направленность полета. Его физическая сущность. Нет привычного маневра по высоте, по тангажу и вектору.
— Значит, я был прав… Итак, внимание. Мы направляемся спиной вперед.
Пока ты можешь только так.
— Спиной вперед? Разве я лечу спиной вперед?
— Это образ для тебя. Некая наиболее простая формулировка — пока. Ибо для тебя так было всегда. Ты всегда шел — во всех смыслах, не только в механическом — шел спиной вперед по вектору, направленному назад.
Назад — в твоем понимании.
— Но я всегда двигался вперед! Во времени — вперед! Шаг, час, годы — всегда.
— Вниз, смотри вниз, запоминай… Так вот, ты всегда знал, что было — было! — шаг, час, год назад в твоей жизни, точнее, в той, которую видел как жизнь. Так ведь? Ты даже мог открутить события назад и вновь перевести стрелки вперед, но… Но только как киноленту — только в сознании, мысленно, причем мысленно-иллюзорно, вне формы. Двигаясь в твоем представлении жизни вперед, ты никогда не знал, не видел, что будет даже в следующий миг, мгновение. Хотя бы лишь мгновение! Ибо мгновения для тебя всегда раздельны.
— Да, понял. Но, значит, в таком полете я могу…
— Нет. Не спеши — еще не можешь. Продолжим. Итак…
— Я хотел спросить, могу ли…
— Я же сказал — нет. Ты не можешь изменить полет других и не сумеешь вмешаться даже в свой. Точнее, вмешаться, изменив движение, не изменив последствия. А это — такая попытка — не просто опасно, и не только для тебя. Не обгоняй себя! А теперь главное. Внимай. Мы направляемся «туда» — значит, мы уже «там». Стремиться «туда» — «там» уже быть.
Здесь — означает везде. Сегодня — значит всегда.
— Но это невозможно. Законы мироздания незыблемы.
— Ты даже не представляешь себе, насколько сейчас прав — вопрос лишь в том, каким ты понимаешь мироздание. А законы его действительно незыблемы — поэтому возможно именно так, и только так. Время есть величина постоянная — в твоем понимании. Пока оно точное — в твоем мироздании. Но ночь для тебя — день для другого. Рождение нового мира происходит веками мгновения. Не спеши — тебе все предстоит. Сейчас же будь осторожен — ты увидишь то, что не дано видеть никому из твоего прошлого мира. Ты увидишь то, что потом, спустя много лет — твоих прежних лет, ты назовешь точкой схода…
…Вот она, гора. Похоже, вулкан. Давно застывший. Непостижимо огромный кратер, темный, холодный, затянутый чем-то вроде дождевой пелены. На какой же высоте я, если эдакая горища так далеко внизу? Ага, во-он ниже летит тот самолет, что я видел сегодня вдали… Да это же «дорнье», тот самый пропавший «дорнье»! И он летит туда, к вулкану — а я знаю, что это опасно, смертельно опасно! Надо…
— Нет, ничего не надо! Не спеши. Это опасно — степень опасности ты даже представить не можешь. Такая гибель — больше, чем та гибель, которую ты так часто видел. Это не тот ужас, к которому тебя учила привыкать война. Не спеши, не мечись. Твоя задача — удержаться здесь, и ты сможешь, если можешь уже. Побудь пока тут, пообвыкни, мы же знаем — впереди вечность.
…А «дорнье» уже плывет боком над жерлом — над пастью! — вулкана.
«Летающая лодка» как бы зависла, но с ней происходит нечто жутко-странное: силуэт самолета поплыл, стал расползаться, как бумага в воде, на дымные, тающие грязные клочья; вот вспухло правое крыло, мягко беззвучно отделилось от гнусно пульсирующего фюзеляжа и медленно поплыло в дождь, в туман или что оно там окутывает темную, бесконечную, словно падение в вечность, пропасть; вот уже неопределим и сам силуэт, фюзеляж расползается, растекается на клубы, пузыри, какие-то гнилые лохмотья дыма и влаги… Но ведь там люди? Там же люди!
— Нет! Держись! За меня держись — я здесь, я в тебе!
О, Боже — я понял! Но я не успеваю. Ветер. Возник ветер, дикий ветер; мгновенно возник полет. Кратер внизу качнулся и, грозно вырастая, повалился набок, зелено-бурая равнина крутанулась боком, режущий свист падения — да, падения, падения! — рвет барабанные перепонки, стылый воздух вбило смертным кляпом в глотку, жгуче-ледяным ожогом выжгло крик — я лечу! А кратер — уже над головой, жадно хрипящая чудовищная яма разинулась темным небом, ее громово клокочущая, дрожащая утроба рыкающими всхлипами вжирает, вглатывает весь воющий мир — и в вое, визге, стоне и отчаянии гибнущей вселенной я падаю вверх!
Рядом черной распахнутой птицей в низком, утробно урчащем реве проносится, закренившись, как в атаке, «ИЛ-2», и, прежде чем старшина увидел, разглядел в косом мгновении желтую бортовую «двойку» — номер самолета и успел что-то понять, он видит — видя себя сам! — разинутое в крике лицо — лицо… Сашки Кузьменко! Командир, что-то крича, тыкал ему в лицо из-за стекла черным толстым в летной перчатке пальцем, а за ним, за спиной командира… Ужас взрывается в затылке: кричащий, нечленораздельно-беззвучно вопящий в кувыркающемся падении старшина видит, как из-за борта родного, единственного его самолета почти вываливается в стремлении к нему, протягивая к нему руки — он сам!
И еще успевает увидеть себя, стремительно-неудержимо проваливающегося, уносящегося в бездну от падающего за ним вдогон самолета, — и даже успевает увидеть себя, обреченного, в кабине пикирующего в надсадном реве мотора штурмовика, что-то командиру кричащего, пытающегося спасти и спастись. И в миг удара, в исступленный слепящий миг, когда взорвалось мироздание, он все-таки успел заметить вихрящимся облаком взрыва сознания — мгновенным рывком, прыжком, прорывом сквозь всю толщу вечного, неизменного, непоколебимого стекла, вечно и неизменно, и неколебимо разделяющего Здесь и Там, — все-таки он успел даже осознать это! — он увидел, как «ил» вспыхнул зеленым слепящим сиянием — да, тем самым сиянием! Адское пламя беззвучно хлестануло белой вселенской болью по глазам — и сгинул, исчез, пропал в черной, бесконечной, ревущей и всепожирающей боли свет. Свет мира.
И он — умер…
— … умер? — хохотнул странно оживленный спозаранку Кузьменко и дружески пнул его сапогом в подметку. Старшина, то ли очнувшись, то ли проснувшись, дернулся, привстал — и чуть не закричал: глаза — всю душу! — вспышкой выстрела прожгла дикая, бритвенно-отточенная боль!
Старшина всхрипнул, зажмурившись, замер, не дыша — и услышал, как боль, обманутая неподвижностью, быстро стихает толчками-пульсом. Он едва успел подумать, что сон — великое счастье, ведь какой бы ужас не довелось испытать во сне, утро — пробуждение, избавление, освобождение — все-таки неминуемо наступает, как капитан пробормотал над ним, невидимый в темноте горящих, словно запечатанных болью глаз:
— Ого-го… Серега, да ведь тут у тебя… — и через паузу тихо присвистнул.
Старшина, старательно не открывая глаз, медленно сел. Глаза действительно жгло, жгло будто изнутри, да еще и как! Правда, боль уходила быстро, но столь же быстро нарастал страх. Ведь это глаза. Глаза!.. Он осторожно дотронулся пальцами до век. Да. Так и есть.
Рыхло, мокро, клейко. Гной? Слезы? Откуда? Что это?!
— Эй, убери-ка лапы, приятель, — негромко сказал где-то рядом Сэнди. Его пальцы тихонько легли на лицо застывшего старшины; подушечки даже немытых, закопченных, ободранных рук американца были все-таки юношески мягкими и теплыми.
— Один момент…
Старшина молча согласно кивнул.
Через минуту на веки легла чудесная прохлада: Сэнди осторожненько обмыл лицо Попова мокрым платком. История повторяется, подумал мельком старшина…
— Ну? Открываем? — вопросительно-сочувственно прогудел сверху капитан. Старшина подумал, запрокинул голову, глубоко вздохнул и, помогая себе осторожненько пальцами, медленно расклеил, раздвинул слипшиеся веки. Острая боль пронзила вспышкой мутный свет утра — и вмиг свернулась, затихла.
Капитан сидел перед ним на корточках лицо в лицо и заглядывал, казалось, в самую душу. Старшина успел заметить, какое сострадание метнулось в темных зрачках командира, едва видимых в полумраке, вдруг сам остро, по-детски, пожалел себя — и тут Сэнди, стоящий на коленях рядом с ним, пробормотал удивленно, всматриваясь в лицо старшины:
— Ребята, а ведь точь-в-точь…
Старшина его понял, как понял и капитан. Они лишь взглянули друг на друга быстро. Да. Именно такими были лицо и глаза капитана после взрыва «летающей лодки».
— Я видел вас, — пробормотал после паузы старшина, запинаясь. — Там…
— Там? — странно охрип капитан. — Во сне?
Попов пару раз моргнул, отпихнул командира и, ни на кого не глядя, полез на четвереньках наружу. Он задыхался здесь, в этом насквозь продутом, выстуженном сквозняками и сырым морским холодом убогом жилище. Давил бугристый уродливый свод, черный от жирной сажи, наваливались валуны стен. Гремя камнями, он лихорадочно выбрался, как выскребся, наружу, сел, как упал, привалившись спиной к скале обрыва, и, запрокинув голову, глубоко, с усилием, вздохнул — раз, и два, и три, до головокружения, словно выдавливая, вымывая из себя копоть и страх.
За ним выбрались остальные. Сэнди, усевшись на корточки перед входом, принялся занудно щелкать зажигалкой; капитан, встав в рост, огляделся, хрустнул спиной и вопросил в никуда: — Ну и? Ребятки? Влипли всерьез, а?
Сэнди, бесстрастно глядя в непрозрачную даль серого океана, длинно выдул сигаретный дым поверх вытянутой нижней губы и пожал плечами. Капитан, почти не склонившись, выдернул из его пальцев сигарету и назидательно сказал, вкусно затянувшись:
— Вот позавтракаем — и кури, хоть укоптись, сынок. Понял? Ну, старшина, как глаза?
— Спасибо. Хреново, — пробормотал Попов и неловко встал.
Так что ж оно было? И где я был? Спал ли? А капитан, будто услышав, глянул в упор, остро сощурившись:
— И где ты был? Спал? А может, это просто сквозняк?
— Ага, — усмехнулся все так же бесстрастно снизу Сэнди и зябко поежился. — Сквозняк. Точно. Но брови сожгло. Такой вот сквознячок себе занятный…
Попов посидел, подумал и неожиданно для себя молча полез назад в нору.
— И правильно, — сказал ему в спину капитан.
Старшина забрался в хижину и завозился, устраиваясь в углу потемнее. Сил не было кого бы то ни было видеть, говорить, и жутко было хоть о чем-то подумать.
Ничего — ничего и никого не хотелось. Хотелось щенячьи заскулить, сунуть голову под теплую, мягкую женскую руку и, закрыв глаза, посопеть жалостливо и заснуть.
Он подпихнул под себя смятый в ворох измызганный купол парашюта, перепутавшийся со стропами и чехлом, подоткнул ранец под голову и затих, глядя сквозь полуприкрытые веки в серо светящийся проем входа.
Отсюда хорошо было видно, как капитан принялся деловито возиться с остывшим серым костром, вздувая вскружившуюся тучу сырого пепла и золы. Сэнди рядом с ним со скрипом и хрустом ломал отсыревший за ночь плавник. Вековечная тяжелая сырость сочилась сквозь меховую летную куртку от камней, влажного шелка парашюта, сползала со стен, затекала во вход, неотвратимо, неторопливо-уверенно затапливая живого человека, пропитывая его насквозь смертной стынью, растворяя в себе его силы и душу. Все — все тут сырое, даже мозги, будь оно все проклято!..
Сэнди снаружи покряхтел и тяжело уселся на валун, потирая сквозь штанину лодыжку. Ага, ножка все-таки побаливает… Капитан сипло матюкнулся над чертовым кострищем и, подавившись пеплом, надрывно, надсаживаясь, закашлялся, вздымая пепел еще выше, весь уже окутавшись его черно-серыми пушистыми липучими хлопьями.
— Господи, да подпали ты его по-людски! — не удержавшись, хрипло крикнул из своего убежища старшина, которому надоело-таки наблюдать эту мороку. Капитан, упрямо стоя на четвереньках, нутряно выкашлялся, длинно сплюнул черной слюной и, шумно отдышавшись, сдавленно просипел:
— Да кабы один дым, мать-перемать! А то ведь Арктика… Если хотя б через пару недель отсюда не соскочим — все. Она нас доконает. Гайка нам всем тут будет. Авторитетно заявляю. Сдохнем, как псы, и виски-миски не помогут. Давай, мужики, подгребайте. Разгорелось. Слышь, Сереж? Вылазь, вылазь. Я эти штуки знаю. Не надейся — жить будешь.
Старшина обреченно вздохнул, перевалился на живот и полез наружу. Как бы там ни было — день начался…
— А не соскочим? — поинтересовался Сэнди, старательно прилаживая здоровенную корягу меж двух валунов; утвердив ее, он сказал: «Ага!» и, подпрыгнув, с хряском переломил коряжину обеими ногами. «Здорово сигает паренек с переломанной ножкой! М-да, островочек…» — и старшина молча двинулся к воде. Опять же, как бы там ни было, что б ни случилось, но утренний туалет в морском прибое — пожалуй, немногое, что им остается, чтобы хоть как-то блюсти себя, поддерживать в человеческой чистоте и порядке и, главное, самодисциплине. А глаза-то вроде и в самом деле отпустило, только веки здорово саднит, будто их наждаком ободрали… Хотя если у него такой вид, как у капитана вчера, тогда — да, тогда еще как должно саднить.
— Тогда еще раз сдохнем. Слушай, а если… — капитан вдруг замолчал, застыв на локтях в невозможной — спина выгнута, зад кверху — позе, угрюмо уставившись в бледные язычки пламени, едко шипящие в сыром плавнике. Старшина стянул тяжелые от влаги сапоги, швырнул их за спину на гальку, закатал просыревшие брюки комбинезона до колен, осторожненько, вскряхтывая и постанывая от жгучего холода, вошел в качающуюся волной воду по щиколотки и принялся тщательно умываться, фыркая и отплевываясь. Кузьменко, как и Сэнди, тоже умывался по утрам, но, в отличие от старшины и американца, каждый раз, словно демонстрируя острову свою уверенность в скором отлете, упрямо лазил в море в сапогах, что никак не шло на пользу последним: несмотря на «авиационную» прочность и выносливость, они коробились, и разбухшие подметки, не просыхающие круглые сутки, уже нахально задирали широченные могучие носы летных сапог кверху.
— Как там, не жарко? — осведомился от костра капитан и, едва не опалив нос, прикурил от головешки. Сэнди принялся приседать какую-то свою хитрую гимнастику; он проделывал ее каждое утро, после чего обязательно быстро молился, отвернувшись ото всех и чуть слышно бормоча.
— В самый раз, — буркнул старшина, прополоскал рот и, смешно задирая малиновые от холода ноги и растопырив мокрые руки, выбрался на берег. — Ну, так что — «а если»?
— Чего? A-а… Честно говоря, сдуру подумалось, что ты… Гхм-м… Что ты прав. Насчет вылета. Ну насчет не спешить…
— Сдуру? — хмыкнул старшина, скептически разглядывая на вытянутой опасливо руке свой задубевший явно увесистый носок. — А ведь пора бы и мыло как-то сообразить…
— Какое мыло? Погоди-погоди… Точно! — оживился капитан. Мыло? На той гробине? Давно пора!
— И еще баньку, — усмехнулся старшина и с тугим трудным скрежетом застегнул заедающий замок сапога.
Капитан, вдруг привстав, вытаращился на него.
— Ты чего? — перестал обуваться старшина, помаргивая воспаленными ресницами.
— М-да-а-а… — протянул капитан, вставая. — Благодарность, а? Так ведь совсем же распаскудились… С-становись! — хрипло заорал он так, что Сэнди едва не упал — он как раз по счету «десять» пытался встать из присеста на одной ноге.
— Чего-чего? — осведомился старшина, нагнувшись за вторым сапогом.
— Ста-а-новись! — выпучил глаза Кузьменко.
Попов пару секунд удивленно его разглядывал снизу вверх, но, сообразив, неожиданно для себя развеселился и, впрыгнув в сапог, шкандыбающей рысцой побежал к самолету, приглашающе взмахнув американцу. Тот изумленно воззрился на капитана, потрусившего за стрелком, и заковылял, шепотом чертыхаясь, следом — оказывается, он все-таки едва не вывихнул из-за рыка капитана вторую ногу. Вдвоем они — старшина и Сэнди — встали рядком под мотором у винта, справа, как полагается, от самолета.
— Р-р-рывняйсь! — с явственным удовольствием вкусно рявкнул капитан. — Сми-и-и-рна!
Попов вполне серьезно дернул по команде подбородком; Сэнди, задрав белесые брови, пожал плечами и все-таки тоже вытянулся, чуть вывернув вперед локти. Капитан, крепко хрустя галькой, прошелся пару раз вдоль «строя» и с недовольным видом ухватил старшину за отворот расстегнутой куртки:
— Распустил я вас, голуби? О-ох, распустил… Старшина! По «губе» соскучились?
— Никак нет, товарищ капитан! — ответствовал тот и одним махом застегнулся под горло — благо, ленд-лизовские «канадки» застегивались замечательной штуковиной, прозываемой почему-то молнией.
— Вот так, — одобрил капитан, отступил пару шагов и приказал: — Старшина Попов! Выйти из строя.
— И-йесть! — лихо брякнул, как отрубил, старшина и, «делая ножку», картинно-четко выполнил все уставные эволюции: два шага вперед — хряп-хряп; р-разворот — хрусь-хрусь, и — бр-р-равая стойка.
— Ух! — одобрил капитан со знанием дела. — Прям Христосик босиком по сердцу… Товарищ старшина! За проявленную инициативу, а также… Э-э…
— Гениальную мысль, — подсказал Попов.
— Правильно. Ма-алчать! От лица командования объявляю благодарность, а…
— Служу трудовому народу!
— Ма-алчать! А также за пререкания с командиром…
— «Губа»? — ухмыльнулся старшина.
Сэнди стоял столбом, напряженно переводя глаза с одного взрослого ваньки на другого. «Вот теперь русские точно рехнулись!» — явственно читалось на его встревоженной конопатой физиономии.
— Хуже, сынок, — ласково сообщил старшине капитан. — «Губой» не отбояришься. Во-первых, по морскому закону — что? Кто предлагал, тот и выполняет. А во-вторых, за подрыв авторитета воинского начальника, выразившийся в непотребном и неуставном умнича… умно… Короче, чтоб не вякал, приказываю: наломать досок от ящиков — я их сам натаскаю, черт с тобой, — и раскочегарить кострище во-он там, под входом, чтоб тепло не пропадало, а воду…
— A-а, да брось ты, ей-Богу, — цивильно махнул рукой старшина и двинулся к костру. — Размялись — и будет. Давай-ка завтракать, что ли?
— Да сделаем! — хохотнул ему в спину капитан и предвкушающе потер ладони. — Да чтоб я там мыла не нашел? Хо! А воды — так море. Хижину подконопатим враз, камни накалим. У нас руки — не для скуки. Ну?
— Садись к столу, Сэнди… А он пускай мыло ищет.
— Да залудим такую парилочку из нашей хибары — во! И чего ж не хватает? А?
— Мозгов… Ну, хорош, мужики, в самом деле. Остывает харч.
— И труда, — Сэнди боком повалился к костру прямо на гальку.
— Оба дураки. Пива. Пива!
— Ага, — сказал старшина. — И рябчиков с ананасами. Сэнди, кинь сухарь. Спасибо…
— Там! — Кузьменко ткнул ножом с куском горячего мяса на лезвии в сторону застывшего черной мрачной горой судна. — Там все есть. Не только мыло. И вот что, орлы. Пора кончать эти игры. Опосля баньки перебираемся. Ух, а вкусно, однако…
— Туда?! — Сэнди чуть не подавился. Попов насторожился. Кузьменко же аппетитно жевал действительно вкусную тушенку. Попов подождал, пока тот прожует, и, не дождавшись — капитан громко выскреб из жестянки еще один здоровенный кусок, осведомился:
— И куда именно ты планируешь?
— А в самую ходовую рубку, — беззаботно ответствовал Кузьменко с набитым ртом. — Эх, ребятишечки, и вправду — пивка б сюда…
— A-а… А как же тот? — ткнул большим пальцем за спину Попов.
— А земле предадим. Под гром, значит, салюта. Все честь по чести. Зато обзор оттуда во все триста шестьдесят градусов горизонта. И с верхотуры. Сектор обстрела — будь здоров. И выходов, невидимых снаружи, полно. Опять же — сами под крышей, да вроде еще и за какой-никакой броней. Так, кипяточку залудим? Ну-к, Сэнди, разгонись, уважь стариков, покуда молод.
Американец молча пристроил на огонь патронный «цинк», еще с вечера наполненный водой из речки. И вот вода еще эта, подумал Попов. Бред же сивой кобылы, а не вода: с одного берега океана вытекает, в другой берег того же океана впадает, но течения нет, но вода проточная, но к тому ж еще и пресная. Да уж, судари мои… Одной этой водички за глаза хватит, чтоб ничему и никогда не удивляться. Не ныне, не отныне.
Капитан же с аппетитным треском распечатал ярко-глянцевую коробку какой-то необычной сладкой штуковины, что-то вроде вафлей:
— Так вот, ребята. После трапезы — легкий перекур, и банные дела. Держи-ка вкуснянку, малыш… Протопим, воды в «цинках» натаскаем — и вперед. А то скоро и вправду запсеем, по уши говном зарастем. А потом — новоселье. Чего, академик, сдрейфил? Не стоит. Коммунисты не боятся трудностей. Они вообще ни хрена не боятся.
— Кроме друг друга, — не удержавшись, проворчал Попов.
— Не понял, — сдержанно сказал Кузьменко. — Объяснитесь, старшина.
— Это необходимо? Прямо сейчас и прямо здесь?
— Желательно. Скажем так — желательно.
— Джентльмены! — взмолился Сэнди. — Ну почему вы все время выясняете отношения? Почему вы вечно ищете всюду то, чего нет?
— Не суйся, — капитан не сводил потемневших глаз со старшины.
— Не буду. Но, право же, джентльмены, здесь так много других, вполне мужских здоровых развлечений. А?
— Надо же, — усмехнулся холодно Попов. — Даже мальчик понял.
— Я не понял. Туповат-с. Казарма. Сапог.
— Не надо искать черную кошку в темной комнате, в которой вообще нет кошек.
— Имеется в виду?..
— Саша-Саша… — покачал головой старшина. — Да что ж вы за люди такие…
— Вы? Люди?
— …ведь нам всем так трудно, так одиноко. Всем, всегда, везде. А вы… А мы… — он замолчал, тоскливо глядя в костер. Сэнди сказал что-то вроде: «Ээ-х!..» и принялся нескладно и шумно снимать «цинк» с огня.
— Ладно, — сказал Кузьменко. — Пока замнем. Пока! Но вообще — не советую. Понял?
— Хватит, Саша, — почти отрешенно сказал Попов. — Я-то понял. А вот ты… Впрочем, ты прав. Здесь — замнем.
— Вот и хорошо. А теперь — за дело.
— Да дай ты пацану чай попить. Мне, кстати, тоже.
— Во-первых, то не чай. Во-вторых, он не пацан. Он лейтенант армии союзника. Точно, Сэнди? Ну, все. Завязали. Вперед, славные соколы!
А ведь попарились! Убили чуть не полдня (а может, и больше — тут разве разберешь), но не просто помылись — попарились же! С каким-то даже моющим препаратом вроде мыла; во всяком случае, запах, пена и свойства у голубовато-белого пахучего порошка, выбранного Сэнди все в той же неисчерпаемой провизионке по картинке и названию на красивом узком ящике гофрированного картона, оказались вполне мыльными. Правда, глаза щипало зверски и лютейше свербило в носу, но уж пены было — будь здоров. Еле смыли.
В том же порошке выстирали в «цинках» все свое бельишко. И теперь, несколько туповато-ошалевшие, они просто наслаждались странным, забытым ощущением безопасности и покоя, полусонной легкостью и радостным чувством здоровья и живого, чистого, не продымленного тепла.
Да, самое главное — тепла!
Потому что в ходовой рубке корабля, куда они забрались после баньки со всем своим барахлом (и все-таки с пулеметом) к вечеру, было бесшумно, тихо, покойно и, как ни странно, тепло, хотя одеты они были лишь в верхнюю одежду на голое тело — белье не успело как следует просохнуть на горячих камнях хижины и они его развесили тут, в рубке. Зрелище было, прямо скажем, дичайшее — флотские рыжие утепленные подштанники, распяленные на штурвале корабля. Гхм…
На дверь той каюты они старались не смотреть. Утром, перед банькой, они втроем, внутренне собравшись, вошли в ту каюту и… И никого не обнаружили. Никого — в смысле вообще никого. Потому что никакого трупа уже не было. Был легкий, словно пустотелый (или — опорожненный?), какой-то картонно-ломкий муляж. Кукла, изготовленная неведомым грамотным мастером из неведомого материала: на цвет и вид — человеческая кожа, на ощупь — чуть шершавая, прогибающаяся под пальцами мертвая пластмасса.
Стараясь не видеть, избежать стыло-поблескивающих, мертвенно раскрытых глаз этой чудовищной куклы, они, ничего на столе не трогая, осторожно вынули ее из кресла — причем она как-то вкрадчиво-мягко, пробующе, почти неощутимо распрямлялась в их отяжелевших руках — аккуратненько вынесли на палубу, по осыпи с бака судна спустились вниз, к воде, и, отойдя метров на триста-четыреста дальше по берегу, тщательно упрятали ее в глубокую вымоину под скалой, завалив сверху хорошенько камнями. Туда, в ту сторону, они и до того не ходили, а теперь, похоже, тем более не пойдут. Хотя старшина решил про себя, что место это он еще посетит — но уже после возвращения, уже не один и не с пустыми руками. Потому что он-то знал, помнил, какой была эта жуткая игрушка в тот миг, когда он встретился с ней глазами впервые. И уж тем более он никогда не забудет, как рвался на мокрые обрывки «дорнье» над тем страшным и живым вулканом…
Теперь же, спустя несколько часов после «гражданской панихиды», как выразился развеселившийся капитан, все страхи как-то удивительно легко позабылись. Но самым удивительным для старшины было то, что та… ну, скажем, кукла не оказала никакого особенного впечатления не только на Сэнди и на капитана, но и на него самого. Который, как ему казалось, знал много про нее — и она как будто это понимала. Тьфу, ч-черт, безумие какое-то… Все утро он таскал воду, катал валуны, калил камни, потом мылился, кряхтел, поливал орущего Сэнди шипящей водой, сам орал от жара и наслаждения, шипел и ругался от радостно-здорового холода, потом готовил обед, потом ел его, обжигаясь, с давно забытым удовольствием от доброй еды при доброй компании, — а где-то в затылке, нет, ниже, глубже, где-то в самых потемках души постоянно, неотступно, дико-насмешливо крутился, вертелся, устраивался, осматриваясь, образ того немецкого пилота, маячило его бело-застывшее лицо в черном проеме кабины атакующего самолета, бешено сверкали его живо-мертвые, полубезумные от ужаса глаза в каюте. Забыть все это было невозможно.
Хотя бы потому, что уж очень легко, слишком легко, старательно легко забывалось, утекало, рассыпалось в пустяки, в мелочи — вот это-то само по себе более всего и пугало Попова. Ведь в первый миг тогда, ну когда он шагнул в ту каюту, он же мог поклясться, что труп — труп! — был теплым. Если вообще труп был… Или живая кукла, или псевдомеханизм, или что оно там было. А превращения того трупа в нечто иное — что-то вроде искусственного старения? Не-ет, судари мои, тут не мистика, не розыгрыш, не дурацкий аттракцион и — что вообще-то утешает — не наивное запугивание. Теперь ясно, что не запугивание. (Ясно? Конечно. Если б нас хотели запугать, нам бы тут такой театр показали — ого-го! Стоп. Кто? Кто б показал? А-а, то-то…) Это очень простая, буквально оглушающая, ужасающая своей простотой и реальностью вещь. Это — текущая тут, рядом с нами, даже уже в нас самих! — жизнь.
Мы — уже в ней, и она — в нас. Вот так. Не много и не мало. Эта Жизнь просто приняла нас, вобрала, поглотила, растворила в себе, особенно, похоже, нами и не интересуясь, не считая нужным нас менять, лепить, ломать (хотя мы уже не те, что были вчера), не снисходя, не превознося, не боясь и не восторгаясь. Мы — словно камешек, сорвавшийся с обрыва в покойно плывущую своей жизнью воду, в вековечную, никем и ничем не тревоженную — вечность ничто не может потревожить! — воду, мощно покойную и равнодушную к любым внешним треволнениям и суете; ведь воду нельзя изменить или заставить измениться — она течет, она — как Вечность…
Очутившись здесь, мы, три человека, вклинились в спланированный, отлаженный ход событий, в некое устоявшееся действо, или операцию, опыт, эксперимент, или черт его знает что оно тут происходит (а тут ли, холодея, вдруг сообразил старшина, — только ли тут, и что оно вообще такое — понятие «тут»?), — но при этом мы вклинились лишь относительно себя, то бишь только на себя проецируя происходящее, сопоставляя его с собой и своими интересами.
Относительно же острова… Относительно же острова (если только это действительно всего лишь остров — то есть здоровенная груда камней посреди здоровенной лужи) — впечатление такое, что их, людей, тут вроде как ждали, хотя и не особенно озаботились гостеприимством. И даже не то чтоб ждали, но просто появление их было заранее то ли известно, то ли неизменимо, а посему никого и не озадачило, ничего не изменило и никому не помешало, хотя и создало определенные неудобства здешним хозяевам. И, похоже, что они трое здесь не первые и не последние гости, но — кажется, подходим к главному! — теперь они то ли должны, то ли уже проходят некую школу, или тропу, или искус, поскольку все трое готовы были в силу строго личных, биографических причин здесь оказаться. А посему неважно, как называется весь набор явно предлагаемых им поступков, событий и даже (старшина мгновенно вспотел, четко осознав вывод) мыслей, оценок и решений. На чем основываются такие выводы? А на том, что не я это говорю. Ведь не я же? Я это слышу. Слышу! О, Господи…
Попов опасливо покосился на капитана, сосредоточенно вскрывающего финкой банку ананасового компота, и усмехнулся. Бравый капитан отродясь ананасов не пробовал, но стоило сказать про них — и нате вам, в три минуты Сэнди находит консервированные ананасы (он-то, сын заокеанской великой страны, ничуть не удивился и не обрадовался; что он, стопроцентный янки, паршивых ананасов не видывал?). Вот-вот. Пожелал — получи. Каково? Но только чем платить придется в этом спецмагазине-распределителе?..
— В какой момент ты решил перебираться сюда? — спросил старшина из своего угла, где он уютно устроился на коротком диванчике. Сэнди расположился рядом — на широченном штурманском столе, предварительно аккуратно сложив и убрав под стол ту самую надорванную с угла карту и подстелив себе под голову куртку. Капитан же, обосновавшись в ходовой рубке, сразу прочно занял винтовое командирское кресло.
— А я, честно говоря, еще и не решил вовсе, — неожиданно помрачнел Кузьменко, секунду назад чему-то улыбавшийся, и, привстав, поглядел в левое окно на виднеющийся далеко внизу на пляже сиротливо-одинокий, будто съежившийся, самолет. — Стоит «илюха»… Ей-Богу, ребята, мы вроде как бросили его. Прямо жалко парня. Держи банку, старшина.
По-моему, вкуснятина. А я пока вот это вскрою. Апельсиновый сок, Сэнди? Ну пусть будет сок. Нам, татарам…
— Ага, спасибо. Но тогда зачем мы сегодня?..
— Все это устроили? Как я наш дом в баню превратил? А бояться надоело. Пошли они все в задницу со своими штуками. Меня хрен запугаешь.
— Ну это, положим…
— Ладно-ладно. Не будем. Все мы тут того… Потрухиваем время от времени… Ты лучше вот что скажи, — он ткнул банкой с соком в домашне посапывающую горелку посреди рубки, очень аккуратную, грамотную и удобнейшую в их положении вещь, которую Сэнди сегодня обнаружил в шхиперской. — Откуда эта вот печечка? Да еще и с бензинчиком?
— Да ну…
— Чего — «ну»? Скажешь, пацан просто шел — и нашел?
— Так это военный же транспорт, командир. Он явно доставлял кому-то снабжение. Может, зимовщикам или на базу какую, судя по грузу. А вообще-то Сэнди прав — ты ищешь загадки там, где их нет. А где они есть — перешагиваешь, уж извини, не споткнувшись. Вон та река — во где тайна! А все эти ананасы, керосинки…
— Одного не пойму, старшина. Чего ты-то ищешь? Чего добиваешься?
— От кого?
— От меня. Ты ж меня все время сбиваешь с панталыку. Вот, мол, тебе, паря, высокие тайны во имя всего человечества — но имей в виду при этом, что все они — фигня. Чего, не так? Так! Вот как сейчас. Все тут премудро — но ты, мол, дурак, и искать тебе нечего. А?
— Нет. Нет, Саша. Не так.
— А я тебе еще раз говорю, что все тут живое. Вот тебе вся тайна. Главная, от которой все тут и идет. И штучки-дрючки ихние с самолетами, подарочки нам разные, отказы оружия, баловство ихнее кладбищенское — все для того, чтоб мы одурели, не думали, не рыпались и — главное! — не поняли, где сидим. Усек идею? Вот и думай, академик. Вникай себе в диалектику.
— Искали — нашли, и все дела, — миролюбиво сказал Сэнди. — А вы нашли, о чем спорить.
— Понятно? — увесисто сказал капитан. — То-то оно и есть. Нашли, о чем спорить! Устами младенца. Ясное дело.
«Он сам это сказал, — подумал старшина. — Он сам сказал: „Они“.
Но тогда… Тогда действительно — к чему весь этот цирк? Неужто ради того лишь, чтоб проверить их, испытать их, трех бедолаг-кроликов? Или собрать некий материал, утвердить или развалить неведомо чью теорию, которая, возможно, и никому не надобна?
Нет. Нет! Конечно же нет. Просто быть того не может. Ведь если так — то тогда вообще все не нужно, бесперспективно, ибо попросту бессмысленно. Ведь если такой размах, такой масштаб, такая мощь — одно только сведение воедино, в закономерность всех случайностей, ошибок, вероятностей и вариантов требует уму непостижимых высот и затрат разума и энергии! — если все это сводится к такому плоскому, унылому и, в сущности, пошловатому опыту, который они наблюдают, в котором против своей воли (а против ли? и осталась ли воля?!) участвуют — грош цена всему… Да нет же, ч-черт! Мы же идем по своей логике, житейскому, пардон, земному расчету, по первому кругу ассоциаций, по тем аналогиям и решениям, которые подсказывает, нет, подсовывает лукавый наш обыденный опыт! Порочный путь — но как с него свернуть?
Другого человеку не дано, а здесь ведь нечто иное. Пойди туда — не знаю куда; найди… — что? Что найди?
Ну а если поверить, что все работает действительно в программе? И они трое тут нужны? Кому? И остров — лишь постольку остров, что именно остров тут и должен быть? Стоп-стоп… Держи мысль, старшина, держи тему… А, чтоб тебя!»
— Поставь, — сказал он Сэнди, ухватившему бутылку темного литого стекла, очень пузатую и очень красивую, смахивающую то ли на старинный восточный сосуд, то ли на реквизит фильма про пиратов.
— Опять нет? — осведомился парнишка.
— Снова нет! — отрезал старшина и взболтнул банкой сока. — Вот то, ясно? А то — рано тебе дудлить каждый день.
— Оставь ребенка в покое, — нетерпеливо сказал капитан. — Наставники… Как воевать, убивать да помирать — так в самый раз. А как свои «сто пятьдесят» лечебных тяпнуть — так росточком не вышел.
— Правильно, — непонятно кому сказал Сэнди и взял у старшины сок.
— И вообще, после парилочки — святое дело… Не, ты глянь! Я за него распинаюсь, а он? A-а, да пей, что хочешь. Взрослый уже мальчик, решай сам.
— Так что? — спросил старшина. — Чего не искали, во что не верили — того и не было?
— Ну! Он же сам нам все подсовывает. Чего жрать, когда как спать. А ну как он примется решать, чего мы вообще хотим, а? Вообще, по жизни? Ты понимаешь, куда оно все идет? И если не мы вдруг захотим, а, скажем, те же фрицы? Или вот он, а? — капитан мотнул небритым подбородком в сторону американца. Сэнди с непонятным насмешливым интересом глянул на капитана, иронично покачав головой.
— Ты хочешь сказать, что мы находимся на некоем разумном объекте? И наш разум контролируется…
— Я хочу сказать, что нам пора отсюда сматываться, — перебил капитан. — Сматываться и прекращать всю эту суету. Я хочу сказать, что лично мне плевать на разумность объекта, потому что я не знаю главного: задач и подчинений нашего пастушка. Но зато вижу его возможности. Под-чи-не-ний! Непонятно? Он же только пастух, «шестерка», понял? А кто хозяин? И что он может? А? То-то. А раз так — опасность должна быть ликвидирована. Так сказать, во избежание. Точка.
— Опасность? К-кому?.. — старшина подавился. Сэнди, странно сощурясь, откровенно разглядывал капитана с каким-то новым, необычным для него и нескрываемым интересом. Он словно к чему-то подбирался, к какому-то для себя важному моменту, решению, поступку. Что-то в нем вдруг проявилось резко новое, для него, внешне размашистого разгильдяя-пацана, несвойственное. А Попов наконец продохнул. — Та-ак… Значит, опять пальнем-рванем-подпалим, а потом гордо митингнем? Во славу и во имя? По полной программе, да? Так оно привычней, правда, товарищ капитан? Да и мозг напрягать особенно не надо. Главное — социальная…
— А ты не размахивай ушами, — неожиданно миролюбиво сказал капитан. — Ты не о моих мозгах заботься. Ты лучше своими учеными мозгами пораскинь и, подумавши, крепко подумавши, ответь ответственно: знаешь ты их задачи?
— Опять… Кого — их?
— А вот их всех! — капитан мотнул головой к двери — все-таки плотно закрытой двери! — в каюту. — Да я ж его щупал! Тоже, фраера, нашли дурака. Разве я покойничков не видел? Да поболе их. И заявляю со всей убежденностью: тогда, в тот первый раз, когда они, заразы, меня-таки напугали, — то был мертвяк. Самый стопроцентный жмурик. А куклу они уж потом нам подсунули. А что они нам — вообще нам, нам всем, родине нашей! — завтра подсунут? А?! То-то. Правильно молчишь.
— Значит… Значит, ты все-таки веришь… — через паузу не спросил — сказал Попов.
— Да. Верю.
— Что мы здесь не одни? Что столкнулись с более высоким и…
— Я не знаю, с чем мы столкнулись! — перебил капитан. — Не знаю и знать в эту минуту, в этот год, в это вот сучье для моей р-р-родины времечко знать не желаю! Потому что точно знаю: надо кончать. Некогда нам — вообще всем нам, не только тут, а вообще всем — разбираться с ними. Ясно? Нам надо разбить фашистов, надо освободить временно оккупированные территории, народное хозяйство надо…
— Бож-же ты мой! — простонал старшина. — О чем ты, капитан?! Да ведь мы правильно… Если мы сумеем наладить контакт… Господи, да если нам… в нас поверят… Да ты хоть представляешь, что здесь открывается? Для всех, всем? Все-е-ем! Такую уникальную, такую неповторимую возможность, ради которой… О которой мечтало все человечество…
Ведь человечество…
— Да чихал я на человечество! — вдруг бешено заорал капитан, едва не свалившись с кресла. — Бар-ран, ну ж и баран… Да с чего ты взял, что они нас любят?! С чего ты решил, что они — наши?! Мертвяков в рожу тычут, мозги дурят, глаза жгут! А?! Ну, чего, чего ты на меня вылупился? Ну, елки ж двадцать, неужто не понять: когда они на нас бомбы — у-ух, какие ж то будут бомбы! — валить начнут, поздно будет! Поздно! Для всех, для всего твоего гребаного человечества поздно! Но спросу с тебя тогда ника…
— Разум не может быть агрессивным! Разум такого уровня в агрессии самоуничтожится! Это диалектика!
— Да чихал я на диалектику! Вон — Гитлер! Кто они все? Ну? Все ж газеты писали, все политруки, сучьи дети, твердили: Германия — страна европейской, м-мать ее, культуры! Пакт о ненападении, гуманность, так-перетак и распротак ее с перегибом, цивилизация, бахи-бетховены захезаные! Ну и? Танками! Танками они всех нас! Огнеметами! Но если фриц, поганый ублюдок-фриц из своей плюгавой Германии, которая и на карте-то — плюнь — утопишь, а так прет, то чего ж тогда от этих ждать? — капитан сорвался голосом, умолк, смахнул рукавом выступивший на покрасневшем лбу пот и, обмякнув, отвалился на высокий заголовник, уставился в уже темнеющее окно и неожиданно тоскливо сказал: — Ну неужели, неужели, неужели так трудно понять? Эх, политруки…
Сэнди молчал, глядя в подволок. Потом, не дождавшись продолжения, повозился в наступившей трудной тишине и негромко сообщил:
— Я думаю, ребята, вы оба здорово ошибаетесь.
— Да-а? — удивился капитан, оживившись. — А ну-ка, ну-ка…
— Зря вы так орете, парни. И не о том. Я думаю, что вся эта штуковина — вроде наших Бермуд.
— Опять картофельная идея?
— Картофельная?..
— Ну насчет картошки. Что, дескать, вы ее нам преподнесли. С барского своего стола. Хотя то самый что ни на есть исконный наш продукт. Российский! Ну ладно. Так что там у нас на Бермудах, как там наши?
Сэнди приподнялся на локте, длинно поглядел на Кузьменко, подумал и опять неторопливо улегся, задрав коленки.
— Так вот, Бермуды, — спокойно сказал он, явно решив не развивать картофельный инцидент. — Я, правда, сам толком ничего не знаю, да и никто, по-моему, не знает. Но когда я учился летать в Форт-Лодердейл — ну в учебном центре, это во Флориде, чуть выше Майами, если по карте, — так вот, мы как-то с ребятами в тамошнем барчишке от местных рыбачков слыхали, что неподалеку в море, на чистый ост от Майами, есть такое гиблое место. В общем-то курортная зона. Яхты, миллионеры там со своими бабами, куча островов, целый архипелаг, климат райский, вечное лето, пальмы там всякие — короче, все, как положено. Но время от времени там чего-то случается… — он замолчал, пытаясь прикурить, но зажигалка никак не загоралась — фитилек, что ли, отсырел.
— Так чего случается-то? — не выдержал Кузьменко.
— А черт его знает. Случается — и все тут. В том-то и дело, что никто не знает, чего именно случается.
— Это как это? — опешил Кузьменко.
— А вот так. То судно там сгинет. Молча. То самолет с курса собьется — если вообще долетит. То компас рехнется. Связь. Рефракция. Или…
— И все? Ну, брат… В море, в небесах — знаешь ли, не у тещи…
— Да. Конечно. Но только там уж больно часто, но, главное, всегда страшно и непонятно. Нет, наоборот — непонятно и потому страшно.
Причем никогда никаких концов. Судно пропало — а потом его находят. Но без людей. И вроде они только что тут были. Даже кофе горячий. Яичница с беконом на плите шкворчит.
— Ну, сынок, ты эти байки не нам трави, — пробурчал почти разочарованно Кузьменко. — Кофе горячий и яйца, понимаешь, у него шкворчат… Сколько времени потребно для обнаружения и опознания судна? Для принятия решения, на подход, на высадку и досмотр? Кофе с яйцами вкрутую…
— А это вам ничего не напоминает? А, парни? — Сэнди ткнул большим пальцем через плечо под себя, под стол, где лежала им убранная та самая карта. Немецкая карта с сожженным углом. — Та бумажка, что у вас на глазах сгорела, — она чего, сто лет тут горела? А? Или просто вам видение такое было?
Русские переглянулись и одновременно покосились на запертую дверь той каюты.
— Правильно, парни. Или так: есть связь — нету связи. Но все исправно. Видимость — сто на сто. Никаких непрохождений. Оператор трезв как ангел. А связи — нет. Ку-ку! Вырубило. На десять минут. Но на те десять минут, на которые сдохли все часы в округе. Тик в тик. Нормально, да? А то еще так. Пропало судно. Его нашли. Судно как судно. Но…
— Ты говорил. Без людей.
— Нет, — через паузу сказал Сэнди, глубоко затянулся и длинно выпустил в подволок пушистую струю душистого мягкого дыма. — Нет. Не говорил. Потому что люди — есть. Целехонькие как огурчики. И как огурчики не дышат.
— Что? Они?..
— Да. Трупы. Давние трупы! И целенькие. Никакой биологии. Как тот парень — ну наш приятель за дверью. Один к одному. И что интересно — померли они все со страху. Понимаете, парни? Вы понимаете? Как тот парень! Целехоньки, как елочные игрушки, лежат ребятишки. И вид у них такой, что ясно — померли они со страху. Опять как он. Померли все разом.
Наступила мертвая тишина. В ночной сгустившейся тьме лишь колюче мерцал багровый огонек сигареты. Здесь, в задраенной ходовой рубке, не слышно было даже раскачивающегося гула прибоя. Только далекий, едва ощутимый, подрагивающий рокот глубоко под ногами. Словно летит остров, кружится в бесконечном полете — и летит, кружится вся планета, весь мир. Во мгле, пустоте, темноте…
— И… И что же? — наконец осведомился капитан.
— В каком смысле?
— Н-ну… Расследовал кто? Искал?
Сэнди приподнялся на локте:
— Вы не поняли, ребята. Я ж говорю: часы взяли — и сдохли. А потом передумали — и все разом пошли. Связь была — и связи нету. А потом — связь есть. Сама по себе. Ну? Чего тут исследовать? Где расследовать? Чего искать? Чем измерять? А главное — что измерять?
— Так ведь люди-то гибнут? — сказал капитан. — Черт-те что…
— Люди… Гибнут. Но от чего они загнулись? Целехоньки покойнички-то? И… Гибнут?
— Тьфу! — сплюнул капитан. — Вот тебе акулья харя капитализма. Люди мрут как мухи — и никому ничего. Нормально! У нас бы хрен такое допустили.
— Да? — непонятным голосом сказал старшина.
— Чего — «да»? Ты чего дакаешь? Опять за свое? Ох, старшина…
— Так и сколько их там погибло — если на время пересчитать? — перебил его Сэнди. — В том-то и фокус, что вроде ничего не происходит. Ну пропало судно раз в год. Так сколько их за год в морях гибнет? Это же все не каждодневно там. Вот вроде и нету ничего. Мы, кстати, пару раз у нашего инструктора поинтересовались. Как-никак в том районе летаем, спаси Господи. Ну он нас… Как это у вас называется… Отматерил, да. А потом как-то под нетрезвую руку рассказал кое-что. Мол, да. Бывает. Пакостное место. Гнилое. Яма, словом. Но вы, мол, парни, не берите в голову. Япошата, мол, хуже всех Бермуд на свете. Климат райский, опять же. Не Алеуты и не Яванское море. Оно, конечно, может, и так…
Они помолчали, прикидывая каждый что-то свое, потом капитан негромко спросил — то, что хотел спросить и старшина; спросил именно потому, что и вопрос и ответ напрашивались сами собою:
— Ладно. Но как ты все это вяжешь сюда?
— Да никак, — вздохнул Сэнди и старательно затушил окурок о подметку башмака. — Я совсем, совсем другое хочу сказать. И, по-моему, оно самое важное. Раз эта штуковина есть — значит, она есть. Существует. Сама по себе. Какая есть. Какой ее сотворил Создатель. И значит…
— Какой еще создатель? — не понял капитан. — Инженер, что ли? A-а, понял. Бог. Ну, ясное дело. Боженька. Куда уж нам уж…
— …и значит, не нам решать, хорошо оно или плохо. И уж тем более — нужно оно или нет. Вот и все.
— Ну, тут уж извиняйте… — пробурчал капитан. — Мура все это. Демагогия. Разве о том у нас речь?
— О том. Разве нравится дождь? Или камень? Или смена дня и ночи? Но все оно есть. Просто есть. Сотворено Творцом и существует само по себе. Независимо от чьих-то желаний и симпатий. У всех и каждого — в отдельности и вместе — своя жизнь, и ты, возможно, никогда ее не узнаешь. Ты даже можешь не узнать и о самом существовании такой жизни.
Но главное в том, что нет такой земной власти, нет такой силы, которая может это изменить. Но, приняв такую точку зрения, ты можешь изменить свой мир. А это не менее важно, потому что тогда изменится мир не только вокруг тебя, но и внутри. Ведь твой мир — и внешний, и внутренний — таков, каков ты. И наоборот. Вот это и есть самое важное. Вот это и надо понять — и принять. Отсюда — все.
Старшина изумленно глядел на Сэнди. Старшина потрясенно взирал на Сэнди — на спокойного, сдержанного, уверенно знающего свои принципы человека. Но ведь это говорил мальчик! Ай да мальчик! Ай да Сэнди!
— Ага, — сказал Кузьменко. — Мне, значится, до дождичка дела нету? Не спорю. Согласен. А вот как быть, ежели дождичку до меня дело найдется? Тогда как? Чего там про то в святцах писано?
— Не знаю, — серьезно сказал Сэнди и ткнул рукой в подволок.
— Он — сотворил. Он — хозяин. У нас дома говорят — Старый Хозяин. Он знает. Все знает.
— Ага. Он. Очень старый хозяин. Понятно. Ну а вдруг нашему островишку дело до всех нас найдется? У него ж своя жизнь, оказывается. Свои планы. И вот он под горячую руку за нас возьмется. Тады как?
Сэнди молчал, странно глядя из полутьмы капитану в глаза. «Так вот почему с самого начала я ощущал, чувствовал его поддержку, — радостно подумал старшина. — Нет-нет, не то! Вот почему парнишка здесь, с нами! Ай да мы, ай да ребятки! А капитан? А что — капитан?»
— Так что? — настаивал Кузьменко.
— Я знаю как, — сказал старшина. — Разум есть. Не тут… — он постучал костяшками пальцев по лбу. — Разум — в мире. В абсолюте. Добро — в абсолюте. Не на вдруг, не на сегодня или на послезавтра. В принципе. Как данность. Основа существования материи. Ибо абсолютный разум предполагает абсолютное оружие. То есть разрушение самой материи. Без абсолютного разума, оно же есть добро, мир неминуемо погибнет самоубийством. Я же говорил — диалектика!
— Ладно-ладно, я доверчивый. Но здесь? С нами?
— Если существуют некие точки, некие географические… центры, что ли… И не географические, а геовременные… Нет, не то, не то… — старшина мучительно защелкал пальцами.
— Мы встретились, — тихонько, странно-подсказывающе сказал Сэнди. — Мы же все встретились. Неужели вы, парни, до сих пор никого не увидели…
— Ага! — гулко хохотнул капитан. — Встретились, не без того. Общнулись даже. Куча задолбанных покойничков. И все от разума окочурились. Во добра — полная телега!
— Не суетись, Саня, — предостерегающе сказал старшина. — Ты не слышишь. Ты слушаешь, но не слышишь. Не хочешь слышать. Сдержись, отринь суету, и без предвзятости, без злобы, без страха и с надеждой…
— Без предвзятости? Без страха и с надеждой? — Капитан со скрежетом проволочной черно-седой щетины на щеках потер ладонями темное лицо и вдруг с прорвавшейся глухой тоской сказал — нет, простонал: — Да ведь и вправду боюсь я! Просто боюсь… Ведь не за себя же, чего ж сам-то, сам-то уж давно никто, давно отбоялся, как помер… За всех нас боюсь, за всех, которые тут и которые дома, и которые там, везде… Эх, знать бы, если б знать! Хоть шаг бы вперед — а то ведь десять лет, все десять лет…
— А ты за всех не ручайся, — посоветовал Сэнди. — Подпись за всех ни один банк не примет. Не надо за всех. За всех нас только Господь.
— Да пошел ты с ним вместе… Чего ты понимаешь в нашей жизни, американец… — он вывалился вперед из кресла и уперся лбом в толстое литое стекло ограждения ходовой рубки. Да, действительно, здесь, в наглухо закрытой теплой тишине не слышно было ни посвиста одинокого ветра над темной бесконечной пустыней, ни воя бушующей где-то неподалеку, но повсюду, везде, войны. И тень этой войны висела над ними, давила, не выпускала из-под себя, из-под своей удушливой шкуры ни на миг — даже когда они не видели ее, не говорили, не помнили о ней. Капитан зябко передернул плечами и пробормотал: — Опять не темнеет. Опять ночи нет…
— Что? — не понял старшина. — Как не темнеет? Да ты чего, Сань?..
— Да разве ж это ночь…
Сэнди завозился в мгновенно будто насторожившейся тьме и неловко, оступившись затекшей ногой, боком сполз со стола. Старшина ждал, глядя в сжатую спину Кузьменко.
— Немцы где? — с непонятной тоской спросил капитан в темно-серое стекло. Да, там, снаружи, висела все та же странная, пугающе-живая и потому омерзительная плотная темная масса, заменяющая здесь ночь.
— Почему вообще никого нет?
— Но ты же сам говорил — задворки.
— Говорить-то говорил… Но ведь какая войнища молотит. Народу сколько мотается в небесах. Дерется народ в небесах. В море. Везде. Под водой режется! И никого… Ну, наших тут нету — ладно. Чего тут искать-то. Янки, англичанцев — тоже туда-сюда. Но хотя б фрицев разведчик погоды какой-никакой пролетел, что ли? Или там швед паршивый, не знаю…
— Так ведь был же? — выжидающе возразил Сэнди. — Ну тот?
— В том-то и беда… — и капитан закрыл глаза.
И через длинную паузу, помолчав, старшина сказал:
— Да. Да, командир. Ты прав. В том-то и беда.
Задыхаясь, Попов и капитан накатывали к воде валуны покрупнее, сооружая что-то вроде то ли ограждения, то ли волнолома вдоль полосы прибоя, чтоб в случае сильного наката или шторма море не размыло уже ими выровненные и спрямленные участки пляжа — будущей взлетной полосы, их дороги к свободе или… «Выбирая путь к победе, выбирай путь, ведущий к смерти» — гласит «Бусидо». Что же знали древние самураи о жизни, если смели учиться победе через смерть?
Впрочем, попробовали бы эти храбрецы повоевать с булыжником… А, ч-черт! — опять ударился коленом!
— Ты под … под ноги … смотри! — просипел распаренный, красный капитан и, упершись спиной о камень, мешком осел на гальку. — Ты то … поматюкайся слегка, чтоб полегчало, а я … Уф-ф-ф! А я дух переведу пока. Ну ты здоров, старшина. Интеллигенция — а бык быком!
Растирая колено, старшина повалился боком на камень, разглядывая резко выступающий на будущую полосу песчано-галечный «язык» осыпи, который капитан чудом не зацепил при посадке, но миновать который при взлете будет просто невозможно и который до наступления темноты они еще наметили снять. Лопаты — ящичные доски попрочней, которые они приволокли с корабля и кое-как обтесали щербатым пожарным топором, — Сэнди им уже приготовил. Сейчас он с наслаждением гремел железом, возясь под капотом «ила». Он опять изумил старшину, как, впрочем, и капитана, оказавшись большим любителем и знатоком моторов; в пять минут он с помощью Кузьменко разобрался, что в АМ-38Ф так, что не так и как надо сделать эдак, и с азартом принялся за дело. Старшина больше удивился даже не столько его знаниям и навыкам, сколько тому, как быстро капитан доверился парнишке: взлезши с ним в закопченное нутро мотора и побубнив там буквально пять минут, Кузьменко наружу выбрался уже один и, отирая руки бумагой, с явственным уважительным удовольствием констатировал:
— Не парень — зверь в нашем деле. Талант!
Вдвоем они с утра быстренько соорудили из ящиков, найденных в корабельных трюмах, удобный для парня помост-козлы и, порасшибав на откатке валунов все имевшиеся в наличии бока, ладони, локти и колени, взялись, чтоб «освежить утомленный однообразной рутиной мозг», как выразился капитан, за землеройные работы.
— Ерунда, — сказал он, с хаканьем всадив доску-лопату в неподдающуюся осыпь. — Сделаем. На канале ребятам покруче было — а вон какую махину отгрохали. На весь мир загляденье!
— Каком канале? — не понял старшина. — A-а, ты о том …
— О том, о том самом. О Беломорском!
— Откуда знаешь? Ну-к, Сань, помоги эту махину катнуть.
— Мы рычагом, рычагом возьмем, подопри-ка здесь… Да уж знаю! — капитан как-то скользко глянул через плечо на Попова, упер доску, поднатужился. Старшина навалился, валун скрипнул галькой, тяжко качнулся. — Э-эть! Пок-катили родимого — как брехню по селу.
Работая, они о времени не думали. Еда была, костеришко уютно тлел, жилище ждало их почти человеческое. Придет ночь — будет ночь. Лишь в какой-то момент, скатывая с хрустом и скрипом очередной валун к воде, Попов мельком подумал, что слишком уж долго не темнеет. Судя по событиям дня, по ломающей спину усталости, времени прошло немало, пора бы и вечереть. Да, плохо без часов, совсем никуда. Капитан думал о том же; помогая старшине, он пробормотал, задыхаясь:
— Во жизнь — ни будильника, ни бритвы, ни людей, ни собак. Фашистов — и тех нету… Да пес с ним, Серега, хватит, нехай тут и стоит каменюка. Не стрелять же из него — абы не мешал, — он, хрустя спиной, вкусно разогнулся. — А молодцы мы с тобой. Если так и дальше… эй, глянь, Сереж, чего эт с ним?
Старшина, разгибаясь, обернулся к Сэнди, на которого уставился капитан, — и замер сам.
Американец в нелепой, невозможной какой-то позе — вытянувшись боком из-под капота с задранной зачем-то рукой и при этом в несуразной полуприсядке — глядел в море ошалелым, буквально диким взглядом, разинув рот. Русские разом крутнулись по его взгляду — и сразу увидели.
Метрах в двухстах от берега из серой качающейся волглой мути вечного тумана медленнейше, будто проявляясь из серого «ничто», бесшумно выплывала, вытекала громадная черная субмарина.
Гитлеровская субмарина.
Спина мгновенно обледенела. Старшина услышал хрусткий шорох и отстраненно подумал: «Вот оно, значит, как волосы встают дыбом. А я-то не верил…»
— Эг-гэй… — нелюдским, подпрыгивающим хрипом произнес капитан и с отчетливым стуком захлопнул рот, жутко лязгнув зубами. Старшина качнулся и едва не упал — сердце ахнуло кувалдой в затылок: оказывается, он забыл дышать.
Подводная лодка — по размерам и обводам океанская, но незнакомой серии — жутчайше безлюдная и грозная, мокро поблескивая мятой черно-ржавой сталью покатых бортов, бесшумно замедленно покачивалась в серой, шипящей газировкой воде; изредка с отрывистым клокочущим гулом из оранжево-красных изнутри решеток-щелей балластных цистерн бурляще выливался, выбрасывался широкий гейзер воды, вскидывался до жирно лоснящейся палубы и, мокро гремя, скатывался грязной рваной пеной за борт; на носовой палубе, за ограждением низколобой угрюмой рубки длинно торчало дуло как минимум 105-миллиметровой пушки. Да, сомнений быть не могло: на черной, с типично немецким выступающим в корму веерным релингом рубке тускло светилась вылизанная глубинным давлением, изъеденная свирепой солью океанской волны, исхлестанная свирепыми мокрыми ветрами серо-белая, разрисованная потеками рыжей ржавчины, широченная латинская надпись бортового номера «V-097».
Сэнди спиной вперед отпрыгнул от самолета и, с шумом грохнувшись боком на гальку, сипло заорал:
— Этот! Эти!.. — и неожиданно закашлялся.
Русские, полусогнувшись-полупривстав, каменно торчали над своим валуном; крик Сэнди тряханул их — и уже через секунду Кузьменко мчался огромными прыжками к самолету, рвано крича:
— Прочь! Сэнди, прочь от машины! Под камни, пацан! Под камни!
Старшина, хрустко буцая сапогами, добежал до сложенных у хижины ящиков и коробок, подхватил на руки прислоненный к ним пулемет и устремился проваливающимися тяжелыми прыжками по осыпи вверх, путаясь ногами в болтающейся патронной ленте. Захлебываясь, он на бегу сумел-таки выровнять ленту и передернуть затвор. Кузьменко же непонятно зачем неожиданно подхватил Сэнди под мышки и, хрипя, поволок под укрытие откоса, а тот от неожиданности даже не отбивался.
Через секунду все стихло.
Высоко в скалах замер, выставив ствол пулемета, старшина; под обрывом, внизу за обломками валунов, рядышком лежали, приподняв головы, капитан и Сэнди.
— Где твой «кольт»? — почему-то одышливым шепотом спросил капитан, не сводя глаз с подлодки, медленно разворачивающейся лагом[83] к волне.
— Что? A-а… Вот. Вот он, — бледный американец показал из-под куртки свою дуру.
— Молоток… А моя-то пушка тю-тю, — тоскливо сказал капитан и быстро отер лицо. — Тама, в кабине.
Сэнди, отвалившись на бок, неспешно выволок пистолет и деловито-спокойно, будто готовился дрова рубить, передернул затвор. Капитан задрал голову, поглядел вверх и непонятно сказал:
— A-а, была не была. Все равно они нас видели. Тем более — самолет. Чего уж… Старшина!
— Я-а-а… — донеслось сверху.
— Готов?
— Еще бы…
— Я иду к машине! Полезут на палубу — бей!
— Не полезут, — негромко возразил Сэнди, разглядывая лодку.
— Эт почему?
— Нас видели.
— Тем более! — сердито сказал капитан, напрягся лицом, сказал в себя шепотом: — Ну, давай! — и рывком встал.
Сэнди задержал дыхание, сощурясь поверх ствола.
Капитан ждал, стоя в рост и не мигая.
Секунда… Три… Пять…
Тишина. Посвист ветра. Медленные, глухие удары наката. А умирать, черт его дери, неохота…
Отчетливо виден задранный в низкие, мокрые небеса ребристый ствол то ли «эрликона», то ли крупнокалиберного зенитного пулемета на рубке. Тяжело свисает недвижная тряпка какого-то непонятного серого, что ли, флага, зачем-то намотанного на без надобности поднятый в надводное положение перископ.
Субмарина, от которой несло могильным холодом, явственно неторопливо разворачивалась; стала видна ее кормовая палуба и малокалиберная пушка за рубкой.
Капитан, высоко задрав колено, перешагнул через валун и неспешно, крепко ставя негнущиеся ноги, пошел зачем-то к самолету.
Старшина выдохнул, прижал пулемет к плечу и чуть-чуть повел спуск, выбирая слабину курка. Все, все как всегда. И уже он не помнил. Он все забыл. Про оружие. Про остров. Про смерть. Он лишь боковым зрением видел невероятно широкую спину командира внизу — и мертвенно-страшную субмарину в прорези прицела, который тщательно удерживал под слепыми лобовыми окнами — портиками ограждения рубки.
Отдаленное шипение пены. Длинный гудящий накат прибоя. Размеренные, каменно-хрустящие шаги.
И ничего более. Вообще ничего.
Подводный корабль неспешно, но заметно приближался, сдрейфовывая лагом к прибойной волне, но не под машинами: не слышно было низкого, глухого, басовито-утробного перестука дизелей, не вскипали под форштевнем и кормой белые буруны. Лодку прибивало к берегу сильное поверхностное течение. «Возможно, оно-то в свое время и вынесло сюда заброшенный военный транспорт», — вскользь подумал старшина.
Кузьменко открыто стоял возле самолета, вглядываясь в могучего подводного хищника, который легко пересекал океаны, неделями и месяцами подстерегал добычу на самых далеких коммуникациях, наводя ужас на торговые суда и воинские транспорты. Появление такого зверя здесь было для трех авиаторов смертным приговором.
Но сейчас никто ничего не понимал. Лодка никак себя не проявляла. Приподняв голову, старшина безуспешно пытался разобрать, что там за тряпка, истрепанная, исхлестанная дождями, циклонами и солеными ветрами, свисает с поднятого зачем-то перископа, почему наглухо — это и отсюда видно — задраены люки, и вообще…
— Старшина! — донесся крик Кузьменко. Попов приподнялся на локте. Капитан стоял у самого уреза воды. До лодки оставалось метров с полсотни, не больше. — Ну-к, для понту — врежь ей по очкам!
— Чего?!
— Давай-давай! — неожиданно весело подтвердил капитан и оглянулся. Старшина удивленно рассмотрел его улыбку. — По рубке этой твари — огонь!
Попов, уже догадываясь, но не смея, не надеясь поверить, задрал брови, крепко прижал упор — и мягко повел курок, зная, что выстрела не будет. О-о-оп…
Тр-р-рах!!! — оглушительно грохнул УБТ, ствол мощно подбросило короткой, в три — пять патронов, очередью, дымные гильзы задиристым развеселым перезвоном запрыгали в камнях; старшина охнул от боли и едва удержал пулемет в руках — отдача оказалась сильнейшей, куда сильнее, чем он предполагал. Хоть бы плечо не сломало…
Тяжелые пули с гулом ударили в загудевшую контрабасно рубку, голубовато-розово блеснули искры рикошета, брызнула краска, белокостяными размазанными точками разорванного металла засветились пробоины. Но субмарина по-прежнему молча замедленно-тяжко подплывала и вновь погружалась длинным жирно-вытянутым телом в зеленовато-серых шипящих буграх волн.
— Понял?! — радостно заорал Кузьменко. — Нету! Там никого нету! — Он быстро вскарабкался к хижине и деловито выволок из-под камней шлюпку-надувашку; к нему торопливо, опираясь на пулемет, спускался по осыпи старшина. Сэнди, сдвинув дулом пистолета шлемофон на затылок, с интересом всматривался в подводную лодку. Да, вероятно, они были первыми союзниками, так близко видящими живьем, в целости и сохранности одного из свирепых «волков» бесчисленных «волчьих стай» гросс-адмирала Деница. И зрелище было действительно не для слабонервных…
А субмарина медленно вновь разворачивалась — явно усиливающееся под берегом течение тянуло лодку вдоль береговой черты, снося ее носом на выступающие в море камни, метрах в ста за которыми и покоилось на берегу судно-гроб. Летчики стояли втроем возле принесенной ими к самой воде шлюпки. Странно: они чувствовали себя в совершенной безопасности. Страшила только огромная пустотелость — явственно ощутимая пустотелость чужого подводного корабля. Опять безлюдье, опять уже поднадоевшие, даже раздражающие, тайны, игра, чертовщина…
Медленно, очень медленно тянулись минуты, отсчитываемые растянутым раскачиванием прибоя. Старшина будто видел дымную, бездонную пустоту за черным железом обшивки…
И вот, наконец, заскрежетало невидимое в воде брюхо субмарины, волна с раздраженным шипением вывернулась из-под медленно приподнявшегося ободранного, мятого, ржавого форштевня лодки, с креном тяжко выползающей на мелководье, болезненно захрустела галька, опять железно-гулкий пустой удар волны в подрагивающий мятый борт — и все. Все!
Вблизи не такой уж огромный и страшный, лежал бессильно, чуть завалившись набок, в пузырящейся качающейся воде длинный и ржавый железный труп.
Зверь издох.
Кузьменко, сопя, стащил в воду шлюпку, промокнув до бедер; старшина придержал ее, пока капитан усаживался в нее, потом сам перевалился боком через борт-баллон — и капитан легкими, энергичными рывками здорового мужчины, радующегося такой работе, в десяток гребков умело прогнал лодку сквозь прибой и ловко подгреб под скоб-трап за рубкой разом с подхлестнувшей волной.
Пока Попов прихватывал шлюпку фалом к скобе, капитан лихо, будто всю жизнь только тем и занимался, вскарабкался вверх и, гремя сапогами по настилам, боком пошел вдоль надстройки.
Поднявшись за ним на покатую палубу, закрытую решетчатым настилом, старшина быстро огляделся. На подлодке он оказался впервые — тем более на гитлеровской. Его легонько потрясывало — то ли от беготни, то ли нервным ознобом. Капитан же тем временем кошкой шустро взобрался по рубочному скоб-трапу на ходовой мостик и пропал там, потом оттуда донесся быстрый скрип, взвизгнул металл, лязгнуло — и капитан возник на фоне низких серых облаков широко ухмыляющейся физиономией над релингом рубки:
— Точно, никого нету! Как в могиле — тьфу, три раза через левое плечо. Давай сюда, я уже отдраил рубочный люк.
Отсюда, с ходового мостика рубки, берег просматривался весь, как с балкона. В необычном для летчика ракурсе под ногами лежало мертвой тонкой рыбиной тело подлодки. На ветерке серыми пятнами соли быстро высыхали лужи на палубе. Из черной дыры открытого рубочного люка тянуло под ноги ощутимой даже на холоде… Как точнее сказать? Какой-то холодной гнилой землей, что ли… Сырой, ледяной, удушливой плесенью. Мокрой ржавчиной? Нет — могилой оттуда несло.
Могилой…
— Сдались они, псы. Вишь простынка? — успокоительно сказал Кузьменко. — Только вот кому, когда? Уж больно ржаво все… Слушай, но что за тип лодки? Моща! Я таких и не видывал… Э-эть! — он мешковато подпрыгнул, ухватился за край грязно-серой драной простыни и с влажным мягким треском содрал ее. — Ух, зараза!.. — Простыня, изображавшая, видимо, флаг капитуляции, захлестнула его по ногам. Он потоптался, избавляясь от противной тряпки, потер ладони и с непонятным старшине мальчишеским азартом сказал:
— Ну, че? Лезем? Я рубочный люк на раз отдраил. Может, документы какие. А? Слабо? — И первым лихо вбросил ноги в черную круглую дыру, нащупывая подметками скобы трапа.
В центральном посту подлодки было темно, сжато-глухо, заброшенно, сыро и мертво. Тусклый серый свет падал через шахту рубки вертикальным осязаемым столбом в сводчатый склеп главного командного пункта. Вслед за капитаном Кузьменко сюда спустился и старшина Попов. В открытой дыре люка-лаза было недвижно черно. Подсвечивая фонариком (Попов в который раз подивился чисто солдатской смекалистой запасливости капитана), они осторожно, то и дело натыкаясь лбами, плечами, боками, коленками на какие-то механизмы, пробирались непонятно куда в невероятной черной тесноте, шумно, как в противогазах, дыша. Ни малейшего страха, настороженности, опасливости не было. Какой может быть страх в старом заброшенном сарае… Так, пыль одна, мышиный помет, паутина.
Так и тут. Старое холодное железо, омертвелые отсеки, истлевшие провисшие провода, давно безжизненные магистрали. Не будь командира, старшина б сюда и не сунулся. Не было тут, и быть не могло ничего интересного, полезного и нужного. «Таким вот железом — мертвым, обгорелым, разодранным, рваным и просто брошенным в целости и исправности сейчас вся моя Россия завалена, — с горечью вдруг подумал старшина, — а мы тут ползаем в чужом гнилом брюхе». Он наткнулся на мягкую полусогнутую спину командира: тот в очередной раз больно воткнулся лбом в какое-то мертвое железо и в очередной раз беззлобно матюкнулся.
— Слушай, лезем отсюда? — попросил старшина эту спину перед собой. Голос его сразу пропал, увяз, затонул во влажной черной тишине, сдавленной со всех сторон.
— Не! — спина подумала, согнулась ниже и двинулась вперед. — Надо каюту командира ихнего найти.
— Везет нам…
— Ага, на пустые железяки, — Кузьменко желто посветил куда-то вдоль открывшегося узенького коридорчика-тупика, в конце которого тускло блеснула овальная дверь. — Кажется, нашли.
В крохотной скругленной каюте, похожей на лежащую на боку консервную банку, был флотский порядок. За полузадернутой темной плюшевой портьерой — кажется, вишневого цвета, хотя в тусклом свете уже садящегося фонаря не разобрать, — аккуратно заправленная узкая койка. Над нею на переборке — пустая овальная рамка из-под фотографии, самого же снимка нет. «Забавно, — мелькнуло у старшины, — это ж надо: фото вынуть, но уже ненужную рамку все-таки на место повесить…» Кузьменко с нарочитым дребезгом повыдергивал ящики вжатого в переборку стола — всюду чисто и пусто. Никаких бумаг, никакого мусора. Вообще ничего. Над койкой в ногах — пустое гнездо из-под когда-то ввинченного в переборку магнитного компаса: прибор рядом — глубиномер — был целехонек, под его толстым матовым стеклом грустно маячил «ноль». Попов провел пальцем по стеклу — а-а, вот почему оно матовое: пыль. Вот еще одна загадка, только загадка нашего человеческого повседневно-унылого бытия: откуда здесь, в глухом чреве подводного корабля, может взяться в таком непостижимом количестве обыкновенная, скучная, бесцветная квартирная пыль?
Кузьменко распахнул фанерные дверцы одежного шкафчика. На аккуратном проволочном тремпеле одиноко висела черная рабочая тужурка со споротыми погонами — оп, уже интересно! На то, чтоб вывернуть компас, времени хватило, а на погоны — нет? Потому что их, оказывается, не спарывали. Спешили так, что кое-где их отдирали с мясом — вон даже ткань продрали, нитки свисают. Хотя непонятно, на кой вообще их надо было драть? Хм… На верхней полочке — парадная паскудно-фашистская офицерская фуражка с паскудно-фашистски задранной кверху тульей; эге, «краб»-то с фуражечки тоже содран, и тоже в суматохе. Та-ак… Рядом с фуражкой — коробка пластмассовая с какой-то житейской галантерейной дребеденью: пуговицы, крючки, иголки, нитки там, застежки всякие… Опять несуразица. Офицер-аккуратист, готовясь к сдаче в плен, тщательно вычищает рабочий стол, снимает компас, неспешно, ничего не повредив, забирает с собой душевно-дорогое семейное фото, не забывает даже родимые эполеты прихватить — но при этом бросает за ненадобностью буквально бесценные в лагерном быту мелочи, которые к тому же можно просто сунуть в карман. Интересно…
— Не так, чтоб спешил, сволочь, — пробурчал Кузьменко и странно оглянулся на свой голос, отдавшийся за дверью. — Но как же так? Лодка ж вроде цела? И ни карт тебе, ни документов — ни хрена хренового…
— Слушай, старшина, а где у них все-таки компас? И часишки б. Во чего нам надо… О, глянь сюда, старшина.
На переборке над столом черно зияли пустые дырки-оправы — явно под приборы.
— Тут они и были. И компас, и эхолот, и часы, наверно. Грамотные, падлы. Глаза продрал, глянь с подушки — вот те и курс, и глубина, и все на свете.
— Хватит. Пошли отсюда, — глухо потребовал старшина. — Дышать нечем в этом погребе.
В тесной кают-компании — то же. Все на месте, даже очень домашний, деревянненький, уютненький, бытовой радиоприемник с патефоном, привинченный к переборке под какой-то картинкой из журнала — общий вид небольшого заснеженного городка под лесной горой. Но, когда капитан взялся за верньер настройки, темно-красная эбонитовая ручка вывалилась в его пальцы — приемник был выпотрошен. Зачем? В отделанном красным деревом баре-шкафчике сверкнул во тьме великолепный набор сияющих хрустальных бокалов, рюмок, стаканов.
— Ничего путного нету, — пробормотал капитан. — Дребедень одна. Но красиво воевали псы. Однако ж — хлам. А вот бы карту, журнальчик бортовой бы…
И вдруг старшина задохнулся. Лицо онемело. Он замер, оцепенел, окаменел посреди каюты, уставясь на переборку, где лаково поблескивал глянцевый новогодний календарь-плакат. Кузьменко что-то бубнил, водя фонариком по закоулкам.
— Ком-ман-дир!.. — свистящим шепотом прокричал старшина. Кузьменко дернулся, бросил на засверкавший календарь луч света — и лицо его зеркально заблестело белым в темноте. Он тоже сразу понял.
— Мама… — беззвучно произнес он. — Мама моя, что ж это…
Они стояли молча перед роскошной девицей в белоснежном бальном платье, усыпанном серпантином, в разлете танца, и лица их были белы, как то платье. Потому что календарь был явно не новый. По фигурке танцовщицы, по смеющимся неясным лицам гостей за ней, по усыпанной белым же снегом елке шли какие-то надписи от руки разными карандашами, пестрели какие-то пометки на числах самого календаря, какие-то значки и записи. Этим табель-календарем пользовались не день, не два — и это было самым страшным.
Ведь летчики смотрели омертвелыми глазами не на девицу. Не на елку. И не на надписи и числа.
Остановившимися, ничего не видящими глазами они видели лишь дату — четыре невинные цифры, разноцветно-радужно выписанные затейливыми вензелями по верху всего плаката.
На немецком календаре, в немецких новогодних пожеланиях празднично и счастливо, безнадежно и убийственно сверкали чудовищные цифры давно минувшего Нового года.
Года 1945-го…
Кузьменко каменно приподнял голову, с трудом оторвав от будто набухшего скользкого стола горячо-шершавый тяжелый лоб. Голова не болела — хотя проснулся он именно от боли в висках, в заложенных ушах шорохно гудело басом — словно звали далекие телефонные провода, словно ждал его кто-то в далеком конце дороги…
Он медленно, едва ворочая шарнирно скрипящей подламывающейся шеей огляделся.
В ходовой рубке стояла тяжелая болотная вода черно-серой тьмы. Тяжко обвисали взбухшие столетней — о да, вековечной сыростью шторы. Металлически-зеленовато мерцал линолеум. В мертвые черные окна недвижно вперилась мутными, древними глазами, как сам суеверный ужас мира, слепая темнота.
Рядом вкусно-беззащитно посапывал невидимый Сэнди, уютно устроившийся с вечера в глухом углу за штурманским столом. Старшина измученно спал на кожаном диванчике расплывающейся во мраке бесформенной тушей, запрокинув безжизненно через жесткий валик голову, и грязные, спутавшиеся мятыми клочьями волосы залепили черными петлями его влажно поблескивающий лоб. На черной груде снятых сапог мертво-бело покоилась его свесившаяся рука.
Ночь…
Опять ночь. Безнадежная, как воюющая Арктика. Безжизненная, как сам этот корабль. Как остров. Как вся эфемерная, косо-скользящая тут жизнь. Если это жизнь…
Но был рядом кто-то еще. За той дверью. Опять — за дверью. Опять — рядом. И опять — невидимый и живой. Как тогда, в первую ночь. И во все последующие ночи и дни. Кто который раз — Кузьменко уже знал это точно — пытается коснуться его, повести, увести за собой и кто не опасен, покуда ты не боишься его, и, значит, неопасен сам. И капитан уже догадывался — да нет, не догадывался, а знал, давно знал, может быть, даже до этого проклятого острова — до войны знал, кто это. В той первой жизни. Знал! И потому так страшился теперь. Особенно теперь. Здесь. Где он — один на один. Потому что просто один. И потому нельзя прикрыться даже войной. Даже собственной смертью. Да. Даже смертью! Ибо ложь, будто смерть, — избавление. Паче того — искупление. Нет. Смерть — всегда лишь попытка. Или ступень. Но чаще, увы, по незнанию даже не то и не другое, но просто — смерть. Ничто. Потому что даже незапертую дверь надо уметь открыть и тем более надо уметь войти. Ибо, чтоб войти, надо уметь ходить!
Он облизнул деревянные губы и попытался протолкнуть в горячее стянутое нутро застрявший в горле сухой царапающий ком, но не смог: язык вспух и зашершавел, как наждак, во рту саднило — то ли от бесчисленных сигарет, то ли от выпивки, дыма костра, предельной усталости; но, может быть, была и другая причина. О которой он знал всегда — но никогда не допускал воспоминание о ней к себе, которой всегда бежал.
А тот молча выжидающе стоял за дверью. Незапертой дверью. Дверью в… Куда? О, капитан знал куда и потому тот вкрадчиво улыбался, зная, что услышан, что узнан, вслушивался с наслаждением в ржавое трудное дыхание капитана, жадно вглядывался в него сквозь тонкий металл двери и литое монолитное стекло мучительных лет.
Кузьменко напрягся всем телом, продавил в себя колючий комок, застрявший в глотке, уперся задеревеневшим локтем в стол и сумел все-таки встать. Всему рано или поздно приходит свой час. А уже если ты сам все решил…
Отработанно-рефлекторно — и сейчас абсолютно бессмысленно он нащупал в раскрытой кобуре теплую, надежную, рубчато-привычную рукоятку ТТ и, не оглядываясь на спящего старшину, двинулся к двери, изо всех сил стараясь ступать бесшумно. Попов, а тем более безвинный мальчишка-американец были тут ни при чем. Да и все остальное тоже…
На третьем шаге, уже у двери, он, сообразив, отдернул руку от пистолета и почувствовал, как тот растянул поощрительно рот — нет, не рот, а черную пустую щель, до боли, до ужаса, до крика сквозь сон узнаваемую щербатую страшную щель! — сжал деревяшки губ своих и взялся за холодную стальную ручку-задрайку. И ощутил, что тот повторил его движение: рукоять чуть шевельнулась под ладонью.
Кузьменко… Да, Кузьменко уже не страшился. Потому что он должен был. А долг… Долг — дело привычное, дело святое. И потому исполнимое. Независимо ни от чего. Долг — как знамя. Есть ты, нет ли тебя — он остается неизменным и зовущим. Во веки веков. Аминь.
«Долг тяжел и высок, как гора Фудзияма, а смерть во имя его легка, как флюгер»[84] — выплыла из затуманенного темно-пульсирующего сознания сияющая фраза, ослепившая его много лет назад в записках того, кто ждал его сейчас здесь, за дверью.
Мозг отключился. Норма, обращаясь в свой негатив, становится вновь нормой — доведенной до абсолюта.
Спина неощутимо дрожала тончайшей, позванивающей дрожью — когда человек может все. Капитан знал, кто ждет его. И, нисколько не сомневаясь, нажал ручку. Нажал так, как всегда шел навстречу огню. Навстречу смерти. Ибо только так можно победить. Все-таки — победить! В воспаленном мозгу, в дымящемся естестве горело огненным шрифтом: «Выбирая путь к победе, выбирай путь, ведущий к смерти!»
Чуть скрипнув, мягко клацнул замок, и дверь медленно, шуршаще отворилась.
Каюты не было.
Он не удивился. И не ужаснулся. Сверх того, что скопилось в нем, никакого ужаса уже быть не могло.
Он неспешно шагнул через высокий комингс в глухую, непроницаемую черноту открывшегося перед ним коридора. Ощупью затворил за спиной металлически стукнувшую дверь — запечатав оставшийся позади мир. И, не раздумывая, двинулся за смутно маячащей в нескольких шагах впереди черной фигурой.
Он сразу узнал его — хотя перед ним чернела в почти абсолютной темноте лишь спина, абрис, некий контур, размыто окаймленный едва заметным ореолом свечения, текущего из бесконечного далека коридора — бездонного туннеля, лежащего перед ним. И которым он, Александр Кузьменко, сейчас пройдет…
Неотрывно глядя в недвижно и невесело плывущую впереди черную спину, он увидел — да, увидел! — лицо, столь же недвижное, обращенное вовнутрь, застывшее в высочайшем горе — и гордости столь же высочайшей любви. И тоскливо-ледяное, каменное страдание сдавило сердце Кузьменко — ведь сердце его все еще было живым…
— Смотри! — прошептал, нет, сказал, и нет же, прокричал шепот в дергающееся сердце. — Смотри… Это — ты. Это все ты. И он сам — тоже ты. Сынок…
— Нет, — возразил безнадежно и беззвучно капитан. — Нет. Не я. Только не я! Я не пытал. Не убивал. Нет!
— Конец — всегда начало. Ты уверен — душа твоя мертва. И ты прав. Потому что погиб твой ребенок. Так же, как в твоем отце погиб ты. Ведь предав, ты…
— Не-ет!
— … ты прервал цепь, потому что убил.
— Нет! Не убивал! Не я!
Шаг. Еще. Но почему беззвучно? Кто во мне?
— Значит, не ты? Но ведь убил!
— Но даже если я и убил — то не так! — но даже если… Я призван служить!
— Призван? Кем? Кому?
— Ладно. Пусть. Я сам — сам служу высокой идее.
— Лжешь. Идея не оправдывает ничего.
— Будущие поколения… Я знаю это! Мои поколения…
— Ты прервал связь поколений! И потому поколений, которые шли за тобой — за ним, тобой убитым, не будет. Твоих поколений, коим несть числа!
Его отец — или он сам? — стоял неподвижно в бесконечной дали — шагах в пяти-шести — по-прежнему спиной, лицом обратившись к далекому, видному лишь ему одному свету. И ждал… Но не для наказания! И не для покаяния. Но для того, чтоб стать вновь им. Чтоб возродиться единым целым? Нет, не так. Чтоб он, предавший, вошел в него, преданного. И, вынеся свое предательство, искупил его, приняв любовь преданного им. И лишь тогда восстановится, воссоединится связь времен…
— Я жду тебя.
— Но неужели все — как я? Неужели возвращаются, чтобы…
— Нет. Ты — потому что ты искал. Ты жаждал. Надеялся встретить…
— Тебя?
— Себя. Себя! А теперь — пора. Иди. Теперь лишь от тебя зависят все жизни. Все. До тебя, рядом с тобой, всегда после тебя. Потому что все они — ты.
Фигура качнулась вперед, в исподволь нарастающий — Кузьменко ясно видел это — наливающийся мощной раскаленной солнечностью свет. Какой, откуда? — мелькнуло стороной. Или там, впереди… Но ведь там — пропасть?
— Нет. Там бесконечность мира.
Нет! Нет никакой бесконечности! Ловушка, как и все тут! Там — шахта дымогарной трубы! Раскаленный вулкан; так вот откуда свет, там же форсунки пылающих топок, и отец, того не ведая, рухнет в следующий миг туда, в тот ад!
И капитан отчаянно рванулся вперед, в пылающее солнце, почти настиг ускользающую черную фигуру, почти схватил ее — и, не удержавшись на краю, рухнул лицом вперед. Кратчайший в беззвучном свисте и вое стремительный полет в никуда, мгновенный кувырок в безумное, слепящее беснующееся пламя — и всесокрушающий, все затмевающий, погибельный удар в лицо! Во лбу взорвался мириадами звезд осатаневший мир — и наконец-то умерев, он успел сказать, успел выкрикнуть и успел и смог осознать: «Все! Наконец-то — все. Я свободен! Слава Богу…»
— Слава Богу! Наконец-то, — сказал в лицо, в глаза чей-то голос. И он открыл, разлепил опухшие веки. И разглядел в мутном плавающем свете темное расплывчатое пятно — чье-то лицо, и лишь через какие-то сумеречные секунды сумел осознать, что лицо — это старшина Попов.
А старшина, встретив его бессмысленный взгляд, выдохнул облегченно:
— Ф-ф-фу, старый черт… Напугал! — и повалился задом на диван. Сэнди, свесив ноги, боком напряженно сидел на краю стола, внимательнейше взглядываясь в капитана.
В рубке висел серый сырой морок. Раннее утро… За мутными слепыми стеклами — застывший непроницаемый туман. От металла переборок тянуло ощутимо мерзлым железным холодом.
Кузьменко попытался встать — но ноги не держали, голова трещала, и он, едва приподнявшись, отвалился обратно в кресло-вертушку, где спал, и, подняв пылающую голову, встретил напуганно-соболезнующий взгляд американца. Ничего еще не понимая, но уже готовясь, уже напрягаясь в неминуемом, уже зная, капитан медленно поднял руку и осторожнейше коснулся кончиками пальцев лба. Справа — там, где встретил он лицом удар.
И не удивился.
Пальцы окунулись в мокрое, липкое и жгуче-болезненное. Лоб был разбит. Вдребезги. Падением явно на металл. А под ногами всюду в рубке лаково-мокро поблескивал зеленый чистенький линолеум…
Но тихо, как же тихо кругом!
— Во, м-мать твою… — неожиданно даже для себя пробормотал Кузьменко, тупо глядя в палубу и скрипуче размышляя, почему не идет кровь. Наконец сообразив, он натруженно приподнял булыжно-увесистую голову и пару минут изучал ничего не видящими припухшими глазами насмешливо-спокойную, плотно закрытую и никем явно вчера и сегодня не отворяемую дверь в каюту. («В каюту? — кричало все его бунтующее нутро. — В ту каюту? Где выхода — нет?») Что-то, наконец, решив, он в два приема встал, отпихнув руку приподнявшегося с дивана старшины, и неверными шаркающими шагами приблизился к двери. Он стоял перед нею, набычившись, исподлобья глядел в упор в серую прочную, незыблемую сталь и прекрасно знал, что все ему привиделось. Иначе… Никаких иначе!
Нет. Ни хрена там нету. Ни коридора, ни пути, ни темноты, ни света. Ничего. И — никого. Никого! Нету!
А… А прошлое? Разве нет прошлого? Раз оно прошлое, значит, оно… Оно не было. Оно — есть. Здесь. Сейчас. Всегда!
Он внимательно поглядел на свои давно немытые, почерневшие от порохов, дыма, морозов и труда пальцы, свежеизмазанные бурым и липким. Осторожно, недоверчиво потрогал лоб. Да?
Да, дырища в башке никуда не делась. Пробоина — будь здоров. Даже странно, почему болит так слабо…
Значит, выпал из кресла? Бывает… И так брякнулся о линолеум? Ну, а чего — все в этой жизни бывает. Стоп! В какой жизни — в этой?
Ладно, вдохнул он, и — вдруг рванул на себя дверь!
Ну и?..
Никого. Кой черт! Никого и быть не могло!
В полной тишине он перешагнул комингс, зачем-то аккуратно плотно затворил за спиной дверь, будто припоминая что-то, и длинно огляделся. Тут было почти темно. Утро только занималось, а здесь, в отличие от ходовой рубки, был один и маленький, вроде окошечка в дачном сортире, иллюминатор в борту слева от двери, то есть справа, если смотреть в нос. Ну да, подумал он, оценивающе приглядываясь к шкафчику темного дерева на противоположной переборке. Именно, значит, справа как принято у моряков. Все по ходу корабля, идущего вперед, оставляющего пройденные мили за кормой. Как прошлое… А голова-то как болит, Господи, Боже мой… Он протянул руку, дотронулся до холодной ручки-ключика и рывком отдернул дверцу шкафа.
Правильно. Ничего нет. И быть не может ничего, кроме застоявшегося, как в пустом заброшенном аквариуме, унылого кислого духа нежилья и каких-то смутно поблескивающих ошметков минувших дат. То ли песок ненужных лет, то ли крючки для брошенной одежды.
За дверью, в ходовой рубке, что-то вопросительно сказал Сэнди — вроде о нем. А может, об утренней жратве. Чего-то рассудительно пробубнил после паузы старшина в ответ. Но где же та дверь? Дверь… Спокойно. Дверь куда? В сон? Хорош сон — котелок едва не треснул. Ох-хх-хо-хо…
Но разве он не был прав? Он, тогда совсем мальчишка, свято выполнил долг коммуниста, большевика, и не важно, что по возрасту он еще не был членом партии. Зато была вера! Душа! Преданность идее. А идея… Нет и не было никогда во всей истории мира идеи прекрасней, светлей и лучезарней. Потому и отнес дневники, записи и черновики отца туда, куда должен был отнести… Стоп!
Была? Вера, душа, идея — была? А случись такое сейчас — не отнес бы?
Нет. Не отнес бы. А сам отвел бы автора и владельца сих бумаг. И правоту его доказывает эта вот страшенная война, в которой он посильно, в меру своих малых сил и возможностей, сражается. Битва идет не немцев с русскими. Идет битва с врагами коммунизма и светлого будущего мира. Вот так. И истинно так.
Он ведь маленько заглянул тогда в те бумаги. Мракобесие, завораживающий страх и опасная черная дурость. Множественность миров, святая неприкосновенность вечной души, единение и духовное братство против — не сказать, но и помыслить жутко! — против якобы опутывающей разум, затмевающей совесть, вытравливающей божественную сущность Идеи! Божественную — слово-то какое. В двадцатом-то веке. Мало того. Единомышленники. Единоверцы. Имена, мнения, предложения, собрания-встречи. А это уже называется — как? Правильно. Организация — вот что это такое. И против кого? Чего? Против великой Идеи — и… Да, не обманывай себя! — и против Него, против Вождя. Против всего того, что он, солдат армии большевиков и большевик Кузьменко, принял всем сердцем, чем жил и за что всегда готов погибнуть в любом, самом лютом, бою.
Жил… Жил?
Задумавшись, он медленно опустился в то самое кресло за столом. Кхм… А пистолет-то фрицев так и лежит, как лежал. Роскошный, великолепный «вальтер». Хромировочка, правда, местами крепко помутнела от сырости и времени, а так — машинка заглядение. Кажется, морячки-разведчики, бывшие у них на аэродроме в ноябрьские праздники, рассказывали, что фрицевские офицеры такие вот игрушки специально себе сами покупают, за собственные денежки, для форсу. Страна, народ ихний воюет, а они такие вот пукалки за марки свои поганые покупают. Вот оно и есть — их нутро и суть…
Он вдохнул и потянул к себе пистолет. И замер. Застыл, с брезгливым страхом вздернув руку, с пальцев которой медленно, как стылая вода, потекла, мутно курясь, рыжая густая пыль. Тяжелый никелированный пистолет, мощное орудие убийства, автоматический 9-миллиметровый «вальтер»… рассыпался. Точнее, растекался — в прах. В густокоричневый гнилой прах. В мокрую тяжелую пыль. Значит, вон оно нынче как. Значит, пистолету уже и лет не сосчитать. А… А — нам?
Капитан в оцепенении глядел, как вокруг пальцев призрачно клубится темное, непрозрачное облачко, оседающее на тусклое от возраста и пыли лаковое дерево стола. Потом осторожнейше, боясь, что и стол, и кресло, и палуба под ним рухнут, провалятся в тартарары, стал приподыматься. И тут дверь с лязгом распахнулась, и всунулся по плечи нарочито развеселый американец-лейтенант:
— Сэр, приношу извинения, но апельсиновый сок, яичница с беконом, оладьи с патокой и мамин яблочный пирог к…
— Сгинь… — буркнул, не поднимая глаз, капитан.
Дверь гулко недоуменно лязгнула. Бекон, патока… Картошечки б сейчас! И к ней обязательно… Стоп!
Вот. Вот же оно! Он тут. За спиной. Ну, капитан, — держись…
Полупригнувшись, Кузьменко в бесконечные немо-гудящие секунды стал боком выдвигаться из-за стола, одновременно медленно, весь в ожидании мгновенного удара в спину, оборачиваясь, и, наконец, вскинул глаза навстречу темному, буравящему ледяному взгляду и, не мигая, уставился в упор в бездонные, черные, немигающие зрачки — как в бесконечность. В глухую переборку. В сплошную, непоколебимую стальную переборку. В ту самую дверь, куда он шагнул сегодня ночью.
Он незряче видел перед собою крашенный серой шаровой краской металл, на нем — явно для украшения — какую-то древнюю игрушечно-разноцветную морскую карту в изящной застекленной рамке, с той, с обратной стороны — неровный лист обшивки, и там же видел, видел! — зазывно мерцающий, бесконечный черный туннель в огромных немигающих зрачках; туннель, в который он шагнул сегодня и в который сейчас его властно звал, тянул, влек все тот же взгляд — взгляд уводимого той ночью отца…
Свой взгляд…
Он потянулся вперед, к глазам, ко тьме, к проходу — и в последний миг немыслимым усилием инстинкта шарахнулся назад, ударился затылком, всем телом о дверь, затрясшимися взмокшими руками нащупал ручку и ввалился спиной вперед в ходовую рубку.
Удивительно: в помещении ГКП корабля действительно вкусно пахло. Апельсинами, какими-то копченостями и вообще уютом. Быстро приходя в себя («Похоже, быстро очухиваться становится привычкой…» — усмешливо пронеслось где-то подспудно), он мимоходом глянул в темное зеркальце, кем-то прикрепленное над штурманским столом. И опять не удивился — в нем ничего не отразилось. Лишь мутный, тускло мерцающий свет. Дым. В общем, кусок железа вместо зеркала. Ну и пес с ним. Подумаешь — непрозрачное стекло. Мы и не такое видали. И видаем. Видаем? Видим? Ну-ну…
Так, что тут? Три банки разных то ли соков, то ли компотов. Консервная банка с ветчиной. Знаем, «американка» ленд-лизовская. Кусок чего-то вроде черной пересохшей замазки, скатанной в мятую колбасу редкостно неприличного вида. Ага, вроде колбаса и есть, и пахнет замечательно. Только чушь все это. Свинячьи радости. Картошечки бы, эх! Еще — мочененькой капустки, вяленый лещ, конечно, и кружка «жигулевского» — такая, знаете ли, запотевшая, литого стекла, тяжеленькая кружчонка, да… Ну огурец — это святое. Сало мерзлое. С розовым боком, скользким на морозе. И мамины вареники. С творогом. Нет, сначала с картошечкой, потом — с капусткой, и уж потом — с творогом. Да! Еще сметана — плывет в миску эдак тяжело и маслянисто и светится изнутри, как луна…
Чего-чего он бубнит?..
— … если он двигался параллельно с нами, по времени линейно. Если! Но главное — в самом лесе. Деревья шли от мертвого к живому. Это-то и есть самое главное, чего сначала мы не видели. Впрочем, мы вообще видим лишь то, к чему привыкли, что можем сразу объяснить и что обязательно возможно, по нашему мнению. И там мы работали так же, как тут: пойди туда — не знаю куда, найди то — не знаю что. А как можно арифметической линейкой замерить температуру воды? То-то…
Работали? Капитан хмыкнул, покосившись на него. Старшина отхлебнул из банки и пожал плечами:
— Конечно. И ты кое-что понял. Ты же сейчас только вид делаешь, что полосу строишь. Нет?
Сэнди выжидающе поглядел на капитана, но тот, к его и старшины удивлению, молчал, угрюмо ковыряясь ножом в банке ветчины. Старшина подождал — но Кузьменко, не поднимая глаз, буркнул:
— Ну и?
— И не увидели, что лес там растет как бы… Ну, назад, что ли. Вчерашние деревья, обоженные взрывом, оживали и, зеленея, уходили в свое детство. В саженцы. Причем скачкообразно во времени. Да… Это куда страшнее, чем приборы…
Капитан вяло жевал холодное скользкое мясо. Надо бы, конечно, разогреть. Да ладно. И так сойдет. Хлебца б…
— У нас не работал ни один компас, встали хронометры. Дикая головная боль. Ну компасы, часы — ладно. Даже зеленые вспышки по ночам. Но то, что творилось с оптикой…
«Уходить или не уходить? — вроде отстраненно размышлял вяло капитан. — Эк, как ловко он меня поддел. Угадал… Но, возможно, он прав. Возможно, мы первые. И, конечно, никакой это не остров. Значит, можно попробовать…»
Кузьменко уже понимал, какое решение зреет в нем, и со всей военной очевидностью видел все выгоды, возможности и мощь, которыми они могут заручиться. Точнее, они двое — русские, советские люди. Пацану все это не нужно. Мало того. Опасно что-либо передавать ему, отдавать. Ему — это ведь означает всем им — там, за океаном. Временным союзничкам, которые спят и видят нас удавить. Которые с семнадцатого года держат пальцы на нашем свободном горле. Да, но и девать-то его некуда, этого представителя классового врага.
— … даже простой бинокль, не говоря о сложной оптике. Искажение перспективы — линейно и во времени. Некая микромодель свертывания матрицы «Пространство — Время».
— И как же вы оттуда выбрались? — ничем не проявляя интереса, осведомился в банку капитан.
— И гиблые пади. Ты, конечно, слыхал, Саня… Так вот, нету там никакой гибельной жути, нету никакого дурмана, как твердили местные старики, и никаких газов, как утверждали геологи и топографы. Просто там твое «я» сходит с ума. Время. Время! Вот в чем штука. Ведь твои часы — те, что внутри тебя, — тикают независимо от твоего желания и даже понимания. А там все часы — наши, земные хронометры, точнее, не земные, а нашего времени, нашей плоскости выходят из строя. Мы оказываемся как бы на срезе, на грани плоскостей. Пересекающихся именно в той точке плоскостей. Постоянны ли точки пересечения? Движутся ли во времени и пространстве? Являются ли только геометрией — или же могут быть точками… Э-э… Некими проходами? И вписаны ли, впечатаны, введены в данную местность как ее часть? Можно ли перемещать их, используя как некий аппарат? Ведь здесь мы видим, что остров — то, что нам кажется островом, — в силу своего положения, конфигурации и изолированности идеально подходит…
— Это они, — негромко буркнул капитан.
— Что? — воззрился на него старшина.
— Вот, — мрачно ткнул пальцем в подсохшую рану на своем лбу Кузьменко. — Или, может, это ты меня, покуда я дрых, тюкнул?
Старшина подумал, помолчал и вздохнул:
— Да. Можно и пошутить… За неимением.
— Ага, — проворчал Кузьменко. — Вот рехнемся окончательно — то-то насмеемся. Слушайте, ребятки, а ведь старшина прав.
— Насчет чего? — Сэнди взобрался на стол с ногами и умостился, по-кошачьи растянувшись боком на всю его длину.
— А насчет того, что до поры не след спешить отсюда улетать. Ведь соскочить всегда успеем. А попадем ли?
Старшина поднял глаза, особенно, впрочем, не удивившись.
— Да, старшина. Мы должны выполнить свою задачу таким образом, чтоб… Ну, не то чтоб определить союзника или поддержкой заручиться. Тут надо смотреть глубже. Мы, может, единственные из людей, кто остался тут живыми, и можем войти, узнать и донести до наших. Ну ты лучше меня все знаешь и лучше скажешь, у меня не то. Словом, я за то, чтоб мы…
Стол с грохотом подпрыгнул и выдернулся из-под подлетевшего над ним Сэнди; диван вывернулся боком и старшина, перекувыркнувшись в воздухе, размахом отброшенной руки бабахнул завертевшейся банкой сока в подволок и тут же врезался затылком в физиономию свалившегося под него американца.
Второго удара не было. Потому что судно уже летело, стремительно вращаясь вокруг миделя, с быстро нарастающим ускорением. Уже хрустящий позвоночник выгибался дугой в хрипе вцепившегося в подлокотники кресла Кузьменко: из мгновенно ослепших чернотой окон в рубку ворвалась тьма, в которой бело-зелеными слепящими молниями мигало неземное режущее пламя; в низах старого судна выло и корежилось в боли и ужасе земное ржавое железо. Неслышно стонущий Сэнди вцепился в привинченные к палубе ножки стола и, елозя по линолеуму брызгающимся кровью расквашенным лицом, тщетно пытался заползти под стол; старшина, отброшенный от Сэнди, висел на тумбе рулевой колонки, о которую его шваркнуло всем телом и которую всем телом он обнял, и изо всех сил пытался поймать застывший воздух разинутым ртом; выброшенный из кресла Кузьменко, рыча и выплевывая матюги, тянулся всем телом к двери, полз, подтягивался, скребся, ломая ногти и всем телом извиваясь; в завывающей, улюлюкающей, свистящей темноте разноцветным хаосом вертелись, кувыркались, бились банки, коробки, струи соков и компотов, шмутки, бумаги; не было света, низа, верха, воздуха и тверди; капитан с немыслимым усилием рывком взбросил тело к заветной рукояти-задрайке выходной двери, повис на ней — и та, беззвучно щелкнув в вое и визге, распахнулась — и…
… И лютый, адский, неземной холод торжествующе ворвался к людям. Отброшенный дверью капитан пролетел полрубки, крякнув, врезался спиной в нактоуз, переломился пополам и неслышно захрипел бело пузырящимся во тьме льдом на губах; и уже через полсекунды этой воющей ледяной вечности старшина не слышал своих пальцев, веки сковал лед, в темноте пушечными залпами взрывалось от мороза стекло плафонов и приборов, что-то тонким дискантом вопил Сэнди. И вот, наконец, в распахнутую дверь, в проем которой в свисте и жгучем шелесте несло громадные белые хлопья — не хлопья, а куски льда и снега! — рванулся все тот же распроклятый зеленый свет, сжигая глаза и души, и старшина последним до боли усилием сжал оледеневшие веки, хватанул воздух в первый и последний раз — и…
И все кончилось.
Тихо шипело где-то внизу. Скорее всего, таял лед или лопнула магистраль. Кто-то рядом тихонько кряхтел. Старшина не сразу сообразил, что это он сам кряхтит, пытаясь расклеить смерзшиеся веки. Отвалившись от колонки, он ощупью, дважды упав на бок, встал на четвереньки; под трясущуюся руку попали какие-то шарики, рука скользнула — и он с размаху грохнулся лицом в эти шарики, как в камни. Разлепив глаза, он увидел в серо-зеленых пляшущих сумерках, что в ладони зажаты два таких шарика — превратившиеся в желтые ледышки абрикосы из компота, которые быстро таяли в обмороженных белых пальцах, превращаясь в гнусное месиво.
Попов отплюнул замерзшую на губах крошку, сел, привалившись плечом к дивану, и стал смотреть, как пытается встать, встает и не может, капитан — его складывала пополам боль в спине и он, цепляясь черными пальцами заброшенной вверх руки за кардан компаса, упрямо подтягивается на этой руке — и падает, и опять цепляется, и опять рука срывается, потому что пальцы не гнутся…
Диван накренился под плечом и мягко повалился набок; капитан, разбросав руки и ноги, юзом поехал от нактоуза к борту; тошнота подкатила к горлу; судно… Да, судно плыло! Его размашисто качало!
Старшина перевалился через торчащие из-под штурманского стола ноги американца, проворно подобрался к толчками качающейся двери и, навалившись грудью на высокий комингс, высунул голову наружу. То, что он увидел, его не потрясло: все, что способно потрясти, давно минуло. Он не знал слова, могущего определить такое состояние — да и есть ли оно, слово? Шок? Нет. Слабо. Не выражает.
Потому что судно не плыло — хуже… Да не судно — остров! И — даже нет. Мир. Мир — весь мир… О, Господи! Весь мир — летел!
Судно было неподвижно, покоясь на недвижном острове. Вокруг застыла вода океана. Все было прочно и незыблемо. Но все это летело, кружась, во вселенском полете. Потому что все было… Все было — вовне. Снаружи. За исполинским прозрачным колпаком.
В грязно-сером небе беззвучными молниями неслись, обгоняя друг друга искрящимися хвостами, звезды; вода океана мчалась гигантскими буграми, холмами, горами, вдали образуя на некоей окружности длинные пенные вихри, взлетающие ввысь и разбивающиеся плетьми о невидимую прозрачную преграду — стекло, которое определялось лишь стекающими по нему, аки по воздуху, мощными потоками грязной рваной воды и пены, потоками, которые сливались в косую жуткую спираль. И — ни звука, ни дуновения ветра, ни всплеска.
Дикий приступ рвоты вывернул Попова наизнанку; он корчился на комингсе раздавленным червяком, всхлипывая, бурча, отплевываясь и кашляя, а перед ним беззвучно и гигантски погибал его мир.
И когда он рывком, захлебываясь, давясь горячей горькой дрянью, вцепился раскоряченными крючьями черных пальцев в решетку траповой площадки и подтянулся на ломающихся руках; когда он, сам не понимая зачем, перетащил половину своего ненавистно корчащегося тела через комингс и, скрежеща зубами, глянул под себя, вниз, под борт, он увидел…
… лучше бы не видел, лучше бы умер…
… увидел внизу… Проклятье! Ничего не увидел! Ничего там, внизу, не было! Просто — ничего!
Он сразу, мгновенно, ослепленно осознал: вот это оно и есть — Ничто. Бесконечность. Великая черная дыра. Не свет, не темнота, не расстояние, не время. Просто — Ничто.
Он захрипел и, зная, что сошел с ума, что это и есть Ад, вселенская пропасть, последним сверхчеловеческим усилием агонии, сопротивления живого сущего пустоте смерти отпихнул решетку, извернулся, захлебываясь кипящей рвотой, и, затаскивая, заталкивая себя назад, назад, назад, в изготовленную теплыми человеческими руками скорлупу, в живой, в земной металл, запрокинув голову, скосил глаза наверх — и увидел себя.
Над ним — над самой головой! — висел громадный опрокинутый остров. Камень, хаос провалов, пиков и изломов; река-разрез посередине; узкая ртутная полоска пляжа; застывший мачтами вниз заброшенный корабль; отчетливым крестом — рисунок самолета рядом; и где-то там, в том ужасе — он сам…
Все быстро размывалось, трясясь, мечась и дергаясь в хаосе вздыбленной, взбаламученной воды, летящей в поднебесье; воды, в которую уносился все дальше, все выше и быстрей чудовищный мираж; мираж, заключенный в тускло сверкающую литую оболочку, капсулу, огромный шар прозрачного монолитного стекла, по которому дьявольским вихрем мчались, сплетаясь в ворожащие узоры, струи воды, дыма, пара, свивающиеся петлями и распадающиеся жгутами белесо-дымчатого воздуха; узоры, петли, письмена — чего? Времени? Судеб? Предначертаний?
Они не знали, когда очнулись. Возможно, через какие-то секунды. А возможно, и через дни.
Кузьменко сидел, привалясь к борту. Сэнди редко крупно вздрагивал спиной, лежа ничком под столом. Старшина, приподняв голову, медленно обвел взглядом разгромленную ходовую рубку. Размазанный повсюду, по линолеуму, бортам и даже подволоку, компот не сгнил, даже не высох. Снега или льда не было — темнели лишь высыхающие на глазах пятна влаги. Отсюда — вывод…
Капитан судорожно, прерывисто вздохнул и, не раскрывая глаз, принялся вставать, упираясь в борт рубки ладонями. Старшина опять опустил подбородок на грудь, полулежа у комингса, — так было легче. Глаза слезились, обожженное морозом лицо горело, тупо ныл измученный желудок. Кузьменко, сопя, наконец поднялся, по-стариковски старательно утвердился на подламывающихся ногах и, перебирая по-паучьи руками, добрался до двери и осторожно выглянул наружу.
И замер, выгорбив спину и всхрипами выдыхая воздух.
Попов, боясь шевельнуть невыносимо горьким языком, бесстрастно наблюдал, как Сэнди, поскуливая и ерзая задом, вылезает из-под стола, то и дело оскальзываясь коленями в луже компота и стукаясь спиной о крышку стола. Капитан тяжко осел, как обвалился, по борту на палубу рядом с Поповым и загнанно выхрипел:
— Хана…
«Я знаю, — подумал безнадежно старшина, пытаясь проглотить застрявший в глотке омерзительный комок. — Мы доигрались…
Мы не имели права. Мы, наглые людишки, взявшие на себя великое право первого Контакта, — мы влезли, вперлись, натоптали грязными, тупыми, кровавыми своими сапожищами, и теперь…»
Капитан трудно ворочал над ним лохматой башкой, двигал лопатой выпяченную челюсть, словно его душил ошейник, и что-то пытался выговорить — но не мог, только урчал и скрежетно сипел.
Старшина досмотрел, как вылез, наконец, американец из-под стола и поднял к ним, русским, разбитое лицо — и тут старшина понял, что не так.
Солнце!
Изгаженную, разгромленную ходовую рубку заливало солнце! Сэнди китайским болванчиком раскорякой сидел на палубе возле стола, болезненно морщил распухающий лиловый нос и, кося глазами, щурился как котенок.
Обе двери ходового мостика, правая и левая, были распахнуты настежь, и гудящий сквозняк несся сквозь них, заполняя рубку горячим ветром, отчетливо пахнущим водорослями, рыбой, теплым камнем, морской водой — пахнущим жизнью!
Попов, привстав, задохнувшись от боли в истерзанных ребрах, осторожно выглянул наружу.
Ну что ж… Он аккуратно сплюнул за борт горько-кислую пакость и вытер рот грязной ладонью. Такое безумие ничуть не хуже любого другого. Даже, пожалуй, лучше. Кузьменко прокрякал сзади:
— Лапти… Он нас не выпустит, сука.
А Попов через плечо равнодушно разглядывал прекрасный, невиданный, праздничный — и наверняка опять лживый, фантомный, паскудный мир снаружи.
Там было все, о чем он мечтал пацаном. Солнечно, ветрено, жарко. Сияло синее-синее, такое, каким оно бывает лишь в детских снах, море; светилось ласковой голубизной бестуманное, бездонное доброе небо. Море из сказки, небо из детства… Чистая, лаковая, прозрачная, солнцем искрящаяся вода до горизонта, от которого мчатся наперегонки развеселые белопенные барашки, хулиганя задиристо всплесками-коготками, лукаво мигая острову разноцветно-радужными вспышками-лучиками. А под самым берегом ртутно сверкает в дрожащей золото-голубой сети донная галька и камешки-бриллианты на дне. Невестой шуршит льнущая к пляжу ласковая волна. Ну что ж… Арктика или, скажем, сибирское болото действительно ничуть не лучше. Впрочем, там мы были бы дома…
— Ну, и как? — прохрипел капитан откуда-то издалека.
Попов отвалился назад за дверной проем и невидяще уставился на него, сидящего спиной в угол. «Умыться б вот напоследок. Зубья почистить. Опять же белье — как спокон веков русский солдат помирал. Уж Бог с ним, с бритьем — хоть исподнее б сменить, чтоб в аду не воняло…»
— Теперь жарко, что ли? — жалобно сказал Сэнди, умостившись на диване. — Господи, за что, а?
Кузьменко закашлялся, ухватившись за грудь, — так больно и так по-человечески мучительно, что старшина словно проснулся! Очнулся, рванулся в дверь — но увидел все то же — немыслимый рай. Рай для кого? Для затерянных в вечности? А самолет? Где наш «ил»?! A-а, вон он. Стоит. Понурый, забытый, дико-неприкаянный и чужой здесь. Ждет… Господи, да он же ведь их ждет! Милый, родной, единственно верный и честный. И вдруг Попов понял. Понял! Ну конечно. Самолет. Корабль. Остров. Остров-корабль.
— Я знаю. Уже знаю, — он вцепился обожженными морозом пальцами в теплую резину герметизирующих дверных прокладок и принялся вставать. — Вставай, малыш.
Сэнди отрицательно замотал головой. Капитан, выпучив глаза, мучительно дышал, ухая грудью, как геликон.
— Мы прорвались, — сказал старшина. — Уму непостижимо, но мы справились. Мы…
— Да! — прохрипел капитан. — В гроб — на гробу. Прорвались.
— Во времени. На корабле. Это не остров. Это не остров! Это — корабль или самолет. Это…
— Да пропади ты… — капитан бессильно запрокинул голову и закрыл глаза. — Все. Отвоевался.
— Сбылось. Вставай же, Сэнди. Сашка!
— Да пошел ты, — невнятно сказал сквозь зубы капитан и перевел дух.
Попов рывком вскинулся, призывно кивнул головой Сэнди, изо всех сил улыбнувшись, и вывалился наружу, на крыло ходового мостика. Его мягко окатил умиротворенный гул прибоя, теплый ветер смешливо взъерошил волосы. И свет. Сколько чудесного света, который все они забыли! Сколько тепла…
Забыли, забыли…
Улыбчиво щурясь, он оглядел дичайше неуместную здесь замызганную палубу, всю дрянь и хлам на ней и потянул с себя задубевшую куртку. Сэнди засопел рядом — он сунулся головой вперед под рукой старшины, ухватился за релинг ограждения мостика и, кося на Попова печально-смешливым карим глазом, несмело, очень детски улыбался, словно боясь, что сейчас отнимут только что подаренную вожделенную игрушку.
Позади них загнанно дышал Кузьменко — он стоял в дверях и угрюмо смотрел в бесконечный горизонт над сияющими синими водами. Бесконечный, как их дорога.
Тяжело. Невыносимо тяжело…
Но они — люди. Они столько смогли и прошли. И они справились. Пока только с собой. И они пройдут все оставшееся, им предназначенное…
Американец вопросительно показал старшине глазами вниз. На пляж. На воду. Ему не терпелось все проверить.
— Давай-давай, — подтолкнул лейтенанта плечом Попов, и пацан, расстегивая на ходу куртку, двинулся по трапу. Через минуту он уже стоял на верхней палубе внизу. Старшина же разглядывал окрестности, но найти ничего не мог.
Как сказался сказочный полет на замечательном создании неведомых рук (добры ли, добры ли они?), на арктическом заповеднике чудес?
А никак.
Те же камни. Те же скалы. Тот же серый хаос, залитый сейчас жарким слепящим светом. И взлетная недостроенная полоса — та же. Небо вот — вроде новое, но… Но где-то там — колпак… И даже снятый вчера вечером моторный капот «ила» покоится тихо себе и спокойно, аккуратненько прислоненный к ящикам.
Так, может, и не было никакого полета? А? Не было урагана, океана-перевертыша, острова в поднебесье и величественного стеклянного купола, разделяющего два (только два?) мира? Может, сон все и бред? Вообще — все?
Сейчас, вот сейчас постучат в дверь землянки, и мы проснемся, маленько мятые после вчерашнего праздника встречи, и выйдем в наш тоскливый, израненный, изгаженный, просвистанный снегом и войной мир, и вновь… Нет!
Нет. Не дозваться. Не достучаться. Ни нам — ни к нам…
Все. Хватит. Не было никакого сна. И нет. А коли так — надо уходить. Немедленно. Уходить, пока не поздно. Пока все из-за нас не развалилось. Не погибло. И кто-то не погиб (возможно, наши еще не родившиеся дети, внуки, правнуки? Как знать…).
Это — реальность.
Здесь, а значит, и во всем нашем мире, нашем разнесчастном Божьем позабытом огороде, уже идет работа. Строгая, налаженная, точная, рисковая работа. А мы, вломившись сюда, крутясь и суетясь, всюду суя свой нос и во все вмешиваясь, пытаясь что-то понять и всего пугаясь, — мы все гробим: рвем точнейше выверенные связи, ломаем столетьями отработанные графики, нарушаем тончайшие процессы, ломаем абсолютную по качеству программу. Губим ее, задуманную гениально и грамотно, нашими мерками даже не осознаваемую и не определяемую, созданную и проводимую ради нас же, ради всего измученного, изолгавшегося, тонущего в крови и дерьме, злобе и безнадежности, раздираемого ненавистью и местью человечества, Программу.
Задуманную и проводимую… Да. Да, людьми! Не знаю почему — но людьми. Да нет, знаю. Спасение, милосердие, тихая подсказка, шаг за шагом… Это же все равно люди! Пусть не так, как мы. Но ведь люди. Может быть, те, кто еще не родился…
Но как же не хочется, как тягостно уходить! Боже мой, как прекрасно и страшно это Прикосновение. Какая высокая надежда — и бесконечно тяжелая ответственность. И, наконец, хоть как-то осознаваемый смысл в твоем появлении на Земле. Какая высокая и чистая Награда…
Чего он там кричит? Во Сэнди дает! Какой же славный он мальчик! А Сэнди на баке, высоко задирая голенастые ноги, плясал. Отплясывал, да еще как! Сам себе прихлопывая, сам себе притопывая, во всю глотку аккомпанируя, присвистывая, дудя и размахивая тяжелой меховой курткой.
Старшина хрипло засмеялся и, перегнувшись через релинг, прокричал:
— Покажи им, малыш, покажи!
Его рвануло за плечо, он, едва не опрокинувшись, отшатнулся — и прямо в переносицу ему воткнулись бешеные помутившиеся зрачки Кузьменко:
— Подыхаешь, сука?!
Старшина остолбенел от этой захлестнувшей его жуткой ярости, а капитан уже с дробным грохотом ссыпался по трапу и, в три прыжка пролетев коридор шкафута, вылетел на полубак.
Упала тишина.
Звякая в шелесте ветра подковами сапог, капитан медленно вышел на середину палубы и огляделся — как в тот, первый, раз. Да, весь бедлам, весь тот послегибельный разгром и срам, которые он увидел в первый день, были тут как тут. Да и куда могли бы подеваться. Ничто не изменилось.
Ничто?!
Никто?!
Древний, глухой, темно-безысходный ужас животного, попавшего в ловушку. Вот что оно такое! Капкан. Вот что изменилось. Кап-кан! Ничем иным этот распроклятый остров не был. Они попались. Сами.
Кузьменко медленно оглядел этих двоих.
Тяжело дышавший дурачок-американец, весь мокрый как мышь, в одной рубашке. Недоумок-ученый наверху, до сих пор ничего не понявший. И он, капитан советских ВВС, несущий всю полноту ответственности.
— Н-ну? — осведомился Кузьменко. — Веселимся? А, суслики?
— Тьфу, — сказал наверху старшина и с громыханием двинулся вниз.
— Я те плюну! — бешено взревел капитан. — Это вас они могут, понял? Вас! А меня — во! Видал? Во они меня купят! — и он с размаху врезал сапогом по сгнившему ящику, очень удачно оказавшемуся рядом; ящик глухо ухнул, и по палубе с развеселым лязгом, дребезгом и громыханием полетели, покатились, запрыгали раздутые какой-то гнилью консервные банки, ехидно зазвенело стекло кстати подвернувшегося противогаза.
Попов проводил банки взглядом, покачал головой и неспешно принялся стаскивать через голову рыжий толстенный летный свитер, измызганный до неузнаваемости.
— Тэ-э-экс, — сказал капитан. — Значит, никто ничего так и не понял?
— Отчего ж, — рассудительно ответил старшина и, задрав голову, длинно оглядел белесое горячее небо в поисках солнца, но так его в дымке и не отыскал. — Все все поняли. Но интересно бы знать, куда подлодка подевалась.
Капитан подскочил к борту, быстро окинул взглядом побережье и чертыхнулся.
— Правильно, — одобрил старшина, старательно развешивая свитер на каком-то горячем ржавом тросе. — Не исключено, что именно туда. А мы вот не делись. И самолет наш с нами. А? То-то. Во сюжет! Он почему-то тоже никуда не делся. Почему?
— Надо проверить, какова вода. Перед уходом. Ты ж спешил уйти? Чтоб знать.
— Зачем?
— О-о, мой капитан, зачем… Зачем? Это вопрос вопросов. Зачем знанье слабому, суетному человечеству? Зачем вообще все? Во вопросик! Еще бедолага Фауст…
— Стар-ши-на!
— Ну затем хотя бы, что сегодня утром здесь была Арктика. Арктика безусловно советская, со всеми и для всех вытекающими последствиями. Впрочем, что я? Арктика — только была! Как и мы — мы были в советской Арктике. С последствиями. Так что пора. Нам пора, мой капитан! Ну-ка, посторонись, малыш… О-оп! — Попов неожиданно легко перемахнул через фальшборт на осыпь и, гремя камнями, в шуршании песка и пыли съехал на пляж.
Идя к воде и на ходу стаскивая комбинезон, он прокричал снизу:
— А ежели какая не наша, глубоко чуждая, враждебная и подлая акула или иная черепаха мирового империализма меня схарчит — пишите, не робейте: он погиб коммунистом!
И, расшвыряв повсюду за собой одежду, смешно поджимая кривые волосатые голые ноги и белея сырой незагорелой кожей, старшина пропрыгал оставшиеся метры и с маху плюхнул в воду, пропав на миг во взметнувшихся брызгах и сверкающей пене. Капитан и американец ошалело торчали над бортом на верхней палубе корабля, веря и не веря глазам своим. А Попов вынырнул из голубовато-зеленой плещущей воды, вырвался аж по пояс, разбросав руки, всхрапывая и ухая, басом захохотал и, призывно взмахнув Сэнди, заорал:
— Доверие, братья! Главное — доверие, и мы не повредим! Эй, малыш! Что ж ты застрял? Прими прощальный подарок своих братьев по разуму — но не по уму! — и кувыркнулся с головой в волну, сверкнув безмятежно-розовой задницей.
Сэнди робко поглядел на капитана, развел сожалеюще руками, пожал плечами, извиняясь, и, подпрыгнув, сиганул по трапу вслед за старшиной.
Капитан тоскливо неотрывно смотрел, как американец в гремящей вертящейся туче осыпающейся гальки скатился вниз, как, путаясь в штанинах, шнурках и рукавах, помчался, спотыкаясь, к воде, теряя на бегу все свои боевые шмутки; как широчайше улыбающийся голый старшина, братски урча, встретил его раскинутыми для объятий руками, и уже вдвоем они рухнули в прибойную волну, барахтаясь, бултыхаясь, целуясь, кашляя, захлебываясь и хохоча; как зазывно вопили и орали, обнимаясь, ему, капитану, — и он мог поклясться, что встретившая их малыша волна взметнулась явно выше, пышнее, явно радостнее других, он видел это, видел — будь проклята вся его разнесчастная жизнь! — что океан принял этих двоих в волны, как в пеленки. Принял в нежную люльку, словно младенцев. И тогда он понял, почему он это увидел.
И, все увидев и поняв, он тяжело сполз назад, на грязную палубу, бессильно привалился мятой проволочно-щетинистой седой щекой к ржавому железу и тихонечко, горчайше, безнадежно застонал, завыл загнанно и обреченно, обхватив черными пальцами голову и кусая черные губы.
А над ним мощно гудел праздничный прибой. Залихватски свистел неунывающе-вечный ветер в рваном рангоуте погибшего корабля.
И солнца над его головой по-прежнему не было…
Он даже не слышал шлепанье ног босого Сэнди — тот, цыплячьи поджимая пальцы на раскалившейся от солнца палубе, рысцой протрусил к капитану и уселся рядом с ним на корточки.
— Мы бензин нашли, чиф, — буднично сообщил он.
Кузьменко медленно поднял голову. Сэнди сидел перед ним серьезный и мокрый, и хрустально сверкающие капельки воды подрагивали на плечах и груди парня.
— Что? Что ты сказал? Вы нашли… Или… Или — вам?
Сэнди непонимающе приподнял белесые брови и ткнул большим пальцем через плечо:
— Там. Понимаешь, течение нас отнесло ниже этой калоши. Мы вылезли на берег там и влезали сюда с той стороны, ну где закопан, похоронен этот наш… Приятель наш. Глянули с того борта, оно как раз против солнца, и…
— Против чего? — перебил капитан.
— Ну солнца, а что?
— Солнца?.. Ну-ну, понятно. Против солнца. Так, и что?
— Ну вот, а на юте марево такое стоит, дрожит, вроде дым, знаешь? Мы подошли, глянули, а там люк. Темно в люке. Трюм. А из люка бензином так несет, что только чиркни спичку. Все ясно.
— И что ясно?
— Все, — удивился Сэнди. — Сергей за тобой послал.
— Добро, — кряхтя, капитан поднялся на ноги и, задрав голову и почти не щурясь обожженными глазами, длинно оглядел раскаленное небо; нет, не видел он солнца — не было дано ему солнца, будь оно все распроклято!
Это была действительно горловина люка. Конечно, открытая. Оттуда удушливо несло бензиновой вонью. Ну конечно. Жара. Годы. Значит, в кормовом грузовом трюме. Но там темно.
— Посмотрим, сколько осталось бензина в баке, сказал Джек и зажег спичку. Покойному было двадцать пять лет, — сострил Сэнди и сунулся мокрой башкой в темень, свесившись через обрез. — Тут даже трапа нету. Попробовать с твиндека?
— Упремся — разберемся, — проворчал капитан.
Через полчаса они уперлись и разобрались. Четыре здоровенных когда-то серебристых, но уже тронутых ржавчиной контейнера с вожделенной надписью «BENZINE» на боках светились в темноте трюма, грамотно и прочно раскрепленные в специальных блоках. Кузьменко, посвечивая фонариком на красочную желто-алую эмблему — факел, рвущийся из клыкастой пасти жуткого зверюги вроде крокодила на шести почему-то лапах, — подумал вслух:
— Только через вентиль…
Голос гулко ухнул куда-то в темную преисподнюю трюма. Сэнди поежился. После купания тут казалось прохладно.
— Это только кажется, — буркнул капитан, не оборачиваясь.
— Чего — кажется? — автоматически переспросил Сэнди.
— Я про эхо. Не дрейфь. Железо кругом.
— Здесь он, — сказал Сэнди из потемок.
— Кто?
— Да вентиль. Посудину б.
Голоса металлически разносились во тьме, прыгающе выскакивая повторениями и гулом из самых неожиданных углов. Старшина осторожно, боясь ноги переломать на всюду торчащих железяках, подошел к Сэнди. Нацедив грамм сто пятьдесят — двести в какую-то мятую дюралевую плошку, а заодно пролив литра три на ребристые ржавые слани — давление в вентиле оказалось сумасшедшим, что говорило о количестве топлива, — они втроем скоренько выбрались наверх. Кузьменко вытащил пистолет, с какой-то сумасшедшинкой в глазах плесканул остро пахнущую прозрачную жидкость в ватервейс и, отшагнув в сторону, выстрелил в лужу.
Выстрел оглушительно ахнул в скалах, ствольная коробка пистолета отлетела назад и застряла — кончились патроны, а в желобе ватервейса во вспышке голубоватой искры хлопнуло, с тихим шипением взметнулся бесцветный, чуть заметный в сиянии дня колючий столбик жаркого огня, мигом всосал в себя радужно-жирную лужицу — и исчез.
Кузьменко диковато огляделся, глаза его сделались бесцветными. Старшине стало холодно; Сэнди отступил назад, когда капитан подбежал к поставленному бессмысленно на попа вскрытому патронному ящику-«цинку», коих валялось тут без числа, сунул пистолет в кобуру, сощелкнув деловито-привычно ствольную коробку (тут только Попов сообразил, что не Сашкиных глаз он испугался — испугался выстрела! Патрон, оружие сработали; что это значит, что изменилось?), и ударом ноги опрокинул ящик, с грохотом вывалив из него до красноты проржавевшие патроны.
— Ведра есть! — объявил он лихорадочно. — На пожарных выгородках в машине и на щитах на полуюте. Сюда наставим таких вот «цинков», натаскаем ведрами горючку сюда и шлангами спустим вниз.
— А шланги? — нарочито тихо спросил старшина. — Их же нету?
— Натаскаем опять ведрами. Ну? — капитан облизнул сухие растрескавшиеся губы. — Чего ждем? Вперед, орлы. Впер-р-ред!
— Мы ж год эти анализные баночки таскать будем, — Сэнди насупленно глядел исподлобья.
— Есть другие предложения? Нету? Митинг закрыт. Кто торопится, может работать быстрее. Имеет право.
— А нам, выходит, теперь спешить некуда? — странно пробормотал под нос старшина.
Капитан выдержал паузу и отрубил:
— Да. Некуда. Нам спешить теперь именно некуда.
— Как богам?
— Да. Как богам. Ты же знаешь: у богов впереди — тоже вечность.
И Сэнди тихо ахнул…
Жаркая духота, отравленная парами бензина. Раскаленный металл над головой. Тяжкое нервное напряжение. Какое-то электричество, словно пронизывающее насквозь. Свирепая нервозность капитана, который подгонял не их — себя подгонял, подстегивал, будто боялся какого-то черта, спрятавшегося у него в кармане.
Сэнди стоял на сливном вентиле — как самый молодой, относительно слабосильный, и к тому ж в самом начале работы он, спускаясь в твиндек с двумя ведрами в руках, ухитрился-таки сорваться с трапа и с адским грохотом и руганью свалился в самый низ. Теперь он прихрамывал, без конца тер и мял ушибленную ногу и, как ограниченно («и умственно» — не удержался капитан) годный, был определен на «раздачу пива».
Попов таскал наполненные ведра до верхней площадки трапа, Кузьменко вытягивал их веревочным концом с «кошкой» на верхнюю палубу и выливал в опорожненные «цинки», выстроенные плотными рядами, — благо, этого добра хватало тут с избытком.
Через час все трое умотались. Через два их неудержимо тошнило от бензиновой вони. Но через три все ящики, ведра, какие-то ржавые банки из твиндека, дюралевые пищевые бидоны и помятая, исколотая, похабно голубенькая ванна, о которой случайно вспомнил Кузьменко и которую они тут же втроем вместе с дверью вынесли из каюты капитана этого судна («Ломать — не строить!» — с этим заявлением Кузьменко они спорить не стали, и попросту своротили ванну, как челюсть, ломиками и топором, найденными в шхиперской кладовой), — все было до краев заполнено прозрачненьким, чистеньким, замечательно пахучим бензином.
Закончив этот этап, они выбрались наверх, уселись на сквознячке рядком спинами к фальшборту, и тут же Сэнди заорал так, что все сразу подскочили. Оказывается, он налег мокрой спиной на сталь борта и едва не ошпарился: пот чуть не закипел в ткани рубашки.
— То-то, — назидательно прокомментировал Кузьменко. — Тут тебе не Америка. Тут думать надо.
— Да? — устало окрысился Сэнди. — А там, где мы, думать не надо? И если надо, то где? А?
Капитан поглядел на него, отер пот и согласился:
— Да. Действительно. Извини, малыш. Больше не буду.
Сэнди вытащил из нагрудного кармана скользкую от пота пачку сигарет, капитан услужливо щелкнул зажигалкой, Сэнди затянулся — и тут же глаза его полезли на лоб, его подкинуло и согнуло в бублик в приступе рвоты.
— Вот теперь ясно, почему на заправках запрещено курить, — Кузьменко одобрительно пронаблюдал, как Сэнди справился со взбунтовавшимся желудком. — Во. Молодец. Передохнем — займемся шлангами. Или — ну их?
— Ну. Один черт, — вяло сказал Попов. — Мы даже не знаем октановое число. Проще уж так?
— Не проще, — возразил капитан. — Я заметил на спардеке по левому борту неразмотанный брезентовый «рукав». Может, не сгнил.
— Пожарная магистраль.
— Ага. Пустим по нему отсюда горючку самоходом, если длины хватит. А насчет октана — у тебя чего, есть другой?
— А гробанемся?
— А не гробанемся?
— А ты чего, завтра же взлетаешь? — спросил старшина и про себя подумал: «Он уже не тот. И он все решил. Хотя сам еще не понял».
Кузьменко строго поглядел в глаза Попова, вслушиваясь в его мысли, и, помолчав, расчетливо жестко ответил:
— Нет, старшина. Дел еще много, старшина. И, кроме того… Да попей водички, что ли! — заорал он все еще давящемуся рвотой Сэнди. Тот вскочил и резвой рысцой, мотая головой, побежал к надстройке.
— И чего ты к нему цепляешься? — старшина проводил взглядом паренька. — С утра до вечера: гав-гав, гав-гав. Он же мальчик вовсе. А ты…
— А я не цепляюсь. Я жалею, — зло сказал капитан. — Иначе пропадет.
— Интересно жалеешь.
— Правильно жалею. А вы, доброхоты, всегда «сю-сю», потому что сами хотите и можете, когда с вами на «сю-сю». А чуть чего — в кусты. И выплывай, как можешь. Знаю. Пробовал.
— Того лучше. Совсем ты одичал тут, Саня.
— Тут одичаешь… Ну а ты? Прям завтра готов когти рвать? А как же научный интерес всего несчастного человечества? Или как дали по ушам, так сразу понял: слабо?
— Завтра… Что такое «завтра»? Ты-то, как я понял…
— Я сам еще ничего не понял. Давай-ка делом займемся! Невпроворот ведь. И вообще. Вечер скоро, а мы еще ни в одном глазу. Сэнди! — неожиданно заорал он так, что старшина вздрогнул. — Живой ты там, пацан? Интересно, чего он там ищет… Может, и вправду зря я на него так…
А в самом деле, куда он запропал, странно…
— Тс-с-с… — вдруг слышно даже в гуле прибоя прошептал капитан. — Гляди! Гляди, — его чудовищно грязный заскорузлый палец уперся в надстройки судна. Старшина похолодел. Огромная ходовая рубка, нависающая над палубой, дрогнула и поплыла, раздваиваясь в дрожащем жарком мареве. Боковым зрением он заметил, как капитан, закрыв глаза, бесшумно сказал перекошенным ртом: — Нет, о, Господь милосердный. Нет. Хватит.
И, словно послушавшись капитана, глыба надстройки беззвучно осела вниз, на место.
«Фу ты! Чего мы всполошились? — почти раздраженно перевел дух старшина, отстраненно разглядывая между тем поплывшую в порыве ветра тяжелую пыль старой краски, тихо ссыпавшейся, заструившейся грязным облаком со стены рубки; что-то явно звякнуло. — Да нет же, нет! Показалось… Жара, раскаленный металл, ветер, движение воздушных масс от нагревающихся поверхностей. Все предельно просто. Скоро тени своей пугаться будем. Ну, конечно, — вон он, наш юный лейтенант! Все на местах, все в порядке».
Да, на крыле ходового мостика действительно появился Сэнди. Он диковато озирался, пригнув голову, словно не понимал, куда попал, потом, перегнувшись через ограждение мостика, долго разглядывал с верхотуры ждущих его русских и, наконец, помахав им какой-то банкой, неторопливо застучал каблуками ботинок, замелькавших в просветах ступенек трапа.
— Попить тащит, — вздохнул капитан. — Хороший малый. Жалко…
— Чего жалко?
— Не чего. А кого. А вот тени нету. Ин-те-ре-сно. А?
— Полдень, — пробормотал разморенно успокоившийся старшина.
— Глаза разуй. Академик… Под себя глянуть лень?
— Я-то разул. Ты лучше скажи, почему не удивился?
— Я вообще давно не удивляюсь. Даже солнышка вот нету — а я все равно не удивляюсь.
— Нас шарахнуло из Арктики в тропики — и мы спокойны. Будто так и надо. А что потребно для такой переброски? Почему мы уцелели? И вообще — была ли переброска с нами? Но все это еще куда ни шло; ну погалдели малость, ну попутались…
— … ну харч метнули. Отдельно взятые товарищи…
— Бывает. Но вот эта штука под нами! — старшина гулко бухнул кулаком по палубе. — Я не про железо! Я… Я про стекло! А? Это вот не слабо?
— Пока не знаю, — рассеяно щурясь, пробормотал капитан. — Но узнаю. Гад буду — узнаю.
— Узнаешь? И так известно. Мы действительно попали на некий объект.
— Ух ты! Это ж надо. Ну кто б мог подумать, а?
— На объект, созданный руками, возможно, людей. Вероятно, своего рода самопрограммирующийся, саморегулирующийся автомат, или зонд, или что-то в этом роде, способный корректировать даже изменение внешних, объективных ситуаций. И мне кажется, оставлен он тут давно, по нашим, земным меркам давно, меркам нашего времени. А мы явно… Ты меня слушаешь?
— Спасибо, малыш, — Кузьменко щурился от все еще непривычно-ослепительно режущего света и потому не поднял к подошедшему Сэнди головы. — И не держи сердца на сердитого командира. Сердитые — они и есть самые добрые. Как бабушки и семеро козлят. А чего ты нам в клювике принес? Мы тут научную… — капитан поперхнулся, уставясь снизу вверх на прозрачный стеклянный кувшин в трясущейся руке американца. А старшина не сводил глаз с лица парнишки. Лица такого же белого, как… Да. Да! Как молоко. Свежее молоко. Нормальное, белое, домашнее молоко в неведомом кувшине, вернее, в необычной, ранее русскими не виданной здоровенной широкогорлой бутыли.
Кузьменко принялся медленно вставать. Сэнди тряханул перед ним бутылкой, всплеснув пену. Капитан бережно-опасливо, как взведенную гранату, принял ее в сведенные пальцы подставленной руки, стремительно окинув взглядом Сэнди, сотрясающегося горбато задранными плечами. Заломив опаленные рваные брови и не сводя с парнишки глаз, он наклонился, медленно глубоко вдохнул из горлышка, через плечо немигающе поглядел на старшину — и, не разгибаясь, бесконечно долго в гудящей прибоем тишине стал наклонять бутылку, покуда молоко — да, это было, черт его дери, молоко! — не потекло тоненькой струйкой в другую его подставленную руку; и когда белые позванивающие капли во вкрадчивом шорохе ветра посыпались на черные измызганные сапоги, он ткнул бутыль Попову и, закрыв глаза, поднес ладонь к лицу, подержал ее растопыренною какую-то секунду, словно всматриваясь куда-то вглубь то ли ее, то ли себя, — и вжал лицо в ладонь. По черным скрюченным пальцам, по черно-седым щекам брызнули нежно-белые струйки, тяжело закапал лунный жидкий жемчуг.
— Я… Я дом-ма был… — прыгающим голосом прошептал Сэнди.
Капитан осмотрел разжатую ладонь, облизнулся и, скрипнув зубами, в мгновенном хрусте пальцев сжал кулак. Потому что пальцы прыгали.
— Где? Дома? — спросил он хрипло. — А тут у нас, значит, сплошные консервы, да? Ведь правда, да? Кругом одни консервы? Как мы? Да? А, ч-черт, оно парное… Где?! — оскалившись, он страшно встряхнул Сэнди за треснувшую грудь рубашки. Тот, морщась, мотал бессильно головой. И тут только Попов понял, чего он так испугался в Сэнди.
Мальчик был весь мокрый. Волосы, рубашка, брюки, ботинки, даже ремень — все было мокрым насквозь. А ботинки его, ладные коричневые офицерские ботинки, были не просто мокры — они были по самый верх густо заляпаны желтой и коричневой глиной — влажной глиной! Мокрой! И на пластилиново-жирные ее комья сплошь налипла трава. Вон она — в следах Сэнди на палубе! Зеленая, желтая, серая — всякая трава. Простая, деревенская, земная. Трава!
Старшина перевел дух. «Консервы! — эхом стучало в висках. Кругом одни консервы. Как мы…».
— Ну?! — заорал капитан.
— Молоко принес… — Сэнди трясло, он прятал лицо.
Кузьменко тупо поглядел на старшину.
— Молоко? Ага… Из дому. Понятно. Ну да. Дома побывал. В родимой хате. И как там наши?
Сэнди поднял к нему лицо. Лицо, залитое прозрачными слезами.
— Они не видели меня. Потому что я… Я — умер…
… Ночь шумно утопала в холодном ливне. В невидимых углах старого дома рычали водостоки, захлебываясь клокочущей водой. Пенные вертящиеся струи хлестали сквозь щели навеса веранды, искрясь отраженным из кухни светом, и в низвергающихся водопадах дрожало и раскачивалось на веранде под порывистым ветром кресло-качалка отца, забытое, как всегда, на ночь.
Он моментально промок насквозь и, не чувствуя сгоряча ледяной холод, опасливо шлепая по пузырящимся лужам, вприпрыжку обогнул дом. Он еще ничего не понимал; слишком стремительно-прост был мгновенный, в неразличимом миге, на полувдохе шаг из залитой теплым сиянием ходовой рубки старого корабля сюда, в осеннюю ночь на старую ферму под Маскоги.
Отбросив тылом ладони воду с лица, он оглянулся на темную массу гаража, где в его время жили три собаки. Хоть бы не учуяли, тогда… А что тогда? Разве теперь узнают его шустрая хитрованка Дженни, широколапый толстозадый Бегемот и его нахальный братишка — бесстрашный и глупый Терри-Пулемет? Едва не упав в грязь, он взобрался на выступ фундамента и приник лицом к струящемуся водой желтому окну.
Там, внутри, ничто не изменилось, кроме света. Да, во всегда светлой и веселой спальне матери сейчас было почти темно. Он даже не сразу понял, что комнату освещает лишь лампада под иконой в углу. Всегда, сколько он себя помнил, мать на ночь в том углу молилась — она сохранила веру своих предков-славян, но набожной показно-истовой никогда не была. Такой, какой, похоже, была эта вот старуха, сникшая в глубоком поклоне на коленях под лампадой.
Он сморгнул воду, заливающую ресницы. И разглядел мать. И тихий ужас сдавил сердце мохнатой ласковой лапой, когда его привыкшие ко тьме глаза рассмотрели под иконой знакомое фото — увеличенное фото, им самим посланное матери в день отлета к русским из Британии. Широченная фуражка, заломленная назад и набок, широченная улыбка. «It,s okay, Mom!»[85]
Ах, какой славный лихой летчик-истребитель рядом со своей боевой машиной, судорожно оскалившейся алчной пастью. «Порядок, старушка!». Во дурак, проклятый сопливый юный дурак! Боже, прости мне — прости мне, мама, юную дурость мою…
Кому молилась мать?
Старуха, словно услышав, медленно распрямилась на коленях и трудно обернулась. И широко раскрытыми бездонными глазами смотрела в зрачки сыну.
Сэнди вцепился в мокрую стену, ломая ногти. Сколько ж прошло лет? Двадцать? Тридцать? Больше? Сколько?!
Вода разъедала глаза, текла в уши, забивала дыхание.
Старуха тяжело встала и острожно, как слепая, пошла к окну. Чуть не сорвавшись, Сэнди отпрянул и повис над лужей, крик рвался из сведенного судорогой горла.
Старуха стояла рядом с ним, в десятке сантиметров, за стеклом и слепо всматривалась в черное, залитое дождем и временем окно.
— Мама… — прошептал он и, зная, что делать этого нельзя, никак нельзя, что последствия непоправимы, прижался носом, лбом, лицом, всем сердцем и душой вжался в это стекло и, захлебнувшись горем, уже забыв все в мире, закричал:
— Ма-м-м-ма-а-а!..
Крик зазвенел в ушах, рассек неумолчный шум низвергающихся небесных вод, хрюканье труб, свист ветра. Но она не слышала…
Он, трясясь, чудом извернувшись, прижал растопыренную пятерню к самому ее лицу, впечатал ладонь и сердце в это стекло, он весь был тут, она не могла не видеть — его, своего сына, вернувшегося к ней через столько лет!
Открылась дверь неслышно внутри дома, и слепящий свет ударил по глазам, но он не отпрянул. В дверях спальни матери стояла какая-то женщина в широченном халате и, включив люстру, что-то быстро и, похоже, зло выговаривала старухе. Та, как не слыша, подняла дрожащие темные ладони и прижала их к оконному стеклу. Сэнди, уже погибающий Сэнди, успел сообразить, что эта здоровенная баба с сигаретой — его младшая сестра; когда он уходил, она была еще совсем кроха, этакий зубастый и развеселый щенок, который любил кусать его за нос и которого он любил катать на санках, запряженных в тройку собак; визжащая от наслаждения и гордости лохматая упряжка мчалась под ее хохочущий визг, и он все время скользил и падал на накатанном снегу, не поспевая за ними, а мать кричала с веранды, что он, паршивец, расшибет младшую сестренку…
А сейчас та, кто была его матерью, прижалась, как и он, к глухому, темному стеклу. Они смотрели в зрачки, в сердца друг другу в упор, с расстояния в десять миллиметров — но она не могла видеть, стекло было слишком толстым, его тонкий лист был толще вечности, и мать не видела, как дождь и слезы струятся по лицу сына, которого она так и не дождалась…
… — Хорош рыдать, малыш. Тебя никто не услышит. Ты на войне, — горько сказал капитан. — А эта старая сука никого не слышит, и мы…
— Я дома! — страшно закричал Сэнди. — Дома!! И будьте вы все прокляты — все, со своими войнами, вождями, революциями, нацистами, коммунистами! Дети ваши прокляты будут! Все потомки, все женщины, все — за то, что вы творите! — он ткнул пальцем куда-то в равнодушные спекшиеся небеса. — Он проклял вас! И потому вы в крови, дерьме и в войнах! Он учит вас, Он говорит, Он просит, умоляет — но вы же звери, вы не слышите Его, вы никого не слышите, кроме своих убийц-вождей! Вы!.. Вы…
Капитан, закаменев лицом, стоял перед ним молча, опустив голову. Сэнди с рыдающим хлюпаньем втянул воздух, взмахнул руками — и вдруг повалился капитану на грудь.
Кузьменко, дергая изрезанной шрамами и желваками щекой, обнял его, сжал трясущиеся плечи и, уткнувши тяжелое лицо куда-то мальчишке за ухо в мокрые слипшиеся волосы, что-то тихонько хрипло-нежно бормотал…
Тяжело загребая сапогами пышущую жаром гальку, старшина в мерном рокоте прибоя шел в конец полосы. Сделать оставалось уже немного, и это немногое необходимо было сделать как можно скорее.
Все встало на свои места.
Тысячелетия живет на планете Земля этот странник, станция-автомат, загадочная Дверь в огромный Мир, которую они трое в минуты погибели приняли за остров, на который попали так же, как наверняка попадали десятки, сотни, тысячи живых земных существ (сколько их было за минувшие неисчислимые тысячелетия?). Но, будучи детьми своего болезненно-жестокого времени, они ничего не поняли и принялись на свой лад решать, ломать и переделывать. Не руками, не оружием — а тем, что куда страшнее и сильнее: неверием, угрозами, страхом. Мысль материальна; злоба — тем более. А они трое, обалдевшие, запыхавшиеся, ничего не видящие после кровопролития, смертей, ворвались в раскрытую пред ними дверь с пистолетами, с пальбой, криками… Господи, Боже наш!
Прости нам. Прости! Не ведали мы, что творим…
Прости…
Ведь теперь мы знаем, что Ты — или Вы все тут, ну, может, не тут, может, где-то там, высоко, всюду — Вы, создавшие Остров, — Вы изначально милосердны и милосердием непревзойденно, непобедимо могучи, если Ваш Остров, бездушный автомат, камень-механизм создан так Вами, что спасает человека, не дает ему погибнуть, пробуждает в нем душу живую, память, ведет через темный, в нем сидящий ужас, зло злом вышибая, дьявола в человеке человеческим же дьяволом изгоняя. И потому благословляю Вас.
Потому что поверил.
Потому что не рабства жду, но свободы.
Свободы не дареной и лживой, но нами завоеванной в битве с нами — с рабами.
Не хлеба жду от Вас дарового, мертвого, и не сытости жалкой, и не рабского подлого барства, не погибели в лени и роскоши.
Жду труда тяжкого! В поту и усердии к Миру ведущего!
Жду битвы Человека с человеком за сущее в нем, за истинно доброе, а значит, и вечно людское!
Вот он предо мною, огромный камень в конце уже пройденной, уже нами, нашими руками, построенной здесь дороги. Я уберу его с пути, сверну его в сторону, во-от так, и шагну дальше. И еще один, и еще. И уже пройден мною следующий шаг, я чищу дальше, строю дальше. Ибо я — Человек.
Он все поймет, наш мальчик. Он ведь еще не знает, что не погибли мы, — не дано нам погибнуть, если мы сумеем, если сможем, если хватит в нас разума не впасть в злобу, ненависть и отчаяние. Если достанет сил вспомнить о всех Творцом в нас вложенных «возможностях» и достанет добра вернуться.
И тогда мы вернемся.
Я знаю, в чем сила моя и для чего мне надо уйти отсюда. И, похоже, мой капитан, неистовый служитель собственной справедливости, — он тоже знает. Он понял. Он уже не тот, каким был в первую ночь. И парнишка, наш замечательный обессилевший крепыш, собрат наш, потомок славян и саксов, с которым пошли мы по одной дороге рядом, — тоже. Иначе не могло и быть. Иначе не было бы ничего. Иначе мы б не справились. Ведь столько сил, столько мук и горя, — неужто ради того лишь, чтоб, ничего не уразумев, умереть? Или, тем паче, ничего не осознав и не приняв, — выжить?
Вот они идут сюда. Ко мне. Двое братьев моих. Идут, чтоб со мною вместе вновь взяться разом за непосильный, каторжный труд, вместе ворочать камни и складывать дорогу, по которой мы — тоже вместе — взлетим. Труд здесь — и далее всегда.
Бог нам в помощь, ребятки!
Ну-к, взя-а-али! И — еще раз! И-и-и… пошла! Пошла, родимая. Нету такой силы, такой тяжести, такой горы, чтоб устояла пред нами — пред человеками-братьями!
Американец, влезши в мотор снизу по пояс, чем-то там позвякивал, его уже погоревшие на солнцепеке ноги нетерпеливо топтались под задранным капотом, — он отказался даже от единственного за много часов перекура, поклявшись, что до вечера все закончит.
Старшина, ловя догадку, пытаясь точно сформулировать какую-то явно простую и явно крайне важную мысль, глядел на тоже подзагоревшего капитана, жадно досасывающего сигарету, и вдруг сообразил: сюда, на Остров, попадает только оружие!
За те несколько дней, или недель, или сколько они тут, Остров имеет дело лишь с оружием, лишь с орудиями убийства, но при этом обязательно выводит их из строя. Мало того. Носители оружия тоже выводятся из строя — точнее, из готовности к выстрелу. Ведь совершенно очевидно, что затворы и патроны не срабатывают не только в стволах — они не срабатывают и в головах! Но ведь и это еще не все. Человек, переставший быть солдатом, готов к тому, чтоб отобрать оружие и у других; он становится носителем, излучателем идеи неубийства, ненасилия. Достаточно внимательно, не вслушиваясь в слова, декларации и вопли, вглядеться в нашего славного капитана…
Старшина вскочил и почти побежал к самолету, обжигая ступни на раскаленных камнях: они работали, раздевшись до трусов, но в сапогах, — ходить иначе по раскаленной земле было невозможно; лишь вот так, в минуты отдыха, они их сбрасывали.
Капитан воткнул окурок в гальку, неспешно поднялся, с кряхтением пару раз согнулся-разогнулся и с очевидным усилием взялся за сапоги:
— Все, товарищи бойцы, перекур закончен. У перед.
Старшина нырнул под мотор и шлепнул Сэнди по влажной ноге:
— Что еще он вам рассказывал, малыш?
Сэнди, отклонив костлявую мальчишескую задницу и зачем-то растопырив локти, целую вечность вынимал из мотора всклокоченную башку. На его щеках жирно застыли радужно-сверкающие черные потеки пота, смешанного с машинным маслом и копотью.
— Ну тот ваш инструктор? Когда рассказывал про этот, как его?.. — старшина защелкал пальцами.
— Бермуды? — Сэнди вытянул откуда-то промасленную тряпку и принялся жестом мастера медленно отирать ломкие длинные пальцы.
— Эй, работать будем? — осведомился из-за самолета капитан.
— Он говорил что-нибудь про оружие? — добивался старшина.
Сэнди сморщил измызганный лоб. Похоже, что и с мотором он оставался все тем же пацаном, одно из главных удовольствий которого — быть взрослым.
— Вспомни, кто исчезает? Только военные, ну, только носители оружия? Или вообще все и всякие суда там, самолеты? Ты понимаешь, к чему я, Сэнди, ты слышишь меня? Понятен вопрос?
— А мы же чистая армия… — протянул тот, явно что-то соображая. — Точно. Там вечно шляются толпы всякой публики. Яхты, катера, любители, рыбаки всякие. Но исчезали… Да нет. Быть не может! Слишком просто!
— За деревьями леса не видать?
— В смысле — слишком сложно для нашего мира? А слишком просто — для нашего разумения?
Ломко захрустела галька. Заросший, запыленный Кузьменко поднырнул под винт и тяжело оперся на недвижную лопасть.
— Опять митинг? — угрюмо осведомился он.
— Ты понял! — обрадовался старшина. — Сэнди, умничка мой, понял!
Американец отшвырнул тряпку:
— Ты хочешь сказать, у нас есть шанс? Я не про вылет. Не просто вылет — глаза его заблестели. Так, да?
Старшина улыбался:
— Эта штука имеет четкий отбор — как в собственную школу. Она подставилась нам, приняла, потому что мы искали ее, мы погибали — но все-таки были вооружены и готовы на смерть, так? Мы искали остров спасения — что еще мы могли искать? Только землю, только остров. Вот мы и увидели остров! Мы мечтали о необитаемом — мы же знали, что своих не найдем, и боялись немцев — так и вышло.
— Мечтали о выпивке… — вставил капитан, но старшина его не слышал.
— И в тот миг не было больших пацифистов, чем мы, самим фактом нашего положения. Ты понимаешь, Сэнди? А ты — ты грохнулся, потому что испугался? Саня, помнишь, ты тут как-то говорил, что…
— Я? Ни хрена я не говорил. Работать будем? Кстати, Сэнди, ты бензобаки не наглухо задраил? Ага, молоток, нехай на жаре маленько травят… Я ж говорю — талант. Тебе б у нас на «Электросиле» цены б не было.
— Но мы все-таки не готовы, мы не слышим, все время путаемся под ногами, и они…
— Они? Опять… — Капитан задрал растопыренные руки, проветривая подмышки на ветерке в куцем тенечке самолета.
— Ну, странники, пришельцы, может, даже люди из будущего мира, нашего там или какого-то соседнего, да какая разница! Они норовили нас либо переделать лучше, либо спихнуть отсюда — но так, чтоб мы ушли сами, смогли уйти, но ушли все-таки другими. Потому ты и побывал дома, малыш. Они же все тебе сказали — и заодно проверили. А мой следователь! Ох, ребята, смех и грех, он тут давеча мне приснился, что ли, — а может, я ему? Во хорошо бы…
— Да уж! — мрачно ухмыльнулся капитан. — Интересно б пообщались, надо полагать.
— … перепуганный насмерть, причем реально! Как нашкодивший сельский библиотекарь, право слово, даже гимнастерочка колом — ну, точно, активист-избач, втихаря за полками девок тискавший!
— Влипли мы, мужики, — капитан грузно осел на ящик-подставку для Сэнди. — Это ловушка. Ошибаешься ты, старшина. И знаешь почему? Потому что я действительно не хочу улетать.
Старшина и Сэнди уставились на него.
— Ты-то чего, Серега, вылупился? — горестно усмехнулся капитан. — Не ты ли мне череп проел своей заботой о человечестве?
— Но мы должны уйти… — медленно сказал старшина.
— Мы? Нет. Мы должны только Родине. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. А если — правда?
— Какая правда? Чья? Твоя?
— Ну а если? Не только в стройке, перековке, канале там или еще где. Если настоящая, для всех, вообще всех, правда? И никто ни за чей счет? Тогда как, а? Правда и счастье для всех — и никто не будет обижен?
— Каком канале, Господи! — простонал старшина.
— Знаешь почему ты мне всегда в шахматы проигрывал — хотя игрок ты хоть куда? — капитан сморгнул пот. — Потому что шибко учен. И действуешь строго по уставу.
— По уставу? Я? — старшина был поражен. — И ты говоришь это мне? Мне — ты?
— Да! — торжествующе заявил капитан. — Ты уверен, что все в мире надо: раз — назвать, два — объяснить, три — об-бязательно распотрошить и четыре — подогнать.
— Подо… Что?
— Так точно. Подогнать. И запротоколировать красивыми словами. Чтоб про человечество, про светлую цивилизацию и всякое такое. В общем, с Рождеством Христовым на закуску.
— Это надо с большой буквы, — медленно обронил сверху Сэнди. — В этом все и дело.
— В чем? В грамматике? — спросил снизу вверх капитан.
— Нет. В том, что Рождество — вовсе не красивая сказка. И Иисус — человек. Просто человек. Вопрос — откуда?
— Ясно, — капитан встал, отряхивая руки. — Началось. Пора за работу.
— Иначе не понять. Он понял, — Сэнди мотнул головой на старшину. — Так, Сережа? Ведь ты понял про оружие. Это не мелочь.
— Ай, да ну вас! — махнул рукой капитан. — Я вам про Фому, а вы мне… Кажется, ребятки, вы и вовсе — того, поехали. Я тут сам себя уже боюсь! Ведь если я точно знаю, что должен остаться, то…
— Еще бы, — изменившимся голосом перебил Сэнди. — Вон еще одни. Тоже сюда. Видать, компанию нам решили составить.
— Что? — вмиг охрип капитан. — Где? Кто?
Сэнди, почти не щурясь в нестерпимом свете, глядел над его плечом в море. Капитан резко обернулся.
Недалеко — хотя расстояние в дрожащем жарком мареве определить на глаз было трудно — висели силуэты пяти самолетов. Они шли пеленгом на высоте примерно тысячи метров, наискось к острову. Но что-то было в них нелепое, что-то мешало, сбивало с толку.
— Наши, — непонятно спокойно определил Сэнди. — «Эвенджер».[86] Самые последние машинки.
Трое летчиков молча следили слезящимися от жгучего света глазами за самолетами. Так что же?.. Ах, вон оно что! Самолеты-то вроде не летели! Они действительно будто висели на невидимых нитях, едва заметно подергиваясь мерзко-марионеточными судорогами.
Странное, нелепое дрожание; какая-то размытость, как в дыму, силуэты двоятся, троятся, грязно тают и вновь мутно проявляются, словно на фотопластинке, и вновь размываются; какими-то дергаными нелепыми толчками, непостижимо в аэродинамике, перемещаются относительно друг друга… Так, вот второй в пеленге дернулся, как прыгнул, носом на остров; первый, ведущий, тут же довернул за ним; потом — остальные трое. Теперь пять толстобрюхих, широкомордых машин все теми же толчками нацеленно надвигались на Остров.
Сэнди что-то тихонько забормотал — его начинало колотить. Капитан быстро спросил, не оглядываясь, сипло:
— Ваши? Уверен?
— Груммановский «Эвенджер». Новейшая машина. Морской торпедоносец. Я их всего раз и видел — они перегоном садились у нас на базе… О, Боже! Где они?!
Пятерка самолетов… исчезла. Просто пропала и все. И в тот же миг всеми позабытый «ИЛ-2»… заговорил! Человеческим языком! Капитана буквально отшвырнуло от мотора, старшина охнул. А из кабины штурмовика, точнее, из его радиостанции слышалось быстрое неразборчивое бормотание. Рация включилась сама по себе.
Сквозь потрескивание и шипение эфира несся гнусавый голос — странно знакомое бормотание. Пауза, шипение. Быстрой скороговоркой ответил другой. Щелчок, запели странные ноты — что-то вроде протяжной морзянки. Старшина до боли в затылке напрягся, вспоминая, где он слышал такую гнусавящую скороговорку; он косо глянул на Сэнди — и вздрогнул: парнишка стоял белый, с перекосившимся застывшим лицом, весь обратившийся в слух. И тут же Попов вспомнил! Именно такую речь он слышал тогда, в вечер прибытия союзников, и потом — в те кошмарные секунды атаки на немецкий конвой. Точно! Английская речь. Стоп! Английская?! Но он же ее не понимает! Значит… Значит, язык, на котором они тут, на Острове, говорят… Значит, не только не английский и тем более не русский — но и вообще не язык?! А рация опять включилась. Сэнди, сжав кулаки, быстро перевел срывающимся голосом:
— Я — «ФТ-28», капитан Чарлз Тейлор. Передайте Пауэрсу: у меня вышли из строя оба компаса, пытаюсь… — Голос пропал, рация свирепо затрещала, свистнула, голос вырвался из помех: — … пересеченная, очевидно, мы заблудились после последнего поворота.[87]
Старшина ничего не понимал. Капитан, выпучив глаза и тряся головой, тыкал пальцем себе в ухо — и старшина, сообразив, похолодел: ни на ком из них не было шлемофонов — а в радиостанцию, в эфир можно включиться, лишь подключив к бытовой станции переходной штуцер шлемофона. Они не могли слышать рацию — рацию, которую к тому же никто и не включал! Все бортсистемы «ИЛ-2» были обесточены!
— Здесь «ФТ-74». Если вы над Кис, развернитесь так, чтобы солнце было слева от вас, и летите к берегу… В двадцати милях… дейл… какой высоте? Иду навстречу.
Сэнди дико рыбьи разинул рот и простонал, бессильно ловя воздух:
— Кис! Это же Флорида-Кис! И Форт-Лодердейл! Боже всемогущий — это наши! Мы действительно дома!
Капитан стремительно бледнел сквозь кирпичный загар и черно-седую щетину, задрав голову к самолетам, которые размыто качались в жарком закипающем небе неподалеку, не приближаясь и не удаляясь; силуэты их все более и более терялись, становясь зыбко-прозрачными, и такой же все более зыбкой и рваной становилась радиосвязь; голоса летчиков пропадали, рвались. Вот включился явно ведущий группы:
— … и мне показалось, что они… неправильно, поэтому я развернулся. Я был уверен, что компасы вышли из строя!
Вмешался то ли наземный диспетчер, то ли руководитель полетов, — и, как ни странно, голос его был четок, ясен и близок, в отличие от голосов пилотов:
— Включите аварийное опознавательное устройство, чтоб мы вас видели на радаре.
На радаре? Старшина быстро глянул на Сэнди. Радар… Что это такое — радар?
— «ФТ-28», почему молчите? Ваш сигнал затухает, выходите на связь! Почему молчите? Ваш сигнал затухает, выходите на связь! Почему молчите, «ФТ-28»?..
Воздух плотно заполнялся густым дрожащим гулом, но самолетов видно уже почему-то не было: они словно расплылись мучными кисельными пятнами где-то тут, над головой — везде и нигде. Сэнди уперся грязными ободранными руками в мятый носок крыла и что-то бормотал, раскачиваясь, как в молитве, — а может, то и была молитва. Рация то включалась, то выключалась, в радиопереговорах врывались и пропадали новые голоса. Сам воздух вибрировал от предельного напряжения. Происходило странное. На их глазах сейчас уходили живые люди — а они, трое на Острове, спасенные и знающие, ничем и никому не могли помочь; они были лишь сторонними наблюдателями.
Участь тяжкая, незавидная: видеть, знать — и ничем не помочь. Вот опять — чей-то возбужденный, даже напуганный, юный голос:
— Сколько мы летим на восток?
— Здесь Тейлор. Идем курсом «270», пока не достигнем берега или не кончится топливо.
— Порт-Эверглейдс — Тейлору. Постарайтесь перейти на «желтый канал»[88] и вызовите нас, повторяю, пе…
Связь оборвалась. Окончательно. Самолеты пропали. Радиостанция, отчего-то не выключаясь, шипела, потрескивая разрядами, и тихонько злорадно похрюкивала чего-то выжидающим, затаившимся эфиром.
Сэнди зажмурился и с маху воткнулся лбом в носок крыла. Капитан опустил голову. Говорить было не о чем и нечего.
И вдруг Остров подпрыгнул под ногами! Дробно ахнула и загрохотала каменная осыпь за спинами, вздыбив клубящуюся тучу мощной пыли; орудийным залпом где-то обвалилась скала; над задрожавшим, словно в землетрясении, пляжем взметнулось удушающее облако пыли и песка — и в тот же миг русские аж присели от рухнувшего сверху рева и грома.
Вырвавшись из лопнувшей над водой зеленоватой слепящей вспышки, затмившей сияние расплавленных небес, над Островом с адским железным ревом пронеслась вихрем пятерка непривычно брюхастых, головастых, широкофюзеляжных, с обрубленными широкими короткими крыльями самолетов с богато застекленными просторными кабинами — и мгновенно сгинула, исчезла в знойном мареве; рация в миг пролета взорвалась безумным воем и визгом, уши заложило, штурмовик трясло в резонанс грохоту и гулу валящихся по склонам скал камней, виски заломило уже знакомой дикой болью до обморока; рев моментально исчез с исчезновением машин, и тут же рация под такой же размеренный, как и всегда, рокот волн быстро и четко сказала:
— Порт-Эверглейдс, вас слышу, здесь Тейлор! Мы только что пролетели над небольшим островком! Никакой другой суши в пределах видимости нет!
Капитан пригнулся, широко расставив ноги, и тер тыльной стороной ладоней слезящиеся глаза. Все было ясно. Не надо было быть летчиком, чтобы понять: группа безнадежно заблудилась над океаном. Но… Но не было ответа на другой, куда более важный, вопрос: каким океаном?
Каким? Где? И в каком… Ну, смелее: в каком мире? — с замиранием сердца спросил себя — осмелился спросить — старшина. Он же просто человек — человек как бы там ни было! И боялся ответа, хотя ответ уже знал. Теперь, когда все догадки приобрели такую четкую страшно-неопровержимую реальность, — знал. Что?!
Да, рация вновь заработала! Они все живы — живы!
— Когда у кого-нибудь из вас останется десять галлонов топлива, мы все вместе, повторяю, только все вместе садимся на воду. Каждый это понял?
Сэнди, боясь верить, с невыносимо-истовой надеждой заметался глазами по лицам русских; со лба его шелушилась отслоившаяся с крыла «ила» сухая крошка-чешуя старой камуфляжной краски. А рация работала! Они все еще были живы; они все еще боролись — хотя, кажется, уже поняли, что оказались за пределом, что шагнули туда, откуда нет возврата…
— … не кончится горючее. Ближе к берегу у нас больше шансов…
Пауза. Неясное встревоженное бормотание. Чей-то изумленный возглас:
— Что это? Что это там такое — слева?!
— Мы можем зарыться в любую минуту!
— Тейлор — Пауэрсу. Вы слышите меня?
Вот теперь наступила развязка: неведомый им Тейлор что-то увидел, что-то невероятно важное, он пытается, он надеется дозваться, докричаться до своих; ах, если бы он знал…
— Вы слышите меня?! Тут, слева…
Треск, свист — проклятые помехи! Нет, вот он вновь прорвался:
— … не думаете ли вы, что… Если б нам увидеть свет!
Все. Связь оборвалась — на сей раз навсегда. Они ушли.
Тихо-то как… Невероятно, невозможно, ненавистно и привычно тихо.
Нежно шелестел ветер, приглаживая растревоженную пыль. Сэнди сидел на гальке и беззвучно трясся, обхватив голову руками. Ровно, размеренно и вечно гудел океан, накатывая шипящие волны на покойный берег. Где-то там, за стеклом, в темных синих глубинах в эти минуты неспешно и умиротворенно, ничем уже не тревожась, плыли, опускались ко дну огромные птицы, замедленно раскачивая изломанными крыльями; пять чаек — погибших чаек, людьми созданных, плывут в холодную вечность, унося с собой людей. «А рыбы? — дурацки подумал старшина, — интересно, рыбы как ведут себя в таких ситуациях? Пугаются, удивляются или любопытно лезут к кабинам, пытаясь разглядеть неведомые им существа за стеклом? Впрочем, возможно, никакой рыбы там, куда ушли пять экипажей, и нет? Ведь ушли они, вероятно, туда, где мир действительно иной — все тот же вечный, бессмертный, бесконечно-множественный, великий и чистый — Мир иной…»
Созвездия были неведомы. А звезды их — полны изящной, тоненькой нежности и свежести цветов рассветного дождя.
— А ведь мы видим их здесь впервые… — с тихим потрясением воскресающего человека капитан с никогда им не ведомым целостным упоением вглядывался в светлеющие уже небеса, откуда ему в глаза ободряюще глядели тонкие звездочки-хрусталики, из бездны Космоса подмигивали троим измученным, но поверившим в себя людям, переливались неслышными вспышками, передавая, наверное, друг другу в вечные глубины весть о том, что еще трое живых существ обрели дорогу в пустыне и уже поднимаются по ней — ступенька за ступенькой.
Сколько хватало глаз, лежал вокруг уверенный в них океан, ожидая последних проводов своих гостей. И на островной скальной тверди тяжко покоилось старое железо, столь долго и надежно помогавшее и укрывавшее троих, нашедших в нем пристанище, — может быть, потому помогавшее и укрывавшее, что помнило людей? Тех, что создавали его, и тех, что жили, верили в него раньше? Люди ушли — корабль умер. Но… Но душа — или души тех, кто ушел, их тепло какой-то крохотной частичкой сохранилось в нем и теперь приняло этих троих?
Куда ушли люди старого корабля, кто они были? Может быть, были они неродившимися потомками этих троих? И где теперь их дорога?
Про то печалиться не надо. Где бы ни была она — она впереди. Всегда. И для всех — одна.
И трое летчиков — русские и американец, — став собратьями, вышли на нее, как и их предшественники; они уже преодолели первые, самые трудные шаги тяжкого пути познания, и сегодня, когда расцветет день, они вместе шагнут далеко вперед.
Нет сомнения — будет тяжко. Предстоит прорыв, великий прыжок сквозь невидимый барьер, стоящий в душе каждого землянина, нет, каждого живого существа, рожденного Создателем. Но искус преодолим — искус страха, лености и неверия.
Душа пробьется сквозь монолитное стекло, прорвется живой крик ее сквозь окаменелость враждебных Жизни сиюминутных выдуманных истин и догм — как прорывается сквозь кровь и боль крик вновь родившегося младенца, заявляющего о своем праве на существование.
Каждый из троих, не говоря друг другу и слова, избегая многозначительных и пустых фраз и клятв, уверен был в каждом — а значит, и в себе…
Кузьменко торчал под уверенно задранным носом самолета, что-то разглядывая в ему одному видной дали. А может, просто глазами летчика оценивал в последний раз его же руками созданную взлетную полосу: дорогу страха, поражений, неверия, дорогу мужества, надежды и — победы. Или же он надеялся увидеть новый свой путь? Ведущий в высь, в свет?
Попов, сидя в своей кабине, старательно вспоминал, не забыл ли чего. Вроде нет… Несколько рисунков; примерный план местности; заметки и записи на обороте неведомых бланков, карт, графиков и таблиц из той самой штурманской, которую так лихо разгромил доблестный капитан в первые свои часы на Острове. Кое-какие мелочи из кладовых судна; именно мелочи, которые дадут толчок к поиску, но ничему не повредят переброской сквозь барьеры и полосы времени и пространства (если переброска состоится, если удастся прорваться, если они вырвутся к людям — людям своего мира и если… если… если…).
Сэнди с час назад ушел молча за реку, к своему заброшенному самолету — попрощаться. Русские терпеливо ждали его, прощаясь с Островом — и с собой. Собою прежними.
Остров Памяти. Совести. Очищения. Прошлого — если памяти? Да нет же, нет. Будущего!
Они теперь знают — человек ничего не боится. Может все преодолеть. Может — если чист. Если свободен! А свободен — когда чист… Как все, оказывается, просто.
Они уйдут, чтобы вернуться. Они возвращаются уходя.
Капитан послюнил палец, задрал его, «щупая» явно стихающий ветер, вздохнул и пошел в последний обход самолета. Зачем-то погладил лопасть; заглянул в ниши гондол шасси; со вздохом общупал изуродованный элерон; поковырял пальцем разбитый плафон красного АНО. Ну да черт с ним, с АНО, — обойдемся. У нас ныне другие задачи, нежели ночные полеты в боевых порядках…
Щурясь, он вгляделся в выжидающе застывшие темно-коричневые, пепельно-серые, пыльно-синие изломанные зубцы скал, вплавившихся переломанными крючками в рассветное, но уже остекленевшее зноем небо. Ждут…
Вырвемся ли? Как, Остров, — не боишься отпускать нас? А?
Я знаю: ты слышишь меня и, значит, все про меня знаешь. Мы уже другие! Ведь ты многое нам нами же о нас рассказал. И мы уйдем, чтоб никогда не расставаться. Ни с тобой, ни с собой. Мы — это мы все: вчерашние и завтрашние, верующие и фарисеи, святые и лжецы, подонки и ученики.
Ага, вон возвращается наш малыш. Кажется, действительно пришла пора прощаться… Ну что ж! Спасибо за все. Ты сказал нам главное: Дверь существует. Ты подвел нас к ней, чуть-чуть ее приоткрыл и шепнул: смотрите, дети, смотрите хорошенько и знайте — Надежда есть, есть, несмотря ни на что…
Посыпались камни: в покатившемся вниз облаке пыли по осыпи съехал на заду Сэнди. Этот бравый лейтенант, видать, всегда останется пацаном! Ну точно — он все-таки въехал своей мальчишеской хулиганской задницей в здоровенный камень внизу, с треском разодрал, конечно, штаны и, конечно, крепко ушибся. И поделом. Нечего кататься по перилам в общественном месте. Пора взрослеть и становиться воспитанным мальчиком.
Кузьменко насмешливо пронаблюдал, как Сэнди покряхтел, как дохромал до самолета, аккуратно помог ему отряхнуть пыль и шлепком подтолкнул к кабине.
Он вдруг неудержимо захотел что-то сказать, произнести нечто эдакое, забористо-крепкое, моменту приличествующее; потребность прощания вдруг даванула прям «за яблочко», в горле застрял какой-то комок. Он крякнул, прокашлялся и сердито стукнул кулаком по плоскости:
— Копаемся? Сэнди, по-шустрому! Ждем-пождем — сколько можно? Ветер уходит, и вообще… — он прикусил язык. Да что ж такое, прям детское недержание речи. — Стар-р-ршина!
— Ну? — готовно отозвался сверху Попов.
— Баранки, мать твою, гну! Твое место сейчас где?
— Сейчас. Чего ты, право, запорол горячку…
— Ста-р-ши-на?!
— Ох, чтоб тебя… Ну, вот он я.
— Вот так. Стань сюда, под крыло, да. И — по кивку.
— Да выбью я камни — все знаю, все помню.
— Хорошо, если б еще и успел. Так, значит, сначала левый, за ним — правый. И помни — тормозов у меня нету, помни!
— Знаю.
— Знаешь… Петух тоже знал, а где кончил? Гляди мне! Не успеешь — никто не поможет. Эй, лейтенант!
— На месте, — сдержанно отозвался из кабины стрелка Сэнди.
Капитан быстро огляделся и двумя движениями привычно вскинул себя на крыло, подчеркнуто решительно опустился в кабину и пару минут деловито и сосредоточенно возился, ерзая, пристегиваясь, бесконечно поправляя и регулируя ремни, чашку сиденья, шлемофон, клацая переключателями и проверяя уцелевшие бортсистемы.
Сэнди сидел тихонько как мышонок, будто впервые очутился в кабине самолета. Старшина, согнувшийся под центропланом в три погибели, терпеливо ждал.
Ждал и Остров. Ждал океан. Даже прибой притих. И ветер. Да, а вот ветер действительно стих. Плохо. Хорошо б ветерок в лоб. Ровненький такой, средней силы. Ну да ладно. Не ждать же погоды…
Кузьменко сосредоточенно затих, опустив в кабину голову. Экипаж терпеливо молча ждал, не мешая. Впрочем, эти минуты никому не были лишними. Каждому было что сказать… Но вот капитан вскинул голову, быстро огляделся, как очнувшись, и, не оглядываясь, положил привычно пальцы на вентиль пусковой пневмосистемы:
— Ну, славяне, — к запуску?
Попов, смаргивая пот из-под шлемофона (накатывалась несусветная дневная жара!), глядел в пыльно-серую спекшуюся гальку перед глазами. А пневматики колес маленько приспустились — удлинится разбег… Впрочем, на такой полосе оно и к лучшему… Хотя б смесь из цилиндров амортизаторов на тряске не повыбивало — тогда уж точно им всем… — додумать он не успел.
Над его головой кто-то тяжко длинно выдохнул. Он даже не успел сообразить: началось. Сжатый воздух устремился в цилиндры. Началось!
Густое мощное шипение, возникнув в глубине мотора, всколыхнуло застывший в ожидании горячий воздух и, набирая силу, пронеслось над волнами. Металлический звонкий щелчок заставил вздрогнуть тяжело-недвижный винт, в редукторе отчетливо клацнуло, винт тупо скрипнул, качнулся — и широкие черные лопасти, подрагивая, описали в тягучем шипении медленный круг.
Попов не видел снизу враз побелевшие глаза капитана, не видел, как шевелились беззвучно его губы, как забилась вспухшая жилка на виске. А винт, глухо гудя, уже вращался; уже посвистывал воздух, вспарываемый лопастями, и сами лопасти под аккомпанемент барабанного перестука поршней и металлической дроби клапанов таяли, расплывались в мигающую завесу. Палец Кузьменко чуть дрожал на «лапке» магнето. Спо-кой-но, только спокойно… Три, четыре… Ни секундой раньше, ни секундой позже… Шесть… Только с одной попытки, второй уже не будет, восемь… Та-ак… Пора! Тумблер раскрутки винта — щелк! Магнето — два деления вниз!
Тр-рах! — сработало сцепление. Взвыл провернувшийся вал. Ну?!
Вспышка зажигания; заслонку дросселя… регулятор смеси… Сейчас, сейчас… задрожали педали… «Забрал»?
Ба-бах! Первая вспышка смеси в цилиндре взрывом ударила по обнаженным нервам; «забрал»?!
И когда в патрубках оглушительно рвануло, и поршни грянули дробной пулеметной очередью, и вонючий, липкий, тошнотворный, чудесный плевок плотного синего дыма влепился в лицо, капитан едва не заплакал от счастья! Он до боли, до вспышек под веками зажмурил глаза, не веря себе, — а мотор, оживший мотор уже яростно-освобожденно ревел, в нетерпении дрожа под капотом, грозно сотрясая окрестности, изредка чем-то давясь и тут же прокашливаясь, стреляя давно холодными свечами и плюясь уже горячими масляными брызгами и все быстрей и уверенней набирая былую гордость и мощь!
Согревающийся мотор радостно и нахально орал на всю округу, и согнувшийся под ним старшина мотал, оглушенный, головой и старался отогнать от глаз что-то ненужное, неожиданное, застящее весь белый свет.
Извернувшись, он высунул голову наружу, не сводя глаз с торчащего над бортом края «уха» капитанского шлемофона, трепещущего на ветру. Скоро там? В лицо слепяще мело режущей пылью, иголки песка жгли щеку и шею, уши тяжело заложило. Рев нарастал до невыносимого звона; ну, скоро там?! И, как услышав, Кузьменко высунулся башкой влево, высматривая вытаращенными глазами старшину:
— Давай! — неслышно проорал его разинутый рот.
Попов сунулся назад и ударом сапога вышиб из-под левого колеса камень-колодку; «ил» над ним дернулся, старшина рванул за собой, падая, парашютную стропу, привязанную к камню под правым колесом, и успел увидеть, как удачно отлетел камень в сторону и забравший было вправо штурмовик перевалился влево, нацеливаясь на полосу, и двинулся вперед. На взлет. Все! Отступать некуда.
Попов рухнул на вытянутые руки, пропуская над собой крыло; ревущий самолет не полз — уже катился, невыносимо грохоча, над самой головой; не удержавшись, Попов вскочил — но рано! Врезавшись лбом во взлетно выпущенный закрылок, он с маху грохнулся на локти — и потому запоздал, на полсекунды запоздал!
Штурмовик освобожденно катился по полосе, быстро набирая скорость и рывками широко раскачиваясь и трясясь в ухабах; слышно даже в его могучем реве — сдвоенно хлопнули убранные закрылки; старшина взлетел с колен в вихре злобно несущейся в ноги, в живот, в грудь гальки; Сэнди готовно привстал в кабине; Попов, полузадохшийся песком и пылью, прыгнул на плоскость, руки скользнули по обшивке, неслышно вывернулись ногти, брызнула кровь; крыло метнулось куда-то из глаз, галька белой вспышкой рухнула в лицо — я упал?! Я здесь! Над головой уже возник топор стабилизатора — но я смогу! Смогу — я человек!
Галька пулями хлестала по коленям, свистел песок; Попов огромными прыжками мчался за подпрыгивающим в нарастании скорости штурмовиком, мчался в полуметре за вожделенной кромкой центроплана и в метре перед тупым ножом подскакивающего стабилизатора; Сэнди, что-то крича и вытянувшись в руку, боком полувывалился из кабины; беззвучно ревел, непрерывно оглядываясь из своей настежь распахнутой кабины, капитан; самолет бешено трясло на импровизированной полосе, камни с дробным грохотом летели из-под винта и колес и, взвихренные ураганной воздушной струей, ужасающей картечью лупили по ногам бегущего отчаявшегося человека; Сэнди, чудом удерживаясь, уже по пояс вывалился из кабины, размахивая ремнем портупеи; Попов немыслимым, нечеловеческим прыжком упал животом на трясущуюся плоскость, правой рукой вцепившись в зацеп-скобу подножки в борту, Сэнди швырнул ему ремень, старшина левой ухватил пряжку — а самолет несся, уже подпрыгивая длинными затяжными толчками, почти на взлетной скорости, и секунд больше не было, капитан оглянулся последний раз — последний, потому что полоса кончалась, оглушающе-стремительно вырастал впереди каменный мыс-поворот, и никаких решений уже быть не могло: взлет или смерть. Немедленный отрыв — или смерть в неотвратимом взрыве. Но капитан, беззвучно выплевывая синими губами проклятья, еще ждал, еще тянул, еще надеялся — четверть секунды, полсекунды, целую секунду. «Ил», неудержимо наращивая скорость, летел в каменную стену, в огонь взрыва, а капитан упрямо ждал, а старшина Попов медленно, неотвратимо сползал животом с крыла назад, над свистящей пропастью глубиной в полметра смерти уже повисли его колени, и тормозить машину было нечем, и сворачивать некуда, и тогда…
… и тогда, не оглядываясь, капитан плавно, как учили, чуть отдал ручку и, когда самолет послушно приподнял хвост, решительно взял ее на себя! «Ил» напрягся; капитан слепо видел лишь налетающую поверх капота черную каменную стену, неколебимую скалу-приговор — все, не успеть; и руки плавно заученно тянут ручку на себя…
… дробный вибрирующий грохот прыгающих колес…
… кратчайший гулкий перестук измученных амортизаторов…
… Снарядные удары вылетающих булыжников в бронированное брюхо…
… тугое биение ручки управления в ладони…
… надсадный, живой рев почуявшего погибель мотора…
Ну?!
Есть!
Надгробная плита скалы ухнула куда-то под мотор разом с мгновенно наступившей тишиной. Все оборвалось. Тишиной?!
Да! В мощном ровном реве мотора пела тишина — могучая, торжествующая тишина освобожденного полета.
Тишина-реквием.
Кузьменко плакал, кусая губы. Самолет набирал высоту, ревя полным газом над широко раскачивающимся внизу пенным прибоем; а впереди раздвигалось небо. И была победа — но было и страшное положение. Человек — живой человек в гибельном одиночестве остался там, внизу, в камнях и безнадежности, и капитан плакал, качая головой, и бешеные его слезы сдувало ураганным ветром в густом реве, рвущемся во все еще открытую кабину, и слезы текли, нет, мчались по опаленной черной коже в седые космы, развевающиеся серыми длинно-рваными лохмами из-под незастегнутого старого шлемофона.
— Но ведь не мог же я, не мог, не мог! — беззвучно в реве мотора и тугом свисте ветра бормотал капитан, и мотал головой, и кровь текла, мгновенно замерзая, из прокушенной губы. — Прости меня, Сережа, прости, простите меня все, кого я убил, кого предал, бросил… Но что ж я мог поделать, Господи, ведь я не один, нас ведь так много — и я не мог, я должен был, не мог…
А его руки, тренированные руки летчика, сами привычно регулировали поступление смеси, подбирали шаг винта, убирали и контрили шасси.
— … И как мне жить теперь, как жить, как…
А сзади в бронестекло-перегородку меж двух кабин чем-то давно уж колотили, призывая командира. Он грязным кулаком отер глаза, резко обернулся и… И замер, забыв все.
На него в упор, глаза в глаза, сквозь желтоватое толстое стекло с десяти сантиметров глядел… Ну да. Он. Старшина. Сергей Попов. Живой. Обыкновенно живой. И все тут.
Капитан молчал. А старшина глядел ему в глаза и… и чудесно улыбался сведенным судорогой ртом. А за ним неслышно ржал, разевая заросшую гнусной дьячковской рыжей бороденкой пасть, чертов мальчишка-лейтенант. Сэнди. Счастливый до безобразия пацан.
Дышать было нечем. Сердце не билось. И… И черт с ним. И черт с самолетом. И с Островом. И со мной. Жив — он жив. Да. Он стопроцентно, безусловно, абсолютно, гарантированно и реально — жив. И все тут.
Старшина, все так же застывше улыбаясь, прижал правую ладонь к стеклу, «пожимая» командиру руку, и стекло сразу окрасилось ярко-алой, неправдоподобно алой кровью: кожа на ладони была содрана до мяса, и лохмотья ее расплющились кляксами на стекле. Капитан продохнул воздух, рывком отвернулся, махом надвинул над головой фонарь, огляделся зверино и, костистой лапой стерев кровь с подбородка, сказал в голос, уважительно удивляясь:
— Вот сволочь, а? Вот ведь гад. Подонок.
Он, как всегда, быстро огляделся в поисках противника — инстинкт полета в нем сросся с инстинктом поиска врага, и, сообразив это, капитан рыкнул, поставил закрытый фонарь на стопор и повторил задумчиво и все так же удивленно:
— А ведь сволочь. Убийца. Убийца! — заорал он и с размаху ударил себя кулаком в щеку. Самолет мотнулся влево и ухнул на крыло. Кузьменко, не удержавшись, все-таки оглянулся. Серега, чертов Серега, замечательный мужик Серега что-то, смеясь, кричал в перемазанное, наверно, сережкиной же кровью лицо американца, а тот быстро-быстро кивал, улыбался до самых своих конопатых ушей и глядел на старшину девичьи-влюбленными глазами. Капитан сморщился, как от зубной боли, замотал башкой и хрипло сказал — хоть и неслышно в гуле мотора и свисте ледяного ветра, рвущегося из звездно-скольчатых дыр простреленного фонаря, но себя он услыхал:
— Вот теперь — точно все. Вот теперь мы победим.
… И когда пришла наконец ночь — бесконечная, до весны, до рассвета через полгода, величественно-безмолвная арктическая Ночь — самолет уже замело…
Из хрустко-снежной волнистой намети, заботливо обглаженной длинными сухими ветрами недалекого мертвого полюса планеты, возвышались, словно из могильного холма, лишь надгробно торчащие черные широкие лопасти — крест навек застывшего самолетного винта.
Первые сполохи полярного сияния несмело, осторожно-деликатно высветили мерцающим розово-голубым сиянием отполированное ветрами, треснувшее в давно забытом, затерявшемся во времени и смертях бою толстое стекло козырька кабины, за которым в недвижной глубокой тьме призрачно угадывалось спокойное и умиротворенное — наконец-то умиротворенное — лицо.
Освобожденно и легко запрокинув голову на темно-коричневый заголовник бронеспинки, человек спал. Спал долгожданным вечным сном — милосердным сном, перед которым так суетны и мелки все наши земные блистательные поражения и гибельные триумфы, наше горькое счастье и горделивые горести.
Белые волосы пилота, металлически-спутанно торчащие короткими жесткими клочьями из-под черного шлемофона, смерзлись с курчавым рыже-веселым мехом и потому новогодне сверкали инеем в призрачно плывущих волнах беззвучного света. Измученное беспредельной, тяжкой земной усталостью лицо почти разгладилось в глубоком темном покое, и, выстуженное, отмытое, пробальзамированное стерильным космическим холодом, стало чистым, нежным и матово-белым, как у невесты. И, как невеста непорочною фатою, был укутан этот человек нежно-белым мягким шелком купола смятого парашюта.
В распахнутой задней кабине самолета, по бортам уже занесенной всепрощающим снегом, спал второй летчик. Он спал, детски-беззащитно положив на край борта голову, и тихие снежинки давно не таяли возле его чему-то улыбающегося лица… Не таял снег и в его кабине, укрыв с горестной и чистой жалостью наконец-то нашедшего безопасный мир и приют человека своим пушистым невесомым покрывалом — нежнее и чище всего, что могли бы создать человеческие неверные и усталые руки.
Ночь… Вечная мудрая Ночь…
Утомленный долгой безжизненной дорогой, снег тихо кружится в скалах, посвистывает в решетках бог знает кем и для чего созданных и бог весть когда и кем позабытых конструкций; снег безошибочно отыскивает затерянную в каменном угрюмом хаосе чью-то взлетно-посадочную полосу и облегченно ложится на нее, чтоб отдохнуть до весны — до рассвета и ухода отсюда в свой новый и вечный путь…
Снег с вкрадчивым любопытством возится осторожно вокруг одиноко лежащего в скальных глубоких разломах перевернутого разбитого самолета, с тихим песчаным шорохом ссыпается в его безжизненные обломки — и потому не видно и никому отныне не знать, покоится ли в этих обломках тело пилота, гордо сверкнувший путь которого трагически завершился здесь.
Возможно, его и стоило бы искать — но кто, и как, и где, в какой бездонной подснежной глубине погрузившегося в черный зимний покой полярного мертвого мира может отыскать одинокого человека?
Да и нужно ли его искать — искать, тревожить, вновь мучить? Разве не исполнил он долг, которого на себя не брал, прожив краткую, полную жестокости, любви и исступления жизнь на полной жестокости, любви и исступления земле? Жизнь мучительную и краткую — еще более краткую, чем кратчайший ослепительный миг между рождением и смертью. Меж Рождеством — и Воскресением…
Снег скользяще шуршит в задремавшем ветре вдоль черно-ржавого борта железно вымерзшего громадного судна. Снег сровнял его борта, засыпав все безобразие разгромленной покинутой палубы, всю гнусность следов человечески-животной паники; снег заботливо сгладил проржавевшие опасные трапы, прикрыл мусор и хлам, уничтожил всю гниль и плесень и тщательно спрятал брошенное бессмысленное оружие…
Снег — тончайший и чистый — проникает ощупью всюду. Длинными, искристо мерцающими в колдовском арктическом полусвете дорожками он протянулся на чистом ясно-зеленом линолеуме ходовой рубки от ее настежь распахнутой в ночь и стужу двери к широкому уютно-деревянному штурманскому столу, на котором одиноким символом забвения покоится хрустально промерзшая без живого человеческого тепла куртка: когда-то такая уютная и надежная мягкая летная «канадка».
Значит… Значит, здесь совсем недавно все-таки был человек? Но ведь те двое, упокоенно спящих в самолете, одеты — они, засыпая, пытались укрыться от смертного холода. А разбившийся в скалах самолет своего пилота, безусловно, похоронил под собой — увы, на свете чудес действительно не бывает; бывает лишь правда, одна — на всех…
Но тогда кто же он был, тот пилот? Как он сюда попал — на чем и когда? И почему бросил здесь свою меховую одежду — жизненно необходимую в этой каменно-вымерзшей мертвящей стуже? И куда он ушел? Где его — или тех, кто с ним, — путь?
Может быть, он действительно ушел не один. Тогда шансы его спасения намного выше. Но одинок его путь или нет — храни его Господь. Храни его, храни ушедших с ним — и храни нас всех, возможно, идущих за ним. Всех — усталых, заблудших, ищущих свою дорогу.
Мы идем так давно, Господи. Мы так далеко ушли… Но мы вернемся. Вернемся — к нам. К нам таким, какими нас создавали. В каких верили — вдыхая веру. И какими мы никогда не были. Не сумели. Убоялись. Но какими должны были стать.
Должны.
Значит, станем — с обретением веры.
Станем. Сумеем. Иной дороги — нет.
И уже один из нас узнал, понял, принял — и передал нам:
«Смерть — вовсе не обязательно тот вековечный покой, о котором им когда-то рассказывали. Вот почему эта история неполна и мозаична: серия кратких вспышек, высветивших на миг — без глубины, без перспективы — грозное предзнаменование, контурный образ того, что расе суждено испытать, когда блеснет на мгновение ее грозовая слава…»