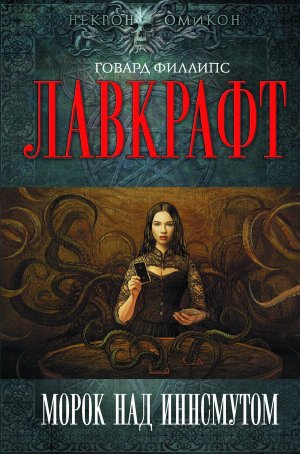
Edited by Stephen Jones
SHADOWS OVER INNSMOUTH
Copyright © 1994, 2013 by Stephen Jones.
This translation of Shadows Over Innsmouth, first published in 2013, is published by arrangement with Titan Publishing Group Ltd of 144 Southwark Street, London SE1 0UP, England.
© Н. Екимова, А. Спаль, А. Комаринец, перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Говард Ф. Лавкрафт
Морок над Инсмутом
В течение всей зимы 1927–1928 годов официальные представители федерального правительства проводили довольно необычное и строго секретное изучение состояния находящегося в Массачусетсе старого инсмутского порта. Широкая общественность впервые узнала обо всем этом лишь в феврале, когда была проведена широкая серия облав и арестов, за которыми последовало полное уничтожение — посредством осуществленных с соблюдением необходимых мер безопасности взрывов и поджогов — громадного числа полуразвалившихся, пришедших в почти полную негодность и, по всей видимости, опустевших зданий, стоявших вдоль береговой линии. Не отличающиеся повышенным любопытством граждане отнеслись к данной акции всего лишь как к очередной, пусть даже и достаточно массированной, но все же совершенно спонтанной попытке властей поставить заслон на пути контрабандной поставки в страну спиртных напитков.
Более же любознательные люди обратили внимание на небывало широкие масштабы проведенных арестов, многочисленность задействованных в них сотрудников полиции, а также на обстановку секретности, в которой проходил вывоз арестованных. В дальнейшем не поступало никаких известий о суде или хотя бы о предъявлении каких-либо обвинений; более того, никто из задержанных впоследствии не объявился в американских тюрьмах. Позже поползли разноречивые слухи о каком-то якобы крайне опасном заболевании, концентрационных лагерях, размещении арестованных по многочисленным военным и военно-морским тюрьмам, однако все эти кривотолки не имели под собой сколько-нибудь реальной основы. Инсмут лишился значительной части своих жителей, и лишь в последнее время стали появляться признаки некоторого оживления его общественной жизни.
Жалобы на произвол властей, поступавшие от многочисленных либеральных организаций, рассматривались и изучались в ходе долгих конфиденциальных слушаний, вслед за чем представители высоких инстанций совершили инспекционные поездки по ряду тюрем. Как ни странно, в результате подобных инспекций их устроители заняли по столь взволновавшему их ранее вопросу крайне пассивную, если не сказать более того — молчаливую позицию. Дольше всех сопротивлялись представители прессы, однако и они в конце концов проявили готовность к сотрудничеству с правительственными органами. Лишь одна-единственная бульварная газетенка, на которую практически никто и никогда не обращал внимания по причине дешевой сенсационности большинства ее публикаций, поместила на своих страницах сообщение о некоей глубинной подводной лодке, якобы выпустившей в пучину моря неподалеку от так называемого «рифа Дьявола» серию торпед, в каких-то полутора милях от гавани Инсмута.
Сами жители этого города и его округи довольно живо обсуждали меж собой произошедшие события, однако предпочитали не распространяться на этот счет в общении с посторонними лицами. Жизнь научила их крепко держать язык за зубами, а потому не было никакой пользы от попыток силой вытянуть из них дополнительные сведения. Кроме того, они и на самом деле знали весьма мало, да и сама обширная зона пустынных и безлюдных соленых болот, являвшихся доминирующей чертой ландшафта тех мест, практически полностью изолировала их от каких-либо контактов с жителями глубинных районов страны.
Что касается меня, то я все же намерен бросить своеобразный вызов и нарушить заговор молчания относительно упомянутых событий. Я уверен, что результаты моих действий окажутся настолько широкомасштабными, что вызовут буквально состояние шока и жуткого отвращения по поводу всего того, что было обнаружено в Инсмуте в ходе тех грандиозных, полицейских рейдов и облав. Более того, то, что они выявили в ходе своих действий, может иметь далеко не однозначное объяснение. Я не берусь судить, в какой степени отражает реальное положение вещей даже та информация, которая была сообщена мне лично, и все же имею достаточно оснований отказаться от любых новых попыток докопаться до более глубокой истины. Лично я имел возможность в максимально возможной для любого неспециалиста степени ознакомиться с данным делом и потому предпочитаю воздержаться от выработки той или иной конкретной позиции, которая может подвигнуть меня на еще более решительные действия.
Дело в том, что это я в состоянии страшной паники бежал из Инсмута ранним утром 16 июля 1927 года, и именно мне принадлежит авторство тех испуганных призывов к правительственным органам как можно скорее провести необходимое расследование и предпринять конкретные и срочные меры, которые привлекли внимание к этому делу.
До тех пор, пока это дело было, как говорится, свежим и являлось объектом официального расследования, я вполне умышленно хранил молчание; однако сейчас, когда оно превратилось в историю, уже не привлекающую к себе пристальных взоров даже самых любопытных людей, я решил уступить своей давнишней жажде поделиться собственными впечатлениями о нескольких страшных часах, проведенных в переполненном нездоровыми слухами, зловещем порту, который с полным основанием можно назвать портом смерти и сатанинского порока. Сам по себе такой рассказ поможет мне обрести веру в себя и в свои возможности, а также убедиться в том, что я был отнюдь не первым человеком, поддавшимся заразе кошмарных галлюцинаций. Кроме того, это поможет мне собраться с силами перед намеченным принятием определенного важного и ужасного шага.
Я никогда не слышал об Инсмуте — вплоть до того самого дня, когда он в первый и — пока — в последний раз предстал перед моим взором. В те дни я отмечал свое совершеннолетие в туристической поездке по Новой Англии, включавшей в себя посещение достопримечательностей, антикварных магазинов и мест, связанных с различными ветвями нашего генеалогического древа — в частности, из древнего Ньюбэрипорта я планировал отправиться прямо в Аркхэм, где сохранились фамильные корни моей матери. Своей машины у меня не было, а потому я путешествовал на поезде и попутных автомашинах, всякий раз стремясь подобрать наиболее дешевый способ передвижения. В Ньюбэрипорте мне посоветовали отправиться в Аркхэм как раз на поезде, и именно находясь у касс тамошнего вокзала и терзаясь сомнениями по причине дороговизны билета, я впервые услышал о существовании такого города, как Инсмут. Коренастый и весьма смекалистый кассир, который, судя по его речи, не был уроженцем тех мест, проникся симпатией к моему желанию проявлять во всем разумную экономию и предложил совершенно неожиданный выход из моего затруднительного положения.
— Вы могли бы воспользоваться автобусом, — проговорил он, правда, с некоторым сомнением в голосе, — хотя он и следует не совсем тем маршрутом, который вам нужен. Автобус проходит через Иннсмаут — возможно, слышали про такой городишко, — и поэтому люди его недолюбливают. Водитель в нем некий Джо Сарджент, ему, похоже, нечасто удается завлечь пассажиров отсюда или из Аркхэма. Сам автобус также из Инсмута, и удивляюсь, что он вообще до сих пор ходит. Проезд в нем довольно дешевый, хотя мне редко доводилось видеть в салоне больше двух-трех пассажиров, да и те исключительно парни из самого Инсмута. Отправляется он с Площади — это рядом с аптекой Хэммонда — два раза в день ровно в десять утра и в семь вечера, если ничего в последнее время не изменили. С виду, конечно, ужасная колымага, но об удобствах ничего не знаю, поскольку сам я никогда им не пользовался.
Вот тогда-то я впервые и услышал об Инсмуте. Любые упоминания маленьких городков, не обозначенных на туристских картах или в путеводителях, заслуживали определенного интереса, а та странная манера, в которой кассир делал мне свои намеки, лишь подогрела мое любопытство. Город, способный вызвать у его соседей столь очевидную неприязнь, определенно был в чем-то необычным и явно заслуживал внимания досужего туриста, а коль скоро перед Аркхэмом автобус делал там довольно продолжительную остановку, я мог бы задержаться и немного побродить по его улицам. одним словом, я попросил кассира немного подробнее рассказать мне об этом городе. Откликнувшись на мою просьбу, он говорил, тщательно подбирая слова, и в голосе его, как мне показалось, отчетливо звучали нотки некоторого превосходства.
— Инсмут? Ну что ж, это небольшой городишко, расположенный в устье Мэнаксета — это у них река так называется. Перед войной 1812 года был почти настоящим городом-портом, но за последние сто лет, или около того, пришел в явный упадок. Ветку из Роули несколько лет назад закрыли, так что железнодорожного сообщения с ним сейчас нет. Пустых домов, можно сказать, намного больше, чем жителей, а о бизнесе и говорить не приходится — разве что рыбаки да ловцы омаров. За покупками приезжают в основном сюда, в Аркхэм или в Ипсвич. Было у них когда-то несколько мельниц, да только теперь все это быльем поросло, разве что осталась одна фабрика по очистке золота, да и та работает нерегулярно. Правда, фабрика эта — солидное дело, и старик Марш, ее хозяин, похоже, будет побогаче самого Креза. Сам он, конечно, старый пень, из дома почти не выходит. Поговаривают, что в свое время он подхватил какую-то кожную болезнь или что-то там себе поранил, вот и старается не показываться на людях. А дело это основал его дед, капитан Оубед Марш. Мать нынешнего Марша, кажется, была иностранкой, говорят, уроженкой каких-то островов в южных морях, а потому большой шум поднялся, когда он пятьдесят лет назад взял себе в жены девушку из Ипсвича. Так всегда бывает, когда речь заходит о парнях из Инсмута, а здешние парни, да и те, что из соседних городов, вообще стараются помалкивать, если в их жилах течет хоть немного инсмутской крови. Хотя, на мой взгляд, дети и внуки Марша вроде бы ничем не отличаются от самых обычных людей. Некоторые даже здесь иногда бывают, хотя самых старших детей, надо вам сказать, я что-то давненько уже не видел. И старика самого тоже никогда не встречал.
А почему все недолюбливают Инсмут? Что же вам сказать, молодой человек, я бы просто посоветовал не особенно прислушиваться к тому, что люди вообще здесь говорят. Их трудно бывает раскачать, но если уж они разойдутся, то потом не остановишь. И про Инсмут они болтают — в основном перешептываются — уже лет сто, не меньше, и, как мне представляется, не столько не любят его, сколько побаиваются. Послушаешь некоторые из их рассказов, так просто со смеху помрешь — насчет того, что старый капитан Марш водил дела с самим дьяволом и помогал его бесенятам поселиться в Инсмуте; потом еще что-то насчет поклонения сатане и тех несчастных, которых приносили ему в жертву где-то неподалеку от причала — говорят, в 1845 году, или что-то около того, люди случайно наткнулись на то место. Да только сам я из Пэнтона — это в штате Вермонт — и такую болтовню никогда не одобрял. Послушали бы вы, что рассказывают здешние старожилы про черный риф, что расположен неподалеку от наших берегов — они называют его «рифом Дьявола» или Дьявольским рифом, кто как. Большую часть времени он выступает из воды, а если и скрывается под ней, то не очень глубоко, но все равно его вряд ли можно назвать островом. Так вот, поговаривают, что изредка на этом рифе можно видеть целый выводок, племя этих самых дьяволов — сидят там вразвалку или шастают взад-вперед возле пещер, которые расположены в верхней его части. На вид это довольно неровное, словно изъеденное, место примерно в миле от берега. В старину, говорят, моряки здоровенный крюк делали, только бы не приближаться к нему.
Но это только те моряки, которые сами родом не из Инсмута. И на капитана Марша они зуб имеют, вроде бы потому, что он якобы иногда по ночам во время отлива высаживался на этом рифе. Может, так оно и было, потому как место это довольно любопытное, так что, возможно, он там пиратский клад искал, а может, и нашел; но люди поговаривают, что он водил там какие-то дела с дьяволом. Так что, как мне кажется, именно капитан Марш и был причиной того, что за рифом этим установилась такая недобрая слава.
Было это все еще до эпидемии 1846 года, когда больше половины жителей Инсмута эвакуировали. Никто тогда толком не понял, в чем там было дело, скорее всего какую-то заморскую болезнь привезли из Китая или еще откуда. А картина вроде бы и в самом деле была страшная — бунты, кажется, были и еще что-то мерзкое, только за пределы города это так и не вышло, — а сам город после этого пришел в ужасное состояние. В общем, уехали оттуда люди, сейчас, пожалуй, человек триста или четыреста осталось, не больше. Но самое главное во всем этом деле, как мне представляется, просто расовые предрассудки, и надо вам сказать, я не осуждаю людей, у которых они имеются. Я и сам терпеть не могу этих инсмутских парней и ни за что на свете не ступлю в их город ногой. Да вы и сами, наверное, слышали — хотя по выговору вы, похоже, с запада, — какие дела имели наши моряки в портах Африки, Азии и в других южных морях, где-то там еще, и каких чудных людей они иногда с собой оттуда привозили. Слышали, наверное, про одного жителя Салема, который вернулся домой с женой-китаянкой, а кроме того, поговаривают, что где-то возле Кейп-Кода и до сих пор есть поселение выходцев с Фиджи.
В общем, похоже на то, что есть что-то необычное и в инсмутских парнях. Место это всегда было отрезано от остальной территории болотами и речушками, а потому трудно сказать наверняка, что там у них и как. однако все почти уверены, что капитан Марш, когда плавал на своих трех кораблях в двадцатых и тридцатых годах, привез с собой каких-то аборигенов. Да и сегодня в облике инсмутцев чувствуется примесь каких-то странных черт — не знаю даже, как это выразить поточнее, только как глянешь на них, так сразу мороз по коже пробирает. Вы и сами заметите это, когда глянете на Сарджента, если, конечно, поедете его автобусом. У некоторых из них такие узкие головы и плоские носы, а глаза сильно навыкате, так прямо и кажется, будто они вообще у них никогда не закрываются. Да и с кожей у них что-то не в порядке — грубая она у них какая-то, словно запаршивленная, а шея по бокам сморщенная, словно кто ее помял. И лысеют очень рано, совсем молодыми. Те, кто постарше, вообще уроды, хотя, надо признать, я ни разу не видел среди них ни одного по-настоящему глубокого старика. Не удивлюсь, если узнаю, что они умирают от одного взгляда на себя в зеркало!
И животные их терпеть не могут — раньше, когда еще машины не изобрели, у них такие проблемы с лошадьми были, что не знаешь, куда и деться.
Ни здесь, ни в Аркхэме, ни в Ипсвиче с ними никто не хотел иметь дела, да и сами они, когда кто-нибудь приезжал к ним в город или пытался рыбачить в их водах, вели себя замкнуто, нелюдимо. И вот ведь странно — у всех рыбаков повсюду сети, бывало, пустые, а эти в своей гавани прямо обловятся, а если тягаться с ними кто вздумает, то куда там, любого обставят! Сюда они обычно прибывали по железной дороге — кто пешком по шпалам, а кто на поезде, а когда ветку на Роули закрыли, стали пользоваться этим вот автобусом. Да, есть в Инсмуте и гостиница, Джилмэн-хаус называется, хотя это так, одно название, да и только. Не советовал бы вам в ней останавливаться. Лучше переночуйте здесь и поезжайте завтра утром десятичасовым автобусом, а вечером сядете там на восьмичасовой автобус до Аркхэма. Был у нас один фабричный инспектор, который несколько лет назад останавливался в этом самом Джилмэн-хаусе, так после этого он еще долго выступал со всякими мрачными намеками насчет этого места. У них там, похоже, собирается довольно бранная компания, потому что он слышал за стеной всякие голоса — и это несмотря на то, что в соседних комнатах никто не жил, да такие, что у него кожа мурашками покрывалась. Ему тогда показалось, что это была какая-то незнакомая, словно чужая речь, но особенно ему не понравился там один голос, который изредка встревал в разговор. Очень неестественный, странный — чавкающий, как выразился тот инспектор, — а потому он даже не рискнул раздеться и лечь спать. Так и просидел всю ночь, а как только рассвет забрезжил, дал тягу оттуда. По его словам, беседа эта тоже продолжалась чуть ли не до самого утра.
Этому инспектору — Кейси его фамилия — было что порассказать о том, как следили за ним инсмутские парни, но он постоянно был начеку. По его словам, фабрика Марша — довольно странное место и представляет собой старую мельницу, построенную у нижних водосбросов Мэнаксета. То, что он рассказал, целиком совпадало с тем, что я и сам слышал: бухгалтерские книги в полнейшем беспорядке, и вообще, как ему показалось, никто там толком не ведет никаких учетов. Знаете, постоянно ходили всякие слухи насчет того, где этот Марш вообще берет золото, которое потом очищает. Вроде бы и закупок особо больших никогда не делали, а несколько лет назад отправили на кораблях громадную партию слитков.
Поговаривали и о довольно странных драгоценностях, которые моряки и люди с фабрики иногда тайком продавали на сторону и которые пару раз видели на тамошних женщинах. Кое-кто объяснял все это тем, что старый капитан Оубед наторговал золото во время своих заходов в разные заморские порты, поскольку он всегда увозил с собой в плавание целые ящики стеклянных бус и прочих безделушек, которые моряки обычно дарят или обменивают на что-нибудь у туземцев. Другие считали, да и до сих пор считают, что он отыскал на рифе Дьявола старинный пиратский клад. Но тут есть одна странная штука. Старый капитан вот уже шестьдесят лет как богу душу отдал, а со времен Гражданской войны у них не было ни одного мало-мальски крупного судна, и все же Марши продолжают скупать всякие безделушки — в основном бусы и какую-то резиновую дребедень, так, во всяком случае, говорят. А может, этим инсмутцам просто нравится цеплять их себе на шею, а потом разглядывать себя в зеркало — черт их знает, может, они и сами ничем не лучше каннибалов, что живут в южных морях, и гвинейских дикарей.
Та эпидемия, что разразилась в сорок шестом, похоже, вытравила из города всю его лучшую кровь. Во всяком случае, сейчас там живет черт знает кто, да и Марш, равно как и другие богатеи, тоже ничуть не лучше остальных. Как я уже сказал, на сегодня там жителей максимум человек четыреста, и это несмотря на то, что, по слухам, пустых домов у них — хоть пруд пруди. Мне лично представляется, что люди эти — всего лишь «белый мусор», как выражаются у нас на юге, — бесчестные, коварные, любят все тайком делать, втихую. Ловят уйму рыбы и омаров, а потом вывозят товар на грузовиках. Чудно как-то все же получается — кругом рыбы кот наплакал, а они аж сети порой вытащить не могут.
И никто никогда не может толком проследить за перемещением этих людей или хотя бы разобраться с их численностью — школьные инспектора и счетчики переписи, бывало, с ног сбиваются, а все без толку. И, скажу вам по правде, заезжие туристы в Инсмуте не в чести. Я сам лично слышал, что несколько приезжих бизнесменов и правительственных чиновников исчезли там совершенно бесследно, а еще один вообще рассудка лишился — он сейчас в больнице в Дэнвере. Наверное, так его эти черти напугали.
В общем, будь я на вашем месте, ни за что не отправился бы туда на ночь глядя. Сам я там ни разу в жизни не был и никакого желания не имею ехать к ним в гости. Впрочем, думаю, днем вам там будет довольно безопасно, хотя здешние жители стали бы вас и от такой поездки отговаривать. Но, раз уж вы такой любитель всяких достопримечательностей и прочей старины, то Инсмут — это как раз то, что вам нужно.
После разговора с кассиром я часть вечера провел в публичной библиотеке Ньюбэрипорта, пытаясь отыскать дополнительную информацию об Инсмуте. Попытавшись расспрашивать местных жителей в магазинах, закусочных, гаражах и на бензозаправочных станциях, я обнаружил, что на все мои расспросы они реагируют еще более странно, чем даже предсказывал кассир, а потому решил не тратить время на попытки преодолеть их инстинктивную скрытность. Была в их поведении какая-то мрачная подозрительность, как будто они чувствовали что-то дурное в каждом, кто проявлял повышенный интерес ко всему, что имело отношение к Инсмуту. Заглянув в местное отделение «Христианского союза молодежи», я поговорил с клерком, который и вовсе стал отговаривать меня от поездки в это мрачное, гнетущее место; да и люди в библиотеке высказывали, в общем-то, такое же мнение. одним словом, в глазах достаточно образованных людей Инсмут представал неким оплотом общественного упадка и загнивания.
Библиотечные исторические справочники по интересовавшему меня региону также оказались весьма малоинформативными, если не считать скудных сведений о том, что город был основан в 1643 году, до Революции был известен как оживленный порт. В начале девятнадцатого века там располагалась крупная военно-морская база, а впоследствии в нем сохранилась лишь небольшая фабрика, работавшая на энергии Мэнаксета. Эпидемия и народные волнения 1846 года освещались весьма слабо, словно эта страница ложилась позорным пятном на всю историю округи.
Столь же скудной была информация о том упадке, в который пришла жизнь города в дальнейшем, хотя в целом данное обстоятельство не подвергалось сомнению. После Гражданской войны вся промышленная активность ограничивалась лишь деятельностью золотоочистной компании Марша, а торговля золотыми слитками являлась единственным сколь-нибудь значительным дополнением к традиционно распространенному в этих местах рыболовству. Крупные рыболовецкие компании со временем стали составлять им все большую конкуренцию, систематически снижая цену на свою продукцию, однако в самой рыбе в районе Инсмутской гавани недостатка никогда не ощущалось. Иностранные суда редко занимались промыслом в тех местах, хотя и были кое-какие косвенные и тщательно маскируемые признаки того, что поляки и португальцы пытались было забрасывать свои сети, однако были изгнаны самым решительным образом.
Наиболее интересными оказались упоминания о драгоценных украшениях, смутно ассоциируемых с Инсмутом. Тема эта весьма заинтересовала местную общественность, поскольку на этот счет даже высказывались эксперты Мискатонского университета в Аркхэме, а некоторые из образцов экспонировались в демонстрационном зале Исторического общества в Ньюбэрипорте. Фрагментарные описания этих изделий не изобиловали особыми подробностями и оказались в общем-то весьма прозаичными, однако за ними явно просматривался скрытый намек на некие странные обстоятельства. Было во всех этих описаниях нечто настолько странное и даже соблазнительное, что я никак не мог выбросить эту информацию из головы и, несмотря на довольно поздний час, решил осмотреть местный образец — как мне сказали, это было крупное изделие необычной формы, служившее чем-то вроде тиары, — если, конечно, это окажется возможным.
Библиотекарь написал короткую рекомендательную записку руководителю Общества, мисс Анне Тилтон, которая жила неподалеку от них, и после короткой беседы эта престарелая дама была настолько любезна, что лично проводила меня в отдельно стоящее здание, поскольку время еще было не позднее и позволяло совершить подобный осмотр. Коллекция и в самом деле произвела на меня сильное впечатление, однако я был одержим лишь одной мыслью — поближе рассмотреть причудливый экспонат, поблескивавший в лучах электрического освещения в угловом стенном шкафу помещения.
Не надо было обладать повышенной восприимчивостью к красоте, чтобы невольно затаить дыхание при виде плода странной, чуждой и пышной фантазии, покоившегося на пурпурной бархатной подушке. Даже сейчас я лишь с большим трудом могу описать, что именно увидел, хотя это, несомненно, была некая разновидность тиары, как о том гласила пояснительная табличка. Высокая спереди, она имела широкое и причудливо изогнутое по бокам обрамление, как если бы предназначалась для головы, имеющей непривычное, даже нелепое эллиптическое очертание. Сделана она была в основном из золота, хотя примесь какого-то загадочного и более светлого вещества смутно намекала на то, что на самом деле это был довольно необычный сплав золота с каким-то столь же прекрасным, но совершенно неведомым мне металлом. Она находилась в прекрасном состоянии, и можно было часами любоваться ее поразительными, загадочными и совершенно нетрадиционными контурами — некоторые из них были строго геометрическими, а в отдельных явно прослеживались мотивы морской тематики, выгравированные или отлитые по основному фону с неподдельным мастерством и талантом подлинного художника.
Чем дольше я смотрел на это изделие, тем больше оно завораживало меня; но было в этом великолепии что-то такое, что вызывало смутное беспокойство, хотя я и не взялся бы более конкретно описать охватившее меня в те мгновения состояние. Поначалу я подумал, что именно странная, явно неземная красота украшения оказала на меня столь разительное и тревожное впечатление. Все остальные предметы искусства, которые мне когда-либо доводилось видеть, имели отношение ко вполне конкретному расовому или национальному стилю либо же, следуя некоторым модернистским традициям, начисто отвергали любой намек на какой-то конкретный тип. Эта же тиара была чем-то совершенно иным и не принадлежала ни к одному, ни к другому направлению.
Изготовлена она была посредством филигранно отточенной техники, причем не имевшей никакого отношения к западной или восточной, старинной или современной культурам, и совершенно не походила на все то, что мне доводилось видеть среди музейных экспонатов прежде. Создавалось впечатление, что существо, ее создавшее, происходило и вовсе с совершенно другой планеты. Тем не менее вскоре я обнаружил, что моя тревога имела под собой второе, не менее сильное основание, суть которого сводилась к характеру как строгих геометрических, так и сугубо изобразительных символов, которыми была украшена поверхность тиары. Узоры эти наводили на мысль об отдаленных тайнах и невообразимых безднах космоса и монотонной морской пучины и в своем хитросплетении производили почти зловещее впечатление.
Были среди изображений некие пугающие чудовища — с виду наполовину рыбы, наполовину земноводные, — поражавшие воображение своей отвратительной гротескностью и неукротимой яростью; и поневоле возбуждавшие завораживающие и тревожные псевдовоспоминания, как если бы они вызывали образы, порожденные в глубинах клеток и тканей, где еще сохранились функции самого что ни на есть древнего и первобытного свойства. Иногда мне даже казалось, что каждая черточка этих отвратительных полурыб-полулягушек наполнена концентрированной смесью неведомого и нечеловеческого зла.
По странному контрасту с внешним видом тиары история ее появления в музее, прозвучавшая из уст мисс Тилтон, показалась мне весьма короткой и даже прозаической. В 1873 году ее оставил в ломбарде на Стэйт-стрит в качестве залога за какую-то ничтожную сумму денег пьяный инсмутский матрос, впоследствии убитый в уличной драке. В музей Общества она попала непосредственно из рук владельца ломбарда, после чего заняла в экспозиции место, подобающее ее пышному великолепию. С тех пор было принято считать, что она имеет какое-то восточноиндийское или индокитайское происхождение, хотя подобные оценки, разумеется, носили самый приблизительный характер.
Сама мисс Тилтон провела скрупулезное сравнение всевозможных версий относительно происхождения тиары и ее появления в Новой Англии и была склонна считать, что это украшение является составной частью древнего пиратского клада, в свое время обнаруженного капитаном Оубедом Маршем. Подобная точка зрения нашла свое серьезное подкрепление и в том, что сразу после того, как украшение было выставлено для всеобщего обозрения, со стороны семейства Маршей стали поступать предложения продать им тиару, причем за очень крупную сумму; следовало признать, что они и поныне продолжают выступать с аналогичными идеями, однако Общество уже неоднократно заявляло им, что не продаст тиару ни при каких условиях.
Провожая меня к входной двери, добрая дама прямо сказала, что особой популярностью «пиратская» теория происхождения состояния Марша пользовалась именно в кругах местной интеллигенции. Ее собственное отношение к мрачному Инсмуту — в котором она, кстати сказать, не бывала ни разу в жизни — заключается в полнейшем презрении, как к опустившейся и растратившей всякое человеческое достоинство человеческой общности. При этом она заметила, что слухи насчет поклонения его жителей культу дьявола отчасти имеют под собой реальное основание, поскольку там и поныне якобы существует некая культовая группа, со временем набравшая сил и даже подчинившая себе все местные ортодоксальные церкви.
Называется эта группа, как сказала женщина, «Тайный Орден Дагона» и в эти края, несомненно, проникла откуда-то с Востока, когда рыбный промысел инсмутцев грозил вот-вот прекратить свое существование. Столь необычайную живучесть подобной секты сама она склонна объяснять вполне естественными причинами, а именно тем, что вскоре после ее создания рыбаки вновь стали возвращаться с ловли с большими уловами. одним словом, довольно скоро она приобрела доминирующее влияние во всем городе, вытеснив все прежние религиозные общины и избрав в качестве своей резиденции старое здание Масонского зала на Нью-Черч Грин.
Всего этого оказалось вполне достаточно для набожной мисс Тилтон, чтобы она на пушечный выстрел не приближалась к древнему городу, ставшему цитаделью упадка и разорения, тогда как для меня последнее обстоятельство стало дополнительным стимулом для крепнувшего желания как можно скорее его посетить. К моим прежним интересам сугубо архитектурного и исторического профиля сейчас прибавилась также известная толика антропологического пыла, а потому я стал с нетерпением поджидать, когда истекут часы, отведенные на ночной отдых, чтобы как можно скорее отправиться в путешествие в этот загадочный город.
Незадолго перед тем, как часы пробили десять раз, я уже стоял перед зданием аптеки Хэммонда на старой рыночной площади в ожидании инсмутского автобуса. По мере приближения назначенного часа я заметил, что место, где я находился, все более превращалось в некий изолированный островок, тогда как массы людей, спешивших по делам в самых различных направлениях, определенно стремились оказаться подальше от него. Таким образом, я воочию убедился в справедливости слов железнодорожного кассира относительно неприязни горожан как к самому Инсмуту, так и ко всему, что было с ним связано, даже к его автобусу. Через несколько минут я заметил появившийся из-за угла небольшой и неимоверно старый драндулет отвратительного грязно-серого цвета, который прогрохотал по Стэйт-стрит, сделал разворот и подкатил к тротуару, на котором я стоял. Я сразу же понял, что это именно то транспортное средство, которого я ожидал, причем моя догадка вскоре нашла свое подтверждение в едва читаемой вывеске над лобовым стеклом автобуса: «Аркхэм — Инсмут — Ньюбэрипорт».
В салоне сидело всего три пассажира — двое смуглых, довольно угрюмых мужчин и парень, — и, когда автобус остановился, они неуклюже выбрались из него и молча, как-то даже крадучись, направились вверх по Стэйт-стрит. Водитель тоже вышел из своей кабины, и я проводил его взглядом, пока он переходил дорогу в направлении аптеки, где, очевидно, намеревался сделать какие-то покупки. Это, как я понял, и был Джо Сарджент, о котором рассказывал мне кассир; однако не успел я еще как следует рассмотреть черты его лица, как меня внезапно охватило, словно волной захлестнуло, чувство смутной неприязни и даже брезгливости, которую я не мог ни понять, ни объяснить. Мне почему-то показалось вполне естественным, что местные жители избегают ездить на автобусе, которым управляет подобный человек, и вообще стараются свести к минимуму любые контакты как с ним самим, так и с его земляками.
Когда водитель вышел из аптеки, я пристальнее пригляделся к нему, пытаясь уяснить для себя причину внезапно нахлынувшего чувства. Это был худой мужчина ростом где-то под метр восемьдесят, с покатыми плечами, одетый в потрепанное гражданское платье синего цвета и потертую кепку для гольфа. На вид ему было, пожалуй, лет тридцать пять, хотя странные глубокие складки по бокам шеи сильно старили этого человека, особенно если не присматриваться к его туповатому, невыразительному лицу. У него была узкая голова, выпученные водянисто-голубоватые глаза, которые, как мне показалось, никогда не моргали, плоский нос, скошенные лоб и подбородок и странно-недоразвитые уши. Его подбородок и толстая верхняя губа, равно как и покрытые крупными порами сероватые щеки, были практически лишены какой-либо растительности, если не считать редких желтоватых волосков, которые где курчавились, а где лежали прилизанными, слипшись в неровные и нерегулярные прядки, тогда как сама кожа была какой-то шершавой и шелушащейся, словно от неведомой мне хронической болезни. Руки у него были крупные, покрытые толстыми венами, и также очень неестественного серовато-голубоватого оттенка. На фоне довольно массивных кистей пальцы смотрелись нелепо короткими и, казалось, были постоянно подогнуты, даже вжаты в толщу ладоней. Пока он возвращался к автобусу, я обратил внимание и на его неуклюжую, покачивающуюся походку, а также на то, что ступни были просто гигантского размера. Чем дольше я смотрел на них, тем сильнее меня охватывало недоумение: как же он умудряется находить себе обувь нужного размера.
Ко всему прочему, у него был какой-то неряшливо-засаленный вид, что лишь усиливало мое отвращение к его внешнему виду По всей видимости, он работал или жил где-то поблизости от рыболовецких доков, поскольку за ним тянулся шлейф резкого, характерного рыбьего запаха. И все же, если в его жилах и текла какая-то чужеродная кровь, то я даже не решался предположить, какой именно расе она могла принадлежать. Все странности и нелепости его внешности были определенно не азиатского, полинезийского или негроидного происхождения, и все же я теперь во многом понимал людей, считавших его чужаком, хотя самому мне показалось, что речь здесь может идти не столько о чужеземном облике, сколько о биологическом вырождении.
Обнаружив, что, кроме меня, других пассажиров на этот рейс явно не предвиделось, я испытал явную досаду, поскольку мне по какой-то непонятной причине отнюдь не улыбалась перспектива совершить поездку наедине с таким водителем. однако, когда настало положенное время, я был вынужден укротить свои привередливые сомнения и проследовал за водителем в салон, сунув ему при входе долларовую бумажку и пробормотав одно-единственное слово: «Инсмут». Он протянул мне сдачу в сорок центов и на мгновение окинул меня довольно любопытным взглядом, хотя при этом и не вымолвил ни слова.
Я выбрал себе местечко подальше от кабины, но с той же стороны, где сидел и он — уж очень хотелось во время поездки полюбоваться панорамой береговой линии.
Наконец ветхий транспорт резко чихнул и, окутываемый облаками выхлопных газов, шумно загрохотал по мостовой мимо старых кирпичных зданий, выстроившихся вдоль Стэйт-стрит. Я поглядывал на проходящих за окном людей, и мне почему-то показалось, что все они избегают смотреть в сторону проезжающего мимо них автобуса или, точнее, стараются делать вид, что не смотрят на него. Вскоре мы свернули налево на Хай-стрит, где дорога оказалась более ровной и гладкой. Путь наш пролегал мимо величавых старинных особняков раннего республиканского периода и еще более старых колониальных фермерских домов, затем мы миновали Лоувер-Грин и Паркер-ривер, пока наконец не выехали на длинную и монотонную дорогу, тянувшуюся вдоль открытого всем ветрам побережья.
День выдался довольно теплый и солнечный, однако песчаный, кое-где поросший осокой и приземистым кустарником ландшафт становился с каждым километром пути все более пустынным. Из своего окна я видел синие воды и песчаную линию Сливового острова — к тому времени мы почти вплотную приблизились к берегу, оказавшись на узкой проселочной дороге, которая ответвлялась от основного шоссе, связывавшего Роули с Ипсвичем. Я не замечал никаких построек, а по состоянию дорог предположил, что движение в этой части местности особой оживленностью не отличалось. На невысоких, изъеденных ветрами и непогодой телеграфных столбах было натянуто всего два провода. Временами мы проезжали по грубо сколоченным деревянным мостам, перекинутым через образованные приливом протоки, обширная сеть которых простиралась далеко вглубь и делала этот район еще более изолированным и уединенным.
Однажды я заметил давно истлевшие пни и почти полностью разрушенные остатки каменного фундамента, чуть выступавшего над зыбучими песками — это напомнило мне страницы какой-то книги об истории этой местности, в которой говорилось, что некогда это был благодатный и плотно заселенный людьми район. Все изменилось, как в ней говорилось, почти внезапно — сразу после эпидемии 1846 года, — и, если верить старинным преданиям, имело какую-то связь со скрытыми дьявольскими силами. На самом же деле, как я полагал, все объяснялось лишь неразумной вырубкой леса вдоль береговой линии, это лишило местность ее естественной зашиты и открыло путь для нашествия подгоняемых ветрами песков.
Вскоре Сливовый остров окончательно исчез из виду, и мы увидели раскинувшийся слева от нас безбрежный простор Атлантического океана. Наша узкая дорога стала круто забирать вверх, и я испытал странное чувство беспокойства, глядя на маячивший впереди одинокий горный хребет, где изрытая колеями лента дороги, казалось, смыкалась с голубым небом. Складывалось такое впечатление, будто автобус намеревался продолжать свое бесконечное восхождение, оставляя позади себя населенную людьми землю и стремясь сомкнуться с неизведанной тайной верхних слоев воздуха и сводчатого небосклона. Запах моря приобрел зловещий скрытый смысл, а молчаливо наклонившаяся, напряженная спина и узкая голова водителя стали казаться мне особенно ненавистными. Взглянув на него, я заметил, что задняя часть его черепа, как и щеки, почти лишена волосяного покрытия, и лишь клочки желтоватой растительности покрывают сероватую, шелушащуюся поверхность его затылка.
Наконец мы достигли вершины холма, и я смог окинуть взглядом раскинувшуюся внизу обширную долину, где Мэнаксет сливался с притоками и устремлялся к северу вдоль вытянутой вереницы скалистых гор, а затем поворачивал к мысу Анны. В дымке просматривавшегося вдалеке горизонта я смог различить расплывчатые очертания одиноко стоявшей горы — это был Кингспорт-хэд, увенчанный старинной и древней постройкой, о которой было сложено так много легенд. однако уже через мгновение все мое внимание было привлечено более близкой панорамой, раскинувшейся прямо под нами. Это был тот самый окутанный мрачными тенями подозрения и всеобщей неприязни Инсмут.
Я увидел простиравшийся впереди и внизу довольно крупный город, заполненный компактными постройками, однако в нем определенно ощущался непривычный дефицит зримой, ощутимой жизни. Над хитросплетением черных дымоходов не курился ни единый дымок, а три высокие некрашеные колокольни холодно маячили на фоне омываемого морем горизонта. Вершина одной из них порядком разрушилась, а несколько ниже в ней и в еще одной — в ее соседке — чернели круглые отверстия, оставшиеся от некогда располагавшихся в них башенных часов. Необъятная для взора масса провисающих двускатных крыш и заостренных фронтонов домов с пронзительной ясностью свидетельствовала о явном и далеко зашедшем упадке, а по мере того как мы продвигались по пустынной дороге, я мог со все большей отчетливостью видеть, что во многих крышах зияют черные провалы, а некоторые обвалились целиком. Были там и большие квадратные дома, выстроенные в георгианском стиле, с унылыми куполообразными крышами. Располагались они преимущественно вдали от кромки воды, и, возможно, именно поэтому пара из них имела относительно крепкий вид. В сторону материка тянулась проржавевшая, поросшая травой железнодорожная ветка, обрамленная покосившимися телеграфными столбами — на сей раз без проводов, — и едва различимые полоски старых проселочных дорог, соединявших город с Роули и Ипсвичем.
Самые явные признаки упадка отмечались вблизи от береговой линии, хотя в самой ее середине я смог различить белую башню довольно неплохо сохранившегося кирпичного строения, отдаленно напоминавшего какую-то небольшую фабрику. Длинная кромка гавани была обильно засорена песком и огорожена старинного вида каменными волноломами, на которых я начал смутно различать крохотные фигурки сидящих рыбаков; у самого дальнего края ее виднелось то, что походило на остатки фундамента некогда стоявшего там маяка. Песчаный язык как бы образовывал внутреннюю поверхность береговой линии гавани, и я увидел стоявшие на нем ветхие хибарки, застывшие в непосредственной близости от полоски суши рыбацкие плоскодонки со спущенными в воду якорями и беспорядочно разбросанные по берегу рыбацкие корзины для рыбы и омаров. Единственное глубокое место, как мне показалось, находилось там, где русло реки, протекавшей за башенной постройкой, поворачивало на юг и соединялось с океаном у дальнего края волнолома.
То там, то здесь виднелись остатки полуразрушенных причалов, чуть нависавших над водой своими исковерканными, напрочь сгнившими краями, причем те из них, которые уходили дальше на юг, казались наиболее истлевшими и заплесневелыми. А дальше, уже в океанском просторе, я смог различить — даже несмотря на высокий прилив — длинную черную полоску едва выступавшей над водой суши, которая, несмотря на всю свою неопределенность и размытость, почему-то показалась мне довольно зловещей. Насколько я мог судить, это и был «риф Дьявола». Глядя на него, я ощутил странное и почти неуловимое влечение к этому месту, которое, видимо, было призвано лишь усилить уже успевшее сформироваться у меня под воздействием услышанного мрачное отвращение к этому месту. Следовало признать, что этот едва различимый отголосок нового чувства показался мне даже более тревожным, чем первоначальное впечатление от города.
Проезжая мимо старых, опустевших фермерских домов, каждый из которых отличался от соседних лишь степенью своего разрушения, мы не встретили ни единой живой души. Вскоре, однако, я заметил несколько заселенных жилых построек — в окнах некоторых из них вместо разбитых стекол виднелись драные половики, а в захламленных дворах повсюду валялись ракушки и тела дохлых рыбин. Пару раз мне на глаза попадались фигуры апатичных на вид людей, копавшихся в неряшливых огородах или собиравших на пропахшем рыбой пляже каких-то моллюсков, да группки грязных ребятишек с обезьяноподобными лицами, которые играли подле заросших бурьяном крылец своих домов. Вид этих людей показался мне даже более гнетущим, чем самые унылые городские постройки, поскольку в лицах и движениях почти всех их отмечались характерные признаки, которые вызывали у меня инстинктивную неприязнь и даже отвращение, хотя я и не мог толком разобраться в природе этого чувства. На какое-то мгновение мне показалось, что эти специфические особенности внешности напоминали мне некую картинку, которую я, возможно, видел уже когда-то, испытывая при этом приступ отчаянной меланхолии и ужаса, однако довольно скоро подобные псевдовоспоминания улетучились из моего сознания.
Как только автобус спустился в город, до меня стал доноситься отчетливый и непрекращающийся звук падающей воды, прорывавшийся на фоне неестественного спокойствия и тишины. Покосившиеся, некрашеные дома стояли здесь более плотной чередой, окаймляя дорогу с обеих сторон и своим видом все же в большей степени, нежели все то, что мы видели до сих пор, походя именно на городские постройки. Передо мной открылась типичная уличная панорама, и кое-где я мог различить те места, где некогда пролегали вымощенные булыжником и окаймленные кирпичными бордюрами тротуары. Все эти дома, как мне показалось, были совершенно необитаемы, а в ряде мест между ними зияли громадные проемы, и лишь по остаткам полуразвалившихся дымоходов и стен подвалов можно было предположить, что некогда там также стояли дома. И над всем этим висел всепроникающий, удушающий рыбный запах, тошнотворнее и противнее которого мне еще не приходилось встречать ни разу в жизни.
Вскоре начали появляться первые развилки и перекрестки: ответвлявшиеся налево вели в сторону моря — к царству немощеных, грязных улиц и окончательно развалившихся домов; правые же уводили туда, где еще чувствовалось присутствие былого городского великолепия. Я по-прежнему не встречал на улицах местных жителей, хотя кое-где уже попадались признаки явной заселенности; то там, то здесь мелькали занавески на окнах, попадалась редкая машина, припаркованная у края тротуара, Сами тротуары здесь пребывали в заметно более благополучном состоянии, и хотя большинство домов представляли из себя весьма старые строения — деревянные и кирпичные конструкции начала девятнадцатого века, — они все же производили впечатление по-настоящему жилых зданий. Во мне неожиданно вспыхнул огонь истинного любителя антиквариата, и потому вскоре я, со все возрастающим интересом всматриваясь в богатое убранство этого старинного, но пришедшего в полный упадок города, почти позабыл и про отвратительную вонь, и про свое отвращение к этому зловещему месту.
Однако, прежде чем достичь пункта своего назначения, я все же был вынужден испытать еще одно ощущение самого что ни на есть неприятного и даже мучительного свойства. Автобус въехал на некое подобие городской площади, на противоположных краях которой стояло по церкви, а в самом центре располагались забрызганные грязью остатки того, что в прошлом, очевидно, должно было быть клумбой. Повернув голову направо в сторону находившегося невдалеке перекрестка, я увидел массивное и громоздкое здание с колоннами. Его некогда белая штукатурка к настоящему времени обрела землисто-серый цвет и порядком облупилась, а висевшая на фронтоне вывеска, исполненная золотым по черному, казалась настолько полинявшей и выгоревшей, что я лишь с очень большим трудом разобрал начертанные на ней слова: «Тайный Орден Дагона». Так вот, значит, где в прошлом располагалась масонская ложа, а ныне обосновала свое логово секта поклонников языческих культов! Пока я вчитывался в полустершиеся буквы надписи, мое внимание внезапно было отвлечено хрипловатым звоном явно треснувшего колокола, висевшего на противоположной стороне улицы, и я сразу же повернул голову и выглянул в окно со своей стороны автобуса.
Звук исходил от довольно приземистой каменной церкви, внешний вид которой явно указывал на то, что построена она была намного позже окружавших ее домов, причем создатели ее определенно решили предпринять неуклюжую попытку подражать традициям готики и потому соорудили непропорционально высокий первый этаж с забранными ставнями окнами. Хотя стрелки на часах с той стороны здания, которая предстала моему взору, отсутствовали, я понял, что эти грубоватые, хриплые удары означали одиннадцать часов. Сразу вслед за этим из моего сознания улетучились все мысли о времени, поскольку на их место бурным потоком хлынули ярко очерченные образы, преисполненные непередаваемого ужаса, причем произошло это еще даже до того, как я успел понять, что именно произошло. Дверь в церковь была распахнута, обнажая зиявший за ней прямоугольник угольного мрака, и пространство этого прямоугольника пересек, или мне это лишь показалось? — какой-то субъект. Сознание мое опалила вспышка мгновенно пережитого кошмара, который показался мне еще более ужасным именно потому, что при ближайшем и рациональном осмыслении его в нем вроде бы не было ничего кошмарного.
Это был явно живой человек, первый — если не считать водителя автобуса, — которого мне довелось увидеть после того, как мы въехали в собственно город, и будь я в более спокойном состоянии, мне, возможно, и не показалось бы во всем этом ничего странного и, тем более, пугающего. Спустя несколько мгновений я уяснил себе, что это был не кто иной, как пастор, облаченный в довольно необычное одеяние, очевидно, изобретенное после того, как Орден Дагона видоизменил ритуалы местных церквей. Предмет, который поначалу привлек мое внимание и привел в состояние невероятного душевного трепета, представлял собой тиару, являвшую почти точную копию того экспоната, который накануне вечером показывала мне мисс Тилтон. Следуя прихоти моего воображения, этот предмет придавал неясным очертаниям лица и всему неуклюже вышагивавшему обладателю его в некоем подобии рясы выражение зловещего, невыразимого гротеска. Вскоре я решил, что в данном случае не может идти никакой речи о каком-то вмешательстве пугающих псевдовоспоминаний. Так уж ли странно было то, что некий местный таинственный культ избрал в качестве одного из своих атрибутов и символов столь уникальный головной убор, являвшийся близким и понятным для всех его последователей хотя бы по той простой причине, что был составной частью обнаруженного здешними жителями клада?
Вскоре на тротуарах по обеим сторонам площади появились тощие фигуры моложавого и довольно отталкивающего вида мужчин, которые шли как поодиночке, так и группами по двое-трое. На нижних этажах некоторых из полуразвалившихся домов кое-где располагались маленькие магазинчики с выцветшими, едва читаемыми вывесками, а кроме того, из окон автобуса я разглядел пару припаркованных к тротуару грузовиков. С каждой минутой шум падающей воды становился все отчетливее и громче, пока я наконец не увидел сооруженную прямо по ходу нашего движения довольно глубокую запруду, через которую был перекинут широкий мост с металлическими перилами, упиравшийся противоположным своим концом в просторную площадь. Проезжая по мосту, я вертел головой, стараясь запечатлеть картину по обе стороны от запруды, и увидел несколько фабричных построек, расположившихся на самом краю поросшего травой, а кое-где и осыпавшегося обрыва. Далеко внизу бушевало море воды, извергаемое по меньшей мере тремя грандиозными потоками водосброса. В этом месте шум стоял просто оглушающий. Перебравшись на противоположную сторону реки, мы въехали на полукруглую площадь и остановились у стоявшего по правую руку от нас высокого, увенчанного куполом здания с остатками желтоватой краски на фасаде и потертой вывеской, возвещавшей о том, что это и есть Джилмэн-хаус.
Я с немалым облегчением вышел из автобуса и сразу же понес свой чемодан к стойке портье, размещавшейся в глубине изрядно потрепанного вестибюля гостиницы. На глаза мне попался всего лишь один-единственный человек — это был довольно пожилой мужчина, лишенный признаков того, что я уже начал про себя называть «инсмутской внешностью», — но я решил не расспрашивать его пока ни о чем из того, что так волновало и тревожило меня все это время, поскольку, как подсказывала мне моя память, именно в этой гостинице, по слухам, не раз происходили весьма странные вещи. Вместо этого я вышел на площадь и внимательным, оценивающим взглядом окинул открывшуюся передо мной панораму.
С одной стороны вымощенного булыжником пространства тянулась полоска реки; другая была заполнена вереницей стоявших полукругом кирпичных домов с покосившимися крышами, относившихся примерно к периоду 1800 года. От площади отходило несколько улиц, тянувшихся на юго-восток, юг и юго-запад. Лампы на фонарях были маленькие и явно маломощные, однако я не стал предаваться унынию, вспомнив, что намерен покинуть этот город еще до наступления темноты, хотя луна, по-видимому, обещала быть довольно яркой. Все здания здесь пребывали в довольно сносном состоянии, причем примерно в дюжине из них размещались работавшие в данный час магазинчики: в одном располагалась бакалейная лавка, в других — унылого вида крохотный ресторан, аптека, небольшая база оптовой торговли рыбой, рядом еще одна, а в самом дальнем, восточном, углу площади, у реки, размещался офис единственного в городе промышленного предприятия — золотоочистной компании Марша. Я заметил примерно с десяток людей и четыре или пять легковых автомобилей и грузовиков, беспорядочно разбросанных по всей площади. Без лишних слов было ясно, что именно здесь находится центр деловой активности и социальной жизни Инсмута. Где-то вдали в восточном направлении просматривалось водное пространство гавани, на фоне которой возвышались останки некогда величественных и прекрасных георгианских колоколен. Взглянув в сторону противоположного берега реки, я увидел белую башню, венчавшую то, что, как мне показалось, и было фабрикой Марша.
По какой-то причине я решил начать свое знакомство с городом именно с бакалейной лавки, владельцы которой, как мне показалось, не были коренными жителями Инсмута. В ней я застал одного паренька лет семнадцати и с удовлетворением обнаружил, что он отличается достаточной смекалкой и приветливостью, что сулило мне получение самой необходимой информации, как говорится, из первых рук. Как я вскоре обнаружил, он и сам был очень расположен к тому, чтобы поговорить, и потому я достаточно быстро выяснил, что ему осточертел и этот постоянный рыбный запах, и все эти замкнутые, угрюмые жители города. Разговор с любым приезжим был для него сущим удовольствием. Сам он был родом из Аркхэма, а здесь жил с одной семьей, прибывшей из Ипсвича, но при первой же возможности был готов уехать отсюда куда глаза глядят. Его родным очень не нравилось то, что он работает в Инсмуте, однако руководство компании, которой принадлежит этот магазин, решило направить его именно сюда, а ему никак не хотелось терять эту работу.
По его словам, в Инсмуте нет ни публичной библиотеки, ни торговой палаты, а мне он порекомендовал просто походить по городу и самому все осмотреть. Улица, по которой я приехал на эту площадь, называлась Федерал-стрит; к западу от нее располагались старинные обители первых жителей города — Брод-, Вашингтон-, Лафайет- и Адамс-стрит, — тогда как к востоку, в сторону побережья, начинались сплошные трущобы. Именно в этих трущобах — на Мэйн-стрит — я наткнулся на старые георгианские церкви, но все они были уже давно покинуты прихожанами. По его словам, находясь в этих кварталах, лучше не привлекать к себе внимания, особенно к северу от реки, поскольку люди там довольно угрюмые и даже злобные. Кстати, несколько заезжих путешественников исчезли именно в том районе.
Определенные зоны города считались чуть ли не запретной территорией. В частности, не рекомендовалось подолгу прохаживаться поблизости от фабрики Марша, возле действующих церквей или около того самого здания с колоннами на Нью-Черч Грин, где расположен сам Орден Дагона. Церкви это довольно необычные, поскольку не поддерживают абсолютно никаких контактов с другими аналогичными религиозными учреждениями страны и в своей деятельности используют самые что ни на есть причудливые и странные церемонии и одеяния. Вера их определенно построена на ереси и таинственных обрядах, якобы способных обеспечить чудодейственную трансформацию, ведущую к своего рода телесному бессмертию на этой земле. Духовный наставник молодого бакалейщика — доктор Уоллес из методистской церкви в Эшбери — настоятельно рекомендовал ему не посещать ни одну из подобных церквей в Инсмуте.
Что же до местных жителей, то он и сам толком ничего о них не знает. Они очень скрытные и нелюдимые, вроде зверей, что живут в берлогах, и едва ли кто-нибудь знает что-то конкретное о том, как они проводят время, когда не заняты своей беспорядочно организованной рыбалкой. Если судить по тому, какое количество спиртного они употребляют, то можно предположить, что они чуть ли не день-деньской лежат вповалку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, они поддерживают между собой отношения своеобразного темного братства и взаимопонимания, причем объединяет их именно презрение и ненависть к окружающему миру, как если бы сами они принадлежали к какой-то иной и явно более предпочтительной для них сфере жизни, Внешность их, особенно эти выпученные глаза, которые еще никому не доводилось видеть хотя бы единожды моргнувшими, сама по себе достаточно отталкивающа, а голоса и тем более омерзительны. Страх забирает, когда слышишь их пение в церквах по ночам и особенно во время их сплавных праздников или чего-то вроде торжественных сборищ, которые устраиваются дважды в год — 30 апреля и 31 октября.
При всем при этом они обожают воду и любят купаться как в реке, так и в гавани. Особой популярностью пользуется плавание наперегонки до рифа Дьявола, причем, похоже, буквально каждый из них готов и способен принять участие в таких весьма непростых состязаниях. Когда речь заходит об этих людях, то имеются в виду относительно молодые их представители; что же до стариков, то на тех якобы и вовсе страшно смотреть. Иногда, правда, бывают и среди них исключения, и тогда в их внешности нет абсолютно никаких отличий по сравнению с обычными людьми, как, например, у того портье в гостинице. Многие задаются вопросом, что происходит с этими самыми стариками и вообще не является ли «инсмутская внешность» неким своеобразным признаком какого-то заболевания, которое с возрастом захватывает человека все больше.
Разумеется, лишь очень редкий недуг способен вызвать с достижением зрелости столь обширные и глубокие изменения в самой структуре человеческого тела, включая деформацию костей черепа. однако, даже видя столь необычные последствия таинственного заболевания, совершенно невозможно судить о том, какие последствия оно влечет для человеческого организма в целом. При этом молодой продавец прямо заявил, что составить более или менее целостное представление по этому поводу крайне сложно, поскольку никому еще не удавалось — вне зависимости от того, сколько времени он прожил в Инсмуте — установить личные отношения с кем-либо из местных жителей.
По его глубокому убеждению, многие из них внешне еще более ужасны, чем даже самые страшные из тех, кто хотя бы изредка, но все же появляется на людях — их вообще держат взаперти в особых помещениях. Иногда до людей доносятся поистине необычные, жуткие звуки. Поговаривают, что покосившиеся портовые хибары к северу от реки соединены между собой подземными коридорами, что позволило превратить их в самый настоящий муравейник для таких чудовищных уродов. Невозможно даже предположить, что за чужеродная кровь — если, конечно, дело именно в ней — течет в их жилах и отчего они делаются именно такими. Отмечались случаи, что они умышленно скрывали своих стариков, когда к ним в дома наведывались разные правительственные чиновники из внешнего мира.
По словам моего собеседника, не имеет никакого смысла расспрашивать самих аборигенов обо всем, что связано с этим местом. Единственный, кто иногда пускался в подобные разговоры, был довольно дряхлый, хотя и выглядевший вполне нормально старик, который жил в лачуге на северной окраине города и проводил свое время, прогуливаясь поблизости от пожарной станции. Этому седовласому старцу по имени Зэдок Аллен было девяносто шесть лет, и помимо того, что рассудок его, похоже, с годами заметно ослаб, он к тому же слыл отчаянным забулдыгой. Это был довольно странный и весьма настороженный тип, который к тому же постоянно оглядывался через плечо, как будто чего-то или кого-то опасался, и в трезвом состоянии категорически отказывался разговаривать с любым чужаком. однако он был почти не в силах устоять перед дармовой выпивкой, а напившись, бывало, пускался в воспоминания и свистящим шепотом описывал некоторые фантастические истории из своей жизни. Впрочем, из подобных бесед с ним можно было вынести лишь самый минимум заслуживающей внимания информации, поскольку все его истории сильно смахивали на бред душевнобольного, изобилующий загадочными и обрывочными намеками на невероятные чудеса и ужасы, которые могли быть порождены лишь его собственной нездоровой фантазией. Ему никто не верил, и к тому же местным жителям очень не нравилось то, что в сильном подпитии он часто разговаривает с чужаками, а потому появляться с ним на людях и тем более в присутствии посторонних пускаться в какие-то расспросы было довольно небезопасно. Возможно, именно от него и пошли все эти дичайшие слухи и кривотолки, которые вот уже много лет смущали окружавший Инсмут люд.
Отдельные «пришлые» обитатели города время от времени также бросали разрозненные, малопонятные и двусмысленные фразы аналогичного содержания, словно намекая на то, что на самом деле знают куда больше, чем говорят, а потому было вполне вероятно, что между рассказами старого Зэдока и уродливыми аборигенами Инсмута существовала какая-то вполне реальная связь. Остальные жители города никогда не выходили из дому с наступлением темноты просто потому, что «так было принято», а кроме того, здешние улицы были настолько грязными и запущенными, что едва ли какому-то нормальному человеку пришла бы в голову мысль бродить по ним в ночное время.
Что же до производственной активности, то следовало прямо признать, что то количество рыбы, с которой возвращались рыбаки, было просто поразительным, хотя самим им это с каждым годом приносило все меньше и меньше выгоды, поскольку цены продолжали падать и нарастала конкуренция со стороны крупных фирм-поставщиков. Главным же бизнесом города оставалась, естественно, золотоочистная фабрика, коммерческий офис которой находился всего в нескольких десятках метров от того места, где мы с молодым бакалейщиком вели нашу беседу. Самого старика Марша нынешнее поколение горожан никогда не видело, хотя он и выезжал изредка на производство, сидя в закрытой и плотно зашторенной машине.
Ходила масса слухов относительно того, как выглядит нынче Марш. Некогда он слыл чуть ли не щеголем, и люди утверждали, что он и поныне носит допотопный эдвардианский сюртук, довольно изящно пригнанный даже по его теперешней, крайне уродливой фигуре. Многие годы в конторе всем заправляли его сыновья, но в последнее время они также стали избегать появления на людях, оставив ведение дел представителям более молодого поколения семьи. Внешне сыновья и дочери Марша сильно изменились, особенно те, что были постарше, и поговаривали, что здоровье их с каждым годом становится все хуже.
Одна из дочерей Марша являла собой поистине омерзительную, похожую на рептилию женщину, которая в изобилии напяливала на себя всевозможные причудливые драгоценности, изготовленные явно в тех же традициях, что и загадочная тиара из музея в Ньюбэрипорте. Моему собеседнику также неоднократно доводилось видеть на ней подобные украшения, которые, по мнению окружающих, являлись частью какого-то старинного клада — то ли пиратского, то ли и вовсе дьявольского. Священники и остальные церковнослужители, или как они там сами себя называли, по особым случаям напяливали себе на головы аналогичные украшения, хотя редко кому удавалось встретить такие вещи в повседневной действительности. Других образчиков подобных драгоценностей молодому бакалейщику самому видеть не доводилось, хотя, по словам других людей, они у аборигенов водились в изобилии.
Марши, равно как и три других, также тщательно оберегаемых рода местных жителей — Уэйты, Джилмэны и Элиоты, — вели подчеркнуто уединенный образ жизни. Обитали они в громадных домах на Вашингтон-стрит, причем некоторые из них — те, что были внешне наиболее уродливы и омерзительны, — никогда не появлялись на людях и постоянно пребывали в скрытых от посторонних глаз убежищах. Время от времени поступали сообщения о смерти того или иного члена какой-либо из этих старинных династий.
Предупредив меня насчет того, что многие из городских указателей и надписей со временем пришли в негодность, а то и вовсе исчезли, молодой человек любезно согласился начертить мне некое подобие плана города, указав на нем основные пункты, которые могли бы привлечь мое внимание. Едва взглянув на него, я сразу понял, сколь неоценимую помощь может оказать мне даже такая импровизированная карта, и тут же со словами искренней благодарности упрятал ее в карман. С сомнением отнесясь к кулинарным достоинствам близлежащего ресторана, я ограничился тем, что накупил побольше сырных крекеров и имбирных вафель, чтобы чуть позже заменить ими традиционный ленч. Моя последующая программа заключалась в том, чтобы побродить по главным улицам города, попытаться поговорить с каждым попавшимся мне по пути жителем, не относящимся к числу аборигенов, и поспеть к восьмичасовому автобусу на Аркхэм. Сам по себе город, как я уже успел убедиться, представлял собой замечательный образчик всеобщего упадка и общественного разложения, однако, не будучи увлеченным изучением социологических проблем Инсмута, я решил ограничиться обзором его архитектурных достопримечательностей. Так я и начал свое осмысленное, хотя во многом и запутанное путешествие по узким, окруженным мрачными трущобами улицам. Пройдя по мосту и повернув в сторону одного из грохочущих потоков воды, я оказался почти рядом с фабрикой Марша, которая показалась мне странно тихой для промышленного предприятия подобного рода. Ее здание стояло у самого края крутого обрыва рядом с мостом и довольно недалеко от места соединения нескольких улиц, некогда являвшегося, по-видимому, центром общественной жизни города, на смену которому после Революции пришла нынешняя городская площадь. Пройдя по узенькому мосту, я попал в совершенно безлюдный район, сама атмосфера которого заставила меня невольно поежиться. Просевшие, а кое-где и обвалившиеся, прижатые друг к другу двускатные крыши образовывали причудливый зубчатый узор, над которым возвышался довольно непрезентабельного вида обезглавленный шпиль старинной церкви. В некоторых домах вдоль Мэйн-стрит явно кто-то обитал, хотя основная часть домов была давно заброшена. Спускаясь по немощеным боковым улочкам, я видел многочисленные черные, зияющие оконные проемы заброшенных хибар, некоторые из которых сильно наклонились набок, угрожающе нависая над полуразвалившимися фундаментами. Сам по себе вид этих оконных глазниц был настолько неестественен и пугающ, что мне стоило немалой храбрости свернуть в восточном направлении и двинуться еще дальше в сторону океанского побережья. Жутковатые ощущения, которые я испытывал при виде опустевших домов, нарастали даже не в арифметической, а скорее в геометрической прогрессии по мере того, как увеличивалось количество окружавших меня поразительно ветхих построек, отчего создавалось впечатление, будто я оказался в некоем мини-городе полнейшего запустения. один лишь вид этих бесконечных улиц, пропитанных упадком и смертью, в сочетании с представлением о массе опустевших, гниющих черных комнат, отданных на разорение вездесущим паукам и извивающимся червям, невольно порождал атмосферу поистине первобытного, животного страха и отвращения, разогнать которую едва ли смогла бы даже самая жизнестойкая оптимистическая философия.
Фиш-стрит была столь же пустынной, как и Мэйн-стрит, хотя и отличалась от нее изобилием кирпичных и каменных складских помещений, находившихся, надо сказать, в прекрасном состоянии. Почти как две капли воды на нее походила и Уотер-стрит, с тем лишь отличием, что в ней имелись просторные проемы, откуда начинался путь к портовым причалам.
За все это время я не повстречал ни единой живой души, если не считать сидевших в отдалении на волноломе рыбаков, и не услышал ни звука, помимо плеска накатывавших на берег гавани приливных волн да отдаленного грохота Мэнаксетского водопада. Постепенно город начинал все больше действовать мне на нервы, и я, возвращаясь обратно по расшатанному мосту на Уотер-стрит, то и дело украдкой оглядывался назад. Мост на Фиш-стрит, судя по имевшемуся у меня плану, и вовсе был разрушен.
К северу от реки стали попадаться признаки убогой, нищенской жизни — в некоторых домах на Уотер-стрит занимались упаковкой рыбы; изредка попадались залатанные крыши с едва дымящимися трубами; откуда-то доносились разрозненные, непонятные звуки, а кроме того, кое-где стали попадаться скрюченные, еле переставляющие ноги человеческие фигуры, медленно передвигающиеся по грязным, немощеным улицам. И все же, даже несмотря на все эти слабые проблески жизни, следовало признать, что на меня это чахлое подобие людского существования производило еще более гнетущее впечатление, чем даже запустение южной части города. одно обстоятельство особо резко бросалось в глаза: люди здесь казались намного более зловещими и отталкивающими, чем в центральной части города, отчего я несколько раз ловил себя на мысли о том, что нахожусь в какой-то фантастической, враждебной среде, сущность которой, однако, по-прежнему оставалась совершенно неуловимой для моего сознания. Ясно было одно: неестественная, гнетущая напряженность местных жителей проявлялась здесь в более ярком виде, нежели в глубине города, и если специфическая «инсмутская внешность» являлась не просто отражением состояния психики, а самой настоящей болезнью, то следовало предположить, что портовые районы попросту стали убежищем наиболее тяжелых и запущенных случаев таинственного недуга. одно обстоятельство, однако, вызывало у меня особо острое раздражение — это были те самые разрозненные, смутные, неясные звуки, которые я слышал в самых неожиданных местах. По самой своей логике они вроде бы должны были исходить из жилых домов, однако странным образом ощущались наиболее явно именно поблизости от заброшенных, давно заколоченных построек. Там словно кто-то беспрерывно чем-то поскребывал, шелестел, шуршал, а изредка загадочно хрипел, отчего мне на ум пришли слова бакалейщика о неких таинственных подземных туннелях. Неожиданно я невольно задумался о том, как же на самом деле звучат голоса местных жителей. В этом квартале мне еще ни разу не довелось слышать человеческой речи, хотя, откровенно говоря, особого желания к тому даже и не возникало.
Дойдя лишь до двух некогда явно прекрасных, а ныне превращенных в развалины церквей на Мэйн- и Черч-стрит, я поспешил покинуть эти мерзкие портовые трущобы. Следующим пунктом моего путешествия должна была бы стать площадь Нью-Черч Грин, однако мне почему-то не хотелось снова проходить мимо той церкви, в дверном проеме которой я заметил проскользнувшую фигуру необъяснимым образом напугавшего меня священника или пастора в нелепой сутане и странной золотой тиаре. Кроме того, бакалейщик прямо предупреждал меня о том, что церкви и зал Ордена Дагона были как раз теми самыми местами, рядом с которыми посторонним людям показываться лишний раз никак не следует. Поэтому я продолжил продвижение по Мэйн-стрит, потом свернул в сторону центра и благополучно подошел к НьюЧерч Грин с севера, после чего вступил на территорию основательно потрепанного района некогда аристократических Брод-, Вашингтон-, Лафайет- и Адамс-стрит. Несмотря на то что эти некогда определенно величавые городские артерии ныне пребывали в крайне запущенном и неухоженном состоянии, их окруженное древними вязами пространство все еще хранило остатки былого достоинства, Я переводил взгляд с одного особняка на другой и видел, что многие из них пребывали в ветхом, убогом состоянии, перемежая собою обширные участки замусоренных пустырей, однако в двух-трех окнах, как мне показалось, я заметил некоторые признаки жизни. На Вашингтон-стрит стояла вереница из четырех или пяти таких домов, причем каждый находился в прекрасном состоянии, с изысканно подстриженными лужайками и садами. Самый шикарный из них — с широкими, расположенными террасами цветниками, тянувшимися до самой Лафайет-стрит, — как я понял, принадлежал старику Маршу, пресловутому владельцу золотоочистной фабрики. На всех этих улицах я не заметил присутствия ни единого человека и почему-то припомнил, что за все блуждание по городу мне на глаза не попадались ни собаки, ни кошки. Другое обстоятельство, которое не на шутку озадачило меня в облике даже наиболее хорошо сохранившихся и ухоженных домов, было то, что на всех их трех этажах, и даже в мансардах, окна были плотно закрыты ставнями. Скрытность и непонятная конспиративность являлись, пожалуй, неотъемлемыми чертами этого мрачного города забытья и смерти, хотя меня неотступно продолжало преследовать ощущение, что за мной буквально повсюду присматривает некий потаенный, внимательный и никогда не мигающий взгляд.
Я невольно вздрогнул, услышав с располагавшейся где-то левее от меня старинной звонницы троекратный удар надтреснутого колокола, и тут же отчетливо вспомнил очертания приземистой церкви, откуда донесся этот звук. Следуя по Вашингтон-стрит в направлении реки, я вступил в новую зону некогда процветавшей здесь промышленности и торговли. Вскоре я увидел впереди себя остатки развалившейся фабрики, затем еще нескольких аналогичных строений; в облике одного из них смутно угадывались остатки некогда существовавшей железнодорожной станции, а правее — крытого моста, по которому также были проложены рельсы.
Неподалеку от себя я увидел еще один мост, уже обычный — явно ненадежное ныне сооружение было украшено предупреждающим транспарантом, однако я решил все же рискнуть и вновь оказался на южном берегу реки, где отмечались признаки хоть какой-то жизни. Неприметные, вяло бредущие куда-то личности украдкой бросали в мою сторону косые взгляды, тогда как более нормальные лица взирали на меня с холодным любопытством. Определенно, Инсмут становился все более невыносимым, и потому я направился по Пэйн-стрит в сторону главной площади в надежде найти там хоть какое-нибудь транспортное средство, способное доставить меня в Аркхэм еще до того, как настанет казавшийся мне столь далеким час отправления моего зловещего автобуса.
Именно тогда я обратил внимание на располагавшееся слева от меня полуразвалившееся здание пожарной станции и сразу заметил старика с красным лицом, косматой бородой, водянистыми глазами и в неописуемых лохмотьях, который, беседуя с двумя довольно неопрятными, но все же не показавшимися мне похожими на аборигенов пожарными, сидел на скамье рядом со входом. Как я понял, это и был Зэдок Аллен — тот самый полусумасшедший, чуть ли не столетний выпивоха.
Пожалуй, я поддался какой-то неожиданной и извращенной прихоти, а может, просто уступил неведомому мне зову темного и зловещего прошлого — во всяком случае, я внезапно принял решение изменить ранее намеченные планы. Прежде я твердо намеревался ограничиться в своих исследованиях исключительно творениями архитектуры, хотя даже одного этого оказалось достаточно, чтобы у меня возникло страстное желание как можно скорее уехать из этого богопротивного города всеобщего упадка и разрухи. И все же при одном лишь взгляде на старого Зэдока Аллена мысли мои потекли по совершенно иному руслу и заставили меня невольно замедлить шаг.
Я был практически уверен в том, что старик не сможет поведать мне ничего нового, разве что сделает несколько туманных намеков относительно каких-нибудь диких, наполовину бессвязных и невероятных легенд; более того, меня прямо предупреждали, что встречи и разговоры с ним могут быть весьма небезопасными. И все же мысль об этом древнем свидетеле омерзительного городского упадка, воспоминания которого простирались к годам некогда процветающего мореплавания и бурной промышленной активности, казалась мне настолько соблазнительной, что я попросту не мог устоять перед открывавшейся передо мной неожиданной перспективой. В конце концов, какими бы странными и безумными ни казались те или иные мифы, они, как правило, на поверку оказываются всего лишь символами или аллегориями всего того, что происходило на самом деле — а старый Зэдок, несомненно, был живым свидетелем всего того, что происходило в Инсмуте и вокруг него на протяжении последних девяноста лет. Короче говоря, любопытство одолело соображения осторожности и здравого смысла, и я с присущей молодости самонадеянностью посчитал, что мне все же удастся собрать разрозненные крупицы подлинной истории, отделив их от той мешанины словесного мусора, который, как я полагал, вывалится из чрева этого старика под воздействием доброй порции виски.
Я знал, что с ним не следует заговаривать прямо здесь и сразу, поскольку это, несомненно, не ускользнуло бы от внимания пожарных, и они могли бы каким-то образом воспрепятствовать осуществлению моих планов. Вместо этого я решил загодя запастись бутылкой соответствующего напитка, благо юный бакалейщик подробно описал мне место, где подобный продукт водился в изобилии. После этого я намеревался с подчеркнуто праздным видом прохаживаться поблизости от пожарной станции в ожидании того момента, когда старый Зэдок наконец отправится в свое очередное бесцельное блуждание по городу. Паренек также сказал, что старик отличается странной для его возраста неугомонностью и редко проводит на одном месте более часа, от силы двух.
Кварта виски и в самом деле оказалась вполне легкой, хотя и дороговатой находкой, которую я обрел в каком-то замызганном магазинчике на Эллиот-стрит. Лицо обслуживавшего меня грязноватого продавца несло на себе слабые признаки пресловутой «инсмутской внешности», хотя манеры его в целом были достаточно учтивыми и вполне нормальными — пообтерся, наверное, за время долгого общения с жизнелюбивой публикой, к числу которой принадлежали водители грузовиков, скупщики золота и им подобные «чужаки», изредка посещавшие Инсмут.
Вновь вернувшись к пожарной станции, я увидел, что судьба и впрямь улыбнулась мне, поскольку из-за угла стоявшей на Пэйн-стрит мрачной гостиницы, которая, как я уже упоминал, называлась Джилмэн-хаус, шаркая, появилась высокая, изможденная фигура Зэдока Аллена. В соответствии с заранее разработанным планом я без труда привлек внимание старика тем, что оживленно помахивал только что приобретенной бутылкой, и вскоре обнаружил, что он изменил свой маршрут и теперь волочил ноги уже где-то у меня за спиной, с тоской поглядывая на заветную приманку. Я же тем временем свернул на Уэйт-стрит и не спеша направился к заранее облюбованному и самому глухому и уединенному участку этого и без того безлюдного района.
Ориентируясь по самодельной карте, любезно предоставленной мне юным бакалейщиком, я уверенно держал курс на полностью заброшенный участок южной части портовых сооружений, который уже имел неудовольствие посетить в этот день. Единственные люди, которых подметил мой внимательный взгляд, были сидевшие на отдаленном волноломе рыбаки, а пройдя несколько кварталов в южном направлении, я становился невидимым даже для них. Там я рассчитывал найти пару относительно сохранившихся скамеек или каких-нибудь других пригодных для сидения приспособлений, чтобы предаться пространной беседе с Зэдоком Алленом. однако еще до того как я достиг Мэйн-стрит, у меня за спиной послышалось хриплое, надтреснутое «Эй, мистер!», после чего я обернулся, позволил старику наконец нагнать меня и сделать внушительный глоток из им же откупоренной бутылки.
Продолжая идти в окружении вездесущего запустения, я начал осторожный зондаж своего собеседника, однако вскоре обнаружил, что развязать ему язык было не столь просто, как я на то рассчитывал. Наконец я увидел довольно широкий проем между домами, который вел в направлении причалов между рассыпающимися кирпичными стенами, утопавшими в густых зарослях репейника и прочей сорной травы. Груды поросших мхом камней у самой кромки воды показались мне вполне пригодными для сидения, а кроме того, местечко это оказалось довольно надежно укрытым от посторонних взоров остовом некогда стоявшего здесь массивного склада. Именно здесь я намеревался приступить к тайной, задушевной беседе со старым Зэдоком, а потому уверенно повел своего путника к мшистым валунам. Запах тлена и разрухи был сам по себе достаточно отвратителен, а в смеси с одуряющей рыбной вонью казался и вовсе невыносимым, однако я твердо намерился вопреки любым обстоятельствам добиться поставленной цели. До отхода моего вечернего автобуса на Аркхэм оставалось около четырех часов, а потому я принялся выдавать старому забулдыге все новые и новые порции желанного напитка, тогда как сам ограничил себя довольно скудным сухим пайком, призванным заменить мне традиционный ленч. В своих подношениях я, однако, старался соблюдать известную меру, поскольку не хотел, чтобы хмельная словоохотливость Зэдока переросла в бесполезное для меня ступорозное оцепенение. Примерно через час его уклончивая неразговорчивость стала постепенно давать трещины, хотя старик по-прежнему и к вящему моему разочарованию отклонял любые попытки перевести разговор на темы, связанные с Инсмутом и его покрытым мраком прошлым. Он довольно охотно болтал на темы современной жизни, продемонстрировав неожиданно широкие познания в том, что касалось газетных публикаций, а также обнаружил явную склонность к философскому нравоучительству с типичным провинциально-деревенским уклоном.
Когда подходил к концу второй час подобного времяпрепровождения, я начал уже опасаться, что приобретенной мною кварты окажется недостаточно для достижения желанного результата, и стал подумывать о том, не оставить ли его здесь, а самому сходить еще за одной бутылкой. И именно тогда, причем исключительно по воле случая, а отнюдь не в результате моих настойчивых расспросов, свистящий, хрипловатый голос старого пьянчуги заставил меня приблизиться к нему почти вплотную и напряженно вслушиваться буквально в каждое произнесенное им слово. Спина моя была обращена к пропахшему рыбой морю, тогда как старик сидел лицом к нему, и, видимо, что-то привлекло к себе его блуждающий взгляд и заставило пристальнее всмотреться в чернеющую полоску невысокого рифа Дьявола, который то скрывался, то внезапно снова отчетливо и даже завораживающе появлялся из-под волн. Увиденное зрелище, похоже, вызвало у него какое-то неудовольствие, поскольку он тут же разразился серией коротких ругательств, завершившихся доверительным шепотом и вполне осмысленным и понимающим взглядом. Он чуть подался вперед, ухватил меня за лацканы плаща и прошипел несколько слов, которые я достаточно хорошо разобрал и запомнил.
— Именно так все и началось — в этом проклятом месте. С глубоководья все и началось… Врата ада — в самой бездне, в пучине, дна которой никаким лот-линем ни за что не достать. Только старому капитану Оубеду удалось это сделать — смог все же найти что-то такое, что оказалось даже для него слишком большим — на островах южных морей это было.
В то время все у нас здесь шло наперекосяк. Торговля катилась под гору, мельницы перестали приносить доход — даже новые, — а лучшие наши парни полегли в войне двенадцатого года или затерялись вместе с бригом «Элизи» или «Рэйнджером» — баржа такая была, — оба Джилмэну принадлежали. У Оубеда Марша было три судна — бригантина «Колумбия», бриг «Хетти» и барк «Суматранская королева». Он был единственный, кто плавал через Тихий океан и торговал с Ост-Индией, хотя Эсдрас Мартин на своей шхуне «Малайская невеста» ходил даже дольше — до самого двадцать восьмого года.
Никто тогда не мог сравниться с капитаном Оубедом — о, старое сатанинское отродье! Ха-ха! Я помню еще те времена, когда он проклинал наших парней за то, что ходят в христианскую церковь и вообще терпеливо и покорно несут свою ношу. Любил повторять, что надо бы им найти себе лучших богов — как тем парням, что в Индии живут, — и тогда боги, якобы в обмен на поклонение, принесут нам много рыбы и по-настоящему откликнутся на наши мольбы.
Мэтт Элиот — его первый напарник — тоже много чего болтал, только он был против того, чтобы парни увлекались язычеством. Много рассказывал об острове к востоку от Отахайты, на котором полно всяких каменных развалин, да таких старых, что еще и свет не видывал. Вроде тех, что лежат в Понапее — это в Каролине, — но только с резными лицами, похожими на те, что на острове Пасхи. И еще там был один маленький островок — после вулкана остался, — и на нем тоже остались развалины, только резьба там уже другая была, а руины все такие, словно давным-давно под водой находились, и картинки на них резные — сплошные чудовища, все изрезанные…
Так вот, сэр, этот Мэтт сказывал, что тамошние жители ловят столько рыбы, сколько их утроба вместить может, и все носят браслеты, побрякушки какие-то, и на голову украшения — и все резные, с картинками, вроде тех, что были на руинах на том маленьком острове — то ли рыбы-лягушки, то ли лягушки-рыбы, но все в разных позах, и вообще ходят как люди. И никак было не дознаться у них, откуда они все это взяли; а матросы все удивлялись, как это они могут столько рыбы ловить, когда даже на соседнем острове ее нет. Мэтт тоже голову ломал над этим, и капитан Оубед тоже. Оубед еще заметил тогда, что многие симпатичные молодые парни с этого острова вдруг куда-то исчезают — год назад были, и нет их, — а стариков там вообще почти нет. И еще ему показалось, что многие из тамошних парней чудные какие-то, лицом даже хуже туземцев-канаков.
В общем, потом Оубед все же дознался до правды. Не знаю, как он это сделал, но после этого стал торговать с ними в обмен на те золотые штучки, что они носили. Узнал, откуда они все родом и не могут ли принести еще таких же золотых украшений, а в конце услышал от них историю про их старого вождя — Валакеа, так они его звали. Никто не мог, лишь капитан Оубед смог добраться до их желтолицего дьявола, да, только капитан мог читать их души как книги. Хе-хе! Никто теперь мне не верит, когда я об этом рассказываю, да и вы, молодой приятель, тоже, наверное, не поверите, хотя как посмотришь на вас — у вас такой же острый глаз, какой был у Оубеда.
Шепот старика стал почти неслышим, но я внутренне содрогался от его зловещих и, казалось, вполне искренних слов, хотя и понимал, что все это могло казаться не более, чем бреднями пьяницы.
— Ну вот, сэр, Оубед узнал, что были там такие люди, которых на земле еще никто не видывал, — а даже если и услышит кто о них, все равно ни за что не поверит. Похоже на то, что эти самые канаки, или как их там звали, отдавали своих парней и девушек в жертву каким-то существам, что жили под водой, а взамен получали чего душе угодно. А встречались они с этими существами на маленьком острове, где были те развалины, и похоже на то, что те самые картинки с рыбами-лягушками — это то, на кого эти существа были похожи. И вообще, с них были сделаны эти рисунки. Может, они были чем-то вроде морских людей, от которых и пошли все эти рассказы про русалок. Под водой у них были всякие города, а остров этот они специально подняли со дна моря. Похоже, в каменных домах еще обитали какие-то живые существа, когда остров так вдруг поднялся на поверхность.
Именно поэтому канаки и решили, что те под водой живут. Увидели их и сильно перепугались тогда, а потом и сделку заключили, хотя давно это уже было.
Эти твари любили, когда люди приносили им себя в жертву. Веками их принимали, но со временем забыли путь наверх. Что они делали со своими жертвами, об этом я вам ничего не скажу, да и Оубед тоже, пожалуй, не тот человек, которого об этом надо спрашивать. Но для туземцев это все равно было выгодно, потому как трудные времена они тогда переживали, ничего у них не получалось. И они приносили свои жертвы дважды в год — в канун мая и Дня Всех Святых, в общем, регулярно. И еще отдавали им кое-какие резные безделушки, которые сами же делали. А что существа эти давали им взамен — это рыбы до отвала — похоже, они ее им со всего моря сгоняли, — да еще золотые, или там похожие на золотые, побрякушки и всякие вещи.
Ну так вот, как я сказал, встречались они с этими существами на том вулканическом островке — на каноэ плыли туда, прихватив свои жертвы, — а обратно привозили золотистые украшения. Поначалу эти существа никогда не выходили на главный остров, но со временем и туда стали наведываться. Похоже на то, что им очень хотелось породниться с местными туземцами, даже вместе праздники стали справлять по большим дням — в канун мая и Дня Всех Святых. Понимаете, похоже на то, что они могут жить как в воде, так и на суше — амфибии, так, кажется, называются. Канаки сказали им, что парни с других островов могут перебить их, если дознаются обо всех этих делах, но те им сказали, что их это не волнует и что они, если захотят, могут сами перебить и вытравить всю человеческую расу, вроде того, как однажды то же проделали какие-то Старожилы, кем бы они там ни были. Но сейчас им просто не хочется этого, вот потому они и лежат себе спокойно, когда кто-нибудь приплывает на остров.
Когда дело дошло до спаривания с этими рыбами-лягушками, то канаки поначалу поартачились, но потом узнали что-то такое, отчего иначе посмотрели на это дело. Вроде бы то, что люди якобы всегда находились в родстве с морским зверьем, что вообще человек когда-то вышел из моря, а потому надо устроить всего лишь небольшую переделку, чтобы все вернулось на свои места. Они и сказали канакам, что если потом пойдут дети, то сначала, пока молодые, они будут похожи на людей, а со временем станут все больше походить на этих существ, пока наконец совсем не уйдут под воду и не станут навечно жить там. И самое важное во всем этом, молодой человек, это то, что как только они станут рыбами и будут жить под водой, то превратятся в бессмертных. И существа эти сами по себе никогда не умирали, разве что если их убивали в какой-то схватке.
Ну так вот, сэр, похоже на то, что Оубед как-то дознался, что у этих канаков в жилах течет рыбья кровь от этих глубоководных существ. Когда они старели и у них начинали появляться «рыбьи» признаки, они не показывались на людях, пока время не приходило — тогда они навсегда уходили жить в море. Были среди них и те, кто не так сильно был похож на тех существ, а некоторые вообще никогда не достигали той стадии, чтобы уйти под воду, но с основной частью происходило именно то, что говорили эти существа. Те, которые рождались похожими на рыб, преображались совсем скоро, а те, что были почти как люди, иногда доживали на острове лет до семидесяти и даже больше, хотя временами и они спускались под воду, чтобы, как говорится, потренироваться в плавании. Те парни, что навсегда спускались под воду, иногда возвращались, чтобы навестить тех, что остались на суше, и иногда получалось, что человек разговаривает со своим прапра-, в общем, пятикратным прадедом, который покинул землю несколько веков назад.
После этого все они позабыли про то, что такое смерть — за исключением гибели в войнах с племенами соседних островов да жертвоприношений подводным богам; ну, разве еще если змея ядовитая укусит или чума какая поразит, прежде чем они успеют спуститься под воду. В общем, стали они ждать-поджидать, когда же с ними произойдет превращение, которое на поверку оказалось не таким уж страшным. Просто прикинули и решили, что то, что приобретали, намного больше того, что при этом теряли, да и сам Оубед, как я понимаю, тоже пришел к такому же выводу, когда хорошенько помозговал над историей, которую рассказал им этот самый Валакеа. Что же до этого Валакеа, то он был одним из немногих, в ком совершенно не было рыбьей крови — он принадлежал к королевскому роду, который вступал в брак только с такими же царственными особами с соседних островов.
Валакеа показал и растолковал ему многие заклинания и обряды, которые надо совершать, когда имеешь дело с морскими существами, а также показал некоторых парней в деревне, которые уже начали постепенно терять человеческий облик. А вот самих тварей, которые в море живут, не показал ни разу. Под конец он дал ему какую-то смешную штуку, вроде волшебной палочки, что ли, сделанную из свинца или чего-то вроде того, и сказал, что при помощи ее можно будет заманивать рыбу откуда угодно и сколько хочешь. Вся идея заключалась в том, чтобы бросить ее в воду и произнести нужное заклинание, Валакеа разрешил пользоваться ею по всему свету, так что если кому-то где-то понадобится рыба, он может в любой момент поймать ее столько, сколько захочет.
Мэру вся эта история очень не понравилась, и он хотел, чтобы Оубед держался подальше от этого острова. Но капитан тогда уже помешался на этой затее, потому как обнаружил, что может по дешевке скупать золото, причем в таком количестве, что должен всерьез заняться этим бизнесом. Так продолжалось много лет кряду, и Оубед получил столько золота, что даже смог построить свою фабрику — как раз на том самом месте, где была старая мельница Уэйта. Он решил не продавать золото в том виде, в каком оно к нему попадало, то есть в этих цацках, поскольку могли возникнуть всякие вопросы. И все же члены его экипажа иногда толкали налево какую-нибудь побрякушку, хотя он и взял с них слово молчать; да и сам иногда позволял своим женщинам что-нибудь поносить, но только выбирал, чтобы было похоже на человеческие украшения.
Ну вот, так продолжалось до тридцать восьмого — мне тогда было семь лет, — когда Оубед обнаружил, что от тех островитян почти никого не осталось. Похоже на то, что люди с других островов почуяли, откуда ветер дует, и решили взять все это под свой контроль. Как знать, может, они сами порастаскивали все те волшебные знаки, которые, как говорили сами морские существа, были для них важнее всего. Люди они были набожные, а потому не оставили там камня на камне — ни на главном острове, ни на маленьком вулканическом островке, — кроме разве лишь самых крупных развалин, к которым и подступиться-то было трудно. В некоторых местах там потом находили такие маленькие камушки, вроде талисманов, что ли, а на них нарисовано было то, что сейчас называют, кажется, свастикой. Может, это были знаки самих Старожилов. Все парни того племени поразбрелись кто куда, от золотых вещей тоже никаких следов не осталось, а про самих этих канаков даже словом боялись обмолвиться. Вообще стали говорить, что на том острове никогда и в помине не было людей.
Для Оубеда все это, разумеется, было страшным ударом — видеть, в какой упадок пришла вся его торговля. Да и по всему Инсмуту рикошетом отскочило, потому как во времена мореплавания если капитану жилось хорошо, то и команда чувствовала себя не худо. Большинство мужчин совсем приуныли и стали списываться на берег, но и там проку было мало, потому как рыбная ловля пошла на убыль, да и мельницы, можно сказать, почти не работали.
Вот тогда-то Оубед и стал поносить всех и проклинать на чем свет стоит за то, что, дескать, верили в своего христианского бога, да что-то не очень он им помог за это. А потом стал рассказывать им про других людей, которые молились другим богам, зато получали за это все, что душе было угодно. И еще сказал, что если найдется кучка крепких парней, которые согласятся пойти за ним, то он попробует сделать так, чтобы снова появились и золото, и рыба. Разумеется, они плавали с ним на «Суматранской королеве», видели те острова и потому понимали, о чем идет речь. Поначалу им не очень-то хотелось столкнуться с теми существами, о которых они были много наслышаны, но поскольку сами они толком ничего не знали, то постепенно стали верить Оубеду и спрашивать его, что им надо сделать, чтобы все стало как прежде, чтобы вера их принесла им то, чего они хотели.
В этом месте старик совсем затих, стал что-то почти беззвучно бормотать себе под нос и впал в состояние напряженной и явно боязливой задумчивости. Время от времени он тревожно поглядывал себе через плечо, а иногда устремлял нервный взгляд в сторону маячившего в отдалении черного рифа. Я попытался было заговорить с ним, но он ничего не ответил, и я смекнул, что надо позволить ему прикончить бутылку. Как ни странно, меня крайне заинтересовали все эти безумные небылицы, поскольку, как мне казалось, они представляли собой огрубленные аллегории, основывавшиеся на всех жизненных перипетиях Инсмута, а в дальнейшем приукрашенные богатым воображением, во многом подпитанным обрывками из старинных легенд. Разумеется, я ни на секунду не допускал мысли о том, что его рассказ имел под собой сколь-нибудь реальную почву, и все же следовало признать, что повествование это было наполнено самым неподдельным ужасом, хотя бы по той простой причине, что в нем упоминались странные ювелирные украшения, столь явно схожие со зловещей тиарой, которую я видел в Ньюбэрипорте. Возможно, эти драгоценности действительно привозились с какого-то далекого и уединенного острова, а кроме того, нельзя было исключать, что автором всех этих диких подробностей был отнюдь не мой горький пьяница, а сам покойный капитан Оубед.
Я протянул Зэдоку бутылку, и он осушил ее до последней капли. Мне было странно наблюдать то, что алкоголь, похоже, ничуть не забирал старика, поскольку в его голосе совершенно не чувствовалось характерных для пьяных людей глухих, хрипловатых ноток. Он облизнул горлышко бутылки и спрятал ее в карман, после чего начал кивать и что-то еле слышно нашептывать себе под нос. Я наклонился поближе к нему, стремясь уловить хотя бы слово, и мне показалось, что под густыми, пожелтевшими усами промелькнуло некое подобие сардонической ухмылки. Он и в самом деле что-то говорил, и мне удалось довольно неплохо расслышать, все, что он пробормотал.
— Бедный Мэтт… он всегда был против этого… пытался привлечь парней на свою сторону, а потом подолгу беседовал с пастором… все было без толку… сначала они прогнали из города протестантского священника, потом методистского; с тех пор я ни разу не видел нашего Неистового Бэбкока — он заправлял прихожанами-баптистами. О, Иегова, дождутся они гнева твоего! Сам я тогда еще совсем щенком был, но все равно видел и слышал все, что там творилось. Дагон и Ашторет — Сатана и Вельзевул… Идолы Канаана и филистимлян… страхи вавилонские — мене, мене, текел, упарсин…
Он снова умолк, и по взгляду его водянистых глаз я понял, что спирт все же брал свое — старик действительно был близок к ступорозному состоянию. однако стоило мне легонько потрясти его за плечо, как он с неожиданной живостью повернулся ко мне и снова принялся бормотать что-то почти невразумительное.
— Ну как, не поверили мне, да? Хе-хе-хе, но тогда скажите, молодой человек, зачем капитан Оубед и двадцать его парней взяли за правило плавать глухими ночами к рифу Дьявола и хором распевать там свои песни, да так громко, что при соответствующем ветре их можно было даже в городе услышать? Ну, что вы мне на это ответите? И еще скажите, зачем он всегда бросал в воду какие-то тяжелые предметы, причем по другую сторону рифов, на глубине, где подводная их часть обрывается в бездну, да такую, что еще никому не удавалось до дна достать? Скажите, что он сделал с той свинцовой штуковиной, которую ему дал Валакеа? Ну как, юноша? И что они там выкрикивали, когда собирались в канун мая и еще перед Днем Всех Святых, а? И почему новые церковные пасторы — в прошлом матросы — носят свои диковинные наряды и надевают на голову всякие золотые украшения вроде тех, что привозил капитан Оубед? Ну как, можете вы на все это мне ответить?
Сейчас его водянистые глаза смотрели на меня почти враждебно, пылая маниакальным блеском, а грязная седая борода даже поблескивала, словно наэлектризованная. Старый Зэдок, похоже, заметил, как я невольно отпрянул назад, потому что тут же зловеще захихикал:
— Э-хе-хе-хе! Ну как, начинаете соображать? Может, хотели бы оказаться на моем месте в те дни, когда я по ночам глазел на море, стоя на крыше своего дома? И потом, скажу я вам, маленькие дети всегда любят подслушивать, так что я был в курсе всего, о чем судачили в те времена, что говорили про капитана Оубеда и тех парней, которые плавали на риф! Хе-хе-хе! А что вы скажете насчет той ночи, когда я тайком взял старую отцовскую подзорную трубу, принес ее на крышу и увидел через нее, что весь риф усеян какими-то блестящими существами, которые, как только взошла луна, сразу же попрыгали в воду? Оубед с парнями только еще плыли на лодке, а те твари уже соскочили в воду, причем с другой, глубоководной стороны рифа, и назад больше не вернулись… Что бы вы сказали, если бы сами оказались на месте щенка, видевшего все эти фигуры, которые вовсе и не были человеческими фигурами?.. Ну, как вам это?.. Хе-хе-хе…
У старика определенно начиналась истерика, а меня всего вдруг начало колотить от непонятно откуда нахлынувшей тревоги. Потом он опустил свою искривленную лапу мне на плечо, и я понял, что он тоже отчаянно дрожит, причем отнюдь не от безудержного веселья.
— А представьте себе, что однажды ночью вы видите, как Оубед отправился к рифу на своей лодке, груженной чем-то большим и тяжелым, а на следующий день все узнают, что из одного дома пропал молодой парень. Хей! Видел ли кто хотя бы раз после этого Хирама Джилмэна, или Ника Пирса, или Луэлли Уэйта, или Адонирама Саусвика, или Генри Гаррисона? Хе-хе, хе, хе… Существа эти изъяснялись при помощи знаков, которые подавали своими руками… а руки у них, похоже, ловкие были…
Ну так вот, сэр, именно тогда-то Оубед и стал снова подниматься на ноги. Люди видели на трех его дочерях такие украшения, которых у них в жизни не было, да и дымок стал куриться над его фабрикой. И другие парни тоже зажили припеваючи — рыбы в гавани стало хоть пруд пруди, и видели бы вы, какие пароходы с грузом мы снаряжали перед их отправкой в Аркхэм, Ньюбэрипорт и Бостон. Именно тогда Оубед снова восстановил старую железную дорогу. Несколько рыбаков из Кингспорта прослышали про невиданные уловы здешних парней и наведались сюда на своем шлюпе, да только все они куда-то пропали, так что никто их с тех пор не видел. Вот тогда-то наши парни и организовали этот самый Тайный Орден Дагона, прикупив для него здание старой масонской ложи… Хе, хе, хе, хе! Мэтт Элиот был масоном и возражал против того, чтобы дом продавали им, но вскоре и он куда-то исчез.
Помните, я говорил, что поначалу Оубед ничего не хотел менять в жизни островитян-канаков? Думаю, что сначала у него и в мыслях не было заниматься каким-то скрещиванием с этим племенем, не надо ему было выращивать людей, которые будут уходить под воду ради бессмертной жизни. Все, что ему требовалось, это золото, за которое он готов был платить большую цену, и те, другие, тоже вроде бы некоторое время этим ограничивались…
В сорок шестом в городе, однако, начали кое над чем задумываться. Слишком часто стали пропадать люди, очень уж дикие стали читаться проповеди на воскресных сборищах и чересчур много разговоров пошло об этом самом рифе. Кажется, и я тоже приложил к этому свою руку — рассказал члену городского управления о том, что видел с крыши своего дома. Как-то однажды они — то есть Оубед и его парни — организовали на рифе что-то вроде сходки, и до меня донеслась какая-то пальба, которая велась между несколькими лодками. На следующий день Оубед и еще тридцать два его человека оказались в тюрьме, а все вокруг гадали и толковали, в чем там дело и какое обвинение им могут предъявить. О, боже, если бы хоть кто-нибудь смог заглянуть вперед… хотя бы на несколько недель, в течение которых никто не исчезал и никого не сбрасывали в море.
Зэдок все больше выказывал признаки страха и утомления, а потому я дал ему возможность немного передохнуть, хотя между делом с тревогой поглядывал на часы. Приближалось время прилива, и усилившийся шелест волн, казалось, отчасти привел его в чувство. Лично я был даже рад этому приливу, поскольку надеялся, что на большой воде не столь резко будет ощущаться омерзительный рыбный запах. Между тем я снова стал внимательно вслушиваться в его шепот.
— В ту ужасную ночь… я увидел их. Я снова был у себя на крыше… скопления их… чуть ли не настоящие толпы покрывали своими телами поверхность всего рифа, а потом поплыли через гавань в сторону устья Мэнаксета… Боже, что творилось в ту ночь на улицах Иннсмаута… они колотили в наши двери, но отец не открывал… Толпы мертвецов и умирающих… выстрелы и вопли… крики на старой площади и центральной площади в Нью-Черч Грин — ворота тюрьмы нараспашку… какое-то воззвание… измена… все это назвали чумой, когда люди вошли внутрь и обнаружили, что половина наших парней отсутствует… никто не спасся, только те, что были с Оубедом, и еще эти существа, или кто там они были… а потом все успокоилось, хотя больше своего отца я никогда не видел…
Старик тяжело дышал, лоб его покрылся обильной испариной, рука, сжимавшая мое плечо, напряглась.
— Наутро все прояснилось — но после них остались следы… Оубед взял все под свой контроль и сказал, что намерен многое изменить… сказал, что остальные тоже будут молиться с ними в назначенный час, а в некоторых домах появятся, как он сказал, гости… им хотелось смешаться с нашими людьми, как они поступили с канаками, и никто не мог остановить их. Далеко зашел этот Оубед… словно совсем взбесился. Говорил, что они принесут нам все — рыбу, сокровища, но и мы дадим им все, чего они пожелают…
Внешне как будто ничего не изменилось, только нам приходилось вести себя с этими чужаками совсем смирно, если, конечно, жизнь была дорога.
Всем нам пришлось принести присягу на верность Ордену Дагона, а потом пришел черед второй и третьей клятв, которые кое-кто из нас тоже произнес. За все это они могли оказать какую-нибудь услугу или наградить чем-нибудь особым — золотом или вроде того, а сопротивляться им было бесполезно — их ведь там, под водой, целые полчища. Обычно они не поднимались на поверхность и не трогали людей, но если что-то понуждало их к этому, то тогда сладу с ними не было никакого. Мы не дарили им резных амулетов, как это делали туземцы из южного моря, но и не знали, что им надо, потому как канаки не раскрывали ни перед кем своих секретов.
От нас требовалось только регулярно приносить им кого-нибудь в жертву, снабжать всякими дикими безделушками да еще давать приют в городе — вот тогда они готовы были оставить нас в покое. И еще они терпеть не могли посторонних, чужаков, чтобы слухи о них не просочились за пределы города — новому человеку прежде надо было помолиться за них. Так все мы и оказались в этом Ордене Дагона — зато дети никогда не умирали, а просто возвращались назад к матери Гидре и отцу Дагону, от которых мы все когда-то произошли… Йа! Йа! Ктулху фхтагн! Ф’нглуи мглв’тафх Ктулху Р’лия вгах-нагл фхтагн…
Старый Зэдок быстро впадал в состояние полного бреда, тогда как я продолжал сидеть, затаив дыхание. Несчастный старик — до каких галлюцинаций довел его хмель, а плюс ко всему это окружающее запустение, развал и хаос, сокрушившие столь богатый на выдумку разум! Вскоре он застонал, и по его изборожденным глубокими морщинами щекам заструились слезы, терявшиеся в густой бороде.
— Боже, что же довелось мне повидать с той поры, когда я был пятнадцатилетним мальчишкой. Мене, мене, текел, упарсин! Как исчезали люди, как они накладывали на себя руки — когда слухи об этом достигали Аркхэма, Ипсвича или других городов, там считали, что мы здесь все с ума посходили, вот как вы сейчас считаете, что я тоже помешался… Но, боже мой, что мне довелось повидать за свою жизнь! Меня бы уже давно прикончили за все то, что я знаю, только я успел произнести вторую клятву Дэгона, а потому меня нельзя трогать, если только их суд не признает, что я сознательно рассказал о том, что знаю… но третью клятву я не произнесу — я скорее умру, чем сделаю это…
А потом, примерно когда Гражданская война началась, стали подрастать дети, которые родились после того сорок шестого года, да, некоторые из них… Я тогда сильно перепугался и никогда больше после той ужасной ночи не подсматривал за ними, и больше никогда их не видел — на всю жизнь тогда насмотрелся. Нет, ни разу больше не видел, ни одного. А потом я пошел на войну, и если бы у меня хватило тогда ума, то ни за что бы не вернулся в эти места, уехал бы потом куда глаза глядят, только подальше отсюда. Но парни написали мне, что дела идут в общем-то неплохо. Это, наверное, потому, что после шестьдесят третьего в городе постоянно находились правительственные войска. А как война закончилась, снова настали черные времена. Люди стали разбегаться — мельницы не работали, магазины закрывались, судоходство прекратилось, гавань словно задыхалась — железная дорога тоже остановилась. Но они… они никогда не переставали плавать вверх и вниз по реке, туда-сюда, постоянно прибывая со своего проклятого, сатанинского рифа — и с каждым днем все больше окон заколачивалось, а из домов, в которых вроде бы никто не должен жить, раздавались какие-то звуки.
Люди из других мест часто рассказывают про нас всякие истории — да и вы тоже, как послушаешь ваши вопросы, видать, наслышаны. Говорят обо всяких странных вещах, которые им вроде бы то там, то здесь мерещатся, или об украшениях, которые непонятно откуда взялись и неясно из чего сделаны. Но всякий раз никто не говорит ничего конкретного. Никто ничему не верит. Все эти золотые драгоценности называют пиратским кладом, говорят, что люди в Инсмуте больные или вообще не в себе. А те, кто живет здесь, тоже стараются пореже встречаться с незнакомцами и чужаками, побыстрее выпроводить их отсюда, советуют поменьше совать нос куда не следует, особенно в вечернее время. Собаки всегда лаяли на них, лошади отказывались везти, хотя, когда машины появились, все опять стало нормально.
В сорок шестом капитан Оубед взял себе новую жену, которую никто в городе ни разу не видел. Поговаривали, что он вроде бы сам-то не хотел, да ОНИ заставили, а потом прижил от нее троих детей: двое еще молодыми куда-то исчезли, а третья — девушка — внешне совсем нормальная, как все, даже в Европу ездила учиться. Оубед потом обманным путем выдал ее за одного парня из Аркхэма — тот ни о чем даже не догадался. Но на большой земле с инсмутскими парнями никто не желает сейчас иметь дело. Барнаба Марш, который сейчас заправляет делами фабрики, является внуком Оубеда и его первой жены, но отец его — Онесифор, старший сын Оубеда — тоже женился на одной из них, причем с тех пор ее никто даже в глаза не видел.
Сейчас для Барнабы как раз настало время превращения. Веки на глазах сомкнуть уже не может, да и весь меняется. Говорят, одежду он пока носит, но скоро спустится под Воду. Может, уже и так пробовал — они иногда это делают, для разминки, что ли, а уж потом спускаются окончательно. На людях его не видели уже восемь, а то и все десять лет. Не знаю, как с ним живет его бедная жена — она сама родом из Ипсвича, а его лет пятьдесят назад чуть не линчевали, когда он пытался за ней ухаживать. Сам Оубед умер в семьдесят восьмом, да и от следующего за ним поколения тоже в живых никого не осталось — дети от первой жены умерли, а остальные… Бог знает…
Рокот приливных волн становился все громче, и по мере усиления прилива настроение старика постепенно менялось от сентиментальной слезливости к настороженности и даже страху. Время от времени он делал паузы в своем рассказе и все так же оглядывался через плечо или бросал взгляды в сторону рифа, и, несмотря на всю абсурдность его рассказа, я не мог избавиться от ощущения, что также разделяю его настороженность. Вскоре голос его зазвучал громче, как-то пронзительнее, словно он пытался за счет напряжения голосовых связок хоть немного приободрить себя.
— Ну а вы-то сами что ничего не скажете? Как вам самому-то живется в таком городе, где все гниет и разваливается, за заколоченными дверьми кто-то копошится, кряхтит, свистит, ползает по темным подвалам и чердакам, а вам самому то и дело хочется оглянуться? А? Как нравится каждую ночь слышать какое-то завывание, что доносится со стороны зала Ордена Дагона, и догадываться, какие звуки примешиваются к этому вою? По душе ли слышать все эти песнопения, что долетают в канун мая и в День Всех Святых со стороны нашего ужасного мыса? Как вам все это? Или считаете, что старик совсем спятил, а? Так вот, скажу вам, молодой человек, что все это еще не самое худшее!
Сейчас Зэдок уже почти срывался на крик, причем безумные интонации его голоса начинали всерьез пугать меня.
— И не надо таращиться на меня такими глазами — я сказал Оубеду Маршу, что он попадет в ад и навсегда там останется! Хе-хе… В аду, вот и все! И до меня ему не добраться — я ничего такого не сделал и никому ни о чем не рассказал…
А вы, молодой человек?.. Ну ладно, если раньше никому не рассказывал, то вам сейчас расскажу! А вы сидите спокойно и слушайте, да, слушай меня, сынок, — я об этом еще никому не рассказывал… Я сказал, что после той ночи никогда больше за ними не подглядывал — но я все равно кое-что разузнал! Хочешь узнать, что такое настоящий кошмар, а? Ну так вот, самый настоящий кошмар — это не то, что эти морские дьяволы уже сделали, а что они еще только собираются сделать! Они годами приводили в город своих тварей, которых поднимали с самых морских глубин — в последнее время, правда, стали чуть реже это делать. Дома, что стоят к северу от реки между Уотер- и Мэйн-стрит, просто кишат ими — самими дьяволами и теми, которых они приволокли с собой; и когда они будут готовы… сказал, когда они подготовятся!.. Ты слышишь меня?! Говорю тебе, я знаю, что это за твари — я видел их однажды ночью, когда… иех-аххх-ах е’яххх…
Вопль старика прозвучал настолько неожиданно и был наполнен таким нечеловеческим страхом, что я едва не свалился в обморок. Его глаза, устремленные мимо меня в сторону зловонного моря, были готовы буквально вылезти из орбит, тогда как на лице запечатлелся ужас, достойный персонажа греческой трагедии. Костлявая рука старика с чудовищной силой впилась мне в плечо, но сам он даже не пошевелился, когда я также повернулся, желая посмотреть, что же такое он там разглядел.
Мне показалось, что я не вижу ничего особенного. Разве что полоса приливной волны в одном месте оказалась чуть уже и словно внезапно подернулась мелкой рябью, тогда как окружавшие ее волны были одинаково ровными и гладкими. Но теперь уже сам Зэдок лихорадочно затряс меня — я повернулся, чтобы увидеть, в какую маску трагического ужаса превратилось его лицо, а сквозь подрагивающий шепот наконец прорвался и настоящий голос:
— Уходи отсюда! Уходи скорее! Они увидели нас — уходи и спасай свою жизнь! Не теряй ни минуты — теперь они уже знают… Беги, скорее, уноси ноги из этого города…
Еще одна тяжелая волна выплеснулась на осыпающийся остов некогда существовавшего здесь причала, и тотчас же приглушенный шепот старика перерос в новый нечеловеческий, леденящий кровь вопль: «Й-яаахххх… яхаааааа!..»
Прежде чем я успел хотя бы немного прийти в себя, он ослабил хватку, снял с моего плеча свою ладонь и ошалело бросился в сторону улиц, чуть забирая к северу, чтобы обогнуть развалины старой складской стены.
Я снова посмотрел на море, но теперь там уже точно ничего не было; затем поднялся, вышел на Уотер-стрит и глянул вдоль нее в северном направлении, хотя там, похоже, уже простыл и след Зэдока Аллена.
Едва ли мне удастся описать то настроение, которое произвел на меня этот эпизод — мучительный, жалкий, но одновременно безумный, какой-то гротескный, вселяющий ощущение непередаваемого ужаса. Паренек из бакалейной лавки предупреждал меня, что может произойти нечто подобное, и все же реальность превзошла все мои ожидания, вызвав в душе чувство полнейшего смятения и глубокой тревоги. Какой бы наивной ни казалась мне услышанная история, явная искренность тона и неподдельный страх Зэдока передались и мне, вызвав все более усиливающееся беспокойство, слившееся воедино с моим прежним отвращением и к этому городу, и к зависшей над ним мрачной тени порока и гибели.
Возможно, позже мне удастся тщательно просеять все полученные сведения и отобрать среди них крупицы истины, отделив их от наслоений исторических аллегорий, хотя тогда мне хотелось лишь одного — по крайней мере на время выкинуть все это из головы. К счастью, срок назначенного отъезда приближался с отрадной неотвратимостью — мои часы показывали пятнадцать минут восьмого, — а потому я постарался настроить свои мысли на самый что ни на есть нейтральный и практический лад и быстро зашагал по пустынным улицам в направлении гостиницы, чтобы забрать свой багаж и сесть на долгожданный автобус, который должен был отправиться ровно в восемь.
Несмотря на то что золотистый свет усталого летнего солнца придавал древним крышам и осыпающимся дымоходам оттенок некоей романтической прелести и даже умиротворенности, я почему-то то и дело робко оглядывался через плечо. Что и говорить, я горел желанием как можно скорее покинуть этот пропахший зловонием и окутанный страхом Инсмут и очень рассчитывал на то, что в городе все же отыщется еще какой-нибудь автобус, помимо того, которым управлял зловещего вида парень по фамилии Сарджент. Впрочем, несмотря на всю свою спешку, я все же изредка оглядывался по сторонам и замечал, что буквально с каждого тихого угла окружавших меня улиц открывался вид на какую-нибудь примечательную архитектурную деталь, тем более что, но приблизительным подсчетам, мне вполне должно было хватить получаса, чтобы преодолеть расстояние, отделявшее меня от гостиницы.
Изучая предоставленную мне бакалейщиком импровизированную схему города и стараясь отыскать маршрут, которым мне до этого еще не доводилось воспользоваться, я вместо уже знакомой мне Марш-стрит решил добраться до городской площади по другой улице. Уже на подходе к ней я заметил несколько разрозненных групп каких-то людей, которые, как мне показалось, о чем-то тайком перешептывались друг с другом, а затем, достигнув площади, увидел, что у дверей Джилмэн-хауса собралась довольно внушительная толпа праздной на вид публики. Пока я получал свой багаж, они, казалось, не сводили с меня своих выпученных, водянистых, немигающих глаз, а потому я искренне, хотя во многом и безосновательно понадеялся на то, что они не окажутся моими спутниками в предстоящем путешествии.
Где-то незадолго до восьми показался грохочущий автобус, в салоне которого сидело три пассажира. Когда он остановился, один из парней с подчеркнуто грозным видом подошел к спустившемуся на тротуар водителю и пробормотал ему несколько неразборчивых слов. Затем Сарджент выволок из салона пакеты с почтой и газетами и прошел в фойе гостиницы, тогда как пассажиры — та же троица, которую я имел возможность наблюдать утром в Ньюбэрипорте, — прошаркала к тротуару и обменялась несколькими гортанными словами со стоявшими там бездельниками, причем то, что мне удалось услышать из их реплик, никак не походило на английский язык. Я поднялся в салон и занял то же самое место, на котором ехал сюда, однако еще до того, как мне удалось как следует устроиться, вновь появился Сарджент, принявшийся что-то бормотать своим хрипловатым, надтреснутым и в целом довольно мерзким голосом.
Как вскоре выяснилось, мне чертовски не повезло. По его словам, что-то случилось с двигателем — пока ехал из Нью-бэрипорта, все вроде бы было в порядке, а сейчас вот взял и забарахлил, так что ехать на таком автобусе в Аркхэм никак нельзя. Увы, до конца дня починить его не удастся, а кроме него, в городе сейчас нет никакого свободного транспорта, на котором можно было не то чтобы до Аркхэма добраться, а и вообще куда-то уехать из Инсмута. Сарджент еще некоторое время выражал свое сожаление, однако мне не оставалось ничего иного, как заночевать в заведении Джилмэна. Как знать, может, мне удастся договориться о приемлемой цене за номер, однако это и в самом деле оставалось единственным, что я мог сделать в сложившейся ситуации.
Охваченный горькой тоской от столь неожиданного крушения всех моих планов и отчаянно ненавидя саму мысль о том, что придется провести ночь в этом затхлом, полутемном городе, я спустился из автобуса и вновь вошел в вестибюль гостиницы, где мрачноватый и довольно странный ночной клерк сказал мне, что я могу остановиться в номере 428.
Располагался он на предпоследнем этаже, по его словам, был довольно просторным, цена была вполне подходящей, всего один доллар в сутки.
Подавляя в себе все воспоминания о том, что мне довелось услышать в Ньюбэрипорте об этой гостинице, я расписался в книге гостей, уплатил доллар и позволил портье отнести свой чемодан. После этого я и сам поплелся вслед за угрюмым служителем наверх, преодолев три пролета поскрипывающих лестничных ступеней и пройдя по запыленным коридорам, в которых, как мне показалось, не было заметно ни малейших признаков жизни. Предназначавшаяся мне комната оказалась довольно мрачной, с самой простой, дешевой мебелью и двумя окнами, выходившими на довольно темный, окаймленный невысокой кирпичной стеной внутренний двор. Чуть выше проступала панорама тянувшихся в западном направлении ветхих крыш, а за ними в отдалении маячили просторы заболоченной сельской местности. В дальнем конце коридора располагалась ванная — гнетущее, чуть ли не античных времен помещение с древним мраморным умывальником, жестяным обогревателем, тусклой электрической лампочкой и заплесневелыми деревянными панелями, едва прикрывавшими водопроводные трубы.
Поскольку было еще довольно светло, я снова вышел на площадь и огляделся в поисках места, где можно было бы поужинать, по-прежнему ловя на себе крайне недружелюбные взгляды праздных зевак. С учетом того, что лавка знакомого бакалейщика была уже закрыта, мне пришлось воспользоваться услугами того самого ресторана, который был отвергнут мною поначалу. Согбенный, узкоголовый мужчина со ставшими уже почти для меня привычными выпученными, немигающими глазами да плосконосая девица с неимоверно толстыми и неуклюжими руками взялись за мое обслуживание. К своему немалому облегчению, я обнаружил, что основная часть продуктов, которыми пользовались в этом заведении, представляла из себя консервы и расфасованные пакеты.
С меня хватило миски овощного супа с крекерами, сразу после чего я вернулся в свою унылую комнату, предварительно купив у по-прежнему угрюмого портье лежавшие на рахитичной стойке вечернюю газету и какой-то засиженный мухами журнал.
Когда стало смеркаться, я включил чахлую электрическую лампочку, висевшую над изголовьем дешевой металлической кровати, и попытался продолжить начатое ранее чтение. Мне хотелось чем угодно занять свой мозг, поскольку я отчетливо понимал, что не испытаю никакого удовольствия, если стану и дальше терзать себя мыслями обо всех уродствах этого древнего, изъеденного следами порчи города, тем паче что я все еще находился в его полной власти. Безумная история, которую мне довелось услышать из уст престарелого пьяницы, отнюдь не сулила приятных сновидений, а потому я решил, что чем реже буду вспоминать его дикие, водянистые глаза, тем будет лучше.
Помимо этого, я решил не особенно сосредоточивать свое внимание на том, что неизвестный мне фабричный инспектор рассказал кассиру железнодорожного вокзала в Ньюбэрипорте о Джилмэн-хаусе и призрачных голосах его ночных постояльцев. Было бы гораздо лучше и спокойнее также вытеснить из своего сознания образ того человека в тиаре, которого я заметил в черном дверном проеме местной церкви — лицо это переполняло меня таким ужасом, что новые воспоминания о нем причинили бы моему рассудку лишние и совершенно ненужные страдания. Возможно, мне действительно удалось бы отвлечься от столь безрадостных дум, не будь окружавшая меня обстановка гостиничного номера столь неприглядной и затхлой. Именно эта могильная заплесневелость в сочетании с всепроникающим, зловонным и, казалось, пропитавшим весь город рыбьим запахом вновь и вновь подталкивала мой утомленный рассудок к мыслям о смерти и разложении.
Другое обстоятельство, которое вызвало у меня немалое беспокойство, заключалось в том, что на внутренней стороне двери моей комнаты не было никакой защелки или задвижки. Первоначально таковая существовала, о чем отчетливо свидетельствовали оставшиеся следы от шурупов, однако сравнительно недавно запоры почему-то были сняты. Скорее всего, по причине их поломки — в столь ветхом строении буквально на каждом углу встречались какие-то дефекты и неисправности. Несколько раздосадованный данным обстоятельством, я принялся осматривать комнату и вскоре, к своему немалому удивлению, обнаружил лежавшую на шкафу для белья дверную задвижку, причем, судя по расположению отверстий на ней и на двери, мне показалось, что это была именно та, недавно снятая. Чтобы хотя бы немного отвлечься от мрачных раздумий и переживаний, я принялся прилаживать задвижку на прежнее место, для чего воспользовался портативным и весьма удобным набором инструментов, в который входила и отвертка и с которым я никогда не расставался во время своих поездок. Задвижка и в самом деле встала точно на свое прежнее место, и я облегченно вздохнул, когда обнаружил, что смогу перед сном относительно надежно запереть дверь. Дело было даже не в том, что я имел какие-то реальные опасения на этот счет — просто, находясь в заведениях подобного типа и класса, всегда приятно иметь перед глазами хоть какой-то атрибут, любой, пусть даже самый примитивный, символ безопасности. На двух боковых дверях, соединявших мой номер с соседними, задвижки были на месте, но я все же позаботился о том, чтобы как следует подвинтить удерживающие их шурупы.
Раздеваться я все же не осмелился, а просто снял плащ, галстук и обувь и вознамерился читать до тех пор, пока сон окончательно не сморит меня. Вынув из чемодана карманный фонарь, я переложил его в карман брюк, чтобы иметь возможность взглянуть на часы, если неожиданно проснусь посреди ночи. Сон, однако, никак не приходил. Когда я прекратил анализировать свои мысли, то к собственному неудовольствию обнаружил, что словно непроизвольно к чему-то прислушиваюсь — совершенно непонятному и одновременно жутковатому. Похоже, рассказ того инспектора все же оказал на меня более тревожное впечатление, нежели мне казалось прежде. Я снова попытался было читать, но вскоре обнаружил, что не способен воспринять и строчки.
Спустя некоторое время мне показалось, что я и в самом деле слышу доносящееся из коридора размеренное поскрипывание ступеней и половиц, как если бы по ним кто-то шел, и невольно удивился тому, что именно в столь поздний час комнаты гостиницы вдруг стали заполняться постояльцами. Голосов, правда, слышно не было, и до меня внезапно дошло, что пол поскрипывает как-то необычно, словно передвигающийся по нему человек — или даже несколько людей — стараются ступать как можно более тихо, буквально крадучись. Мне это определенно не понравилось, и я всерьез засомневался, стоит ли в подобной ситуации вообще стараться заснуть. Как я уже успел убедиться, город был населен поистине странными типами, а кроме того, здесь, насколько мне было известно, уже отмечались случаи загадочного исчезновения людей. Не была ли эта гостиница вообще именно тем заведением подобного рода, где человека могут запросто убить, хотя бы ради денег? (По мне, правда, едва ли можно было сказать, что я купаюсь в роскоши и набит деньгами.) Или, может, местные жители подобным диковатым способом выражают свою неприязнь к почему-то привлекшим их внимание приезжим? Не могли ли мои сегодняшние прогулки, сопровождавшиеся регулярным заглядыванием в самодельную карту, привлечь их повышенное внимание к моей скромной персоне? Я поймал себя на мысли о том, что и в самом деле, похоже, пребываю в довольно нервозном состоянии, если даже несколько случайных поскрипываний половиц в коридоре наводят меня на подобные мысли, — и все же с сожалением подумал о том, что невооружен.
Наконец я почувствовал, как бремя усталости, в котором, однако, не было и намека на сонливость, стало слишком тяжелым, а потому запер наружную дверь на ключ, потом на недавно установленную задвижку, выключил свет и улегся на жесткую, неровную кровать, предварительно, как и задумал, сняв галстук и башмаки. В ночной тишине каждый слабый шорох казался чуть ли не оглушительным, а кроме того, мое сознание буквально утопало в потоках хаотичных и весьма малоприятных мыслей. Я уже начал сожалеть о том, что выключил свет, однако чувство безмерной усталости не позволяло мне снова встать и подойти к выключателю. После довольно долгого и отчаянно томительного ожидания я вновь расслышал поскрипывание ступеней лестницы и половиц в коридоре, сменившееся мягким, но чертовски знакомым звуком, явившимся как бы зловещим завершением всех моих тревожных ожиданий. У меня не было и тени сомнений в том, что кто-то пытается — осторожно, робко, неслышно — отпереть дверь ключом.
Возможно, мои ощущения от осознания данного знака явной угрозы оказались не столь обостренными, как того можно было бы в подобной ситуации ожидать, но произошло это по той простой причине, что своими предыдущими смутными страхами я уже отчасти подготовил нервы к подобному потрясению. Вроде бы без особого на то основания, я все это время был, можно сказать, начеку, что явно дало мне некоторое преимущество в новых и пока не до конца понятных мне условиях сгущающейся опасности. И все же я не мог не признать, что переход от размытого и неконкретного предчувствия беды к реальному восприятию ее конкретных признаков оказал на меня поистине шокирующее воздействие, мощным ударом обрушившись на мой утомленный рассудок. Мне как-то даже в голову не пришло, что подобное шуршание могло быть всего лишь результатом самой банальной человеческой ошибки, и все, о чем я мог подумать в те минуты, сводилось лишь к чьей-то зловещей целеустремленности, а потому я застыл, скованный смертельной неподвижностью, и тревожно ожидая, какой же следующий шаг предпримет мой невидимый и непрошеный гость.
Спустя некоторое время осторожное шуршание стихло, и я услышал, как кто-то отпер дверь в смежную, расположенную с северной стороны от меня комнату, после чего испытанию на прочность подверглась уже дверь, соединявшая эту комнату с моей. Убедившись в безуспешности своих попыток — задвижка, к счастью, выдержала, — загадочный субъект, поскрипывая половицами, покинул помещение. Вскоре все эта последовательность действий и звуков повторилась, но уже со стороны южной от меня комнаты: вновь мягкий скрежет ключа или отмычки в замке, подергивание ручки двери и негромкое поскрипывание удаляющихся шагов. На сей раз слух подсказал мне, что таинственный взломщик удалился по коридору в сторону лестницы и стал спускаться по ней: он, очевидно, понял, что все его усилия так и останутся тщетными, а потому оставил — по крайней мере, на некоторое время — свои попытки, определенно вознамерившись обдумать сложившуюся ситуацию.
Та готовность, с которой я уже через несколько мгновений приступил к разработке конкретного плана действий, свидетельствовала о том, что внутренне я давно был готов к подобной надвигающейся угрозе и в течение ряда часов подсознательно готовился к возможному бегству Я сразу же смекнул, что не следует дожидаться повторения коварным незнакомцем попыток проникнуть ко мне в комнату или, тем более, уповать на то, что мне каким-то образом удастся противостоять подобному вторжению, а вместо этого надо как можно скорее уносить ноги. Первое, что я должен был сейчас сделать, это по возможности живым покинуть гостиницу, причем не по лестнице и через вестибюль, а каким-то иным путем.
Неслышно встав с кровати, я зажег фонарь и прошел к настенному выключателю висевшей над кроватью лампы, чтобы в тусклых лучах ее света распихать по карманам самые необходимые мне вещи для последующего бегства налегке.
Послышался щелчок, однако ничего не произошло — электричество, похоже, было отключено. Я сразу понял, что в действие был пущен какой-то направленный против меня зловещий и достаточно широкомасштабный план, хотя суть его по-прежнему ускользала от моего понимания. Я все так же стоял и щелкал бесполезным теперь выключателем, когда мой слух вновь различил доносившееся откуда-то снизу негромкое, приглушенное поскрипывание и, как мне показалось, чьи-то голоса. Спустя несколько секунд я, однако, понял, что глубокие, низкие звуки едва ли были натуральными человеческими голосами, поскольку хриплое, грубое тявканье и совершенно нечленораздельное бульканье не имели никакого отношения к нормальной человеческой речи. В тот же момент мне вновь на память пришло то, что сказал тот фабричный инспектор о звуках, доносившихся до него в ночи, когда он также находился в этой полуразвалившейся, омерзительной гостинице.
Воспользовавшись фонарем, я сунул в карманы кое-какие личные вещи, нацепил шляпу и на цыпочках прошел к окну, чтобы оценить свои шансы к бегству именно таким путем. Вопреки существовавшим официальным предписаниям, пожарной лестницы с этой стороны гостиницы не было, а потому под окнами моей комнаты на четвертом этаже простиралось лишь мощенное булыжником пространство внутреннего двора. Справа и слева к гостинице примыкали какие-то древние и столь же ветхие кирпичные постройки явно нежилого назначения; их покатые крыши отстояли на относительно небольшом, во всяком случае, вполне доступном для прыжка расстоянии. Чтобы достичь кромки любой из этих построек, мне, однако, нужно было находиться в комнате, отстоящей от моей собственной на пару номеров вправо или влево, и мой рассудок сразу же приступил к проработке вариантов того, каким образом я смог бы осуществить необходимое перемещение.
О том, чтобы выйти в коридор, естественно, не могло быть и речи; мало того, что внизу сразу услышали бы звук моих шагов, но могло вообще получиться так, что дверь в нужную мне комнату окажется заперта. Таким образом, своей цели я мог бы достичь — если ее вообще можно было достичь, — лишь проходя через относительно менее прочные внутренние двери, соединяющие комнаты друг с другом, сокрушая при этом замки и задвижки силой своего корпуса и плеч, которым предстояло действовать наподобие тарана. Подобный план действий показался мне вполне приемлемым с учетом шаткости и непрочности всех здешних конструкций и запоров, хотя я и отдавал себе отчет в том, что подобную операцию не удастся провести совершенно бесшумно. Основной мой расчет делался на стремительность продвижения, а также на то, что преследователи не успеют разгадать мой замысел и отрезать пути к бегству, раньше меня открыв отмычкой дверь нужной мне комнаты. Свою собственную дверь я предварительно забаррикадировал изнутри при помощи небольшого комода, который передвигал медленными шажками, стараясь производить как можно меньше шума. При этом я осознавал, что реальные шансы к спасению у меня весьма невелики, а потому, в общем-то, был готов к любой неприятности. В сущности, даже если мне удалось бы достичь крыш тех строений, это все равно не гарантировало успеха, поскольку после этого надо было еще спуститься на землю и покинуть сам город. Правда, на руку мне играло то обстоятельство, что соседние дома явно пустовали и пребывали в состоянии крайней разрухи, причем на каждом их этаже в изобилии зияли черные оконные проемы.
Вспомнив структуру карты, нарисованной молодым бакалейщиком, я смекнул, что наиболее предпочтительным путем к бегству будет маршрут, пролегающий в южном направлении, а потому решил начать с двери, которая вела именно в южную соседнюю комнату. Еще несколько секунд ушло на выяснение того факта, что открывалась она, к сожалению, на меня, а когда я отпер свой засов и обнаружил, что с другой стороны его дублирует точно такой же, причем запертый, то и вовсе убедился в ее абсолютной непригодности в качестве полигона для опробования моей физической силы. Мысленно вычеркнув из своего сознания данное направление к бегству, я тем не менее стал осторожно придвигать к этой двери кровать, поскольку не исключал, что прорываться ко мне могут также и отсюда.
Северная дверь открывалась, к счастью, от меня, а потому я решил — даже убедившись в том, что она также заперта на задвижку с противоположной стороны, — что мне предстоит именно на ней испытать свое счастье. Если бы мне удалось достичь крыш зданий на Пэйн-стрит и благополучно спуститься на землю, то, возможно, я смог бы проскользнуть через внутренний двор и соседние или противоположные строения и оказаться на одной из соседних улиц. В любом случае, я намеревался первым делом достичь Вашинггон-стрит, а затем как можно скорее покинуть район городской площади. При этом мне, по возможности, следовало избегать Пэйн-стрит, поскольку именно на ней находилась пожарная станция, которая могла быть открыта даже ночью.
Перебирая в мозгу все эти мысли, я окидывал взглядом раскинувшееся подо мной унылое и жалкое море прогнивших крыш, в данный момент освещенных лучами почти полной луны. Справа от меня панораму пересекал чернеющий разрез устья реки, к которому словно приклеились постройки опустевшей фабрики и бывшей железнодорожной станции. А еще дальше простирались бездействующее полотно железной дороги и шоссе на Роули, которые тянулись через равнинную болотистую местность, усеянную островками более сухой и возвышенной, поросшей чахлым кустарником земли. Располагавшийся слева от меня участок территории, изрезанный притоками реки, казался ближе, а узкая дорога на Ипсвич белесо поблескивала в лучах лунного света. С моей стороны гостиницы не была видна местность, простиравшаяся к югу, в направлении Аркхэма, хотя именно туда я и намеревался в дальнейшем двигаться.
Я все еще пребывал в состоянии бесплодных раздумий над тем, когда именно мне предпринять атаку на северную дверь и как это лучше всего сделать, чтобы получилось не особенно шумно, когда неожиданно заметил, что глухое бормотание, доносившееся откуда-то снизу, сменилось новым и более громким поскрипыванием половиц. Сквозь фрамугу входной двери внутрь комнаты проникли слабые, подрагивающие лучи света, а пол коридора протяжно застонал под воздействием громоздкой перемещающейся тяжести. Приглушенные голоса с каждой секундой звучали все более отчетливо и вскоре сменились довольно решительным стуком в дверь.
На какое-то мгновение я затаил дыхание и замер на месте. Казалось, минула целая вечность, но мои ноздри тут же подсказали мне, что вездесущий и тошнотворный рыбный запах как-то внезапно окреп, словно сгустился, обретя особую резкость и отчетливость. Вскоре стук повторился — на сей раз это были уже более громкие и продолжительные удары. Я понял, что настало время действовать, быстро отодвинул засов северной двери и всем телом обрушился на нее. Во входную дверь, между тем, уже отчаянно барабанили, и я искренне надеялся на то, что эти звуки заглушат производимый мною грохот. однажды начав свои попытки взломать дверь, я уже не мог остановиться, сокрушая тонкую перегородку и совершено не обращая внимания на боль в левом плече и сотрясение всего тела. Прочность этой двери превзошла мои ожидания, однако я настойчиво продолжал свои попытки. Барабанный грохот во входную дверь между тем все усиливался.
Наконец моя преграда не выдержала, хотя и произошло это с таким оглушительным шумом, что снаружи его просто не могли не услышать. В тот же момент под сокрушительными ударами заколыхалась и дверь моей комнаты — и в тот же момент в замочных скважинах входных дверей в соседние со мной комнаты зловеще заскрежетали ключи. Ворвавшись в смежное помещение, я первым делом устремился к входной двери и успел защелкнуть задвижку прежде, чем находившиеся в коридоре существа успели отпереть замок; однако даже сделав это, я не мог не расслышать, как наружный замок уже третьей двери — той самой, из окна которой я и намеревался совершить прыжок на простиравшиеся внизу крыши домов, — также пытаются отпереть ключом.
На какое-то мгновение меня охватило полное отчаяние, поскольку очутиться в замкнутом помещении, вообще лишенном окон — а именно такой и оказалась моя нынешняя обитель, — представлялось мне полнейшим поражением. Меня захлестнула волна почти безумного, непередаваемого страха, но в тот же момент взгляд упал на освещенные лучом фонаря следы, оставленные на пыльном полу тем самым таинственным взломщиком, который не так давно пытался проникнуть отсюда в мою комнату. Вслед за этим я, все еще не избавившись от ощущения охватившей меня безнадежности, машинально рванулся к противоположной соединительной двери, чтобы обрушиться на нее, сокрушить так же, как и ее предшественницу, и — если только задвижка на входной двери в нее, как и на двери в эту, вторую комнату, окажется цела — успеть запереться изнутри, прежде чем ее успеют открыть ключом из коридора.
Судьбе было вольно дать мне небольшую передышку, поскольку соединительная дверь передо мной была не только не заперта, но и вообще распахнута настежь. Через какую-то секунду я влетел в третью комнату и тут же подпер плечом и бедром входную дверь, которая как раз начала было слегка приоткрываться вовнутрь. Мое неожиданное сопротивление явно застигло взломщика врасплох — он резко отпрянул, так что я смог без труда вставить задвижку в полагавшееся ей место на косяке двери. Остановившись и пытаясь хотя бы немного отдышаться, я услышал, что удары по двум соседним дверям несколько ослабли, зато послышались возбужденные голоса со стороны той боковой двери, которую я подпер каркасом кровати. Я понял, что мои преследователи все же ворвались в южную комнату и теперь энергично пытались взломать соединительную дверь между нею и моим временным жилищем. однако одновременно с этим я вновь услышал характерный звук поворачиваемого ключа, причем доносился он уже со стороны входной двери следующей, расположенной к северу от меня комнаты, и тут же понял, что именно отсюда исходит наиболее реальная угроза.
Северная соединительная дверь была широко распахнута, но у меня не было времени проверять положение задвижки у входа, поскольку в замке его уже также начал поворачиваться ключ. Все, что мне оставалось сделать, это захлопнуть обе соединительные двери справа и слева от меня и придвинуть к ним уже знакомые предметы — к одной комод, а к другой каркас кровати. В дополнение ко всем этим мерам я подтянул ко входной двери массивный мраморный умывальник. Разумеется, я отчетливо осознавал всю ненадежность подобного рода укреплений и все же надеялся на то, что они хотя бы недолго продержатся и, таким образом, я получу возможность выбраться в окно и спуститься на крыши зданий, выходивших на Пэйн-стрит. однако даже в столь отчаянный момент самый жуткий страх у меня в душе вызывали отнюдь не сомнения в надежности моих временных бастионов — нет, меня буквально начинало колотить при одной лишь мысли о том, что за все это время никто из моих преследователей не произнес и даже не пробормотал на фоне непрерывного, запыхавшегося сопения, ворчания и приглушенного, завывающего гавканья ни одного членораздельного слова.
Передвинув мебель и бросившись к окну, я услышал еще более встревоживший меня гомон, устремившийся по коридору в направлении северной от меня комнаты, и одновременно заметил, что звуки ударов с южной стороны стихли.
Стало ясно, что основная часть моих противников решила сконцентрировать усилия на весьма хилой и непрочной соединительной перегородке, взломав которую они получили бы доступ непосредственно ко мне. Лунный свет за окном довольно ярко освещал кромку домов, и, мельком взглянув на них, я понял, что покатая и какая-то осклизлая поверхность крыш, на одну из которых мне предстояло приземлиться, делала мой прыжок довольно-таки рискованным мероприятием. Прикинув складывающуюся обстановку, я остановил свой выбор на том окне, которое располагалось южнее, и намеревался опуститься на внутренний скат крыши, после чего докарабкаться до ближайшего слухового окна. Разумеется, я отдавал себе полный отчет в том, что, даже оказавшись внутри одной из ветхих кирпичных структур, мне все равно не избежать преследования; и все же я надеялся на успех, намереваясь затеряться в бесчисленных зияющих дверных проемах домов и затемненных внутренних дворах, после чего в конце концов добраться до Вашингтон-стрит и выскользнуть из города в южном направлении.
Удары по северной соединительной двери сопровождались ужасающим грохотом, и я увидел, что тонкая деревянная панель начала трескаться. Несомненно, преследователи раздобыли и принесли какой-то массивный предмет и стали действовать им наподобие тарана. Как ни странно, «кроватная» подпорка пока держалась, так что у меня появилась, по крайней мере, возможность испробовать свой шанс на спасение.
Лишь подойдя к окну вплотную, я обнаружил, что оно задрапировано тяжелыми бархатными шторами, цеплявшимися за перекладину вшитыми в них бронзовыми кольцами, и что ставни с наружной стороны снабжены массивной, выступающей наружу защелкой. Стремясь максимально обезопасить себя перед лицом предстоящего довольно опасного прыжка, я резко подергал за шторы, и они, а вместе с ними и сама перекладина, свалились на пол; после этого я зацепил два кольца за выступ защелки и выбросил ткань наружу. Тяжелые складки опустились на прилегающую крышу, после чего я убедился, что и кольца, и задвижка вполне выдержат вес моего тела. Таким образом, цепляясь за шторы, как за своего рода импровизированную веревочную лестницу, я стал спускаться вниз, оставляя позади омерзительное и наполненное всевозможными гадостями заведение, именовавшееся Джилмэн-хаусом.
Благополучно ступив на расшатанные шиферные пластины покатой крыши, я довольно быстро и даже ни разу не поскользнувшись достиг ближайшего зияющего черного проема слухового окна. Глянув на окно гостиницы, которое покинул несколько секунд назад, я заметил, что оно оставалось по-прежнему неосвещенным и пустым, тогда как где-то в отдалении к северу, за рассыпающимися дымоходами виднелись зловеще поблескивающие огни зала Ордена Дагона, а также бывших баптистской и методистской церквей, образы которых тотчас же отчетливо и грозно всплыли в моем сознании. Во внутреннем дворе подо мной, казалось, не было ни души, а потому я продолжал питать робкую надежду улизнуть отсюда еще до того, как будет объявлена общая тревога. Посветив фонарем в проем слухового окна, я не обнаружил под ним ступеней; впрочем, высота была небольшой, а потому я ухватился за его край и стал сползать вдоль кирпичной кладки стены, после чего, разжав руки, приземлился на запыленный и захламленный сгнившими ящиками и бочками пол.
Помещение, в котором я оказался, имело довольно мерзкий вид, однако мне было уже не до впечатлений и эмоций, а потому я быстро устремился к лестничному пролету, на который наткнулся луч моего фонаря, успев при этом все же мельком глянуть на наручные часы — они показывали два часа ночи. Ступени отчаянно скрипели, но в целом казались достаточно надежными, а потому я опрометью бросился вниз и, миновав второй этаж, оборудованный под подобие амбара или сарая, оказался на полу первого. Там царило полнейшее запустение, и потому каждому моему шагу вторило гулкое эхо. Наконец я достиг нижнего холла, в дальнем конце которого увидел едва различимый светящийся прямоугольник, который, как я смекнул, был призван обозначать выходящий на Пэйн-стрит дверной проем. Направившись, однако, в противоположную сторону, я установил, что задняя дверь также открыта, тут же бросился к ней и, перелетев через пять каменных ступенек, оказался на поросшем травой булыжном покрытии внутреннего двора.
Лунный свет сюда не проникал, однако я и без него мог достаточно неплохо ориентироваться даже без фонаря. В некоторых окнах Джилмэн-хауса можно было различить слабые проблески света, и мне показалось, что я даже смутно слышу доносящиеся изнутри приглушенные голоса. Осторожно ступая в направлении Вашингтон-стрит, я обнаружил несколько распахнутых настежь дверей и юркнул в первую же, намереваясь таким образом выбраться наружу. Коридор за ней оказался темным, но когда я достиг противоположного его конца, то обнаружил, что выходящая на улицу дверь наглухо заперта. Тогда я решил проверить следующее здание и стал пробираться обратно в сторону внутреннего двора, но, едва дойдя до порога, остановился как вкопанный.
В этот самый момент из распахнутых дверей Джилмэн-хауса вывалилась внушительных размеров толпа, состоявшая из весьма сомнительных на вид существ — в темноте раскачивались зажженные фонари, а воздух оглашался низкими, хриплыми криками, в которых не было абсолютно ничего похожего на английскую речь. Двигались они, надо сказать, весьма нерешительно, и, как я вскоре к собственному облегчению обнаружил, совершенно не представляли себе, куда я мог подеваться. И все же меня вновь охватил самый настоящий ужас при виде этих практически неразличимых в деталях, но одинаково ссутулившихся, шаркающих ногами и в целом крайне отталкивающих существ. Хуже всего было то, что в одном из них я опознал фигуру, облаченную в уже знакомый мне странный наряд и с тиарой на голове.
Когда толпа стала растекаться по внутреннему двору, я испытал новый приступ страха. А вдруг мне так и не удастся найти в этом строении выход на улицу? Рыбий запах сводил меня с ума, и я стал всерьез опасаться, как бы от всей этой вони не свалиться в обморок. Ощупью пробираясь в направлении улицы, я открыл дверь в холл и вступил в пустынную комнату, оконные проемы которой были закрыты ставнями, хотя рам на самих окнах не было. В считаные секунды я выбрался наружу, после чего тщательно и осторожно вернул створки в прежнее положение.
Итак, я оказался на Вашингтон-стрит и в первое мгновение не увидел на ней ни единой живой души и ни огонька, если не считать белевшего над головой лунного диска. Вместе с тем я явно различал доносившиеся с нескольких сторон хриплые голоса, звук шагов и какое-то странное шлепанье, которое отнюдь не походило на человеческие шаги. Мне нельзя было терять ни секунды. Я достаточно представлял себе направление дальнейшего продвижения и очень обрадовался тому обстоятельству, что фонари на столбах не горели, что, в общем-то, довольно часто наблюдалось по ночам в небогатых провинциальных городах. Некоторые звуки доносились откуда-то с юга, хотя я был твердо намерен двигаться именно в этом направлении. Кроме того, я знал, что по пути мне попадется немало пустующих домов, в распахнутые двери которых я всегда смогу юркнуть, спасаясь от возможных преследователей.
Шел я быстро, мягко ступая и стараясь держаться поближе к полуразрушенным каркасам домов. Лишившись во время поспешного спуска из окна гостиницы своей шляпы и порядком растрепавшись, я, даже при встрече со случайным прохожим, имел немало шансов быть неузнанным. На Бэйтс-стрит я шмыгнул было в зияющий вестибюль одного из домов, но, натолкнувшись там на две неуклюжие фигуры, тут же снова оказался на улице и стал приближаться к какому-то перекрестку. В этом районе я еще не успел побывать, но на карте молодого бакалейщика он был обозначен как довольно опасный, тем более что в свете луны я был виден здесь как на ладони. Я не стал пытаться обойти это место стороной, поскольку любые обходные пути были чреваты потерей драгоценного времени, а также перспективой оказаться на еще более освещенном месте. Самым разумным было просто и открыто пересечь его, что я и сделал, стараясь максимально имитировать шаркающую походку коренных жителей Инсмута и моля Господа лишь о том, чтобы по пути не оказалось ни одного их живого представителя, по крайней мере из числа моих преследователей.
Я не имел ни малейшего представления о том, сколь велики были масштабы действий и численность моих преследователей, равно как и то, какую цель — помимо моей поимки — они при этом преследовали. В городе уже отмечались первые смутные признаки какой-то активности, однако я рассчитывал на то, что слухи о моем бегстве из гостиницы не успели получить достаточно широкого распространения. Я уже знал, что довольно скоро мне придется свернуть на какую-нибудь другую улочку, хотя и ведущую в том же направлении, поскольку понимал, что та толпа, что наведалась за мной в гостиницу, будет по-прежнему пытаться найти меня. Кроме того, я наверняка оставил немало следов в том старом доме, по которым можно было установить, каким образом я выбрался на улицу.
Открытое пространство, как я и предполагал, оказалось хорошо освещено, и в центре его я увидел остатки какой-то окруженной железной изгородью клумбы. К счастью, поблизости от меня никого не было, хотя со стороны городской площади продолжал доноситься странный и все нарастающий то ли гул, то ли рокот. Соседняя Саут-стрит оказалась очень широкой и чуть под уклон вела непосредственно к береговой линии — с нее открывалась довольно обширная панорама морской глади, и я искренне надеялся на то, что в данный момент никто оттуда не наблюдает за тем, как я пересекаю ярко освещенное лунным светом место.
Пока ничто не мешало моему продвижению и ни один звук не давал оснований подозревать, что преследователи приближаются. Оглянувшись, я непроизвольно и всего лишь на какую-то секунду сбавил шаг, чтобы посмотреть вдоль улицы в сторону моря, представлявшего сейчас собой великолепную, купающуюся в лучах лунного света панораму. Вдалеке за линией волноломов виднелась темная расплывчатая полоска рифа Дьявола, и, взглянув на него, я не мог в очередной раз не вспомнить те зловещие легенды, которые мне довелось услышать за последние полтора суток — легенды, в которых эта вереница зазубренных камней представала как самые настоящие врата в царство бездонного ужаса и непостижимого уродства.
И в тот же миг совершенно неожиданно для себя я увидел на отдаленном рифе перемежающиеся проблески света. В том, что они были вполне реальными, у меня не оставалось никаких сомнений, и потому они вновь пробудили в моем разуме слепой, не поддающийся никакому рациональному осмыслению страх. Мускулы тела мгновенно напряглись, готовые к стремительному и паническому рывку вперед, и лишь некая подсознательная осторожность да полугипнотическая завороженность удержали меня от поспешных действий. В довершение к этому жутковатому зрелищу я увидел, как схожие вспышки света вырываются также с куполообразной крыши Джилмэн-хауса, маячившей к северо-востоку позади меня — это была серия аналогичных, разделенных совершенно четкими промежутками миганий, которые, вне всякого сомнения, являлись ответными сигналами. Стараясь сдержать вереницу сменяющих друг друга импульсов и заново осознав всю ущербность своего ничем не защищенного, открытого для возможного обзора положения, я проворно, но по-прежнему отчаянно шаркая ногами, побрел дальше, одновременно стараясь не терять из виду тот дьявольский и зловещий риф, покуда контуры Саут-стрит оставляли мне возможность смотреть в сторону моря. Что означала вся эта загадочная процедура, я не имел ни малейшего понятия, хотя и можно было предположить, что она являлась составной частью какого-то странного ритуала, имевшего отношение к рифу Дьявола. Кроме того, я не исключал, что прибывшая на не замеченном мною судне какая-то группа людей просто зачем-то высадилась на этих зловещих камнях. Вскоре я стал поворачивать влево, огибая чахлые остатки угасающей растительности, все так же поглядывая на освещенный призрачным сиянием летней луны океан и наблюдая за загадочными вспышками этих таинственных, непонятно откуда взявшихся бакенов.
Внезапно мой мозг пронзило осознание чего-то неимоверно ужасного, поистине ошеломляющего, лишившее меня последних остатков самоконтроля и заставившее опрометью, забыв про всякую маскировку, броситься бежать в южном направлении, мимо зияющих черных дверных проемов и по-рыбьи глазеющих на меня окон домов, облепивших эту пустынную, кошмарную улицу. Дело в том, что на какое-то мгновение мой взгляд остановился на залитых лунным светом водах, заполнявших пространство между рифом и берегом, и я с ужасом обнаружил, что их поверхность была отнюдь не пустынной. Нет, сейчас они были заполнены кишащими ордами каких-то едва различимых существ, которые явно плыли в направлении города. Даже с того значительного расстояния, которое отделало меня от них, и с учетом мимолетности этого взгляда я мог с определенностью сказать, что качающиеся головы и взмахивающие руки были совершенно чуждого людям, абсолютно ненормального вида, хотя сформулировать или хотя бы как-то осмыслить про себя, в чем именно эта ненормальность выражалась, я бы не взялся.
Мой отчаянный бег начал замедляться еще до того, как я достиг конца квартала, поскольку слева от себя я стал различать что-то похожее на шум или крики организованной толпы преследователей. Это был топот ног, гортанные звуки и тарахтенье мотора, доносившиеся откуда-то со стороны Федерал-стрит. В считаные секунды мои планы претерпели коренные изменения — поскольку шоссе к югу от меня оказывалось, таким образом, блокированным, мне следовало найти какой-то другой способ выбраться из Инсмута. Я сделал паузу и юркнул в пустой дверной проем, втайне радуясь тому, что смог преодолеть ярко освещенный лунным светом участок пути еще до того, как преследователи вышли на параллельную улицу.
То, что дошло до моего сознания несколько минут спустя, несколько охладило мой пыл. Я как-то неожиданно смекнул: раз преследователи двигались по соседней улице, то они, скорее всего, не шли по моим горячим следам, то есть не гнались непосредственно за мной, а просто отсекали возможные пути к бегству из города. Но из этого напрашивался вполне логичный вывод о том, что все аналогичные дороги, ведущие из Инсмута, в настоящий момент или вскоре также будут блокированы, поскольку никто не мог с определенностью сказать, каким именно путем я намерен воспользоваться. Если все действительно обстояло именно так, значит, мне следовало покидать город отнюдь не по дорогам, а наоборот, держась как можно дальше от них. Но возможно ли это, если иметь в виду, что местность во всей округе испещрена бесчисленными заболоченными участками и мелкими речушками? На какое-то мгновение мой разум начал давать сбои — как от пронзительного осознания собственной беспомощности, так и от заметно усилившегося ощущения рыбьего запаха.
Именно тогда я вспомнил о давно заброшенной железнодорожной ветке, ведущей на Роули, чья основательно уложенная, покоящаяся на толстом слое щебня, поросшая травой и бурьяном полоса по-прежнему уходила в северо-западном направлении от располагавшейся неподалеку от реки заброшенной станции. У меня сохранялся шанс на то, что вся эта братия попросту забудет о ней, поскольку покрытая зарослями вереска пустынная полоса была весьма труднопроходима и едва ли являлась именно тем путем, который избрал бы для себя отчаявшийся беглец. Я отчетливо видел ее из окна гостиницы и достаточно хорошо помнил путь к станции. В своей начальной части она довольно хорошо просматривалась со стороны дороги на Роули и с наиболее высоких точек в самом городе, но при желании по ней можно было некоторое расстояние проползти и остаться незамеченным за зарослями чахлой растительности. Как бы то ни было, иного выхода у меня не оставалось, и я должен был использовать свой шанс.
Забравшись в глубь своего пустынного убежища, я вновь сверился с картой бакалейщика, подсвечивая ее лучом фонарика. Перво-наперво надо было каким-то образом добраться до самой железнодорожной ветки, и я сразу же подумал, что наиболее безопасным будет двинуться в сторону Бэбсон-стрит, затем повернуть на запад, после чего по довольно извилистой Бэнк-стрит, которая тянулась вдоль устья реки, пробраться к заброшенному и ветхому строению железнодорожной станции. Намерение направиться именно в сторону Бэбсон-стрит объяснялось моим нежеланием повторно выходить на тот открытый участок пути, который я уже пересекал, а также начинать продвижение в западном направлении с такой широкой улицы, как Саут-стрит.
Оказавшись вновь на улице, я перешел на ее противоположную сторону, намереваясь как можно незаметнее продвигаться вперед. Со стороны Федерал-стрит по-прежнему доносились шумы, и, обернувшись, я вроде бы заметил проблеск света неподалеку от того дома, через который мне удалось скрыться из гостиницы. Стремясь поскорее покинуть этот район, я проворно затрусил вдоль домов, моля Бога лишь о том, чтобы не попасться на глаза какому-нибудь досужему наблюдателю. Неподалеку от угла Бэбсон-стрит я не без тревоги заметил, что одно из строений было все еще обитаемым, что подтверждалось наличием на окнах штор; впрочем, свет внутри не горел, а потому мне удалось миновать его без каких-либо приключений.
На Бэбсон-стрит, которая пересекалась с Федерал-стрит и могла, таким образом, помочь мне локализовать местоположение моих преследователей, я старался держаться как можно ближе к разваливающимся, неровным стенам домов; мне приходилось дважды замирать в дверных проемах, всякий раз, когда шум за спиной неожиданно усиливался. Открывавшееся впереди пустое пространство казалось широким, пустынным и залитым лунным светом, но теперь мне, к счастью, уже не надо было его пересекать. Теперь я начал смутно различать отголоски еще каких-то приглушенных звуков, а осторожно выглянув из-за угла дома, увидел крытую машину, которая стремительно пересекла открытое пространство и устремилась в южном направлении.
Пока я так стоял и наблюдал, едва не задыхаясь от резко нахлынувшей волны рыбьей вони, омерзительность которой показалась мне особенно разительной после непродолжительного промежутка относительно свежего воздуха, мне удалось разглядеть группу неуклюжих, нелепо волочащих ноги существ, которые, чуть припрыгивая и шаркая ногами, тащились в том же направлении, что и машина, и тут же понял, что это была группа, которой, скорее всего, поручалось охранять дорогу на Ипсвич. Две из увиденных мною фигур были облачены в очень просторные одежды, причем голову одной украшала высокая, заостренная кверху тиара, сейчас ярко поблескивающая в лучах лунного света. Походка этого существа была настолько странной, что я невольно вздрогнул — мне показалось, что оно вообще не столько шло, сколько передвигалось прыжками.
Когда последний из членов группы скрылся из виду, я продолжил свое продвижение; проскользнув за угол, я поспешно перешел на другую сторону улицы, поскольку не мог исключать, что какой-нибудь отставший участник патрульной группы продолжает плестись сзади. Я по-прежнему слышал какие-то квакающие и постукивающие звуки, доносившиеся издалека со стороны городской площади, но все же преодолел начальный отрезок пути без каких-либо неприятностей.
Самые большие опасения у меня вызывала предстоящая перспектива очередного пересечения широкой и залитой лунным светом Саут-стрит, тем более что с нее открывался вид на море, так что здесь мне пришлось бы пережить несколько весьма неприятных минут. Кто угодно мог выглянуть из окна или еще откуда-то, а кроме того, любой отставший член патруля, удалявшегося по Элиот-стрит, также мог меня заметить. В последний момент я решил все же поумерить свою прыть и пересечь открытое место шаркающей походкой большинства коренных жителей Иннсмаута.
Когда перед моим взором вновь предстала панорама моря — на сей раз уже справа от меня, — я хотел было заставить себя вообще не смотреть на него, и все же не смог удержаться, хотя это и был мимолетный и в общем-то косой взгляд, поскольку я по-прежнему продолжал шаркать в направлении маячившей впереди спасительной тени. Вопреки моим смутным ожиданиям, я не заметил на море особо зловещих перемен. Единственное, что могло привлечь мое внимание, была небольшая гребная шлюпка, направлявшаяся в сторону пустынных причалов — в ней я различил какой-то громоздкий, укрытый брезентом предмет. Хотя расстояние было немалым и я не мог разглядеть подробностей, мне показалось, что на веслах сидели какие-то типы с особо отталкивающей внешностью. Успел я различить также фигуры нескольких пловцов, тогда как на отдаленном черном рифе мерцало какое-то слабое, но вполне устойчивое сияние, а не те огоньки, которые мне довелось наблюдать прежде, причем цвет у этого бледного зарева был какой-то необычный, хотя я и не смог определить, какой именно. Поверх покатых крыш далеко впереди и чуть правее высился купол Джилмэн-хауса, хотя на сей раз он был объят почти непроглядной темнотой. Рыбья вонь, которая на несколько минут, казалось, рассеялась от легкого дуновения спасительного и милосердного ветерка, нахлынула с новой, поистине одуряющей силой.
Не успел я еще до конца пройти улицу, когда услышал звуки шагов очередной группы, которая приближалась по Вашингтон-стрит с северной стороны. Как только она достигла широкого открытого пространства, откуда я впервые заметил столь встревожившие меня морские силуэты, мне стало ясно, что нас разделяет всего один квартал — и невольно ужаснулся при виде дьявольски аномальных лиц этих существ и какой-то собачьей, явно недочеловеческой, согбенной поступи. одно из них передвигалось просто по-обезьяньи, время от времени касаясь длинными руками земли, тогда как другое — в том странном наряде и тиаре — вообще не столько шло, сколько прыгало. Только тогда я смекнул, что это была та самая группа, которую я видел во дворе Джилмэн-хауса, и она, судя по всему, преследовала меня наиболее плотно. Когда несколько типов глянули в мою сторону, я едва было не застыл на месте от страха, однако все же как-то заставил себя тащиться вперед все той же якобы привычной мне шаркающей походкой. Вплоть до настоящего времени я толком не знаю, заметили они меня или нет. Если да, то, значит, моя уловка сработала и они ничего не заподозрили, поскольку проследовали прежним курсом и пересекли открытое пространство, все время продолжая издавать какие-то квакающие, булькающие, омерзительно-гортанные звуки, в которых я не мог разобрать ни единого человеческого слова. Вновь оказавшись в тени, я прежней рысцой миновал несколько покосившихся, рассыпающихся домов, стараясь как можно полнее раствориться в окружавшей меня ночной темени. Перейдя на противоположную сторону улицы, я на ближайшем углу свернул на Бэйтс-стрит и побрел дальше, по-прежнему держась поближе к домам. Мне снова повстречались два дома, в которых можно было различить признаки жизни, а на верхнем этаже я даже заметил проблески слабого света, однако и на сей раз все прошло без каких-либо осложнений. Свернув на Адамс-стрит, я почувствовал себя в большей безопасности, однако пережил настоящий шок, когда из ближайшего дверного проема чуть ли не у меня под носом на улицу выскользнул какой-то человек. Он, правда, оказался вдрызг пьян, а потому я без особого труда достиг складских помещений на Бэнк-стрит.
Ни одной живой души нельзя было заметить на этой мертвой улице, тянувшейся вдоль устья реки, а шум падающей воды полностью заглушал мои шаги. До железнодорожной станции путь был неблизкий, и кирпичные громады складских помещений почему-то казались мне сейчас даже более опасными, чем фасады жилых домов. Наконец я увидел древнее сводчатое строение станции — точнее, то, что от нее осталось, — и направился прямо к путям, которые начинались у его дальнего конца.
Рельсы основательно проржавели, однако производили впечатление довольно целых, да и почти половина шпал также пребывала в достаточно нормальном, крепком состоянии. Идти, а тем более бежать по подобному покрытию было крайне трудно, однако я старался изо всех сил и в целом развил весьма приличную скорость. Некоторое время пути пролегали вдоль устья реки, однако вскоре я достиг длинного крытого моста, где они проходили над головокружительной бездной. В зависимости от нынешнего состояния моста мне предстояло определить маршрут дальнейшего передвижения. Если человек все же в состоянии пройти по нему, я так и сделаю; если же нет, придется вновь блуждать по улицам в поисках ближайшей и хотя бы относительно безопасной переправы.
Громада похожего на сарай моста призрачно поблескивала в лучах лунного света, и я увидел, что по крайней мере на протяжении ближайших нескольких метров шпалы были на месте. Вступив на него, я включил фонарь и едва не был сбит с ног несметными полчищами вылетевших откуда-то летучих мышей. Ближе к середине моста между шпалами зияла довольно широкая брешь, и я всерьез забеспокоился, что она станет непреодолимым препятствием, однако все же отважился на отчаянный прыжок и каким-то образом преодолел ее.
Мне было отрадно снова оказаться под лучами лунного света, когда своды моста казались позади. Рельсы пересекали Ривер-стрит на одном с ней уровне, однако сразу после этого отклонялись в сторону, вступая в местность, которая все более походила на сельскую и где с каждым шагом все меньше ощущался омерзительный, гнилостный запах Инсмута. Здесь мне уже пришлось вступить в единоборство с зарослями чахлых, но довольно колючих кустарников и ползучего вереска, основательно потрепавших мою одежду, однако я и не думал роптать, поскольку в случае неожиданной опасности они могли бы стать достаточно сносным укрытием от возможных преследователей. При этом я ни на минуту не забывал, что большая часть маршрута моего передвижения могла просматриваться с дороги на Роули.
Совершенно неожиданно началась заболоченная местность — здесь проходила только одна колея, стлавшаяся по невысокой, поросшей травой насыпи среди заметно поредевшего кустарника. Затем попался своеобразный островок более приподнятой суши — рельсы здесь проходили через прорытый в нем проход, окруженный с обеих сторон канавами, также обильно поросшими травой и кустарником. Данное естественное укрытие оказалось как нельзя более кстати, поскольку именно в этом месте дорога на Роули, если полагаться на результаты моей рекогносцировки из окна гостиницы, проходила в опасной близости от железнодорожного полотна. Сразу по окончании земляного проема она должна была пересекать его и удаляться на более безопасное расстояние, Пока же мне приходилось проявлять особую бдительность и радоваться уже тому, что железную дорогу, похоже, пока никто не патрулировал.
Непосредственно перед тем, как войти в этот проем, я бросил короткий взгляд назад, однако преследования не обнаружил. С этого расстояния рассыпающиеся шпили и крыши Инсмута, окруженные желтоватым, волшебным сиянием лунного света, казались очень даже симпатичными и чуть ли не воздушными, и я невольно подумал о том, как же прекрасно они смотрелись до того, как над городом зависла эта страшная тень неведомого проклятия. Вслед за этим, когда я перевел взгляд от города в глубь суши, мое внимание привлекло нечто не столь умиротворяющее и даже пугающее, причем настолько, что я поневоле на мгновение застыл на месте.
То, что я увидел — или мне это лишь показалось? — представляло собой некое волнообразное колыхание, которое наблюдалось далеко к югу. Вскоре я понял, что по дороге на Ипсвич передвигается громадная толпа неведомых мне существ. Расстояние было слишком большим, а потому деталей я не различал, однако вид этой продвигающейся колонны меня крайне встревожил. Слишком уж странно она колыхалась и неестественно ярко поблескивала в лучах сместившейся к этому времени к западу круглой луны. Несмотря на то что ветер дул сейчас в противоположном направлении, я вроде даже разобрал нечто похожее на отдаленный шум, а долетавшее до моих ушей какое-то дьявольское царапанье и мычание показалось еще более отвратительным и грозным, чем все те звуки, которые мне доводилось слышать до этого.
В моем мозгу пролетела вереница самых неприятных и, более того, отчаянных догадок. Я почему-то подумал о тех кошмарных инсмутских тварях, которые, как мне рассказывали, безвылазно скрывались в гигантских зловонных муравейниках, буквально заполонивших все морское побережье. На память пришли и те неведомые мне пловцы, которых я видел далеко в море. Более того, если принять во внимание численность всех тех групп, которые мне уже довелось наблюдать в эту ночь, а также тех отрядов, которые в настоящее время, очевидно, охраняли выходившие из города дороги, массовость новой толпы преследователей казалась странно большой для почти безлюдного Инсмута.
Откуда же могла взяться вся эта армада, в настоящий момент представшая перед моим взором? Неужели те древние, таинственные катакомбы и в самом деле были заполонены полчищами представителей невиданной и не известной никому жизни? А может, некое загадочное судно и в самом деле ссадило всех их на тот Дьявольский риф? Но кто они и почему оказались здесь? Ведь если столь внушительный отряд бродит по дороге на Ипсвич, не могло ли оказаться так, что патрули и на других дорогах также существенно усилены?
Я вступил в поросший кустарником проем в насыпи и принялся медленно продвигаться по нему, когда в очередной раз почувствовал нахлынувшую неизвестно откуда волну тошнотворного рыбьего запаха. Неужели ветер столь стремительно изменил свое направление и стал задувать с моря, проносясь над всем городом? Скорее всего, так оно и было, поскольку я тотчас же стал различать шокировавшее меня гортанное бормотание, доносившееся с той стороны, где доселе не было слышно ни звука. Но теперь к ним примешивались и другие звуки — нечто вроде слитного, массового хлопанья или постукивания, почему-то навевавшего на меня образы самого отвратительного и жуткого свойства. Я просто не знал, что и подумать о той волнообразно колыхавшейся массе неведомых тварей, перемещавшейся по дороге на Ипсвич.
Внезапно все эти звуки и рыбья вонь как-то разом усилились, окрепли, так что я на мгновение даже замер на месте, благодаря судьбу за то, что оказался на время прикрыт возвышающимся краем земляного проема. Именно здесь дорога на Роули проходила почти рядом со старым железнодорожным полотном, прежде чем через несколько десятков метров отклониться и уйти в противоположном направлении. Ко всему прочему, по этой дороге сейчас что-то двигалось, так что мне не оставалось ничего другого, кроме как упасть на землю и вжаться в нее в ожидании того момента, когда эта дикая процессия минует меня и скроется в отдалении. Хвала Всевышнему, что эти ублюдки не взяли с собой собак — хотя едва ли это принесло бы им пользу с учетом той одуряющей, перешибающей любые посторонние запахи рыбьей вони, которая наполняла сейчас всю атмосферу. Укрывшись за кустами, обильно произраставшими в этой песчаной расщелине, я чувствовал себя в относительной безопасности, хотя и понимал, что загадочные твари вскоре пройдут не более чем в ста метрах передо мной и я смогу их разглядеть, тогда как они — если только судьба не сыграет со мной какую-нибудь злую шутку — меня не заметят.
И все же мне вдруг стало жутко страшно даже просто поднять на них взгляд. Я увидел залитое лунным светом открытое пространство, которое им предстояло пересечь, и почему-то в мозгу промелькнула странная, даже нелепая мысль о том, как же они загрязнят, изгадят всю эту местность. Пожалуй, из всех инсмутских обитателей они были наиболее омерзительными — такими, которых никогда не захочешь вспомнить хотя бы для того, чтобы кому-то рассказать о них.
Вонь становилась просто невыносимой, а звуки представляли собой чудовищную смесь дикого покряхтывания, кваканья, завывания и лая, слившихся в единый, сплошной гомон, по-прежнему не имевший ничего общего с нормальной человеческой речью. Было ли это голосами моих преследователей? А может, они все же где-то нашли и взяли с собой собак, хотя за весь день мне ни разу не встретилось в городе ни одно из традиционных домашних животных. Это их похлопывание или постукивание казалось чудовищным, и я не смел даже взгляда поднять на порождавших его тварей, твердо вознамерившись держать глаза плотно закрытыми вплоть до того, как они скроются в западном направлении.
Теперь толпа проходила почти напротив того места, где я находился — воздух был заполнен их хриплым гавканьем, а земля, казалось, подрагивала от нелепых, чуждых всему человеческому шагов. Я почти не дышал и собрал всю свою волю в кулак, лишь бы — не дай Бог! — не размежить веки.
Я и до настоящего времени не в состоянии точно определить, были ли последовавшие за этим события реальностью или всего лишь кошмарной галлюцинацией. Недавние действия властей, предпринятые после моих отчаянных призывов и ходатайств, скорее всего подтвердят то, что это все же было чудовищной правдой, но не мог ли я в те минуты и в самом деле увидеть галлюцинации, порожденные псевдогипнотическим воздействием атмосферы древнего, околдованного, одурманенного города? Подобные города обычно обладают странной, неведомой нам силой, и мистическое наследство безумных легенд вполне способно повлиять на психику отнюдь не одного человека, оказавшегося среди тех мертвых, пропитавшихся омерзительной вонью улиц, нагромождений прогнивших крыш и рассыпающихся колоколен.
Так уж ли невозможно, чтобы в глубине той зависшей над Инсмутом тени таились бациллы самого настоящего и к тому же заразного безумия? Кто может сказать, где проходит граница между реальностью и выдумкой, после того как услышит вещи вроде тех, что рассказал мне старый Зэдок Аллен? Кстати, властям так и не удалось найти его, и они не имеют ни малейшего представления о том, что с ним сталось. Где же кончается сумасшествие и начинается реальная действительность? Может ли быть такое, чтобы даже мои самые последние страхи оказались всего лишь жуткой иллюзией, фантастическим в своей нелепости бредом?
И все же я должен хотя бы попытаться рассказать о том, что, как мне казалось, своими глазами увидел в лучах поддразнивающей, желтоватой луны — увидел подрагивающим и вздымающимся прыгающим и ползущим по дороге на Роули прямо у себя перед глазами, пока лежал в густой траве того уединенного железнодорожного переезда. Разумеется, мне так и не удалось заставить себя не смотреть на происходящее; наверное, это было просто предначертано мне, ибо может ли кто-то сомкнуть глаза, когда в каких-то ста метрах от него струятся толпы, несметные орды квакающих и лающих порождений неведомой бездны, оглушая своими омерзительными голосами окрестности?
Мне казалось, что я был готов к самому худшему, и, в принципе, действительно был подготовлен к нему, если учитывать все то, что мне довелось увидеть раньше. Мои прежние преследователи и так были чудовищно аномальны, поэтому неужели я не смог бы перенести зрелище, к которому добавлен еще один новый фрагмент, элемент, доза этой самой уродливости, и взглянуть на существа, в которых вообще нет ни малейшего намека на что-то, хотя бы отдаленно привычное и нормальное?
Я лежал, закрыв глаза, вплоть до тех пор, пока из какого-то пространства, располагавшегося практически прямо передо мной, не стал доноситься сиплый и одновременно оглушающий шум. Я понимал, что в те минуты довольно значительная их часть как раз должна была проходить по тому месту, где края земляного проема чуть уплощались и шоссе пересекало железнодорожную линию, — и в какое-то мгновение не мог уже более сдерживаться от того, чтобы не посмотреть, какие же новые кошмарные чудеса преподнесет мне косой свет желтоватой луны.
Казалось, это был настоящий конец — конец всему тому, что осталось на земле, конец любого крохотного остатка душевного спокойствия и веры в единство природы и человеческого разума. Ничто из того, что я мог вообразить и представить себе, даже если бы поверил каждому слову в сумасшедшем рассказе старого Зэдока, не могло идти ни в какое сравнение с той бесовской, проклятой Богом реальностью, которая предстала — по крайней мере, я считаю, что так оно и было — перед моими глазами. Я уже пытался ранее делать отдельные робкие намеки на то, что это было, поскольку надеялся таким примитивным образом хоть ненамного отсрочить необходимость описания всего этого на бумаге именно сейчас. Возможно ли было такое, чтобы та самая планета, которая сотворила человека, действительно породила подобных существ; чтобы человеческие глаза как объективно данный нам орган чувств и в самом деле увидели нечто такое, на фоне чего все знание человека является лишь бледной, немощной фантазией и жалкой легендой?
И все же я видел их, передвигающихся бескрайним потоком — ползущих, прыгающих, припадающих к земле, блеющих, — видел эту массу вздымающейся нечеловеческой плоти, освещаемую призрачным лунным сиянием, извивающихся в зловещих корчах дикой сарабанды фантастического кошмара. На некоторых из них были высокие тиары, сделанные из того неведомого, белесо-золотистого металла… и те диковинные наряды, а один — тот, кто возглавлял всю эту процессию, — был облачен в некое подобие отвратительного плаща с горбом на спине, в полосатые брюки и фетровую шляпу, водруженную на бесформенный отросток, который, очевидно, призван был считаться головой.
Мне показалось, что в своей массе они были серовато-зеленого цвета, но с белыми животами. Большинство из них блестели и казались осклизлыми, а края их спин были покрыты чем-то вроде чешуи. Очертаниями своими они лишь отдаленно напоминали антропоидов, тогда как головы были определенно рыбьи, с выпуклыми, даже выпученными глазами, которые никогда не закрывались. Сбоку на их шеях виднелись трепещущие жабры, а между отростками длинных лап поблескивали натянутые перепонки. Они вразнобой подпрыгивали, отталкиваясь то двумя, а то всеми четырьмя конечностями, и я как-то даже обрадовался, что у них их было всего четыре. Их хриплые, лающие голоса, явно созданные для некоего подобия речи, несли в себе массу жутких и мрачных оттенков, с лихвой компенсировавших малую выразительность их морд.
И все же, несмотря на всю чудовищность своего облика, они не казались мне совершенно незнакомыми. Я слишком хорошо знал, какими они должны были быть, поскольку в моем мозгу отчетливо запечатлелись воспоминания о той тиаре из музея в Ньюбэрипорте. Это были те самые рыбо-лягушки, отображенные на драгоценном украшении — но теперь живые и ужасные, — и, глядя на них, я также знал, кого именно столь зловеще напомнил мне тот горбатый, украшенный тиарой священник, которого я видел в темном дверном проеме церкви.
Я даже не пытался хотя бы приблизительно подсчитать их численность, ибо понимал, что это совершенно немыслимая задача. Я просто видел перед собой бесконечные, извивающиеся и содрогающиеся, как тело червя, волны — хотя мой испуганный, мимолетный взгляд смог выхватить лишь ничтожный фрагмент всей представшей передо мной картины. Но уже в следующее мгновение все это зловещее действо померкло передо мной, утонув в пучине спасительного и милосердного обморока — первого, который мне довелось испытать за всю свою жизнь.
Мягкий дневной дождь вывел меня из состояния глубокого забытья, и я обнаружил, что по-прежнему лежу в поросшем высокой травой искусственном ущелье, вдоль которого тянулись проржавевшие железнодорожные рельсы. Нетвердой походкой доковыляв до пролегавшего невдалеке от меня шоссе, я не обнаружил на нем ни малейших следов ног, ни мазков свежей грязи. Рыбий запах также бесследно исчез. В сероватой дымке к юго-востоку от меня маячили исковерканные крыши и безглавые колокольни Инсмута, однако на всем протяжении пустынной, соляной, болотистой местности, куда простирался мой взгляд, я не заметил ни единой живой души. Часы на руке исправно показывали время, и я понял, что проспал до самого утра.
Я отнюдь не был уверен в реальности всего того, что произошло со мной несколько часов назад, однако не мог отрицать очевидного факта, что за всем этим таилась некая грозная и неясная подоплека. Я должен был как можно скорее уйти из этого Богом проклятого города и, соответственно, сразу же стал проверять дееспособность своего двигательного аппарата. Несмотря на усталость, голод и пережитой ужас, я обнаружил, что вполне способен передвигаться, а потому медленно направился по грязной дороге в сторону Роули. Уже к вечеру я добрался до деревни, где смог перекусить и обзавестись хоть какой-то относительно сносной одеждой, Затем я успел на вечерний поезд до Аркхэма и уже на следующий день имел долгую и обстоятельную беседу с местными представителями официальных властей, которую позднее повторил уже в Бостоне.
Основные пункты всего того, что стало результатом этих обсуждений, уже известны широкой общественности, и я очень хотел — дабы не подвергать излишним мучениям чувство здравого смысла, — чтобы мне ничего не пришлось добавлять к данному описанию. Как знать, а вдруг меня и в самом деле постепенно охватывает какое-то безумие, а вместе с ним подступает еще больший ужас и ощущение нового невиданного чуда?
Нетрудно догадаться, что я отменил все последующие мероприятия своего запланированного отдыха, хотя прежде связывал немалые надежды с новыми сценическими, архитектурными и антикварными изысканиями. Не осмелился я также взглянуть на некий образчик ювелирного мастерства, который якобы хранился в музее Мискатонского университета. Тем не менее свое пребывание в Аркхэме я использовал в целях пополнения информации сугубо генеалогического свойства — к сожалению, мне удалось сделать лишь самые поверхностные и поспешные записи, которые я, однако, надеюсь все же со временем расшифровать и сравнить с уже имеющимися сведениями. Руководитель тамошнего исторического общества — мистер Лэпхем Пибоди — оказал мне в этом любезное содействие и проявил необычайный интерес к тому обстоятельству, что я являюсь внуком Элизы Орне из Аркхэма, которая родилась в 1867 году и в семнадцатилетнем возрасте вышла замуж за Джеймса Вильямсона из Огайо.
Как выяснилось, мой дядя по материнской линии много лет назад также бывал в этих местах и занимался поисками, во многом схожими с теми, которые вел я сам. Более того, мне сообщили, что семья моего деда в свое время наделала немало шума и была объектом пристального интереса в местных кругах. По словам мистера Пибоди, широкие дискуссии тогда вызвала женитьба отца моей матери, Бенджамина Орне, состоявшаяся сразу после Гражданской войны, поскольку родословная невесты была поистине прелюбопытной. Как предполагалось, она являлась сиротой и была удочерена одним из членов нью-гэмпширского рода Маршей, точнее — тех Маршей, которые жили в графстве Эссекс, — однако образование она получила во Франции и очень слабо знала свою новую семью. Опекун перевел на ее счет в бостонском банке солидные средства, чтобы она могла безбедно жить со своей французской гувернанткой, хотя фамилия этого опекуна показалась жителям Аркхэма совершенно незнакомой, а сам он на время исчез из виду, а потому со временем его права по суду перешли к этой самой гувернантке. Француженка — ныне уже давно покойная — отличалась крайней неразговорчивостью, и многие считали, что на самом деле она знала гораздо больше того, о чем рассказывала.
Однако наиболее обескураживающим оказалось то, что никто не мог припомнить, чтобы законные родители молодой женщины — Энох и Лидия (Месерв) Марш — когда-либо проживали в Нью-Гэмпшире. Высказывались предположения, что на самом деле она была отнюдь не приемной, а самой что ни на есть родной дочерью одного из членов рода Маршей — если на то пошло, у нее были типично их глаза. Но самое поразительное обстоятельство вскрылось лишь после ее ранней кончины, которая наступила при рождении моей бабки — ее единственного ребенка. Успев к тому времени сформировать собственное и весьма нелицеприятное мнение о человеке по фамилии Марш, я, естественно, отнюдь не возрадовался тому обстоятельству, что он также является одной из ветвей на генеалогическом древе нашего семейства, равно как и не преисполнился горделивым чувством, узнав от мистера Пибоди, что и у меня самого глаза точь-в-точь как у покойного Марша. Тем не менее я был бесконечно благодарен ему за предоставленную информацию, которая, в чем я нисколько не сомневался, окажется весьма ценной, после чего попросил его также показать мне все те отнюдь не скудные записи и перечни архивных материалов, которые имели отношение к тщательно задокументированной истории семьи Орне.
Из Бостона я сразу же отправился домой в Толидо, после чего примерно месяц отдыхал, зализывая раны перенесенных мною потрясений. В сентябре я продолжил обучение на последнем, пятом, курсе университета и вплоть до июня следующего года был всецело погружен в учебный процесс и прочие университетские дела. Об инсмутском инциденте я вспоминал лишь в тех редких случаях, когда меня посещали представители официальных властей по поводу моего памятного ходатайства к ним и просьбы максимально тщательно разобраться с этим кошмарным делом. Примерно в середине июля — то есть спустя ровно год после моей поездки в Инсмут — я провел неделю с семьей моей матери в Кливленде, сверяя полученную мною генеалогическую информацию с некоторыми фамильными вещами и оставшимися документами и записями, а также размышляя над тем, какая же из всего этого получалась картина.
Нельзя сказать, чтобы я получал особое удовольствие от этой деятельности, поскольку атмосфера, царившая в доме Вильямсонов, неизменно угнетала меня. Был в ней какой-то смутный отпечаток некоей болезненности, да и моя мать при жизни также не поощряла моих визитов в свою бывшую семью, хотя сама неизменно приглашала отца, когда он приезжал в Толидо, погостить у нас в доме. Моя родившаяся в Аркхэме бабка неизменно производила на меня странное, поистине устрашающее впечатление, а потому я отнюдь не горевал, когда она неожиданно исчезла. Мне тогда было восемь лет, и люди поговаривали, что она ушла из дома, не вынеся горя после самоубийства ее старшего сына Дугласа — моего дяди. Он застрелился вскоре после поездки в Новую Англию — несомненно, той самой поездки, благодаря которой его и запомнили в кругах Аркхэмского Исторического общества.
Дядя был очень похож на нее, а потому тоже не очень-то мне нравился. Мне всегда было немного не по себе, а то и просто страшновато от их пристальных, немигающих взглядов. Моя собственная мать и дядя Уолтер никогда на меня так не смотрели. Они вообще были очень похожи на своего отца, хотя мой маленький бедный кузен Лоуренс — сын Уолтера — был почти точной копией своей бабки вплоть до тех пор, пока какой-то серьезный недуг не вынудил его навсегда уединиться в лечебнице в Кантоне. Я не видел его четыре года, но мой дядя, регулярно навещавший его, как-то намекнул, что состояние его здоровья — как умственного, так и физического — крайне тяжелое. Видимо, именно это обстоятельство явилось главной причиной безвременной кончины его матери два года назад.
Таким образом, мой дед и его овдовевший сын Уолтер теперь составляли кливлендскую ветвь нашей семьи, над которой по-прежнему продолжала висеть тень былых воспоминаний. Мне все так же не нравилось это место, а потому я старался как можно скорее завершить свои исследования. Дед в изобилии снабдил меня всевозможной информацией и документами относительно истории и традиций нашего рода, хотя по части прошлого ветви Орне мне пришлось опираться исключительно на помощь дяди Уолтера, который предоставил в мое распоряжение содержимое всех своих досье, включая записи, письма, вырезки, личные вещи, фотографии и миниатюры.
Именно изучая письма и картины, имевшие отношение к семейству Орне, я стал постепенно испытывать ужас в отношении своей собственной родословной. Как я уже сказал, общение с моей бабкой и дядей Дугласом всегда доставляло мне массу неприятных минут. Сейчас же, спустя много лет после их кончины, я взирал на их запечатленные на картинах лица со все возрастающим чувством гадливости и отчужденности. Суть перемены поначалу ускользала от меня, однако постепенно в моем подсознании начало вырисовываться нечто вроде ужасающего сравнения, причем даже несмотря на неизменные отказы рациональной части моего разума хотя бы заподозрить что-то подобное. Было совершенно очевидно, что характерные черты их лиц начали наводить меня на некоторые мысли, которых раньше не было и в помине — на мысли о чем-то таком, что, предстань оно передо мной со всей своей резкой и явной очевидностью, могло бы попросту повергнуть меня в состояние безумной паники.
Но самое ужасное потрясение ожидало меня тогда, когда дядя показал мне образцы ювелирных украшений семьи Орне, хранившихся в одной из ячеек банковского сейфа. Некоторые из них представляли собой весьма тонкие и изящные изделия, но была там среди прочего и коробка с довольно странными старыми вещами, которые достались им от моей таинственной прабабки, причем дядя с явным нежеланием и даже отвращением продемонстрировал их мне. По его словам, это были явно гротескные и даже отталкивающие изделия, которые, насколько ему было известно, никто никогда не носил на людях, хотя моей бабке очень нравилось порой любоваться ими. С ними были связаны какие-то малопонятные приметы типа дурного глаза или неведомой порчи, а француженка-гувернантка моей прабабки якобы прямо говорила, что их вообще нельзя носить в Новой Англии — разве что лишь в Европе.
Прежде чем начать медленно, с недовольным ворчанием открывать коробку с этими изделиями, дядя предупредил меня, чтобы я не пугался их явно необычного и даже отчасти зловещего вида.
Художники и археологи, которым довелось видеть их, признавали высочайший класс исполнения и экзотическую изысканность этих изделий, хотя никто из них не смог определить, из какого материала они были изготовлены и в какой художественной традиции выполнены. Среди них были два браслета, тиара и какое-то нагрудное украшение, причем на последнем были запечатлены поистине фантастические сюжеты и фигуры.
В ходе всех этих дядиных пояснений я пытался максимально сдерживать свои эмоции, однако лицо, похоже, все же выдало мой усиливающийся страх. Дядя явно встревожился и даже на время отложил демонстрацию изделий, желая проверить мое самочувствие. Я тем не менее попросил его продолжать, что он и сделал, по-прежнему храня на лице все то же выражение открытой неприязни и отвращения. Пожалуй, он допускал отчасти повышенной эмоциональной реакции с моей стороны, когда первый предмет — тиара — был извлечен из коробки, однако сомневаюсь, чтобы он мог допустить именно то, что произошло. Пожалуй, не ожидал происшедшего и я сам, поскольку считал себя вполне подготовленным и имел некоторое представление о том, какое зрелище должно было предстать перед моими глазами… и все же свалился в обморок — точно так же, как это произошло на том поросшем вереском и кустарником железнодорожном переезде год назад.
С того самого дня вся моя жизнь превратилась в череду кошмарных раздумий и жутковатых ожиданий, поскольку я не знал, сколько во всем этом зловещей правды, а сколько безумного вымысла. Моя прабабка также носила фамилию Марш и имела загадочное происхождение, а муж ее жил в Аркхэме — а разве не говорил старый Зэдок, что дочь Оубеда Марша, родившаяся от его брака с некоей таинственной чужеземкой, была обманным путем выдана замуж за какого-то господина из Аркхэма? И что этот древний пьяница болтал насчет сходства моих глаз и глаз капитана Оубеда? Да и тот аркхэмский ученый тоже подметил, что глаза у меня — в точности как у Маршей. Так не был ли Оубед Марш моим прапрадедом? И кем же — чем же — была в таком случае моя прапрабабка?
Впрочем, все это могло быть и чистым, хотя и безумным совпадением. Эти светло-золотистые украшения вполне могли быть куплены отцом моей прабабки, кем бы он ни был на самом деле, у какого-нибудь инсмутского матроса. А эти взгляды, запечатленные на лицах моей бабки и ее сына-самоубийцы, могли быть всего лишь плодом моей собственной фантазии — чистейшей воды выдумкой, приукрашенной воспоминаниями о том инсмутском инциденте, которые неотступно преследовали меня все эти месяцы и дни. Но почему тогда мой дядя покончил с собой именно после той памятной поездки по местам жизни предков в Новой Англии?
На протяжении более чем двух лет я с большим или меньшим успехом отвергал все подобные сомнения. Отец способствовал получению мною хорошей должности в страховой компании, и я постарался как можно глубже погрузиться в атмосферу новой работы. Но зимой 1930–1931 годов у меня начались странные сновидения. Крайне разрозненные и поначалу отнюдь не навязчивые, они с каждой неделей повторялись все чаще, получая при этом все более яркую окраску. Передо мной словно расстилались бескрайние водные просторы, а сам я бродил по титаническим подводным галереям и лабиринтам, составленным из поросших водорослями циклопических стен, и рыбы были моими единственными спутниками в этих блужданиях. Вскоре стали возникать и новые образы, которые переполняли мою душу чудовищным страхом, но почему-то всякий раз лишь после того, как я просыпался. Непосредственно во сне они меня совершенно не беспокоили — ведь я был одним из них и носил какие-то причудливые, совершенно нечеловеческие украшения, бороздил их подводные пути и совершал чудовищные ритуальные процедуры в их располагавшихся на морском дне зловещих храмах.
Сны мои были наполнены такой массой причудливых видений и диковинных образов, что я смог запомнить лишь ничтожную толику увиденного, однако даже того, что сохранилось в моей памяти, с лихвой хватило бы на то, чтобы навеки прослыть безумцем или, напротив, гением, если бы я осмелился записать все увиденное. одновременно с этим я чувствовал, что некая неведомая и пугающая сила настойчиво пыталась вытащить меня из мира нормальной и здоровой человеческой жизни и ввергнуть в пучину непроглядной темени и чужеродного существования, что, конечно же, тяжелым камнем ложилось мне на душу Состояние моего здоровья и даже внешность подверглись существенному ухудшению, так что в конце концов мне пришлось оставить свою работу и перейти на затворнический, почти неподвижный образ жизни инвалида. Меня словно поразил некий странный нервный недуг, отчего я временами в буквальном смысле был не в состоянии сомкнуть глаз.
Именно тогда я со все возрастающей тревогой стал рассматривать в зеркале собственное отражение. Едва ли человеку доставляет удовольствие наблюдать постепенно усиливающиеся признаки развития какого-то заболевания, но в моем случае было нечто более тонкое, неуловимое и одновременно обескураживающее. Мой отец также стал это подмечать и поглядывать на меня с явным недоумением, а подчас и с откровенным испугом. Что же во мне происходило? Не могло ли так получиться, что я постепенно становился похожим на мою бабку и дядю Дугласа?
Однажды ночью мне приснился страшный сон, в котором я якобы встретился со своей бабкой, причем встреча эта состоялась где-то под водой, в океанской пучине. Она жила в фосфоресцирующем дворце, состоящем из многочисленных террас, с садами, в которых произрастали странные, какие-то чешуйчатые, гнилостного цвета кораллы, образовавшие ветвистые, чем-то похожие на уродливые деревья посадки. Старуха довольно тепло поприветствовала меня, хотя было в ее манерах что-то насмешливое, почти сардоническое. Она сильно изменилась — как существа, которые перешли на постоянную жизнь в воде, — и сказала, что якобы вообще никогда не умирала. Вместо этого она переместилась в такое место, о котором узнал ее сын Дуглас, и стала обитать в царстве, чудеса которого — предназначенные также и для него — он сам отверг дымящимся дулом своего револьвера… Это будет и мое царство — никуда мне от этого не деться, и я тоже никогда не умру, а буду жить вместе с теми, кто существовал уже тогда, когда на земле вообще не было людей.
Видел я и ту особу, которая являлась ее бабкой. В течение восьмидесяти тысяч лет ее предки Пт’тиа-л’йи жили в Й’хантли, и именно туда она вернулась после смерти Оубеда Марша. Й’хантли не подвергся разрушению, когда люди с верхней земли наслали в море смерть. Глубоководных вообще невозможно уничтожить, хотя палеогеновая магия давно забытых Старожилов иногда может причинять им отдельные неприятности. В настоящее время они пребывают в состоянии покоя, но настанет такой день — если они еще помнили об этом, — когда они восстанут снова и воздадут должное ненасытной жажде Великого Ктулху. В следующий раз это будет уже совершенно новый город, гораздо более величественный, чем Инсмут. Они заметно расширят свое влияние и уже подготовили тех, кто поможет им в этом деле, однако пока должны выждать некоторое время. За то, что я вызвал смерть их людей на верхней земле, я должен принести покаяние, но оно не будет слишком уж тяжелым.
Это был тот самый сон, в котором я впервые увидел шоггота, и один лишь вид его поверг меня в состояние безумного ужаса, заставившего с криком проснуться. В то утро зеркало со всей очевидностью подтвердило мне, что я также окончательно приобрел ту самую характерную «инсмутскую внешность».
Я пока решил не накладывать на себя руки, как это сделал дядя Дуглас. Правда, я купил автоматический пистолет и однажды едва было не совершил роковой шаг, но какие-то сны все же удержали меня. Жестокие, наиболее пронзительные ночные видения стали постепенно стихать и сглаживаться, а вместо того меня стало необъяснимым образом манить в морскую бездну. Во сне я часто слышу и совершаю странные вещи, а когда просыпаюсь, то ощущаю уже не ужас, а самый настоящий, неподдельный восторг. Я не верю в то, что мне придется дожидаться полной перемены, на что было обречено большинство других. В противном случае отец навечно упрячет меня в сумасшедший дом, как он поступил с моим несчастным кузеном. Внизу меня поджидало нечто неслыханное и великолепное, и скоро я встречусь с ним. Иа-Р’лия! Ктулху фхтагн! Иа! Иа! Нет, я не застрелюсь — я создан отнюдь не для этого!
Я разработаю план бегства моего кузена из той лечебницы в Кэнтоне, и мы вместе отправимся в сокрытый восхитительной тенью Инсмут. Мы поплывем к тому загадочному рифу и окунемся в глубь черной бездны, навстречу циклопическим, украшенным множеством колонн И’хантли, и в этом логове Глубоководных обретем вечную жизнь, окруженные всевозможными чудесами и славой.
Бэзил Коппер
За рифом
— Входите, джентльмены, входите. Чувствуйте себя как дома. Здесь, как видите, грязновато, но вы, надеюсь, извините мою неряшливость. Могу я предложить вам кофе? На улице прохладно. Нет? Ну, что же, как пожелаете. Простите за грубость, но я свой кофе допью. Я ведь кофеман, знаете ли.
— Может, печенья? Что ж, на вкус и цвет… Вы ведь из-за тех случаев пожаловали, надо думать? Это долгая история, и мне надо собраться с мыслями. Но ничего, джентльмены, я все вспомню, я все вспомню потихонечку. Начало всему положил, разумеется, Большой Шторм. Он многое сдвинул со своих мест, потревожил немало жизней. Немало их и забрал. Кто бы мог подумать, что всего за несколько недель можно сотворить такой хаос, развеять столько мечтаний и надежд?
— А, я вижу, с вами капитан-детектив Оутс. Так далеко от столицы округа. Что ж, это лишь подтверждает серьезность моих слов. По правде говоря, я вас уже заждался. Столько фактов нужно было сложить вместе, по стольким простывшим или ложным следам пройти, простите за банальность. Ведь правда настолько страшна и причудлива, что я и сам с трудом в нее верю.
— А тоннели, джентльмены! Вы уже исследовали их до конца? Там надо быть осторожнее, знаете ли. Они чрезвычайно опасны. И кто знает, какие еще глубины таятся под ними? Вижу, вы киваете. Даже мистер Оутс побледнел. И правильно, сэр. Правильно. Черная бездна и неназываемое.
— Нет, джентльмены, я не сошел с ума, хотя в последние несколько недель мне довелось слышать и видеть такое, отчего пошатнулся бы и самый крепкий ум. Полиглот и естествоиспытатель… многосторонний ученый, одним словом. С чего же начать? Вот проблема. Ведь стоит мне рассказать мою историю, и многие обитатели приюта для душевнобольных покажутся совершено нормальными рядом со мной. Вижу, вы привели с собой секретаря и стенографистку, сэр. Что ж, в свое время нам понадобятся они обе.
— А, так вы уже записываете? Ну, хорошо. Мне нечего скрывать и нечего бояться, на этом свете, по крайней мере. Что до иного, то тут совсем другое дело… быть может, мои вступительные замечания помогут убедить людей в том, что я не более безумен, чем они сами. А то и менее. Будь на то воля Божия, я бы спятил от того, что видел. Кто знает, быть может, в нескончаемой мечте жить лучше, чем в бесконечном кошмаре. Забытье безумия стирает из памяти то, чего иначе не забудешь.
— Прошу вас, сэр, наберитесь терпения. Моя история такова, что быстро ее не расскажешь, уверяю. Трагедия человека кроется в том волшебном механизме, который называется мозг; память — проклятие, превращающее жизнь в тяжкое бремя. Беда в том, что именно память манит нас тщетными надеждами и питает горькими разочарованиями. Как там у Шекспира? Память — проклятье долгой жизни… или что-то в этом роде. одним словом, джентльмены, мне довелось испить эту чашу до дна.
— Жизнь для меня пуста. Да, прошу вас, пишите, не останавливайтесь. Я уже близок к началу, заверяю вас. Итак, свидетельские показания Джефферсона Холройда, лингвиста и естествоиспытателя, данные им под присягой в возрасте сорока пяти лет, в здравом уме и твердой памяти. Стало быть, все началось…
Большой шторм, обрушившийся в январе 1932 года на Инсмут, налетел совершенно неожиданно, хотя ему предшествовали из ряда вон выходящие события, и если бы те, кто обучен чтению знаков, прочли их правильно, то смогли бы предсказать его приближение.
Но для этого потребовалось бы свести множество разрозненных фактов в единое целое; отдельные события, совершенно необъяснимые тогда, понять как части одного явления, и, поскольку это было невозможно, то метеорологи, естествоиспытатели и прочие ученые мужи, собравшись на конференцию по вопросам изучения данной территории, лишь задним числом смогли воссоздать некое подобие истины.
Однако грядущее отозвалось дрожью во времени еще более раннем, чем это. Осенью 1930 года газеты писали о необычайно высокой приливной волне, буквально запечатавшей устье реки Мэнаксет, причем сопровождалось это любопытным явлением, которое местные жители именуют «белыми зарницами». Разбросанные вдоль края соляных топей многочисленные одиночные фермы подверглись затоплению, несколько людей утонули, а город Раули оказался ненадолго отрезанным от мира, хотя никаких иных тревожных сообщений оттуда не поступало.
Даже далекий от берега Аркхэм подвергся атаке ветра, названного репортерами «миниатюрным смерчем», который обнажил стропила на крышах делового квартала, сорвав с них черепицу, и полностью сдул кровельную дранку со всех старинных домов. Ученые объявили причиной тревожных явлений сейсмические колебания суши или подводное землетрясение далеко за инсмутским рифом, породившее огромную приливную волну, а метеорологи приписали ураган, грозовые течения и любопытные вспышки молний столкновениям холодных и теплых воздушных масс. Следующие несколько недель выдались спокойными, и о тревожных событиях, как водится, позабыли все, кроме тех, кто непосредственно от них пострадал.
Массачусетс — древняя и удивительная земля, где среди изглоданных ветрами холмов уединенно живут небольшие общины, разделенные полосами безлюдья, болотами и лесными массивами, возникшими в такие незапамятные века, что только специалисты берутся определить их возраст; а в самых глухих уголках этого штата время, кажется, и вовсе стоит на месте, в том числе и в наши дни. В 1930 году это стало особенно заметно, а старинные книги из большой библиотеки в университете Мискатоника сообщали о еще более странных вещах, и потому главный библиотекарь Джетро Стейвли предпочитал хранить столь редкие эзотерические издания под замком в удаленной секции библиотеки, где они были доступны лишь ученым bona fide, исследователям, имевшим письменное разрешение и профессорам университета.
Считалось, что такие меры предосторожности продиктованы ценностью и редкостью старинных томов, но были и такие, кто верил, будто Стейвли держит замшелые фолианты под строгим надзором из-за запретного знания, которое содержится на их страницах. А более проницательные наблюдатели усматривали связь между волнительными событиями 1930 года, достигшими кульминации в 1932-м, и еще более ранним инцидентом, таким, как кража со взломом из университетской библиотеки ранней весной 1929 года, когда воры вскрыли дальнюю боковую дверь, проникли в тайную секцию, где под замком хранились редкие издания, и вынесли уникальный, прикованный цепью том; звенья стальной цепи, которой книга крепилась к дубовой полке, расплавились, точно кусок масла.
Университетские власти высказали предположение, что воры воспользовались каким-то сварочным аппаратом, обугленные соседние полки и треснувшие оконные стекла подтверждали это мнение. однако Стейвли, узнав о подробностях ограбления, побледнел как смерть и с тех пор стал совершенно другим человеком. К счастью, он успел сделать несколько машинописных копий пропавших томов — обычная практика для всех редких документов из опечатанной секции, — которые запер в обшитой стальными листами подвальной камере, примыкавшей к его кабинету.
Заглянув туда, Стейвли испугался еще больше, и, по словам его ближайших друзей-академиков, именно с того дня перемена в его некогда открытой и дружелюбной, если не сказать легкомысленной, манере поведения стала особенно заметной. Все последующие дни он проводил в кабинете декана, доктора Дэрроу, где два джентльмена совещались за закрытой дверью, и после каждой их встречи декан выглядел не менее взволнованным, чем старший библиотекарь.
Новость о краже со взломом была замята и не достигла ушей журналистов, а в самом университете к этому инциденту отнеслись легкомысленно. однако на все вопросы друзей и коллег относительно названий и содержания пропавших томов оба чиновника отвечали ледяным молчанием, а требования предоставить копии документов из кабинета библиотекаря встречали вежливый отказ.
Инцидент, ненадолго возмутивший мирное течение жизни великого университета, был в конце концов забыт, но лишь до тех пор, пока иные, еще более драматические события не обратили на себя всеобщего внимания. Возможно, «драматические» сказано слишком сильно, ведь они явились частью драмы лишь как звенья в цепи происшествий, сами же по себе они были вполне заурядны. Первое из них не имело непосредственного отношения к университету и произошло через несколько недель после описанного выше случая. Это был чудовищный пожар, в котором сгорели все архивы Публичной библиотеки города Аркхэма за XVII и XVIII века.
Что до кражи в университетской библиотеке, то, несмотря на расспросы всех обитателей кампуса, вор, обесчестивший почтенное книгохранилище, так и не был найден, и поскольку проведенное в замкнутом академическом кругу расследование не дало результатов, в полицию штата решено было не обращаться.
Эпизод с библиотекой также стерся из общественного сознания, а его место почти сразу заняли иные, более утонченные и таинственные явления. На сей раз это были происшествия в мужском и женском крыле университетского общежития. Кто-то тихо ходил по ним в ночи; двери и окна, тщательно закрытые и многократно проверенные с вечера, распахивались ночью и стояли так до утра; эхо едва слышных шагов шелестело в коридорах; краны в общих умывальных комнатах открывались сами; а электрические лампочки необъяснимым образом загорались или гасли, всякий раз вопреки той позиции, в которой находился выключатель.
Немало теорий было выдвинуто самими студентами, однако все сошлись на том, что молодые люди с разных факультетов ведут друг против друга на кампусе необъявленную войну, и этот период насмешливой враждебности продлился до тех пор, пока еще два инцидента, наиболее серьезные из всех, что произошли на тот момент, не переключили на себя общественное внимание.
Первый, показавшийся сначала простым несчастным случаем, хотя со временем его истинный масштаб стал очевиден, произошел с самим деканом. однажды ночью поднялся особенно сильный ветер, и, поскольку университет Мискатоника занимает возвышенное положение, многие молодые деревца вокруг него пали жертвой стихии. На заре ветер продолжал оставаться довольно свежим, однако значительно ослабел, когда случилась необычайная вещь.
В северо-западном углу кампуса Джефферсона стоял огромный каменный крест, увековечивший память студентов и преподавателей, павших в Войне за независимость и в Первой мировой войне. Он был гранитным, и время, казалось, не оставило на его поверхности никаких следов, хотя прошло 200 лет с тех пор, как он был воздвигнут, изначально с целью чисто религиозной; лишь позже он стал исполнять двойную роль христианского символа и военного мемориала. Доктор Дэрроу шел на лекцию, которую должен был читать в десять утра, как вдруг налетел порыв ветра. К ужасу проходивших мимо студентов, огромный каменный крест внезапно раскололся пополам, от верха до самого низа.
Двое сметливых студентов тут же, с риском для собственной жизни, бросились к доктору и увлекли его прочь с опасной стези, швырнув на землю, отчего профессор немного помялся, но зато остался жив благодаря героическим и самоотверженным действиям молодых людей. Весь в пыли, дрожащий от страха, доктор Дэрроу являл собой жалкое зрелище, а его изумление, вызванное необъяснимым разрушением мемориала, отразилось на лицах всех студентов, членов факультета, на чьих глазах произошел этот инцидент.
Еще более невероятным представляется тот факт, что рухнувшая колонна оказалась, по словам одного из свидетелей, «сырой и липкой» внутри. В игру вступили ученые умы университета и, к своему немалому удивлению, обнаружили, что внутри крест «совершенно сгнил». Этого точно не могло быть, поскольку гранит не только не подвержен гниению, но и вообще является одним из самых долговечных материалов на земле. Тем не менее кто-то или что-то потрудился над внутренностями мемориала так, что он весь превратился в студенистую, похожую на желатин массу.
Второй и самый страшный случай произошел некоторое время спустя. На территории университета, далеко от учебных корпусов и общежитий, была рощица, излюбленное студентами местечко летних амурных похождений. В неглубокой каменистой лощине был небольшой пруд; около ста ярдов в длину и сорока футов в ширину, он, как полагали, питался из каких-то подземных источников. В его черной поверхности даже отражение летнего неба казалось угрюмым, а его стоячая вода издавала слабый запах, в котором было нечто отталкивающее. Уголка этого чуждались, особенно в ночные или вечерние часы; однако и ясным летним днем куда приятнее было пройти мимо, чем замешкаться у пруда.
Все предшествовавшие инциденты были мгновенно забыты, когда тело Джеба Конли, пожилого дворника из Мискатоники, не появлявшегося на работе несколько дней, было найдено плавающим лицом вниз в стоячих водах пруда. Тревогу подняла некая студентка, благоразумно — как потом выяснилось — оставившая тело лежать лицом вниз. Было ясно, что бедняга мертв, и девушка, собравшись с духом, подняла толстую ветку, валявшуюся на берегу, и с ее помощью направила мрачную ношу пруда к берегу.
Немедленно вызвали доктора Натана Келли, университетского врача, который опытным взглядом констатировал отсутствие жизни. Он был один на берегу, хотя за его спиной между деревьев уже собирались кучки любопытствующих студентов. Перевернув тело, которое, на его взгляд, пролежало в воде не более суток — эту точку зрения позднее подтвердило вскрытие, — он обнаружил, что оно начисто лишилось лица, так, словно его никогда и не было.
Прежде невиданное и потому неузнаваемое воздействие до полной неузнаваемости расплющило и смяло его черты, покрыв их вдобавок слоем тошнотворной серой слизи, которую не удалось ни смыть, ни иначе уничтожить в прозекторской. Доктор Келли этого еще не знал, но близилось время кошмаров.
Как-то раз после полудня доктор Дэрроу сидел у себя в кабинете, просматривая университетские архивы, когда вошла секретарша и доложила ему о том, что его хочет видеть главный подрядчик строительной компании, приглашенной для ремонта креста. Они с деканом были старые друзья, но, когда Эндрю Беллоуз вошел в кабинет, тот поразился, заметив перемены в его поведении. Его друг был явно смущен и при этом сильно подавлен, если так можно было сказать об обычно столь уравновешенном и жизнерадостном Беллоузе, так что ученый муж сперва удивился, а затем встревожился, жестом приглашая Эндрю занять удобное кожаное кресло. Он велел мисс Бломберг сделать им по чашке крепкого кофе, и, пока секретарша не покинула большую, обшитую панелями комнату, в ней царило неловкое молчание.
Беллоуза пригласили для того, чтобы оценить объем работ по восстановлению каменного креста и прежде всего решить, возможно ли это технически, и декан сначала решил, что поведение друга предвещает новое несчастье, а может быть, и солидное увеличение расходной сметы. Но посетитель скоро дал ему понять, что дело совсем не в этом. Бережно опустив чашку на блюдце, он носовым платком промокнул с ее ободка крохотную каплю и лишь потом перешел к делу.
— Сегодня утром у нас кое-что произошло, — начал он. — В одном углу огороженной веревками площадки обрушилась земля. Мы этого не ожидали. один из строителей едва не провалился вместе с ней, я едва успел его оттащить.
Декан удивленно глядел на него.
— О, — начал он нерешительно. — Надеюсь, он не собирается судиться из-за этого с университетом?
Беллоуз покачал головой. И криво усмехнулся.
— Ничего подобного. Просто это очень странно. Я никогда не видел ничего подобного. Я просмотрел все планы университетских построек и прилегающей к ним земли, территорию университета я знаю до последнего фута. Я мог бы поклясться, что здесь и близко нет никаких крипт или катакомб; ну, кроме, конечно, тех, которые построили отцы-основатели.
Дэрроу нетерпеливо помотал головой:
— Мне кажется, я тебя не понимаю.
Беллоуз откинулся на спинку глубокого кресла, отхлебнул еще кофе и снова заговорил, особенно тщательно подбирая слова.
— Тот оползень показался мне неестественным, — сказал он. — Я знаю этот участок, на нем нет естественных причин для подобных происшествий. Разумеется, мы огородили провал досками и повесили предупреждающие знаки. Там, где земля провалилась, я увидел черную дыру. Она была футах в пятнадцати от основания мемориала. Очевидно, из-за нее и произошел тот несчастный случай, которого ты едва избежал. Но крест упал не только из-за дыры. Это лишь привходящее обстоятельство.
Заметив некоторые признаки нетерпения на лице декана, он поспешно продолжал, боясь, как бы тот не прервал его.
— Когда рабочие сделали перерыв на обед, я взял фонарь и веревку, — объяснил он. — И спустился в провал. Там я обнаружил нечто необычайное. Настолько необычайное, что мне бы очень хотелось, чтобы ты взглянул на это сам.
Декан шмыгнул носом. Как хорошо знал его друг, он терпеть не мог экстравагантных выражений и превосходных форм.
Дэрроу поднял брови.
— Необычайное? Не слишком ли сильно сказано?
Беллоуз потряс головой.
— Так может показаться, пока сидишь здесь. А когда сам увидишь…
Декан так резко поставил на стол свою чашку с кофе, что она звякнула.
— Но что мне за интерес заглядывать в какую-то дырку в земле, Эндрю?
— Ты не понимаешь, — возразил Беллоуз. — Я взял веревку и фонарь, я уже говорил. Я спустился вниз, с большой осторожностью, как ты понимаешь, так как у меня не было желания быть застигнутым новым обвалом. Но, добравшись до низа, я обнаружил, что отверстие становится там значительно шире. Более того, из него тянет холодным воздухом.
И снова Дэрроу поднял на него глаза.
— И все-таки я не понимаю…
Он умолк, когда его посетитель насмешливо прищелкнул языком.
— Дай мне, пожалуйста, закончить. Подземный сквозняк показывал, что я спускался не просто в яму или глубокий колодец. Я сразу понял, что подо мной коридор, и, вероятнее всего, не с одним выходом, иначе откуда под землей взяться сквозняку?
Он ненадолго умолк и снова задумчиво пригубил кофе.
— Там и был коридор, — просто сказал он. — Точнее, целая система коридоров. Я оказался в большом круглом зале, явно рукотворном, так как на стенах сохранились отметины от инструментов. Ровно на середину потолка приходился крест, его падение и вызвало дальнейшую осыпь. Осторожно обойдя зал кругом, я заметил странные следы на пыльном полу.
Тут он весь содрогнулся, но все же продолжал:
— Впечатление было такое, будто кто-то волоком перетаскивал тяжелые мешки. Все следы сходились прямо под крестом, в центре.
— Любопытно, — вставил доктор Дэрроу, устремив мрачный отсутствующий взор на ряды журналов, которые стояли на полке у дальней стены.
— Вот именно, — сказал Беллоуз. — Но это еще не все. В западной стене зала, на равном расстоянии друг от друга, открывались еще ходы, которые полукругом охватывали зал. Ходы показались мне длинными, и когда я проник в один из них, то у меня сложилось впечатление, что он уводит очень далеко. Непрерывный сквозняк приносил с собой тошнотворный запах.
Его голос дрогнул.
— Как будто от гнилых овощей. Как ты понимаешь, дальше я исследовать не стал, так как не хотел заблудиться. Всего тоннелей было семь — по три с каждой стороны от центрального, самого большого. А по всему периметру круглого зала на стене были высечены какие-то надписи, разобрать которые я не сумел. Без долгих размышлений я выбрался на поверхность и, пока детали увиденного были еще свежи в моей памяти, сделал кое-какие наброски. Потом я велел рабочим сколотить тяжелую крышку из досок, накрыть ею провал и поставить сверху тачки, наполненные строительным мусором, чтобы никто больше не мог туда войти.
Криво усмехнувшись, декан облизал внезапно пересохшие губы.
— Похоже на то, что ты боялся, как бы кто-нибудь не вышел оттуда, — сказал он, как будто пошутил. Но Беллоуз не оценил его попытки разрядить атмосферу.
— Ты — первый, кому я об этом говорю. Мне кажется, нам следует провести предварительное расследование вдвоем, прежде чем передавать новость огласке.
Собеседник неотрывно смотрел ему в лицо.
— Что ты хочешь сказать, Эндрю?
Беллоуз пожал плечами.
— Мне нужен независимый свидетель твоего уровня. К тому же я больше не хочу спускаться туда один.
Повисла долгая пауза.
— У тебя должны быть на то основательные причины.
— У меня они есть. Там, внизу, я кое-что слышал. Звуки неслись по коридору издалека.
Декан сделал жалкую попытку рассмеяться, но его смех замер и перешел в неловкое молчание.
— Может, это ехали наверху машины? Или журчала вода в канализации? Или какие-то шумы проникали в подземелье из университетских зданий сверху?
— Может быть, — медленно сказал Беллоуз. — Но, по-моему, нет. Вот почему я вернулся к себе и взял вот это. — Он похлопал себя по объемистому карману охотничьей куртки, которую надевал всегда, когда шел на стройплощадку.
— Мой старый армейский револьвер. Ты идешь со мной?
Декан неохотно встал.
— Хорошо, — мрачно согласился он. — Это дело требует тщательного расследования.
Был уже конец дня, когда декан и Беллоуз прибыли на место, где раньше стоял крест; теперь он лежал чуть в стороне, под брезентом, а рабочие уже ушли домой. Поджав губы, декан с нехорошим предчувствием глядел на место своей несостоявшейся гибели; земля на много ярдов вокруг была перекопана, пьедестал извлечен, а зияющая дыра тоннеля пряталась под деревянной крышкой, о которой говорил землемер; веревочное ограждение и дощатый забор делали площадку похожей скорее на место закладки будущего жилого дома, чем на часть университетского кампуса.
Кругом было тихо; студенты в это время расходились кто на ужин, кто по библиотекам, готовить домашние задания, так что лишь редкие пешеходы исчезали и появлялись где-то вдалеке. Декана все в университете хорошо знали в лицо и уважали, а потому их с Беллоузом уединению ничего не грозило.
— Ну что же, приступим? — спросил ученый муж.
Какая-то напряженность в поведении товарища насторожила его, и дальнейшие слова замерли у него на устах. Загорелый Беллоуз заметно побледнел, а его губы слегка дрожали. Он так напряженно прислушивался, что Дэрроу пришлось положить руку ему на плечо, прежде чем тот осознал, что к нему обращаются.
— В чем дело? — спросил декан.
Землемер стряхнул его руку.
— Ни в чем, — последовал резкий ответ. — Показалось, вот и все. Как будто гроза где-то вдалеке.
Декан пожал плечами.
— Транспорт за стенами университета, — предположил он.
Беллоуз неохотно согласился.
— Может быть, — напряженно ответил он. — Что ж, давай спускаться.
Он приблизился к импровизированной двери так стремительно, точно стряхнул с себя некий транс. Дэрроу его движения показались скованными и немного механическими, но он ничего не сказал, а только последовал за ним, внимательно наблюдая, как открывалась огромная черная дыра в обрамлении осыпавшейся земли и мелких камней.
Беллоуз запасся большим электрическим фонарем, а декан захватил с собой ручной фонарик и кожаные водительские перчатки, так что они были неплохо экипированы для небольшой подземной вылазки, которая, по их предположениям, должна была продлиться всего несколько минут. Все равно для детального исследования странных коридоров понадобится куда больше и людей, и оборудования, ведь, если верить словам землемера, подземелье может оказаться весьма обширным.
Никто из двоих не спешил сделать первый шаг вниз, оба стояли у края черной дыры в потревоженной земле и смотрели в нее, как загипнотизированные.
— Кстати, — начал декан, словно для того, чтобы разрушить чары, — ты еще не показал мне рисунки, которые сделал прежде.
Беллоуз посмотрел на него с облегчением. И пошарил во внутреннем кармане куртки.
— Они у меня здесь. Взгляни на эту черновую копию одной из надписей. Что это, по-твоему, такое?
Декан с шумом втянул в себя воздух. Хотя скопированные товарищем грубоватые символы были ему незнакомы — и уж тем более ускользал от понимания их смысл, — их подобия уже встречались ему раньше. Он рассматривал их в старинных книгах, которые хранились в запретной секции университетской библиотеки. Но он лишь кивнул, склоняясь над скрученными листами линованной бумаги, которые вложил в его руки Беллоуз, и нисколько не обращая внимания на резкий ветер, который с наступлением сумерек вдруг задул в кампусе.
Наконец он хмыкнул и вернул листки.
— Интересно. — Это был единственный комментарий, который он себе позволил. — Что ж, продолжим? Мне еще сегодня лекцию читать.
Беллоуз пробормотал извинения, а потом нагнулся и заглянул в черный провал, куда уходил усыпанный мелкими камешками склон. Декан увидел, что провал имеет около четырех футов в ширину, и стал ждать, когда его спутник зажжет мощный электрический фонарь и начнет осторожно сходить вниз по склону. Про себя он отметил, что насыпь была довольно длинной и плавно переходила в каменный пол, о котором ему говорил товарищ.
Дождавшись, когда Беллоуз ступит на твердый пол, Дэрроу тоже нерешительно пошел за ним, радуясь яркому лучу фонаря впереди, который тем отчетливее проявлял подробности окружающего, чем тусклее становился квадратик неба над ним.
— Не волнуйся, — сказал Беллоуз, точно читая его мысли. — Далеко мы не пойдем, а на случай, если нам вздумается обследовать проходы, я взял с собой веревку.
Картина, которую вырвал из мрака луч фонаря, действительно оказалась впечатляющей. Нервно облизываясь, декан внимательно осматривал большую круглую камеру, в то время как его профессиональный инстинкт постепенно оттеснял страх, который он испытывал во время спуска. Теперь он понимал, что этот испуг возник исключительно под влиянием некоторых старинных фолиантов из университетской библиотеки; но, разумеется, лишь тех, что были написаны на латыни, старофранцузском и староанглийском языках, ибо рунические тексты до сих пор не поддавались усилиям даже самых талантливых дешифровщиков.
Шум машин и прочие звуки, столь привычные для любого крупного скопления людей, стихли, и зловещая тишина сводчатого подвала обступила друзей со всех сторон.
Беллоуз медленно пошел по периметру зала, держа свой фонарь так, чтобы его товарищ мог видеть странные иероглифы, которые неровным фризом охватывали весь зал, следуя изгибу его стен и опоясывая его одним непрерывным предложением. Семь темных тоннелей, вырытых в западной стене зала, смотрели на них, точно семь черных глаз. Над каждым из них руны становились крупнее, точно обозначая названия или какие-то их функции, и Дэрроу так увлекся, что даже позабыл о своем компаньоне.
Тот долго вглядывался в пол у себя под ногами и вокруг, насколько хватало тусклого света карманного фонарика, и вдруг резко остановился.
— Эй! — с тревогой сказал он. — Этого тут раньше не было.
Декан направил луч большого фонаря в его сторону, но сперва не увидел ничего, кроме нескольких смазанных отпечатков у его ног.
— Их раньше здесь не было, — упорно твердил Беллоуз.
Дэрроу подался вперед.
— И впрямь похоже на то, как будто тут волочили тяжелые мешки, — с сомнением произнес он. — Но я не улавливаю…
И он умолк, а его компаньон заговорил:
— Ты не понимаешь. Здесь были кое-какие следы, как я тебе и говорил.
Тут он взглянул на часы у себя на запястье.
— Но эти новые отпечатки появились тут за последний час.
Тревожное молчание повисло между ними.
— Может, рабочие спускались сюда, чтобы посмотреть, — без особой уверенности проговорил Дэрроу.
Беллоуз покачал головой.
— Я четко сказал им ни в коем случае этого не делать. Кроме того, там, на осыпи, только мои следы вниз и вверх. Что-то выходило из этих тоннелей.
Бледный луч фонаря заплясал вокруг зияющих черных отверстий.
— Гляди! Эти следы ведут в центральный тоннель. Мы должны посмотреть, что там.
Декан сухо кашлянул.
— По-твоему, это мудро, Эндрю?
Подрядчик покачал головой:
— Может быть, и нет. Но мне чертовски любопытно. И потом, нас же двое. У нас есть фонари и мой револьвер. Не думаю, чтобы нам грозила серьезная опасность. И вряд ли с нами случится что-нибудь плохое, если мы просто немного пройдемся по центральному тоннелю.
Декан лишь пожал плечами, хотя затея эта была ему вовсе не по вкусу. Снова окинув взглядом круглый зал, он сдался.
— Как хочешь. Если, по-твоему, это не опасно.
Явная нервозность ученого друга, кажется, только подстегнула землемера. Быстро, пока его спутник не передумал, он зашагал через зал к тоннелю. Бледный круг света плясал на полу перед ним. Когда они подошли к самому устью тоннеля, он оказался еще больше, чем они считали до сих пор, а эхо их шагов отдавалось в нем громче и дольше, чем это бывает обычно. Эффект был настолько поразительным, что двое мужчин замерли, как по команде, вслушиваясь в отдаленную рябь звуков, которая еще долго не могла улечься. Но ни один из них не сказал ни слова, а Беллоуз даже отвел глаза, почувствовав, как странная тяжесть легла ему на сердце, и не желая признаваться в этом своему компаньону.
Затем они двинулись дальше, отмечая про себя гладкость вытесанных резцом стен и ровность пола. Декан прочистил горло.
— Все это явно рукотворное, как ты и говорил, Эндрю. Но какая тонкая работа и какая древняя, а ее размах…
Его голос прервался от восхищения, и он умолк.
— И все это в сплошном граните. Понимаешь ли ты, что это значит?
Беллоуз ехидно улыбнулся.
— Я-то понимаю. Я же все-таки строитель. Или ты забыл?
Дэрроу покачал головой.
— Прости. Я вовсе не имел в виду, будто лучше тебя все знаю. Просто теперь мне ясно, чем тебя так взволновало это открытие. Нам определенно следует здесь немного оглядеться. А ты не забыл про бечевку?
— Нет, конечно. Но проход совершенно прямой. Мы просто вернемся по своим следам.
Декан пожал плечами.
— Это уж как получится. однако если нам встретится ответвление…
Но Эндрю Беллоуз уже склонил голову набок и прислушивался, его лицо в желтом свете фонаря выглядело напряженным и осунувшимся, а рука продолжала разматывать бечеву в такт медленным шагам. Он заговорил, точно размышляя вслух:
— Никаких ответвлений здесь нет, разве что для связи с параллельными коридорами. Ты про вспомогательные ходы не забыл? И все они ведут к Инсмуту и к морю. Причем немного отклоняясь от центрального направления, как я сразу понял.
И мечтательно добавил:
— Точно лучи заходящего солнца.
Доктор Дэрроу бросил на него пронзительный взгляд, словно забыв все прежние страхи.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Не знаю. Но тут кроется тайна куда большая, чем даже я мог предполагать.
Минут около пяти мужчины в молчании продвигались вперед, окруженные теплым стоячим воздухом большого тоннеля, в котором раздавались лишь отзвуки их дыхания да ломкое эхо шагов. Сквозняк, который они ощущали в круглом зале, пропал. Позади осталась примерно четверть мили, предположил землемер, глядя на съежившийся моток бечевки у себя в руке. Тут тоннель сделал едва заметный поворот и, как подсказывало ему его профессиональное чутье, устремился прямиком к морю, а точнее, к старинной гавани Инсмута. Вместе с этим в лицо им подул ветерок, донесший неописуемый запах; застарелая, наполовину выветрившаяся вонь смешивалась в нем с иным, более крепким ароматом; ощущение было такое, словно они приближались к рыбному рынку. Оба, не сговариваясь, тут же прибавили шагу.
Однако их почти сразу остановило явление, неожиданное для этого математически выверенного мира, где все поверхности, будь то цилиндрические стены тоннелей или пол у них под ногами, были исполнены с небывалой точностью, словно при помощи циркуля и линейки, так все было ровно и прямо.
Хаос рисовался впереди, в колеблющемся желтом луче фонаря; огромные каменные блоки, гладкие, точно вырезанные гигантским ножом, вкривь и вкось громоздились друг на друга от пола до самого потолка. Опытный глаз землемера тут же определил, что перед ними не простой обвал. Во-первых, эти блоки были из другого камня, а не из того гранита, в котором были прорублены тоннели. Это был базальт, темно-коричневый и невероятно древний; казалось, их подняли сюда с невозможной глубины. Голос Беллоуза, как и его губы, дрожал, когда он шептал на ухо своему компаньону:
— Кажется, кто-то принес эти блоки сюда с одной-единственной целью: преградить нам путь.
Дэрроу не ответил, и мужчины некоторое время стояли молча, подавленные тем, что творилось у каждого в душе. Следы в пыли давно кончились, что было само по себе странно, как будто до них тут никто никогда не проходил. Получалось, что невероятная силища, воздвигнувшая этот неодолимый барьер, явилась откуда-то со стороны; с той, которая была обращена к Инсмуту и большому рифу за ним.
— Невероятно, — прошептал наконец Беллоуз.
Единственным ответом было полузадушенное бульканье его компаньона. Звук был так неожиданен и особенно ужасен в этом месте, что землемер едва не уронил фонарь. Он выхватил револьвер и нацелил его в обступавшую со всех сторон тьму, но было тихо и неподвижно, только метался по стенам луч фонаря. Тут он понял, что Дэрроу рядом с ним стоит на коленях. Его лицо в тусклом свете фонаря было мертвенным.
— Ты их видел? — шепотом выдавил он.
Беллоуз внезапно похолодел, и лишь усилие воли удержало его голос от дрожи.
— Нет, я ничего не видел.
Декан прислонился к нему, точно ища поддержки.
— Ужасные извивающиеся создания, с плоскими, как у змей, головами. Они как будто прошли сквозь стены.
Голос Беллоуза задрожал, когда он отвечал.
— Давай-ка выбираться отсюда, — прошептал он, сам почти в панике.
Он почти силой оттащил товарища от каменной преграды, и они шаткой рысью пустились прочь, забыв про бечеву, только лучи фонарей метались по стенам тоннеля.
Когда они достигли круглого зала, то оба были близки к изнеможению, и Беллоуз поддерживал друга. Позади них в тоннеле дольше обычного не стихало эхо их поспешного отступления.
— Сейчас я покажу тебе то, что мало кто видел, — сказал Дэрроу.
Было уже почти темно, и двое мужчин снова сидели в кабинете декана.
— Я заказал расшифровку ряда книг из опечатанной секции библиотеки. одному из самых блестящих моих коллег, Джефферсону Холройду. Несколько лет назад он преподавал у нас и с тех пор регулярно приезжает читать лекции. Быть может, ты о нем слышал?
Беллоуз поглядел на полупустую бутылку виски на столе между ними и снова наполнил стакан. Он стыдился своей недавней паники, однако видел, что его друг пережил еще больший страх; он даже отменил лекцию. И двое мужчин, едва запечатав вход в подземелье, сразу прошли в его кабинет, где беседовали уже несколько часов.
— Смутно, — ответил Беллоуз. — А что он для тебя расшифровывает? Уж не те ли знаменитые книги, о которых я слышал столько раз?
Декан кивнул. Живость красок вернулась его лицу, и он, казалось, почти пришел в себя, хотя время от времени окидывал тревожным взглядом уютную комнату с панелями на стенах. Желтые глаза огней уже начали открываться на черном бархатном пологе кампуса, и декан неверным шагом подошел к окну, чтобы задернуть тяжелые шторы. После чего вернулся к столу.
— Насчет твоих галлюцинаций, — начал землемер, едва его друг опустился в кресло. — Я бы предположил…
Дэрроу покачал головой.
— Никаких галлюцинаций, Эндрю. Те твари так же реальны, как и мы с тобой, хотя я и видел их всего несколько секунд.
Но Беллоуз продолжал настаивать.
— Непривычная атмосфера, неверный свет фонарей, напряженность момента… — строил предположения он.
Выразительное движение головы было ему ответом.
— Ничего подобного. Слушай, Эндрю, я тебе кое-что скажу. Кое-что такое, о чем знает лишь горстка людей. Меньше всего нам нужна паника в кампусе.
Он понизил голос, точно боялся, как бы их кто-то — или что-то — не подслушал.
— Странные вещи творятся у нас в последний год или два. Странные, необъяснимые события, и последнее происшествие тому пример. Вот почему я попросил помощи у Холройда. Он один из лучших криптологов в США. Кроме того, он в совершенстве изучил древние языки. Я дал ему на расшифровку машинописные копии редких томов из нашей библиотеки. Кое-какие результаты он уже получил. Вот поэтому книги и похитили.
Беллоуз ответил ему мрачным взглядом.
— Откуда тебе это знать?
Дэрроу покачал головой.
— Просто знаю, Эндрю, и все. Нутром чую.
Он криво усмехнулся и плеснул себе еще виски, с каплей содовой на этот раз.
— К счастью, я скопировал все книги целиком. Каждую в трех экземплярах, и каждый экземпляр хранится в таком месте, которое известно лишь двум людям. один из этих людей — я; другой — главный библиотекарь университета.
— Не возьму в толк, что ты пытаешься мне сказать, — после долгого молчания произнес Беллоуз. — Во всех этих происшествиях, на мой взгляд, нет ни капли смысла.
Дэрроу склонился к нему через стол, его осунувшееся напряженное лицо напоминало маску, пересеченную горизонтальной линией белых щетинистых усов.
— Нет, Эндрю, смысл есть. И ужасающий. Вот почему я возлагаю такие надежды на Холройда. Если кто и сможет найти ключ к этой страшной загадке, то только он. Я взял на себя смелость послать за ним сейчас. Минут через десять он будет здесь. Это человек безукоризненной честности, и нервы у него железные. Вы с ним составите прекрасную пару для совместного исследования этих тоннелей. Боюсь, что сам я уже больше не осмелюсь спуститься туда. Мои нервы на пределе. Да еще и полицейское расследование на носу…
— Ты меня удивляешь, — ответил Беллоуз. — До меня, разумеется, доходили разные слухи о вашем кампусе. Люди сплетничают о том, что творится тут в последнее время. Свет, который сам собой зажигается и гаснет в общежитии. Тело Конли, найденное в пруду; кража книг. Но я и не предполагал, что ты так близко принимаешь все это к сердцу и даже видишь во всем этом какую-то связь.
Декан устало улыбнулся в ответ.
— Дорогой мой Эндрю, я уже давно приучился скрывать свои чувства, — мягко продолжал он. — Это бесценное качество для всякого, кому приходится иметь дело с учеными мужами, многие из которых — сильные личности, постоянно враждующие между собой.
Беллоуз тоже улыбнулся.
— Такое бывает не только в академической среде. Каждый из нас несет свой крест.
Тут в дверь громко и решительно постучали, и Беллоуз встал. Он с интересом наблюдал за Дэрроу, когда тот бросился открывать.
Холройд оказался мужчиной средних лет, приятной наружности, худощавым, но хорошо сложенным, с густой копной кудрявых волос, едва тронутых сединой, и с пышными черными усами, поразительно контрастировавшими с белизной его зубов, которые то и дело открывались в улыбке. Прежде чем Дэрроу повел его к столу, чтобы представить Беллоузу, которого тот и так уже знал в лицо, Холройд успел окинуть обоих мужчин спокойным взглядом карих глаз.
— Хочу пригласить вас в библиотеку, доктор Дэрроу, — без долгих предисловий начал он. — Я разработал механический метод обработки данных, основанный на применении математических формул. Результаты обещают быть довольно интересными. Сам метод может пригодиться университету в будущем.
Он улыбнулся растущему возбуждению декана.
— Прошу вас не питать слишком больших надежд, джентльмены. Это всего лишь начало.
Декан сморщил лицо.
— Уж не хотите ли вы сказать, что и впрямь получили результаты?
Холройд помедлил между дверью и столом.
— Вы знаете, декан, что я не любитель громких заявлений. Но кое-что интересное есть. Записи закодированы, вне всякого сомнения. И мне удалось подобрать английские соответствия для нескольких предложений.
Возбуждение декана передалось и Беллоузу, и тот порывисто вскочил.
— Мы должны это увидеть.
Беседуя так оживленно, словно они дружили всю жизнь, трое мужчин прошли через личные апартаменты декана и поднялись по высокой мрачной лестнице в архитектурно безупречную, хотя и несколько строгую центральную библиотеку университета. Блики заката еще не погасли на эркерных окнах ведущей к книгохранилищам аркады, бросая кровавокрасные отблески вперемешку с густыми тенями под ноги поспешавшему трио. Но те не обращали никакого внимания на то, что их окружало, пока не оказались в огромном сумеречном зале, где на столах горели лампы под зелеными абажурами.
Помещение в форме буквы «Б» служило справочным отделом, массивные издания в кожаных переплетах покоились на длинных столах; здесь же была дверь в запретную секцию библиотеки, куда имели доступ лишь главный библиотекарь и декан. Беллоуз выразил удивление тем, что библиотекаря не позвали на совет, но декан объяснил, что этот джентльмен взял отпуск и поехал навестить больного родственника в штате Мэн.
Холройд принес в кабинет декана печатные символы того тома, с которым он работал в данный момент, однако все его текущие заметки и черновые записи остались лежать на столе. Едва они вошли, раздался странный шелест, и Холройд окинул взглядом большое, наполовину затененное пространство, в котором отблески заката боролись с зеленым светом ламп.
— Кто-нибудь оставался здесь, пока вы спускались к нам? — с излишней, как показалось Беллоузу, резкостью спросил декан.
— Понятия не имею, — отвечал Холройд. — Но ведь главная библиотека всегда открыта вечерами, чтобы студенты могли готовиться к занятиям, разве нет?
— Разумеется, — поспешно согласился декан. — Я не это хотел сказать…
Он осекся, проследив направление взгляда Холройда. Беллоуз тоже заметил груду искореженного металла под дальним столом, и теперь пристально смотрел на нее.
Выругавшись, Холройд бросился туда и принялся рыться в обломках. Затем он встал, ошарашенный и бледный.
— Ваша шифровальная машина? — дрогнувшим голосом спросил декан.
Холройд кивнул.
— Семнадцать месяцев труда без малого, джентльмены. Уничтожены за несколько секунд.
Декан повысил голос:
— Ну, если это натворили студенты, то, Богом клянусь…
Холройд покачал головой:
— Вы знаете, что это не они.
— А вам это откуда известно? — спросил недоумевающий Беллоуз. — Если здесь никого нет…
Красивое лицо Холройда обретало свой нормальный цвет.
— Декан понимает, о чем я, мистер Беллоуз. Прошу прощения…
Он стремительно отошел, не глядя больше на сверкающие металлом обломки машины на полу.
— А может, она упала сама по себе? — беспомощно предположил Беллоуз.
Ответа не последовало, декан напряженно следил за криптологом, который отчаянно шелестел бумагами у себя на столе. Наконец Холройд выпрямился, часто дыша.
— Ничего? — тяжело спросил его декан.
Холройд опустился в кресло, невидящими глазами глядя на своих спутников. Все трое вздрогнули, когда в дверном проеме, сквозь который они недавно прошли, показалась какая-то тень. Но это оказался всего лишь служитель библиотеки, который нерешительно топтался на пороге.
— Все в порядке, Тиббс, — произнес своим обычным голосом декан. — Небольшое происшествие, вот и все. Если нам что-нибудь будет нужно, я позову.
Тот вышел, бормоча неразборчивые извинения.
— одни чистые листы, — сказал Холройд, отвечая на вопрос декана, который, как показалось всем троим, был задан в незапамятные времена.
— Вы говорили что-то насчет английских соответствий, — после еще одной долгой паузы начал декан. — Не припомните ли вы, в чем они заключались?
Разительная перемена произошла в лице Холройда, едва декан открыл рот. Он провел рукой по лбу.
— Кажется, они временно вылетели у меня из головы, — извиняющимся тоном сказал он.
— Может быть, печатные заметки смогут освежить вашу память, — подсказал Беллоуз.
Не успел он закончить, как папка, которую Холройд положил на угол стола, раскрылась, словно от ветра, неслышимо и неощутимо для людей заполнившего библиотеку. Листы рассыпались по полу, а когда землемер и декан опустились на колени, чтобы помочь ученому собрать и рассортировать их, то увидели, что они также совершенно пусты.
— Это невозможно, — произнес декан, — и все же это случилось.
Воздух в их углу библиотеки стал сизым от табачного дыма, и Тиббс маячил невдалеке, не давая приблизиться студентам, хотя их голоса вместе с зеленым светом ламп уютно сочились через стеллажи с книгами.
— Содержимое книги исчезло; из декодированного вы не помните ничего; машина, на которую вы потратили столько времени, разрушена, — сказал Беллоуз, — и все это совпадает с тем, что произошло сегодня с деканом в тоннеле. По-моему, данные обстоятельства только усугубляют необходимость скорейшего исследования подземелий.
— Возможно, — угрюмо согласился Холройд. — Но действовать необходимо осмотрительно. Мои исследования отброшены далеко назад, надо признать. Но это не конец, а лишь временная задержка. Копию машины можно воссоздать по моим рабочим чертежам; оригинал фолианта, над которым я работал, хранится под надежным замком; и, начав во второй раз, я не стану полагаться на столь эфемерную субстанцию, какой оказалась моя память. Да и рисунки мистера Беллоуза окажут мне неоценимую помощь. Надписи из круглого зала во многом совпадают с теми, над которыми я работал.
Беллоуз смотрел на него скептически.
— Быть может, тем людям не хватает именно этого, — предположил он. — Времени.
— Каким людям? — вздрогнув, спросил декан.
Беллоуз устремил на него укоризненный взгляд.
— Ну, хорошо, не людям. Как тогда прикажешь их называть? Тварям?
Губы декана задрожали.
«Никаких сомнений», — подумал Беллоуз.
— По-твоему, существует какая-то связь между тем, что произошло сейчас, и тем, что я видел в том проходе? — спросил он.
Беллоуз пожал плечами.
— Возможно. Судя по твоим словам, в Мискатонике творится немало странного. А вы как думаете, мистер Холройд?
— Я склонен с вами согласиться. Должен признаться, события сегодняшнего вечера меня потрясли.
Он взглянул на часы.
— Уже почти 10. Пора есть. Все равно ничего полезного сегодня мы уже не сделаем. Да и Тиббс ждет, время закрываться.
И трое мужчин в мрачном молчании сошли вниз по огромной лестнице.
Вырвавшись из удушливой атмосферы комнаты с крашенными зеленой краской стенами, капитан-детектив Корнелиус Оутс с благодарностью вдохнул сырой воздух. С высоты холма, на котором стоял полицейский участок в Оук Пойнте, был прекрасно виден Инсмут, раскинувшийся слева; дальше, за рифом, над морем тянулась белесая полоса тумана, и птицы с отчаянными криками то бросались в нее, то выныривали снова, точно делили добычу, качавшуюся на волнах; море почему-то совсем не отражало свет перезрелой оранжевой луны, бесстыдно сиявшей прямо над головой капитана; не менее зрелая вонь, похожая на миазмы тропического леса, неслась со стороны заброшенных и гниющих инсмутских пристаней, а меланхолический ор лягушек только подчеркивал странность того места, куда всего несколько дней назад привел капитана служебный долг.
Оутс вздохнул. Он был крупным мужчиной, привычным к городской одежде и городской жизни; но, кроме того, он был лучшим полицейским детективом в этой части страны, и потому именно его отправили из столицы штата сюда, в эту богом забытую глушь, для расследования серии событий, которые так озадачили и ужаснули многих и без того отсталых и слегка не от мира сего обитателей округа между Инсмутом и Аркхэмом.
Оутс с облегчением обернулся, когда дверь позади него отворилась и наружу просунулась длинная голова с песчаного цвета шевелюрой — доктор Юарт Ланкастер, местный полицейский хирург.
— Видели когда-нибудь подобное, док?
Тот пожал плечами.
— Вы правы, капитан. Я уже сорок лет практикую в здешних местах, но еще ни разу ничего похожего не видел.
Оутс проницательно взглянул ему в лицо, которое было как раз в луче света, наискосок падавшего в темноту из приотворенной двери. Даже ночная погода, и та была здесь какая-то странная. Доктор закурил огрызок сигары, который достал из жилетного кармана, и протянул собеседнику пачку гаван. Полицейский с придирчивым видом знатока выбрал одну, отрывисто поблагодарил доктора, и мужчины молча закурили, разгоняя благословенным ароматом табака вонь патологоанатомической комнаты, которую они только что покинули.
— Да, капитан, — мрачно продолжал доктор Ланкастер. — Как вы и говорили по телефону. Черты лица растворились, точно смазанные какой-то чудовищной губкой. Все расплющено и перемешано. Что писать в отчете, ума не приложу.
Оутс пожал плечами, мыслями он был далеко, в той относительно нормальной атмосфере городских улиц, по которым он ходил буквально только что.
— Может, рыбы, — предположил он.
Ланкастер посмотрел на него с недоверием.
— В том пруду? — мягко возразил он. — Мне еще не встречалась форма жизни, которая могла бы сотворить подобное с человеческим лицом.
— Вы меня не поняли, док, — продолжал офицер. — Я говорю об отчете. В нем же надо что-нибудь написать. Парень упал в пруд, допустим; вода была ледяная, температурный шок привел к остановке сердца; труп оставался там несколько дней, рыбы попортили ему лицо.
Доктор натянуто улыбнулся.
— Вы можете верить в это, капитан. Я сам могу в это верить. Но что скажут власти города? Вот что должно нас с вами волновать.
И он хитро покосился на здоровяка детектива.
— Каково ваше настоящее мнение?
Если он ждал прямого ответа, то просчитался.
Оутс почесал подбородок, не спуская глаз с переливчатой ленты тумана за рифом.
— Мы должны написать что-нибудь в отчете, док. Больше я вам ничего не скажу. Может, нам самим это и не нравится, но, пока мы не добрались до сути вещей, надо положить конец дурацким вопросам и заткнуть деревенщинам рты.
Доктор Ланкастер не сводил с Оутса глаз. Он неохотно заговорил:
— Вы сказали, что нужные вам подборки аркхэмских газет как раз отдали в переплет. Поезжайте в Инсмут, но только инкогнито, и пошныряйте там туда-сюда. Загляните в газетные отчеты двухлетней давности в тамошней библиотеке.
Он помолчал.
— О тварях, которые якобы живут позади рифа, давно уже ходят разные байки. Некоторые верят, будто они собираются прибрать к рукам все население Инсмута и Аркхэма. Чушь, конечно, но для начала сгодится.
Оутс сосредоточенно смотрел вдаль, чувствуя, как крепчает вонь с болот, которые вплотную подступали к Оук Пойнту с противоположной стороны.
— Удивляюсь я вашей силе духа, доктор. Вы живете здесь сорок лет. А с меня сорока часов хватило.
Доктор мрачно усмехнулся и с понимающим видом затянулся сигарой.
— Дело привычки, — заметил он.
— Может быть, — согласился Оутс. — Но места чуднее, чем округ Инсмут-Аркхэм, я не встречал за всю мою жизнь. Еще чуть-чуть, и он напугает меня до конца моих дней.
Холройд вздрогнул и проснулся. Сначала он не мог понять, где находится. Потом вспомнил, как говорил с деканом и Беллоузом о своем намерении не возвращаться на ночь домой. В кампусе у него была квартира, где он ночевал, когда ему случалось заработаться допоздна. Вот и теперь лунный луч прокрался в щель между ставнями и разбудил ученого, упав ему на лицо. Тут начался громкий перезвон часов; в ночной симфонии сплетались старчески надтреснутые голоса колоколов с островерхих церквей Аркхэма; из университета им вторили мелодичные голоса более юных часовых механизмов, установленных на зданиях общежитий, в часовнях и на фасадах трех главных университетских храмов. Концерт длился минуты три: такова была разница во времени между старинными механизмами, отстававшими минуты на две и более, и их молодыми коллегами, нередко убегавшими вперед, — за это время Холройд успел сообразить, что сейчас около трех часов ночи. Когда ветер дул с моря, в ночной тиши можно было различить бой часов в Инсмуте.
Холройд уже собирался повернуться на другой бок, как вдруг, впервые с момента своего пробуждения, осознал, что в комнате происходит что-то странное. Он интуитивно догадался, что именно это и вывело его из состояния глубокого сна. Еле слышный вкрадчивый шорох, как будто ребенок или старик шуршал, потирая клочками пожелтевшей бумаги друг о друга. Возможно, этот возникший в его мозгу образ был безобиден, но настолько неуместен для того времени и места, что Холройда бросило в пот.
Казалось, звук шел из стены поблизости от его изголовья, медленно пересекал комнату по направлению к окну, но, не достигнув его, поворачивал назад, становясь с каждым разом все громче. Холройд закрыл глаза, но это не помогло: звук не проходил и не делался тише. Более того, он усиливал тревогу ученого, ибо каждый раз, когда вкрадчивый звук возвращался к нему из темноты, он тревожно таращил глаза, боясь, как бы не случилось что-то страшное, если он их закроет. Открытые глаза помогали ему сохранять чувство защищенности, словно гарантировали, что та тварь — или кто бы там ни был — не посмеет напасть на него, пока он не спит, держится настороже и полностью владеет своими способностями.
Когда шелест в третий раз обогнул комнату Холройдом овладело неудержимое желание подняться с постели; в спальне было по-прежнему темно, а чтобы включить свет, надо было пройти вдоль всей той стены, от которой доносились подозрительные звуки. Этого ему, по понятной причине, делать не хотелось. Тогда он натянул поверх пижамы брюки и при свете полной луны, сочившемся сквозь ставни внутрь, начал нашаривать ногами тапочки.
Однако, опустив ногу на ковер, он, к немалому своему ужасу, вместо знакомых очертаний комнатной туфли ощутил ледяное прикосновение чего-то скользкого и студенистого. Он отдернул ногу, точно ужаленный, и тут же увидел длинную серую тварь, похожую на змею, с белыми незрячими глазами, которая с невероятной скоростью скользила по ковру, изгибаясь и вибрируя так, словно под ее кожей жили и двигались сотни разных существ. Серое чудовище скользнуло в его штанину и поползло вверх по ноге, заставив его завопить раз, потом другой. Тошнотворная вонь ударила ему в нос, он ощутил жгучую боль и потерял сознание.
Он пришел в себя, лежа все на той же кровати, вокруг было тихо, и только из-за закрытых ставень доносились обычные для спящего университета звуки. У него было такое чувство, словно он долго бежал, и вся его пижама пропиталась потом. Встав, он добрался до выключателя, и ослепительный свет вернул его к реальности и принес освобождение от кошмара. Его тапочки, сухие и теплые, стояли на своем обычном месте у кровати. Судя по тому, как были сложены на стуле его брюки, ночью он их не надевал. Чувство облегчения затопило его. Значит, то был всего лишь кошмар.
Но, стоило ему повернуться, как его снова накрыла тошнотворная вонь. Кровь потекла ему в горло; его речевой аппарат так сжался от ужаса во сне, что он, должно быть, прикусил язык. Но откуда этот настырный запах? И тут он заметил след страшной серой слизи на пижамных штанах. И едва опять не упал в обморок.
На следующее утро Оутс поехал в Инсмут, взяв для этой цели служебный автомобиль, который превратил в гражданский при помощи простого подручного средства: заклеил полицейский знак на дверце маскировочной лентой. Ему не хотелось привлекать к себе внимание; события, в которые он оказался замешан, и без того подавляли его своей чрезвычайностью. В особенности после того, о чем рассказал ему накануне врач.
Был пасмурный, хмурый день, и старая главная дорога, совершенно пустынная, не считая прогромыхавшей однажды мимо телеги фермера, вела его через узкую скальную горловину, в которой бесновался белый от ярости Мэнаксет; черные бока скал и белые гребни пены в сочетании с холодом и одиночеством — дома вокруг почти не встречались — вызывали дрожь скорее душевную, нежели телесную; журчание речных струй оказывало на него странное, мистическое действие, как будто множество голосов настойчиво пели ему в уши, отвлекая его так, что он два или три раза едва не съехал с дороги. Наконец он остановил машину, закурил сигарету и стоял, глядя в пропасть по левую сторону от шоссе. Капитан был крупным, уверенным в себе мужчиной, за годы службы он повидал смерть в разных обличьях, но нигде и никогда ему еще не бывало настолько не по себе, как здесь.
Здесь — это не только в Аркхэме, но и на этой пустынной дороге, где вряд ли действительны юридические нормы, как недействительны они и в Инсмуте, куда лежал его путь; заштатный, запустелый городишко, как он слышал; место, где царит угрюмое молчание; цветет инцест; где странные люди кое-как сводят концы с концами, прибегая для этого к способам, которые едва ли одобрит закон. Он вспомнил одного приятеля, тоже полицейского, который в молодости три года отслужил в Инсмуте, и кое-какие из наиболее зловещих его фраз крутились теперь у него в голове.
Наглухо застегнув теплое пальто — машина, позаимствованная у аркхэмского начальства, была без верха, — он сделал хороший глоток горячего кофе из термоса, которым предусмотрительно запасся в дорогу. Рев воды в ущелье оказывал на него гипнотическое действие, а контраст белого и черного, пенных гребней волн на фоне дегтярно-черных мокрых скал наводил на мысли о смерти; может быть, потому, что эта картина ассоциировалась у него с выбеленным дождями и солнцем скелетом, брошенным среди черных камней. Но, отогнав чудные мысли, он закрыл термос, сел в машину и проехал еще несколько миль, с удовольствием ощущая тяжесть полицейского револьвера в кобуре, ремень которой приятно подавливал на грудь.
Он был уже почти на месте, и узкая горловина Мэнаксета распахнулась навстречу морю широким эстуарием, где тяжелые струи желтовато-коричневой речной воды смешивались с зеленью открытого моря. Снова остановив машину, детектив взял с заднего сиденья бинокль. Он долго изучал темный риф позади Инсмута, за которым ревел неутомимый атлантический прибой, не отвлекаясь на черных морских птиц, которые парили над волнами, периодически бросаясь в них; его интересовали глубокие пещеры, полускрытые пенными бурунами, в которых кувыркались, то показываясь на поверхности, то снова уходя под воду, какие-то тела — не то тюлени, не то еще более крупные обитатели моря, нырявшие в кипящий котел.
Полдень уже наступил, когда его машина наконец показалась на улицах полуразрушенного пригорода старинного морского порта, и он, ориентируясь по столь же древней карте — редкие прохожие кутались в плащи и не желали вступать в разговоры, — нашел-таки местную публичную библиотеку: удивительно массивное сооружение из коричневого камня с портиками в псевдогреческом стиле. Оутс поднялся по пыльной мраморной лестнице, каждым своим шагом пробуждая эхо, и наконец разглядел потускневший золоченый знак, который указывал дорогу в справочный отдел. Он уже, разумеется, побывал в главной библиотеке Аркхэма, но, как он и говорил доктору, был сильно удивлен, узнав, что все подшивки главных местных газет за последние несколько лет были отправлены в главный библиотечный коллектор графства для переплетных работ.
Вместо того чтобы ползти на машине через весь Массачусетс, он решил воспользоваться сначала теми удобствами, которыми располагала публичная библиотека Инсмута, не пренебрегая, однако, советом шефа полиции Аркхэма о том, чтобы не афишировать своего присутствия в городе. В последнее время он уже не только старался не отступать от этого совета ни на шаг, но и вообще жалел о том, что приехал сюда, так как в существующих условиях задача казалась ему невыполнимой.
Но вот яркий электрический свет вспыхнул впереди, и через несколько секунд он оказался в присутствии чопорной старой девы, мисс Тэтчер, сотрудницы информационного отдела инсмутской публичной библиотеки, которая и провела его к нужным стеллажам. Было ясно, что работа у нее не бей лежачего, и энергичный Оутс являл резкий контраст с теми немногочисленными фигурами, которые молчаливо сутулились за читательскими столами позади стойки библиотекаря.
Оутс попросил интересовавшие его номера газет, которые и были ему немедленно предоставлены, равно как и место за боковым столом с лампой, где прямо у него под рукой были положены подшивки «Инсмутского хроникера» и других местных изданий. Оутс предусмотрительно заказал не только те тома, в которых содержалось нечто для него важное, но и несколько других и теперь деловито просматривал именно последние, время от времени выписывая в блокнот что-то, не имевшее касательства к предмету его разысканий.
Войдя в зал, Оутс сразу обратил внимание на то, как напряглись при его появлении некоторые сгорбленные спины, и теперь кожей чувствовал взгляды полумесяцем расположившихся вокруг него притворно-равнодушных глаз; белые блины лиц со смазанными чертами сильно напоминали детективу тех несчастных, кого ему довелось видеть в приютах для душевнобольных больших городов востока. Но он продолжал равнодушно перелистывать страницы, то и дело подавая безобидные звуковые сигналы для мисс Тэтчер, озабоченно сновавшей рядом.
Но дела скоро призвали ее на место, и тогда Оутс смог начать преследование истинной цели своего визита. А она касалась событий, всколыхнувших относительное спокойствие Инсмута несколько лет тому назад. Перелистывая пожелтевшие страницы, Оутс постепенно вспоминал кое-какие здешние дела, получившие огласку во всем мире. Причиной их был молодой человек, потомок капитана Оубеда Марша, который сбежал из города и рассказал федералам о том, что там творится, а те, в свою очередь, провели здесь в 1928-м и 1929 годах несколько рейдов.
Тогда все завершилось взрывом пары-тройки старинных ничейных домов на набережной, а также — и это было самое странное — посылкой на инсмутский риф кораблей ВВС США, которые торпедировали пещеры, расположенные в нем на большой глубине. Чем дальше Оутс читал, тем больше изумлялся; заинтригованный, он еще час переворачивал страницы, в результате чего у него на руках оказалась подборка фактов, страннее которых ему не приходилось расследовать никогда в жизни. Не считая обстоятельств нынешнего дела, конечно, которые, собственно, и привели его сюда, невесело усмехнулся он про себя.
Если он ничего не перепутал, то замешанный в этом деле юноша, чье стремительное бегство из города так насторожило власти, позднее был упрятан в сумасшедший дом на севере штата Нью-Йорк, где, по сведениям Оутса, и продолжал пребывать в настоящее время. Тут мысли детектива были прерваны раздражающим шуршанием, он поднял глаза и увидел, что один из тех уродов, что полумесяцем сидели напротив него, встал и пошел к дверям, на ходу медленно скатывая в трубку измятую газету. Кроме того, Оутс заметил, что библиотекарь разговаривала по телефону; судя по движениям ее тени на фоне освещенной изнутри матовой перегородки ее кабинета, разговор шел напряженный.
И тут Оутс сделал удивительное открытие. Заголовки всех интересовавших его статей вместе с первым абзацем были крупно напечатаны на первых страницах газет. Но, переворачивая страницу, он всякий раз находил там совершенно другие новости, и ни намека на интересовавший его сюжет.
Мисс Тэтчер подошла к нему, ее губы были сжаты в тонкую линию.
— Мы закрываемся с минуты на минуту, сэр. Могу я получить назад газеты?
Оутс хотел было возмутиться, так как по дороге к справочному отделу успел отметить, что до закрытия еще добрых несколько часов. однако что-то удержало его от этого. Равно как и от того, чтобы обратить внимание библиотекаря на странный факт отсутствия статей. Непонятная настороженность окружавших его фигур; ощущение того, что они ждут его реакции, заставило его промолчать. Он был человек осторожный и не раз попадал в серьезные переделки. В самой библиотеке не было ничего зловещего; по крайней мере, с виду; однако шестое чувство, которое обязан иметь каждый полицейский, приказывало ему молчать.
Поэтому он лишь улыбнулся и любезно помог даме отнести тяжелые подшивки назад, на полки, откуда те были извлечены. По всей видимости, мисс Тэтчер звонила верховному начальству; или верховное начальство звонило ей. Оутс склонялся к тому, чтобы отвергнуть последнее соображение: никто ведь не мог знать о его приезде сюда. Или кто-то все-таки знал? Он снова опустился за стол, поглаживая тяжелый подбородок рукой. Кто же, кто-нибудь из полицейского управления в Аркхэме, может быть? Или сама мисс Тэтчер, встревоженная по какой-то причине запросом посетителя, набрала номер вышестоящего начальства в том же здании и попросила инструкций? Последнее было более вероятно, и он слегка расслабился, не забывая, впрочем, о любопытных, даже враждебных глазах, молчаливо таращившихся на него из-за соседних столов в желтоватой полумгле.
Мисс Тэтчер подошла и встала рядом с ним.
— Десять минут, сэр, — четким прозрачным голосом произнесла она. — После мы закрываемся.
Оутс кивнул.
— Спасибо за помощь, мадам.
Женщина вздрогнула так, словно ее намеренно оскорбили. Но тут же опомнилась:
— Рада была услужить вам, сэр.
Она перевела выразительный взгляд на большие настенные часы.
— Сегодня у нас короткий день, сэр.
Оутс кивнул. Вполне возможно, женщина совершенно права, и тогда в ее поведении нет совсем ничего необычного. Надо будет взглянуть на расписание при выходе. Дождавшись, когда она вернется за свой стол, он вынул из кармана блокнот. Вырвав из него листок, он твердой, недрожащей рукой вывел на нем одно слово: ФАКТЫ.
Под «ФАКТАМИ» он написал:
1. Множество странных событий в университете Мискатоника весной 1932 года. Двери открываются и закрываются сами собой; без всякой видимой причины включается и выключается свет; то же краны.
2. Большой шторм 1932 года, приведший к серьезным разрушениям в Инсмуте; то же в Аркхэме. Следствие большой приливной волны на Мэнаксете осенью 1930 года, вызвавшей наводнения, гибель людей и явление «белой молнии».
3. В ту же ночь ураганный ветер обнажил крыши и вызвал большие разрушения в Аркхэме и Инсмуте.
4. Кража множества книг по мистике и эзотерике, которые хранились в запертой секции библиотеки, охраняемой главным библиотекарем Джетро Стейвли. От сильного жара лопнули стекла в окнах, обуглились полки. Вора не нашли.
5. Недавно. Внезапное обрушение большого каменного креста на кампусе университета, в результате которого едва не погиб декан, доктор Дэрроу. Внутри крест оказался «совершенно гнилым», несмотря на выраженную невозможность последнего.
6. Под крестом землемером Эндрю Беллоузом обнаружен большой круглый зал.
7. Дэрроу и Беллоуз спускаются в катакомбы. Дэрроу сильно напуган увиденными там существами, о которых он говорит, что они «как змеи». Беллоуз, напротив, не видит ничего. Большая часть этих событий скрыта от прессы и властей. Моя беседа с Дэрроу устанавливает эти факты из третьих рук.
8. Криптологические исследования Холройдом машинописных копий книг из опечатанной секции книгохранилища прерваны — дешифровальная машина разрушена, бумаги с дешифрованными записями похищены или спрятаны. Холройд отказывается раскрыть властям суть дешифрованных им текстов из опасения, что его сочтут «фантазером». Затронута память.
9. САМОЕ ВАЖНОЕ событие, которое привлекло наше внимание к происходящему; таинственная смерть университетского дворника Джеба Конли, который после многодневного отсутствия был найден мертвым в пруду, питаемом подземными источниками. Черты его лица были обезображены способом, с которым ни мне, ни доктору Ланкастеру еще не приходилось сталкиваться в нашем опыте.
10. Еще одна любопытная деталь — осматривая подземелье, Дэрроу и Беллоуз видели в пыли следы, явно оставленные каким-то тяжелым существом или существами. Позже следы исчезли, а сложный, с инженерной точки зрения, подземный ход, ведущей к Иннсмауту и морю, полностью заблокирован камнями; похоже, что ходы пробиты в сплошном граните, что представляется невозможным.
11. Связаны ли между собой эти явления? Если да, то каким образом?
12. Что из этого следует?
13. Напрашивается вывод: детальное исследование тоннелей следует организовать незамедлительно.
Внимание Оутса привлек громкий скрип. Он поднялся и обнаружил, что остался в зале один, не считая библиотекарши, которая, уже в шляпе и пальто, маячила за своей стойкой. Она уже погасила почти весь свет, и в зале было темно.
Взяв свой листок, Оутс быстро зашагал к выходу, звук его шагов громко отдавался под сводчатым потолком.
— До свидания, мадам.
Мисс Тэтчер ответила ему любезным полупоклоном.
— До свидания, сэр, — сказала она сухо.
Выйдя на лестничную площадку, Оутс услышал скрежет за спиной — это библиотекарь запирала за ним дверь на замок. Выключатель от лампы над ее столом был снаружи, отметил про себя Оутс, прежде чем она скрылась из виду за поворотом коридора. На верхних ступенях лестницы он вздрогнул и притормозил, почувствовав, как скользнул по его шее сквозняк. Воздух был ледяной, и это было так неожиданно, что он даже испугался.
В следующий миг листок с карандашными заметками выскользнул у него из пальцев и полетел вниз по лестничному пролету. Но Оутс был тертый калач и соображал быстро. С невероятным для такого крупного мужчины проворством он понесся за ним, отмечая, что ветер обгонял его ровно настолько, чтобы он не мог дотянуться до листка. Когда Оутс достиг дверей библиотеки, листок был уже там и бился в стекло, как живой, или точно кто-то дергал его за веревочку.
Пока листок бился в двойную застекленную дверь, словно мечтая вылететь на улицу, худой человек со шрамом подошел снаружи к двери и потянул ее на себя, чтобы войти. Но Оутс уже знал, что делать. Крепко зажав листок большим и указательным пальцами, он с силой толкнул дверь плечом. Дверь отлетела и ударила худого прямо в челюсть. Тот громко вскрикнул от боли и отскочил, шипя сквозь стиснутые зубы.
— Прошу прощения, — вежливо извинился Оутс. — Я вас не заметил.
Скрутив трубочкой листок, он поднес к нему спичку, после чего воспользовался им для того, чтобы разжечь сигару. Он наслаждался выражением лица тощего, пока тот, прикрывая разбитую щеку замусоленным платком, наблюдал за тем, как превращается в пепел драгоценная бумажка.
— Надеюсь, я вас не сильно ударил.
Тощий процедил в платок что-то неразборчивое и, извиваясь по-змеиному, юркнул в дверь. Перескакивая через две ступеньки разом, он взлетел по лестнице наверх, а Оутс остался стоять внизу, вспоминая выражение ненависти в неживых, как у насекомого, глазах незнакомца. Убедившись, что никто, кому случится пройти этим путем, не сможет извлечь никакой информации из упавшего на пол лоскутика пепла, Оутс заметил объявление, подтверждавшее правоту мисс Тэтчер. Сегодня действительно был короткий день.
Он вернулся к машине, припаркованной в переулке. Окинув ее наблюдательным взглядом, он сразу заметил, что что-то не так. Кто-то отковыривал с передней дверцы пленку, скрывавшую полицейский значок. Вторая неполадка обнаружилась позже, когда он, садясь за руль, заметил, что из-за опущенных штор множества окон за ним следят жадные, внимательные глаза. Он осторожно попробовал тормоза; педаль под его ногой несколько раз опустилась до самого пола подозрительно легко. Извилистая дорога через темное ущелье, ведущая из Инсмута в Аркхэм, встала у него перед глазами.
Отыскав на той же улице автомастерскую, он сунул свой полицейский жетон под нос угрюмому человеку; лично проследив за тем, как его машину отбуксировали в гараж, он стоял над душой мастера до тех пор, пока тот не починил тормоза. Проверив их и убедившись, что все исправно, он положил десятидолларовую банкноту на замызганный стол в покрытой грязью и копотью мастерской. Застегивая пальто, он намеренно позволил рукояти своего револьвера высунуться наружу, чтобы человек из мастерской смог его разглядеть.
— Считайте, что я вас предупредил, — сказал он. — И помните о нем. Власти штата знают, что я здесь. Так что бросьте эти штучки.
Человек упорно смотрел в пол.
— Не знаю, о чем это вы, — пробубнил он.
— Все ты знаешь, — отрезал Оутс.
В сгущающейся тьме он торопливо выехал из Инсмута. Весь обратный путь он не сводил глаз с зеркала заднего вида, но ничто и никто не преследовали его. Тем не менее он не позволял себе расслабиться до тех пор, пока не оставил позади темное ущелье, где грозно ревел Мэнаксет. Лишь вдохнув свободный воздух равнин, он почувствовал себя спокойнее. Всю дорогу до Аркхэма ему было о чем подумать.
Доктор Дэрроу плохо спал в ту ночь. Сны, которые ему снились, были тревожными. Проснувшись, он обнаружил, что было два часа ночи, и он долго лежал без сна, наблюдая за полной луной в переплете окна, его путаные мысли перескакивали с одного на другое. Неужели его умственные способности и в самом деле слабеют? Причиной его беспокойства служила последняя беседа с капитаном Оутсом, которая состоялась накануне днем, сразу после его возвращения из Инсмута.
Странно, до чего горяч и жарок был тогда воздух, не успели двое мужчин уединиться в кабинете декана, как разразился сильнейший шторм; горячий ветер взревел, словно пламя в горне, за ним последовали молнии и полил такой дождь, какого декан не видал за все годы своей долгой жизни. Может быть, именно из-за грозы беседа двух мужчин сильно отдавала мелодрамой.
Декан был, разумеется, в неловком положении. Вежливость не позволяла ему прямо заявить об этом, однако он был убежден, что здоровяк детектив не одобрял предшествующих действий, вернее, бездействий со стороны университета. Того, что они не сообщили о странных инцидентах в полицию, и особенно того, что попытались замять даже кончину Джеба Конли. Декан чувствовал, что именно в этом состояла его главная ошибка, которая не расположила полицию в его пользу. однако, надо отдать ему должное, Оутс играл по правилам.
Детектив задавал ему вопросы из их ранней беседы, которая состоялась сразу после обнаружения тела дворника, когда совет графства решил послать в центр за самым способным детективом, чтобы поручить ему расследование этого дела. Тогда все шло хорошо до того самого момента, пока не зашла речь о падении мемориального креста. Устав от ярких вспышек, мужчины задернули тяжелые занавеси и ушли за стол декана, где можно было говорить и записывать в комфорте и относительной тишине, не отвлекаясь на отдаленный гром за окнами.
— Я бы хотел еще раз пройтись по вашим прежним заявлениям, — сказал Оутс.
Декан кивнул, он слушал нетерпеливо и часто моргал при каждом новом ударе грома, словно вспышки молний раздражали его глаза.
— Вы говорили, что видели странных существ, которые проходили сквозь стены тоннеля?
— А? Что такое? — резко прервал его декан. — Это, должно быть, какая-то ошибка. Я не понимаю, о чем вы.
— Ваши показания, — коротко возразил Оутс. — Записаны слово в слово. У меня здесь полная запись беседы. Позвольте, я вам прочитаю. Может быть, это освежит вашу память.
Не успел он прочесть и двух фраз, как Дэрроу перебил его снова.
— Ничего подобного я не говорил, — заявил он раздраженно. — Должно быть, вы все не так поняли. Все это случилось с Беллоузом. Это он видел тех тварей. По крайней мере, он так мне сказал. Ему было так плохо, что мне пришлось почти выносить его из тоннеля.
Тут на щеках Оутса выступили красные пятна.
— Послушайте, доктор Дэрроу, — строго начал он. — Вы давали показания в присутствии стенографистки. У нее есть свой вариант стенограммы, который, я уверен, слово в слово совпадает с тем, что написано у меня. Заявления Беллоуза, разумеется, существуют отдельно.
Теперь настала очередь декана выглядеть озадаченным. Он нервно облизнулся.
— Простите, я не понимаю, капитан. Как я ни стараюсь, ничего подобного не помню. Это Беллоуз рассказывал о тех жутких тварях.
Помолчав, Оутс сделал еще одну пометку в своем блокноте.
— И вы готовы подтвердить это под присягой, — веско сказал он.
Декан снова замешкался.
— Вообще-то я не знаю. А что говорит Беллоуз?
Оутс тяжело вздохнул и гневно нахмурил брови.
— Беллоуз говорит то же, что и всегда, — ответил он сухо. — А вот вам, думаю, лучше пересмотреть свою позицию. Это очень серьезное дело. Человеку вашего общественного положения не пристало так легко отказываться от письменных показаний, данных под присягой.
Тяжелое молчание повисло между ними, пока гром за окном продолжал рокотать, сотрясая ставни. Наконец пальцы декана принялись выбивать нервную дробь на поверхности стола. Вид у него был потерянный и несчастный; человек не в своей тарелке. Оутс почувствовал, как, вопреки раздражению, которое вызывал у него этот человек, в нем шевельнулась жалость.
— По-моему, вам надо поспать, доктор, — сказал он мягко. — Эти события многих выбили из колеи. А я пока подготовлю команду для исследования этих подземелий. Утром сюда прежде всего прибудет отряд полицейских. А вы не желаете спуститься с нами?
Декан вспыхнул так, словно сомнению подверглась сама его честность.
— Разумеется, желаю, — твердо сказал он.
На этот раз пораженным выглядел Оутс.
— Но раньше вы категорически утверждали, что ваши нервы расшатаны и вы ни за что не спуститесь туда больше!
Щеки Дэрроу теперь тоже побагровели.
— Неужели? — рассеянно проговорил он. — Ну, если вы так говорите, мистер Оутс…
Здоровяк детектив положил на стол свой блокнот с записями так осторожно, словно то была бомба, готовая взорваться, и провел ладонью по лицу, в то время как его мысли метались под грохот грозовой канонады, бесновавшейся за окном. Он кое-что вспомнил. одну подробность, которая согласовывалась с внезапным провалом в памяти у декана. Чистые листы бумаги на месте бывших черновиков. Надо бы еще раз расспросить Холройда на предмет его проблем с памятью. И не далее чем сегодня утром его собственные заметки едва не пропали по причине злонамеренного сквозняка, который возник непонятно откуда в закрытом здании. Уж не старается ли кто-то — или что-то — недоступными его разуму способами стереть из памяти людей следы событий, произошедших в Инсмуте и Аркхэме? И это что-то связано с катаклизмами двухлетней давности?
Что-то враждебное жизни в том виде, в каком ее знают люди? Оутс был опытным профессионалом и настоящим прагматиком. Он прикусил губу. Даже он ощутил присутствие подводных течений, в которые ему не хотелось соваться до поры до времени. Так что он подавил свои дурные предчувствия и спокойно подвел беседу с деканом к концу. Позже он обсудит все это с медэкспертом. Они встретятся с глазу на глаз, и холодный профессионализм доктора вернет желанное равновесие его собственным мыслям.
Оставалось еще найти ответ на вопрос о том, кто сегодня покопался в тормозах его машины. Уж это наверняка человеческих рук дело. Хватит с него фантазий декана и Холройда. Ноздри Оутса вздрогнули от сдерживаемого смеха, стоило ему вспомнить шефа аркхэмской полиции, когда тот услышал о его расходах на починку автомобиля. Долго он пыхтел на тему различий между бюджетами полиции города и штата. Это воспоминание помогло Оутсу слегка ослабить напряжение, прежде чем он снова погрузился в трясину текущего расследования.
Его размышления прервал срочный телефонный звонок доктора. Уже совсем стемнело, когда Оутс прибыл в полицейский участок Оук Парк на самом краю города, и зеленоватые светляки, словно ядовитые миазмы, уже колыхались над приморскими болотами. И снова лягушачий ор показался ему чрезмерно громким и угрожающим в этом богом забытом месте. И снова Оутс подивился, с какой это стати городские власти решили построить здесь такой мощный участок, снабженный не только камерами предварительного заключения, но и прозекторской, и даже моргом.
Однако ответом на все его вопросы было лишь недоуменное пожатие плеч. Аркхэм был тогда на подъеме, к тому же поблизости произошла железнодорожная катастрофа, из-за которой полиция и медики города напрягали все силы. Да и отцы города надеялись расширить его границы за счет строительства нового жилья — проект, которому не суждено было сбыться. Вот и стоял просторный полицейский участок, в котором работали всего один сержант и еще два полицейских, а морг использовали в крайне редких случаях. У доктора Ланкастера была, правда, на этот счет своя теория, но он ею пока с ним не делился. однако результаты аутопсии сделали его более разговорчивым. Морг в этом удаленном уголке на полпути между Аркхэмом и Инсмутом открыли, чтобы избежать дальнейшего внимания прессы. Хотя нельзя сказать, чтобы она их очень баловала: абзац-другой, вот и все, что напечатали по этому делу местные газеты.
Власти замяли смерть Конли, и его труп был перевезен сюда с такой поспешностью, что ни один журналист его и увидеть не успел, как оно уже покинуло территорию пруда. Когда Оутс подъехал к участку, от него как раз отъезжал автомобиль, за рулем которого сидел сержант, приветствовавший детектива ленивым взмахом руки: капитан ответил ему тем же. Он ломал голову, что такого срочного могло произойти, из-за чего Ланкастер не мог подождать со своим звонком до утра.
По узкой цементной дорожке он добрался до двери приемной, где худощавый рыжеволосый офицер тихо беседовал с кем-то по висевшему на стене старинному телефону, в который надо было говорить, сильно вытягивая шею. Оутс откинул крышку конторки и прошел за нее, в служебный, крашенный зеленой краской коридор, где за дверями с наполовину закрашенными стеклами угадывались шкафы каталогов, а тусклые лампочки в простых металлических патронах лишь подчеркивали бесприютность этого одинокого форпоста законности и порядка.
Доктор Ланкастер ждал его сразу за дверью морга с озабоченным выражением лица. Он был в уличной одежде и начал без долгих предисловий.
— Я зашел прибраться и закончить отчет около часа тому назад, — сказал он. — Здесь было закрыто, Халлоран за это место не отвечает.
Халлораном звали сержанта, с которым Оутс столкнулся на выезде с участка.
— И что? — спросил Оутс, напряженно глядя в лицо доктору. У того побледнели щеки, и в глубине глаз крылась серьезность, которой не было там раньше.
— Я как раз хотел, чтобы вы взглянули сами, — сказал Ланкастер.
И он повел детектива между прозекторскими столами в дальний конец морга, где из крана в фарфоровую раковину с меланхолическим звуком капала вода, нарушая тишину.
Задняя дверь косо висела на петлях, в воздухе пахло горелым. Оутс даже вскрикнул от изумления, когда присел и увидел расплавленный металл петель и дверного замка.
— Любопытно, не правда ли? — серьезно спросил его врач. — Кому могло прийти в голову обворовать это место?
Оутс встал и отряхнул брюки на коленях.
— Значит, отсюда что-то унесли?
— О, да. Вещественное доказательство.
Оутс проследил взгляд доктора, направленный на странные следы на бетонной дорожке, как будто что-то тяжелое проволокли по ней в лес на окраине болота. Он прошел по следам, держась в луче света из покореженной двери и чувствуя едкую вонь. Заметив слизь на краю бетонной тропы, он снова ощутил тошнотворный запах. К нему подошел доктор.
— Незачем туда ходить, — сказал он устало. — Эта дорога ведет только в одно место — в трясину. Туда они и уволокли Джеба Конли.
Детектив поднял на него глаза, онемев от изумления.
— Труп? — наконец выдавил он. — Но кому нужен труп?
Пожав плечами, Ланкастер пошел назад, к освещенному убежищу полицейского участка.
— В здравом уме — никому. Но мы имеем дело с анормальным. Тело — вещественное доказательство. Доказательство чего-то ненормального. Теперь оно исчезло.
Оутс ничего не сказал. Он смотрел на клочок бумаги, который протягивал ему доктор. На нем неграмотной рукой было нацарапано какое-то предложение; Оутсу с трудом удалось разобрать: «НЕ ЛЕЗЬ В ТО, ЧТО ТЕБЯ НЕ КАСАЕТСЯ».
Он уже протянул руку за листком, чтобы рассмотреть его более тщательно, но тут откуда ни возьмись налетел небольшой ветерок, который застал мужчин врасплох. Клочок бумажки выпорхнул у них из рук на полпути от доктора к детективу. Его тут же унесло в темный лес, и больше они его не видели. Оутс сначала поджал губы, а потом решил рассказать доктору об инциденте в библиотеке. Образ человека со шрамом мгновенно всплыл у него перед глазами.
Но он передумал рассказывать. Разве это что-нибудь даст?
Вместо этого он сказал:
— Пойдем-ка сочиним что-нибудь осмысленное для отчета, — и зашагал назад, к полицейскому участку.
Доктор еще помешкал, вслушиваясь в лягушачий ор и вглядываясь в зеленые огоньки над болотом.
Потом прерывисто вздохнул.
— Какая разница, что писать, капитан? Все равно никто нам не поверит.
Первым в провал под крестом спустился Беллоуз, с профессиональной уверенностью ведя за собой целый отряд здоровых парней в полицейской форме, так что весь круглый подземный зал вскоре ожил от их присутствия и пришел в движение.
Декан очень желал спуститься вместе со всеми, но Оутс, разглядев какую-то странность в поведении ученого, велел ему оставаться наверху. Нескольких дюжих ребят из числа полицейских тоже пришлось оставить, так как происходящее в кампусе не могло не привлечь к себе внимания, однако присутствия большого числа полицейских автомобилей и дощатых ограждений хватило, чтобы удержать любопытствующих на расстоянии.
Полицейские начали передавать по цепочке мощные электрические фонари, часть которых предполагалось установить через равные промежутки в тоннелях с целью обеспечить постоянное освещение на время исследований. При их свете Оутс не однажды замечал странное выражение на лице Холройда. Тот сильно переменился со вчерашнего дня, и капитан-детектив не однажды задавал криптологу вопрос, все ли с ним в порядке.
— Разумеется, — отвечал тот, как подметил Оутс, с раздражением. — С чего бы мне не быть в порядке?
Теперь Оутс покачал головой.
— Просто вы неважно выглядите, — прокомментировал он. — Вчерашние события здорово потрясли вас.
Холройд пожал плечами. Он не смотрел на Оутса, но детектив видел, как дергаются мышцы на его худом горле. Ученый показался детективу не слишком надежным исполнителем для той работы, которую им, возможно, придется осуществить, и он решил на всякий случай держаться к нему поближе.
Прежде всего он провел короткое совещание в центре круглого зала, на котором еще раз напомнил полицейским их задачу. Каждому был выдан свисток, с помощью которого любой из них условленным сигналом мог вызвать подкрепление или помощь. Убедившись, что полицейским ясны их задачи, он велел им стоять на месте до тех пор, пока небольшая партия не закончит повторную разведку центрального тоннеля. Холройд и Беллоуз твердили ему, что он полностью блокирован обломками камня, но упрямый полицейский хотел сам в этом убедиться.
Оутс, Беллоуз и Холройд в сопровождении капитана и шести полицейских в форме вошли в центральный тоннель.
Там было светло как днем — трое полицейских несли электрические фонари, которые светили во всю мощь, — и вся группа продвигалась вперед быстрыми, уверенными шагами. В отличие от первой прогулки под землей, которую Беллоуз предпринял с деканом, эта разведка происходила очень быстро; уже через несколько минут они достигли завала из камней, как вдруг вскрик, сорвавшийся с губ землемера, заставил всех остановиться.
— Что случилось? — резко спросил Оутс, осматривая преграду впереди.
Беллоуз обернул к нему изумленное лицо.
— Этого не может быть.
— Не понимаю.
Не обращая на него внимания, Беллоуз бросился вперед и стал шарить пальцами по каменной стене.
— Завал из необработанных камней полностью преграждал проход в прошлый раз. А сегодня здесь ровная каменная кладка, которая выглядит так, словно была тут всегда. Это же невозможно…
Он казался искренне пораженным.
Волосы на затылке у Оутса зашевелились, но, задавая землемеру следующий вопрос, он сумел сохранить нормальный вид:
— Вы уверены? Вы не могли ошибиться? Ведь в прошлый раз у вас были лишь слабые фонари, если не ошибаюсь…
Беллоуз яростно затряс головой.
Оутс и капитан полиции переглянулись. Оба заметили нарастающее напряжение людей в форме; Холройд отчаянно потел.
— Давайте продолжать розыски, мистер Оутс, — сказал капитан с лицом бесстрастным, как гранит. — А с этим разберемся потом.
— Разумеется, — сказал с облегчением Оутс, и вся компания, резко развернувшись, потопала по коридору назад, причем никто из присутствовавших не высказывался о происходящем. однако Оутс знал, что уверенности Беллоуза нанесен серьезный удар, а Холройд был близок к истерике еще до начала всей операции. Придется оставить его с арьергардом и обследовать оставшиеся шесть тоннелей без него.
Следующие два часа прошли активно. Большие группы полицейских обследовали четыре тоннеля. Оутс возглавил первую, капитан полиции — вторую, а третью и четвертую поделили между собой Беллоуз и Холройд, правда, Оутс велел другому офицеру на всякий случай не спускать с Холройда глаз. Три из четырех отрядов вернулись через два часа; прошагав несколько миль по гладким, явно человеческими руками вырытым тоннелям, они не заметили ничего подозрительного.
Странно было то, что все три тоннеля постепенно исчезли, сойдясь каждый в одну, тщательно рассчитанную точку; расстояние между стенками тоннеля сужалось до тех пор, пока не превращалось в острый угол. Никто из них никогда раньше ничего подобного не видел. Поджидая остальных, Оутс заметил декана, который встревоженно маячил на склоне земляного обвала у входа в пещеру; детектив решил подышать немного свежим воздухом, а заодно сообщить ученому свои новости.
Их разговор был прерван появлением здоровяка в полицейской форме, который выскочил из крайнего левого тоннеля в состоянии чрезвычайного возбуждения. Тоннель, по которому пошла его группа, оказался длинным и, по всей видимости, часто используемым, он немного изгибался, а на расстоянии около двух миль от входа резко нырял вниз. Капитан полиции благоразумно решил сделать там остановку и послать его, Стрэнга, сообщить новость Оутсу и остальным.
Всего в группе было двадцать человек, все полицейские, кроме Холройда, и, когда он покидал остальных, им явно ничего не угрожало. однако Оутс имел на сей счет иные соображения, и, пока он в сторонке совещался с Беллоузом, оставшиеся полицейские разбивались на две команды. Резервная, наиболее многочисленная, должна была остаться в зале и сторожить выходы из других тоннелей, а основная отправлялась в тоннель.
Через несколько минут спасательная экспедиция углубилась в крайний западный тоннель, и Оутс сразу заметил, что его пол действительно отличался от других. При незначительных размерах входа коридор оказался очень широким внутри, а потолок его уходил на такую высоту, что лучи их фонарей даже не доставали до него. Продолжая идти на запад, тоннель местами слегка изгибался, а в одной точке стал уходить вниз.
У Беллоуза был с собой компас, стрелка которого неукоснительно показывала на запад, хотя и с небольшими отклонениями. Навстречу потянуло легким ветерком, с ним появился странный затхлый запах, знакомый Оутсу по участку в Оук Парк.
— Как вам такое направление? — спросил Оутс, когда до места встречи, по его предположениям, должно было остаться не больше полумили.
Землемер дернул плечом.
— К Инсмуту и морю, — коротко ответил он. — А вот инженеры, которые поработали здесь, меня просто изумляют. В жизни не видел ничего подобного.
Оутс кивнул.
— Не нравится мне здесь, слишком уж хорошо, — сказал он.
Беллоуз посмотрел на него, его лицо в свете двух фонарей, которые они несли, было напряженным. Они были одни, полицейский, которого прислал за ними капитан, остался с резервной партией.
— Я не вполне понимаю.
— Все остальные ходы заблокированы или запечатаны. Как будто нас специально направили именно в этот. Самый западный. Тот, который ведет к Инсмуту и морю.
Беллоуз тряхнул головой.
— К рифу, — почти мечтательно сказал он. — Я и сам пришел к такому же заключению.
Оба убыстрили шаг. Плавный поворот, полого спускавшийся вниз, привел их в темную секцию тоннеля. Раньше путь им освещали фонари, на равном расстоянии друг от друга расставленные по полу, но теперь в смоляной тьме наверху не было ни проблеска света. Вдруг фонарик Оутса осветил вспышку света вдалеке, а сам он одновременно споткнулся обо что-то. Перед ним стоял Беллоуз. Остатки металлического фонаря были странно покорежены, металл как будто оплавлен. Землемер едва не выронил его из рук.
— Еще теплый, — прошептал он.
В ту же минуту откуда-то спереди до них долетел тихий условный свист, загрохотали выстрелы и странный, какой-то блеющий звук заполнил тоннель, отражаясь от гладких стен и высокого потолка. Не сговариваясь, они побежали на звуки, Оутс на ходу вытаскивал револьвер, страх сжимал его горло, мысли о незнаемом туманили голову.
Несколько мгновений спустя Оутс остановил эту отчаянную гонку, положив руку на плечо землемеру.
— Надо мыслить последовательно.
Приложив к губам свисток, он дунул в него изо всей силы. Беллоуз сделал то же самое со своим. После этого оба замерли и напрягли слух, фонари в их руках продолжали гореть, рассеивая темноту. Прошли десять секунд, за ними еще десять; мгновения тянулись, словно годы. И тут серебристые звуки пропели в ответ: «Мы спешим». Казалось, они пронзили тьму, словно сверкающие солнечные лучи. Оутс и Беллоуз побежали дальше, помня о том, что спереди не донеслось ни звука. Их фонари не освещали ничего, кроме тоннеля, который уходил строго вперед; соленый ветер дул им в лицо, неся с собой странные запахи подземных глубин. Проход вокруг них становился тем уже, чем сильнее понижался его уровень.
Наконец они подбежали к месту, где пол уходил так круто вниз, что спуститься по нему без риска сорваться и кубарем полететь вниз было трудно. Пляшущие лучи фонарей выхватывали из темноты покореженные куски металла, валявшиеся на полу. Оутс, чувствуя, как у него перехватывает горло, опознал в них остатки полицейских револьверов. Вокруг не было никаких признаков борьбы, только отметины на стенах, похожие на следы копоти. Это да еще следы серой слизи, такой же, как та, которую Оутс уже видел в Оук Парке. Он встал как вкопанный и схватил своего спутника за запястье.
— Разве мы не пойдем вперед? — спросил его Беллоуз. — Ведь они могут быть ранены или в большой опасности.
Оутс покачал головой.
— Именно этого они и хотят, — сказал он с легкой дрожью в голосе. — Мы и так сильно облегчили им задачу. Капитан должен был ждать здесь. А он, готов спорить, взял и полез по этому склону вниз. Удобное тут место.
Беллоуз направил свой фонарь вниз, услышав, как что-то как будто гудит вокруг них.
— Для чего удобное — для засады?
Оутс пожал плечами.
— Для чего угодно. Плохого, разумеется. Мы будем ждать здесь, пока не подойдет подкрепление. Капитану и его отряду сейчас уже все равно ничем не поможешь, скорее всего.
Лицо Беллоуза посерело.
— Вы шутите. И Холройд…?
— Не шучу. Здесь скрываются твари, враждебные людям. Они приходят со стороны Инсмута. Эти тоннели, скорее всего, были их главной связью с окружающим миром. Инсмут они уже давно прибрали к рукам, теперь взялись и за Аркхэм, и не исключено, что кое-кто из местных на их стороне. Два года назад они почти преуспели. Теперь делают вторую попытку. И не намерены мириться с поражением.
Лицо Беллоуза блестело от пота.
— Это похоже на бред… — начал он хрипло.
— Придется вам мне поверить, — отвечал Оутс. — Часть этой головоломки у меня в руках. Но многих кусочков не хватает. Может, всей правды мы не узнаем никогда. Да и сейчас мы еще не можем отличить друга от врага. Вчера, когда я поехал в Инсмут, кто-то из Аркхэма сообщил обо мне туда.
Меня уже ждали. И приняли меры. Мне повезло, что я стою сейчас здесь.
Беллоуз цинично расхохотался.
— Повезло, нечего сказать.
Он обернулся на долгожданный топот множества ног, который накатывал сзади. В тот же миг спереди донеслось шипение и тот блеющий звук, который они слышали раньше. Пляшущие лучи фонарей осветили извивающиеся тела с головами, как у змей, которые плевались огнем. Вкрадчивая музыка зазвучала у них в ушах, мешаясь с непристойными шепотками, которые, кажется, проникали в самый их мозг. Оутс стиснул зубы и начал, не разбирая, палить в самую гущу чешуйчатых змеевидных тел, которые двигались вверх по тоннелю прямо к нему.
Он успокоился: теперь он хотя бы видел врага. От пуль, наверное, мало толку, зато грохот выстрелов, многократно усиленный сводчатым потолком тоннеля, заглушал похабщину в его ушах и не давал ей просачиваться в мозг. Что-то треснуло впереди, и он увидел, как одна тварь остановила движение; ему показалось, что она будто моргнула и прошла сквозь стену. Ужасная вонь не давала дышать. Тем временем топот тяжелых ботинок сзади становился все слышнее, и наконец в тоннеле стало тесно от набившихся в него здоровяков полицейских.
Тоннель наполнился дымом, когда все они опустились на колени и начали прицельно стрелять в тварей, заблокировавших проход. Те раскачивались взад и вперед, лопались и стекали вниз, точно вода. Оутс почувствовал, что у него подкашиваются ноги, но чьи-то сильные руки уже подхватили его сзади и понесли подальше от места боя, а с ним и землемера. Словно по команде — хотя никто не сказал ни слова — полицейские, держа строй и ни на миг не опуская фонари, начали медленно, спиной вперед, отступать к круглому залу, где был чистый воздух и относительно спокойная атмосфера.
— Без взрывчатки тут нечего делать, — с горечью прошептал Беллоуз.
— Может быть, — коротко отвечал Оутс, пряча в кобуру револьвер — он уже вполне пришел в себя. — Хотя существа, прорывшие этот тоннель, могут счесть его недостаточно эффективным средством устрашения.
— У вас есть другие предложения? Эти тоннели необходимо завалить.
Его голос задрожал и забулькал.
— Вы видели их глаза?
Оутс мрачно кивнул.
— Вряд ли я их когда-нибудь забуду.
Странный марш продолжался, полицейские отступали, держа оружие наготове.
Лишь заслышав ответные свистки из круглого зала, полицейские перестали идти спиной вперед. Тут вокруг них забурлили голоса, и в поднявшемся шуме Беллоуз вдруг почувствовал, как земля уходит у него из-под ног, и в глубоком обмороке упал на пол.
Доклад капитана-детектива Оутса главе управления полиции штата:
Представляя на ваше рассмотрение нижеследующий доклад, хочу предварить его некоторыми замечаниями, характер которых обыкновенно не входит в компетенцию департамента.
1. В случае, если со мной что-нибудь произойдет, прошу вас связаться с доктором Ланкастером, полицейским хирургом из Аркхэма, и полагаться на его показания, так как он за время своей карьеры видел немало необычного, но вряд ли что-либо более странное, чем те обстоятельства, с которыми ему довелось столкнуться за последние месяцы во время расследования событий в Инсмуте и Аркхэме.
2. Прошу вас также связаться с другими людьми, упомянутыми в моем докладе, а именно: с доктором Дэрроу, деканом факультета в университете Мискатоника; криптологом Джефферсоном Холройдом; и землемером Эндрю Беллоузом, также ставших свидетелями событий, описанных в докладе.
3. Первичные результаты вскрытия тела Джеба Конли, произведенного доктором Ланкастером (которым теперь надлежит заменить собой отчет, подготовленный доктором Ланкастером для публикации), абсолютно верны, и я подтверждаю их достоверность в каждой детали. Результаты моего собственного предварительного расследования, а также подтверждение всего того, что произошло в полицейском участке в Оук Парк две ночи назад, свидетелем чему был доктор Ланкастер, также можно найти в параграфе 34 моего отчета. Конли был убит, это несомненно, и ни исчезновение трупа, ни странный и необъяснимый способ, каким его лишили жизни, не должны затмевать этого обстоятельства.
4. Необходимо произвести глубокое расследование среди руководства полицейского департамента Аркхэма, а также среди жителей Инсмута и Аркхэма, так как о моей поездке инкогнито в Инсмут стало известно заранее, в результате чего я едва не погиб после того, как кто-то повредил тормозную систему моего автомобиля. Местные обитатели, вне всяких сомнений, работают на этих существ, хотя по каким причинам — из соображений выгоды, принуждения или страха, установить пока не удалось.
5. Каким бы странным и необъяснимым не показался вам мой официальный доклад, прошу вас не пренебрегать им, во имя нашей двадцатилетней дружбы, за время которой я ни разу не представил вам информации, в истинности которой у вас были бы основания усомниться.
Засим остаюсь, с глубочайшим почтением, Ваш преданный слуга Корнелиус Оутс, капитан-детектив полиции штата.
Холройд бежал. Вкрадчивые голоса еще звучали в его ушах, а жуткие и дикие образы всего, чему он недавно стал свидетелем, были еще так свежи в его памяти, что, казалось, запечатлелись в ней навсегда. У него было такое впечатление, что он бежит уже несколько часов, поскольку уже стемнело; его одежда была изорвана, волосы всклокочены; исцарапанные лицо и руки кровоточили; из каждой поры его тела лился пот.
Территория университета уже давно осталась позади, а он, словно повинуясь животному инстинкту, бежал прямо к дому знакомым путем. Подходя к своему крыльцу по петляющей бетонной дорожке, он вспомнил, что у его домработницы сегодня выходной. Обычно он в этот день ужинал в колледже. Вот и хорошо. Незачем, чтобы кто-то видел его в таком состоянии.
Он замедлил шаг, внезапно ощутив, что совершенно выбился из сил. Вставляя ключ в замочную скважину, он едва не упал, так у него закружилась голова. Вцепившись в связку ключей, он усилием воли заставил себя удержаться на ногах. Никакой видимой причины для того, чтобы терять сознание, у него не было. Все предшествующие образы, теснившиеся у него в сознании, внезапно исчезли, словно стертые с грифельной доски его памяти влажной губкой. Все, что он помнил, это свой недавний ужас, потом паническое бегство и приход домой.
Войдя в пустой дом, он включил на крыльце фонарь и, избегая смотреть на себя в серебряное зеркало в золоченой раме, кое-как, едва ли не на четвереньках, пробрался на второй этаж. У себя в спальне он, не зажигая ламп, быстро разделся при свете фонаря за окном, после чего зашел в душ и включил воду. Жала ледяных струй, почти сразу сменившиеся горячими, привели его в чувство, и через четверть часа он, в свежей одежде и со стаканом виски в руке, почти стал самим собой.
Тут он ощутил голод и, задержавшись лишь для того, чтобы положить грязную одежду в корзину для белья, откуда завтра ее достанет домработница, прошлепал в кухню, где нашел в холодильнике остатки цыпленка и черничный пирог. Сев за маленький сосновый стол тут же, в кухне, он уплел холодный ужин, все время думая о чем-то нейтральном. Между ним и реальностью словно опустился белый матовый занавес, как будто туман покрыл все его чувства. Это было даже приятно, и он старался продлить ощущение почти животного наслаждения вкусной едой, питьем и чистой одеждой, успокоительно льнувшей к его телу после ужасов предыдущих часов.
Внезапно ему вспомнилась библиотека и его дешифровальная машина. Тогда он встал и прошел в кабинет, где начал искать заметки, сделанные им от руки на прошлой неделе. Вернувшись с ними и с чистым блокнотом на кухню, он осторожно опустил шторы, словно на дорожке перед домом мог кто-то прятаться и следить за ним. После чего пустился в какие-то путаные расчеты, сверяя цифры с записями, сделанными им раньше, и перепроверяя их снова.
Он не слышал легкого шороха за окном, словно кто-то царапал внешнюю стену дома; а если слышал, то не обратил внимания, ведь это было так похоже на шелест сухих виноградных стеблей, которые вились по трельяжу на фасаде. Он полностью погрузился в расчеты, и прошло, должно быть, не менее часа с тех пор, как его перо принялось порхать по бумаге. Только тогда он вдруг почувствовал, что замерз, и вспомнил о виски, но стакан оказался пуст.
Вернувшись в гостиную, он подошел к бару, чтобы заново наполнить свой стакан, не обращая ни малейшего внимания на странные тени, что плясали за оконным стеклом. На улице стало уже совсем тихо, лишь урчание далеких автомобилей изредка вторгалось в мертвое безмолвие ночи. Усевшись в кухне, он опять погрузился в свои записи; прошли минуты, а стакан с виски так и стоял нетронутым у его локтя, настолько он сосредоточился на своем деле. И только звучные удары часов на лестничной клетке напомнили ему наконец, что девять часов вечера давно миновали.
Тогда он встал и обошел весь дом, проверил все замки на дверях и окнах, опустил автоматическую защелку на парадной двери, убедился, что черный ход в кухне заперт. Он всегда поступал так, когда ночевал дома, и хотя миссис Карсвелл наверняка проверила все, прежде чем уйти, ему было физически необходимо повторить весь ритуал целиком, хотя, конечно, он был бы потрясен, если бы обнаружил, что домработница что-то упустила. У двери черного хода он остановился и взглянул на свои наручные часы, уточняя время, словно это было почему-то важно.
В эту минуту в холле зазвонил телефон, и Холройд вышел, чтобы ответить. В трубке зазвучал низкий густой голос, который он не узнал. Поначалу он никак не мог разобрать слова. Ему показалось, что его мозг снова затянуло туманом. Голос был смутно знакомый, но он не помнил, где он мог слышать его раньше. Похоже, что неизвестный звонивший давал ему какие-то распоряжения. Он стал слушать внимательнее, пытаясь вникнуть в смысл слов, но они влетали ему в одно ухо и тут же вылетали в другое, не оставляя по себе никакого эффекта. Наконец голос умолк, и Холройд положил трубку, предварительно поблагодарив мертвый инструмент. Спотыкаясь и прижимая к ушам ладони, он вернулся в кухню, еще более сконфуженный, чем раньше. Снова бросил взгляд на часы и с ужасом увидел, что прошло целых полчаса. Тогда он поднял стакан и сделал несколько осторожных глотков. Спиртное взбодрило его поникший дух, и он вернулся к своим записям, замечая, однако, что утомлен и духовно, и физически, чего не было раньше.
Даже скрип пера по бумаге так раздражал его теперь, что он отшвырнул его от себя с капризной гримасой. Чернила растеклись по девственной белизне бумаги длинной кляксой, которая что-то ему напоминала. Но что, он никак не мог вспомнить. Он устал. Вот в чем причина. Надо отдохнуть, тогда он все вспомнит. В это мгновение он услышал крадущиеся шаги. Кто-то прошел по бетонной дорожке и остановился у парадной двери. Холройд, не поднимаясь с места, застыл, напряженно вслушиваясь в тишину. Но, против его ожидания, ни звонка, ни стука в дверь не последовало.
Вместо этого кто-то, шаркая ногами, двинулся вдоль стены дома по дорожке, которая огибала его по периметру. Скрытные шаги стихли за углом дома, и Холройд, съежившись за столом, целую вечность ждал, когда звук снова сделается слышным, теперь со стороны кухни. Потом настала пауза, и вдруг кто-то забарабанил пальцами в окно. Звук был слабый, почти игривый, точно невидимый визитер решил позабавиться, но для того, кто сидел в кухне, он предвещал нестерпимые ужасы. Съежившись на своем стуле, он ждал повторения звука, но шаги проследовали дальше, и кто-то слегка толкнул кухонную дверь. Холройд едва не завизжал, но как-то подавил крик.
Прошло еще сто лет, и шаги двинулись дальше. Но Холройд продолжал сидеть, точно парализованный, как во сне. И когда прозвучал дверной звонок, внутри него что-то взорвалось. Потоки кислоты обожгли напряженные нервы. Он встал из-за стола, пот бисеринами покрывал его лоб. Осушив последний глоток виски в стакане, он шаткой рысцой побежал наверх. Из окна ванной можно было увидеть тропинку перед домом. Он осторожно отвел газовую занавеску.
Темная знакомая фигура виднелась на крыльце в свете фонаря, человек озирался по сторонам. Облегчение затопило Холройда. Теперь он знал, кто к нему пришел. Но почему же он сразу не заявил о себе, вместо того чтобы шастать вокруг дома? Холройд подошел к зеркалу в ванной и в первый раз за весь вечер пристально посмотрел на себя. Не считая темных кругов у глаз и некоторой бледности кожи, вид у него был вполне нормальный. Он подождал еще минуту, поправляя галстук, пока дверной звонок продолжал свою повелительную трель.
Посетитель, очевидно, заметил, как зажегся в ванной свет, и понял, что он дома. Холройд погасил свет, выпрямил спину и медленно сошел вниз. Звонок грянул снова, как раз когда он шел через холл. Он приоткрыл дверь, надев на нее цепочку, и стал вглядываться в лицо посетителя, которое было скрыто в тени полей шляпы, так как он стоял прямо под фонарем.
— Открывайте, Холройд, — прозвучал раздраженный голос. — Мне надо обсудить с вами важный вопрос.
— Ах, это вы, — сказал Холройд с облегчением. — Входите. — Гость подозрительно озирался, перешагивая порог. Криптолог провел его в гостиную, где сначала задернул тяжелые бархатные шторы и только потом предложил посетителю сесть.
Теперь его мозг работал быстро, мысли кристаллизовались.
Он уже знал, как ему поступить, когда подошел к бару, чтобы налить гостю выпить.
Доктор Ланкастер ехал по уединенному участку шоссе на полпути между Инсмутом и Аркхэмом, когда у него кончился бензин. Он ездил на отдаленную ферму, куда его срочно вызвали к больному, но, прибыв туда, он обнаружил, что тамошние обитатели, у которых даже не было телефона, ни в какой врачебной помощи не нуждались. Утонченно выругавшись, Ланкастер поехал восвояси и весь обратный путь был так озабочен мыслями о проблеме, с которой столкнулись они с Оутсом, что ни разу не взглянул на стрелку измерительного прибора.
К счастью, ущелье осталось далеко позади, а в багажнике у него на всякий случай всегда лежала канистра с запасом горючего. Пара минут — и бак будет заправлен. Хотя странно, ему казалось, что не далее чем сегодня днем он и так был почти полон. Правда, когда он вернулся к своей машине на ферме, возле нее сильно пахло бензином — может, бак протекает.
Надо будет наведаться завтра в свою мастерскую в Аркхэме, пусть посмотрят.
Не выключая фар автомобиля, он вышел и пошел назад, к багажнику. Несмотря на то что его голова была занята текущей задачей и прочими неотложными проблемами, ему показалось, что он заметил какое-то шевеление на самой границе желтых конусов света от фар. Его машина стояла на том участке, где дорога образовывала зигзаг, а деревья и густая трава подходили к полотну почти вплотную. Место было мрачное, даже при дневном свете, но никакой опасности он не чувствовал. С ловкостью, порожденной длительной тренировкой, юн отвинтил колпачок канистры, взял из багажника воронку и принялся аккуратно переливать горючее в бак.
Слив около половины, он услышал легкий шорох в кустах. Весь напрягшись, он закрыл бак и поставил полупустую канистру. Ему вдруг вспомнилось, что вызвали его по телефону, что час уже поздний, место уединенное, а у обитателей той фермы телефона не было.
Тут он все понял. Напевая вполголоса, хотя нервы у него были на пределе, Ланкастер обошел машину сзади и, не выпуская канистры из рук, наклонился и завел двигатель.
Довольное урчание мотора прорезало тишину ночи, и в тот же миг Ланкастер заметил какое-то колыхание в траве вдоль обочины, словно там ползла змея. И опять в кустах что-то треснуло. Страх немедленно покинул Ланкастера; у него были на зависть крепкие нервы, как и полагается человеку его профессии, и теперь он точно знал, что будет делать дальше. Вытащив из кармана жилета зажигалку, он терпеливо ждал, но не слышал ничего, кроме вздохов ночного ветерка и ровного урчания мотора.
— Здесь кто-нибудь есть?
Звук собственного голоса показался ему самому слегка неуверенным, но пульс его бился ровно. Он снова обошел автомобиль сзади и повернулся лицом к обочине дороги, ярко освещенной фарами. Он опять повторил вопрос и опять услышал треск. На этот раз доктор заметил, как слегка шевельнулся куст, словно кто-то стоял рядом с ним, там, куда не доставал свет его фар.
Потом ветки раздвинулись, и на напряженного доктора поглядели чужие, матовые треугольные глаза. Раздался треск, похожий на тот, который издает гремучая змея, и ледяные пальцы холода впервые прошлись по докторской спине. Не веря своим глазам, он разглядывал змеиную голову, венчавшую полупрозрачное тело слизня; его, по счастью, в основном скрывала растительность, которая в этом месте выходила прямо на шоссе. Тварь метнулась к нему, по-змеиному выбросив верхнюю часть тела из кустов, которые скрывали остальное.
Перепуганный доктор успел заметить черты человеческого лица под серовато-зеленой кожей рептилии, прежде чем тварь, издав пронзительный кошачий вопль, заскользила к нему с невероятной быстротой. Тогда Ланкастер тоже завопил, но головы не потерял. Ужас сделал его ловким, и он плеснул бензином в сторону приближавшейся твари, которая тут же замедлила ход. Доктор побежал, причем ему хватило присутствия духа оставить бензиновую дорожку, которая вела от автомобиля прочь. Тварь замешкалась, мяуканье сменилось сухим треском, который он уже слышал раньше.
Потом Ланкастер вырвал из блокнота рецептурный бланк, трясущимися руками чиркнул зажигалкой и поджег листок. И швырнул к обочине дороги, туда, где фатально замешкалась гнусная тварь. Бензин с ревом занялся, и тогда доктор, швырнув канистру в преследователя, помчался к автомобилю с такой прытью, которая ошеломила его самого. Сняв машину с ручника, он откатился от полосы огня, стремительно надвигавшейся на него.
Тварь испустила пронзительный вопль, когда огонь лизнул ее, подпалив сзади кусты. Раздался мягкий хлопок — вероятно, взорвалась канистра с остатками бензина — и пламя распустилось ослепительным желтым цветком. Тогда обреченная тварь, горя и извиваясь, но не теряя сознания, поползла во тьму подлеска, а Ланкастер, усилием воли изгнав из памяти все произошедшее, выжал сцепление и ринулся в благословенную темноту, ведущую к Аркхэму и порядку.
Наконец даже оранжевое зарево в зеркале заднего вида полностью растворилось во тьме, и Ланкастер осознал, что он жив и свободен, хотя его бьет дрожь и заливает холодный пот. Он едва удерживал в руках руль и с трудом справлялся с коробкой передач, а когда доехал до Аркхэма и припарковался, то первым делом полез за фляжкой с бренди в свою медицинскую сумку.
В значительной степени успокоившись, он поехал к дому, где обнаружил, что было только десять вечера. И тут же бросился к телефону.
Оутс как раз ужинал сандвичем с ветчиной в полицейской столовой, когда зазвонил телефон. Сначала он никак не мог понять, кто на линии, но едва доктор начал говорить связно, волнение здоровяка детектива тут же почти сравнялось с волнением самого Ланкастера.
— Что за твари? — переспросил он, требуя, чтобы Ланкастер в третий раз описал ему происшедшее.
— Эти пакости, — дрожащим голосом отвечал тот. — Они обладают характерными человеческими признаками. Полагаю, они в состоянии менять облик по своему желанию. Инсмут, Оутс… те дегенераты, о которых мы с вами не раз говорили. Откуда бы они ни взялись, я уверен целиком и полностью, что они в буквальном смысле способны проглатывать людей.
Оутс внутренне окаменел, но продолжал записывать как ни в чем не бывало.
— В старых документах говорится, что твари пришли из глубины моря; из-за рифа, который лежит напротив Инсмута, — медленно проговорил он. — Звучит слишком фантастично, чтобы быть правдой.
— Фантастично или нет, — продолжал врач, — но это наша реальность, с которой мы должны иметь дело. Там кроется смертельная опасность. Но нам есть что ей противопоставить. Бензин!
— Бензин? — с недоумением переспросил Оутс.
— Бензин, парень! Бензин! — повторил врач. — Это единственное, чего они боятся. Они уничтожают людей, это так. И, похоже, сами в состоянии производить жар такого накала, что он плавит металл, как мы видели. Но они сами не могут противостоять огню. В этом может быть наше спасение. Я давно уже изучаю старые документы. Может, потому они и захотели убрать меня с дороги. По той же причине испортили и ваши тормоза. Мы с вами оба подошли слишком близко к истине.
— Если об этом узнают, то мы с вами — первые кандидаты на вселение в местный сумасшедший дом, — проворчал Оутс.
Ланкастер дрожащими пальцами забарабанил по телефонной трубке.
— Это наше единственное спасение, парень! Вы же знаете, я говорю правду. Вы видели те тоннели. И вы знаете, что крайний слева ведет к Иннсмауту и морю. Они как раз готовятся захватить Аркхэм. Петля затягивается. Разрушение машины Холройда…
Он продолжал сбивчивую речь, но Оутс уже был на его стороне. Его не надо было долго убеждать. Он и сам пришел к тем же выводам, что и врач, причем задолго до сегодняшнего разговора.
— Твари готовы нанести удар, — говорил между тем Ланкастер. — У них мало времени. Вы примете меры?
— На это уйдет день-другой, — ответил с сомнением Оутс. — Надо все сделать правильно. А мое начальство…
— Не вводите их в курс дела, — сухо посоветовал Ланкастер.
Голос у него стал куда спокойнее.
— Мы можем опоздать, если пойдем официальным путем. У вас ведь уже есть отряд полицейских. Их будет достаточно.
— Что вы предлагаете?
— Давайте встретимся сегодня, — сказал доктор. — Я приеду в полицейское управление. Здесь я не чувствую себя в безопасности после всего, что случилось. Нам надо многое обсудить. Понадобятся тысячи галлонов бензина. И еще взрывчатка.
Оутс ругнулся.
— Вы знаете, чего просите?
Ланкастер нетерпеливо прищелкнул языком. Самообладание, похоже, вернулось к нему полностью.
— Когда вы услышите все, что я хочу вам рассказать, вы сами потребуете действовать без промедления!
— Хорошо, — согласился наконец Оутс. — Встретимся через час. Я пока закажу кофе, на случай если придется вас протрезвить.
Доктор глухо засмеялся.
— Я выпил не больше глотка бренди за весь сегодняшний вечер, капитан. Я трезв, как стекло. О чем жалею.
Оутс сменил тактику. Теперь его голос звучал мягко, почти нежно:
— Все в порядке, док. Я вам верю. Давайте, приезжайте, и мы все организуем.
— Возможно, в этом был повинен не я один, джентльмены. Вот, капитан знает, что я был совершенно нормален, когда он познакомился со мной. Но события в библиотеке Мискатоники и то, что я начал узнавать, расшифровывая те записи, оказали на меня свое действие. Я знаю, капитан, вы это заметили, когда говорили со мной в подземном зале, перед тем как полиция приступила к обследованию ходов. Я уже тогда знал, чем все кончится, но не посмел сказать.
— Те существа знают; да, говорю вам, знают даже наши мысли; в этот самый миг, пока мы с вами сидим в моем уютном доме, чуждые глаза внимательно смотрят на нас. Как совершенно верно рассудил капитан, а с ним и умница-доктор, они пришли из-за рифа. Там лежит источник штормов, которые долгое время сотрясают Инсмут и отчасти Аркхэм. Вижу, что капитан Оутс верит мне, по крайней мере, отчасти. Он мудрый человек. Может, он спасет всех нас. Кто знает. Он и доктор Ланкастер. Но эти твари дьявольски хитры и проникают повсюду.
— Почему, как вы думаете, я очертя голову бросился сегодня вечером во тьму? Не только для того, чтобы избежать их физического присутствия, но и инфильтрации. О, да, джентльмены. Они, эти древние, научились проникать в мозг человека и порабощать его личность. Вот почему мне пришлось совершить то, что я сделал сегодня вечером. Я увидел что-то от рептилии в его глазах. один из нас должен был умереть. Я вынужден был убить его, джентльмены, уверяю вас. Эти твари везде.
— Я вижу, что кое-кто из присутствующих здесь офицеров мне не верит. Что ж, этого следовало ожидать. Вас, вероятно, удивляет то, что даже здесь, в помещении, я не снимаю теплых перчаток. Все потому, что я боюсь заразы. Когда он звонил в мою дверь, я увидел перепонки у него между пальцев и сразу понял, что мне надо делать. Вы, разумеется, скажете, что я подпал под власть тех существ с рифа, которые могут выдать себя за кого угодно. Но я скажу вам, что мой характер и сила воли позволили мне восторжествовать над ними.
— Все было как раз наоборот, джентльмены. Я понял, что он намерен серьезно мне повредить, уже по тому, как он скрытно обошел весь дом, прежде чем объявить о своем приходе звонком в дверь. Ах, если бы вы только знали, что пережил я за те минуты, которые показались мне часами! Но ведь вам нужны доказательства. Прошу вас, пройдемте в кухню, джентльмены. Здесь, под столом, есть люк, он спрятан под паркетом. Да, если вот эти двое дюжих ребят снимут его, мы сможем поднять крышку.
— Вот он, джентльмены, вот! Простерт в собственной крови! Ну, не отвратительное ли зрелище? И как, скажите, мне следовало поступить? Даже самому недалекому из присутствующих должно быть ясно, что метаморфоза уже началась. Я вовремя нанес удар, разве нет?
— Осторожнее с лестницей, джентльмены. Ступеньки, как видите, скользкие… Нет, нет, это не кровь, хотя и кажется красной. Скорее зеленоватый ихор. А какая вонь! Вот уж точно, этот запах я буду помнить до могилы!
— Ужасающее зрелище! Конечно, его надо было бы сжечь, но я не мог сделать это здесь, в доме; да и вообще здесь, в городе, где все друг у друга на виду. Я вижу, вы качаете головами; чувствую, что вы не верите мне. Глупцы! Говорю вам, это лишь копия того человека, которого вы знали, жуткая маска, которую напялило на себя существо из-за рифа. Джентльмены! Джентльмены! Пожалуйста, верьте мне! Зачем вы собираетесь меня связать? Я не безумец! Молю вас, поверьте мне…
Доклад капитана-детектива Оутса главе управления полиции штата:
1. План моих действий, представленный в прилагаемом к сему отчете, полностью разработан мной, и я лично несу полную ответственность за все, кроме медицинского заключения, составленного доктором Ланкастером. И я намерен привести его в действие задолго до того, как вы получите данный документ, о чем вам станет понятно из репортажей по радио и в газетах.
2. Целью данного приложения является объяснить вам логику моих действий и показать неоспоримость тех умозаключений, к которым я пришел с момента моего прибытия в Аркхэм. Адресую вас к моим предыдущим посланиям, в особенности к номерам 1, 2 и 3, а также к дополнительным материалам, представленным доктором Ланкастером.
3. Как вам станет впоследствии известно, Джефферсон Холройд, выдающийся ученый из университета Мискатоника, был помещен в приют для умалишенных на основании медицинского освидетельствования доктора Ланкастера, подписавшего соответствующий документ, и моего личного приказа. Он совершил убийство в состоянии безумия, и, как показала предварительная медицинская экспертиза, демонстрирует определенные отклонения не только в поведении, но и в физиологии. О них более подробно сообщает доктор Ланкастер.
4. Останки одного из странных существ, обнаруженные в районе Аркхэма и Инсмута, на три четверти уничтоженные огнем — результат своевременных действий доктора Ланкастера — хранятся сейчас в замороженном виде в морге города Аркхэм, где их можно подвергнуть дальнейшему изучению. Их физические характеристики должны убедить вас в необходимости действий, которые я намереваюсь предпринять сегодня ночью.
5. Как указано в моем основном отчете, тело доктора Дэрроу, декана факультета университета Мискатоника, чудовищно обезображенное и изрезанное кухонным ножом, было обнаружено в погребе под домом Джефферсона Холройда. Он уже сознался в убийстве и, вне всяких сомнений, действительно виновен в гибели несчастного. Подробности смотрите в основном отчете.
6. Ни один из этих фактов еще не стал достоянием прессы или широкой общественности, и, если я не вернусь из боя, который мы намереваемся сегодня дать, то, прошу вас, поймите, что в своих действиях я руководствовался наилучшими побуждениями.
7. События, вкратце перечисленные мною в пунктах с 1-го по 6-й, детально освещены в основном отчете, написанном нами с доктором Ланкастером, и, сколь бы странными они вам ни показались, уверяю, каждое подтверждено свидетельствами самых надежных очевидцев. Пропавших полицейских под командованием капитана Урии Дейла следует считать погибшими; у меня нет оснований сомневаться в их смерти, и я буду признателен вам, если вы оповестите об этом их ближайших родственников.
8. Имена и звания офицеров полиции, которые погибли при исполнении служебного долга в тоннелях, ведущих в направлении Инсмута, приведены в специальном списке, составленном с помощью коллег из полиции штата.
Рекомендую присвоить сержанту Джону П. Эллерманну звание капитана за неоценимую помощь в расследовании, которую он оказал в последние дни.
Засим, сэр, остаюсь вашим покорным слугой Корнелиусом Оутсом, капитаном-детективом полиции графства.
В жутком голубоватом освещении тоннелей лицо доктора Ланкастера казалось вытянутым и синим, как у трупа. Они находились в пятом, самом большом из всех, проходе, который, резко уходя вниз, вел к Инсмуту и морю. В последние два дня там постоянно дежурил вооруженный до зубов отряд полиции численностью в несколько десятков человек, однако за это время в тоннеле ровно ничего не происходило.
Беллоуз торопливо шел к ним по склону тоннеля. Он тоже сильно изменился за последние сорок восемь часов, заметил Оутс.
— Сообщение с поверхности, от Эллерманна, — сказал землемер. — Только что получена телефонограмма от офицера вооруженных сил, командовавшего операцией в Инсмуте. Население города эвакуировано полностью. Все гражданские лица и животные вывезены с территории города на расстояние не менее пяти миль.
— Зачистка домов произведена? — спросил Оутс.
Беллоуз кивнул.
— Все дома проверены. Множество инвалидов доставлены каретами «Скорой помощи» в ближайшие больницы.
Ланкастер одобрительно крякнул.
— Похоже, операция была произведена тщательно, — сказал он.
Оутс повернулся к Беллоузу.
— Когда?
— Сообщение поступило в восемь часов. Еще полчаса я ехал к вам. Грузовики с полицейским и военными как раз выдвигались на позиции. Сейчас они уже должны быть на местах и блокировать все дороги, ведущие к Инсмуту и морю.
Оутс снова взглянул на свои наручные часы. Он лично, вместе с гражданскими властями, проверял вчера вечером места, где были заложены пороховые заряды. Все пещеры вдоль инсмутского побережья были тщательно обысканы, но ничего подозрительного не обнаружено; однако подземные каверны, более глубокие, чем прибрежные гроты, вели под самым дном моря к рифу.
Вот где помогли неоценимые знания и опыт Беллоуза. Все причастные к операции лица сошлись во мнении, что исследовать этот спуск слишком опасно. однако сам профиль циклопических тоннелей и подсказал решение проблемы. Изготовили множество вагончиков на резиновом ходу, каждый нагрузили взрывчаткой и со всеми мыслимыми предосторожностями спустили на лебедке вниз, на невероятную глубину.
Беллоуз разработал хитроумное приспособление, позволявшее обойти любой встречный выступ. Каждый вагончик был снабжен круговым рельсом, заполненным взрывчатым порошком, который предохраняла от внезапных столкновений мягкая прокладка; колеса вагончиков были устроены так, что могли вращаться в любом направлении, поэтому, стоило вагончику войти в соприкосновение со стеной или любым другим препятствием, как он отталкивался от него и начинал двигаться по касательной, увлекаемый собственным весом.
Лебедки были снабжены измерительными механизмами, и, когда их вороты перестали вращаться, приборы показали глубину более пяти тысяч футов. Инженерные работы на пляже, где тоннели выходили на поверхность, заключались в том, чтобы прорыть глубокую траншею вдоль берега моря к шахте, которая вела с берега к морю и под него.
Трое мужчин, более других занятые в подготовке последних дней, умолкли, хотя вокруг них все равно стоял страшный шум, не только от присутствия нескольких сотен человек, но и от работы многочисленных насосов. Много часов подряд они закачивали тонны бензина в провал, откуда топливо изливалось в траншею на пляже, а по ней перетекало в шахту под морем. Тяжелый запах бензина висел в воздухе. Задача была опасная, и все, кто был задействован в ее выполнении, были лишены спичек и чего бы то ни было такого, что могло вызвать случайную искру, даже обувь на людях была на резиновой подошве.
— Взрыв будет чудовищный, — сказал Беллоуз задумчиво. — Даже если он не уничтожит риф целиком, разрушения все равно будут видны на поверхности. Это будет похоже на действие миниатюрного вулкана.
Оутс кивнул, занятый тяжелыми мыслями. Отрывочные образы из происшествий минувшей недели, ужас внезапных смертей, змееподобные твари, которых он видел в тоннеле, а Ланкастер — на земле, общая недобрая атмосфера на оси Инсмут — Аркхэм, грядущая развязка затянувшейся драмы. Он передавал свои выкладки и всю схему целиком на рассмотрение математикам и инженерам соответствующих факультетов университета Мискатоника, и они сошлись в одном: проект никуда не годится; не с точки зрения выполнимости, а с точки зрения опасности, которой он подвергает исполнителей.
Оутс приказал всем полицейским и рабочим покинуть тоннель, простой здравый смысл требовал этого. Весь бензин уже закачали вниз; по телефонной связи сообщили, что жидкость уже достигла пляжа и точно по прорытой траншее ушла в шахту. Наверняка теперь уже все горючее достигло территории будущего взрыва. Все, что ему осталось — это поджечь запальный шнур, чтобы произвести величайший рукотворный взрыв в истории.
Ни одно человеческое существо не пострадает, в этом он был убежден. Но сможет ли грядущий холокост освободить человечество от чего-то настолько кошмарного, что и вообразить нельзя? Если нет, то колоссальная ответственность ляжет на его плечи. Но нет, у него все получится. Жаль только, что сам он может погибнуть раньше, чем станут известны результаты этой кропотливо подготовленной операции.
Ученые предупреждали его о том, что взрыв большой массы бензина может вызвать мощную ударную волну; и тогда проход, ведущий к пляжу, превратится в род орудийного ствола, по которому волна испепеляющего жара устремится вверх, сжигая все на своем пути.
Они настаивали, что закачивать бензин в шахту необходимо с пляжа, сквозь пробуренное отверстие, ведущее вниз; при нормальном положении вещей так бы оно и было, однако существовали неразрешимые проблемы, в частности, в том, что черный базальтовый утес опускался в этом месте почти отвесно в море, а беспорядочно набросанные валуны и пропасть затрудняли подход техники. Спустить оборудование и провести людей по большому тоннелю тоже было невозможно, так как он становился чем дальше, тем уже, а в месте своего выхода на пляж составлял всего три-четыре фута в поперечнике. Любое другое решение требовало многомесячной подготовки, на которую у них не было времени.
— Как вы собираетесь это сделать? — спросил у Оутса доктор.
Тут наконец настала настоящая тишина; насосы и прочие механизмы отключили, полиция и рабочие покидали тоннель, бросая любопытные взгляды на остававшуюся троицу.
— Электрической искрой, — ответил Оутс. — Идея Беллоуза. А в собачке ставится часовой механизм, который запускается через двадцать минут после включения. По нашим подсчетам, именно за такое время вагончик докатится до дальнего конца. Цепь замкнется; возникнет серия искр, от которых за последующие десять минут вспыхнет бензин. В теории стена огня устремится вниз от пляжа и приведет в действие взрывчатку на глубине.
Ланкастер криво усмехнулся:
— Это в теории, капитан.
Оутс рассеянно кивнул, издалека глядя на чудной круглый вагончик с резиновыми колесами.
— Хватит тут торчать, — сказал он. — Я запущу механизм. Потом пойду к вам. А вы отправляйтесь наверх немедленно. Это приказ.
Его товарищи молча переглянулись.
— Ну, вы знаете, что делаете, — сказал Беллоуз. — Но вы уверены, что не хотите, чтобы я остался? В конце концов, ведь это я сконструировал эту штуку.
Оутс покачал головой:
— Я справлюсь. Встретимся наверху.
— Если не на небе, — мрачно пошутил доктор.
Все трое обменялись напряженными улыбками. Затем двое двинулись к выходу, осторожно шагая в пространстве, насыщенном парами бензина, о чем свидетельствовал запах. Оутс почувствовал, как холодный пот выступил у него на лице. Вкрадчивый шепот снова зазвучал в его ушах. Нельзя было терять ни минуты.
Он шагнул вперед, туда, где склон круто уходил в первозданную тьму, которую не могли рассеять специально укрепленные над провалом фонари. Мягким движением он отвел от стены вагончик и установил калибровочный датчик так, как показывал ему Беллоуз, да не один, а дюжину раз. Его сердце билось так сильно, что заглушало даже тиканье часового механизма. Он еще раз взглянул на часы. Оставалось ровно двадцать минут.
Оутс был человек нерелигиозный, но тут все же прочел короткую молитву.
— Господь да сохранит нас от сил тьмы, — сказал он.
С этими словами он отпустил круглобокий вагончик по склону вниз, в темноту и бесконечный ужас пульсирующих тварей, что выли и извивались за рифом, тянувшимся вдоль темного побережья нечестивого Инсмута.
Ким Ньюман
Крупная рыба
Копы Бэй-Сити хватали враждебных иностранцев. Проезжая через этот грязный приморский городишко, я видел, как люди в форме выволокли из бакалейной лавки пожилых супругов. Их соседи, столпившись под мелким дождем, астматически подвывали, требуя крови. После Пирл-Харбора мести жаждали многие. Когда чету Тараки запихнули в автобус и отправили в Манзанар[1], соседи стаей растрепанных грифов налетели на их магазин. Сначала смели продукты, потом принялись все ломать. Светофор словно застыл на красном, и у меня было время все рассмотреть. Тараки жили на втором этаже, над магазином; из окна уже полетела мебель. Тонкий фарфор крошился о тротуар, белые осколки сыпались в канаву, словно выбитые зубы. Любо-дорого было глядеть, как дружно силы демократии встали на защиту Соединенных Штатов от злобных бакалейщиков с Востока, злокозненно снабжавших кабачками ничего не подозревавшее гражданское население.
Между тем у меня была назначена встреча с типом, который держал на каминной полке статуэтку Девы Марии в обрамлении трех фотографий. На верхней была запечатлена его белокурая мамаша, на левой — Чарльз Лучиано[2], а на правой — Беннто Муссолини. Тараки, законопослушные граждане Америки, всю жизнь поддерживавшие демократов, проведут войну в концлагере посреди пустыни, а Джанни Пасторе, сицилиец по происхождению, не поддерживавший ничего, кроме собственного семейного бизнеса, в высшей степени незаконного, отсидится в особняке с мраморным фасадом, выстроенном на медяки, которые люди проигрывали в нелегальных лотереях, опускали в игровые автоматы либо отдавали за услуги красивым девочкам со старой родины синьора. Я не однажды бывал в его дворце, но пока не поддался искушению запустить в которую-нибудь из двенадцати статуй муз бутылкой бурбона.
Купить за деньги любовь можно, а вот хороший вкус — даже внести задаток не получится.
Дворец стоял на холме, чуть дальше по бульвару от особняка Тайрона Пауэра[3]. Однако теперь Пасторе вешал свою федору[4] с норковой лентой на гвоздь в мотельном комплексе Бэй-Сити на берегу океана, как агенты по продаже недвижимости величают кучу жалких сараев, выстроенных на пляже для удобства людей, которым нравятся ковры, вечно засыпанные песком.
Перед тем как оказаться в замкнутом пространстве с кем-нибудь вроде Пасторе, мне всегда хочется глотнуть свежего воздуха, поэтому я оставил свой «Крайслер» в паре кварталов от «Сивью-Инн» и прошел остаток пути пешком, спасаясь «Кэмелом» от сырости. Говорят, что в Южной Калифорнии дождя не бывает, а еще говорят, что Военный флот США нельзя застать врасплох. В том феврале, через три месяца после вступления Америки в войну, которая для остального мира началась в 1936-м — по китайскому счету или в 1939-м — по польскому, дождь шел почти не переставая: днями он моросил, нагоняя тоску, а тревожными ночами в небе начиналось настоящее грозовое шоу со световыми эффектами молний, как у Де Милля. Инфлюэнца косила бойскаутов, которым было доверено обшаривать горизонт в поисках японских или немецких подлодок, а фабриканты плащей и зонтов, не успевшие перевести свои заводы на военную продукцию, загребали невиданные барыши. Мне дождь не мешал. Дождевая вода, в отличие от многого другого в Бэй-Сити, была хотя бы чистой.
Мальчонка с деревянным автоматом выскочил из-за куста и огорошил меня звуковыми эффектами, прерывая свое оглушительное «тра-та-та» воплями:
— Умри, косоглазый япошка!
Я схватился за сердце, пошатнулся, и он прикончил меня короткой очередью. Погибнув за императора, я дал мальчишке десять центов, чтобы он смылся. Что ж, если дальше так пойдет, то маленький сорванец успеет подрасти и отправиться на войну, где будет убивать по-настоящему, а потом вернется домой в цинковом гробу, или живой, но контуженый, или со съехавшей крышей. А пока Калифорния готовилась к военным действиям, особенно с тех пор, как кто-то заприметил японскую субмарину недалеко от Санта-Барбары. Помимо интернирования бакалейщиков, наши лучшие умы были заняты сочинением песенок вроде «Ша, япошки, Тихий будет наш!», «До свиданья, мама, я еду в Йокогаму», «Япошек с карты мы сметем, как крошки со стола» и «Косоглазые запели, встретив Когенов и Келли». Занук[5] пожертвовал Вест-Пойнту[6] весь выводок своих аргентинских пони для поло, а сам приказал снять с себя мерку для опереточного мундира полковника, чтобы вступить в сигнальные войска и покорить страны Оси[7], позируя для рекламных фотографий.
Я пытался вступить в армию через два дня после Пирл-Харбора, но не прошел комиссию. Слишком много сотрясений мозга. Они сказали, что меня, должно быть, часто бьют по голове, вследствие чего я предрасположен к обморокам. В сущности, они правы.
«Сивью-Инн» оказался пуст — пал одной из первых жертв войны. У него был собственный мол, вдоль которого болтались на волнах зачехленные парусиной моторки. В предвечерних сумерках я разглядел силуэт «Монтесито», стратегически заякоренного за пределами трехмильной зоны. Вот и положительная сторона восточной угрозы: японцы могли пустить ко дну большую часть флота Соединенных Штатов — это плохо, зато по их милости закрылось плавучее казино Лэйрда Брюнетта — и это хорошо. Никто не жаждал просаживать в рулетку все, вплоть до перламутровых пуговиц от рубашки, при этом рискуя быть торпедированным в любую секунду. На мой взгляд, такая опасность только добавляла пикантности веселому и увлекательному процессу обогащения Лэйрда Брюнетта, но я сужу как жалкий детектив, вкалывающий за двадцать пять долларов в сутки.
«Сивью-Инн» задумывался как остановка на пути в «Монти», однако теперь здешнему бизнесу пришел конец. Главное здание походило на трехэтажную радиолу, слепленную из куска пыльного мороженого и украшенную волнистыми створками раковин. Толкнув двойные двери, я вошел в фойе. Пол украшала мозаика, на которой Нептун (вылитый Санта-Клаус в купальном костюме, только злой) клеился к морской нимфе, причесывавшейся, видно, у того же парикмахера, что и Геди Ламарр[8]. Нимфа была голая, не считая пары-тройки ракушек в стратегически важных местах. Все было очень художественно.
За стойкой портье никого не было, и сколько я ни жал на звонок, делу это не помогло. Снаружи по зеленоватым оконным стеклам бежали струйки воды. Где-то непрерывно капало. Закурив следующую сигарету, я отправился на разведку. Контора была закрыта, в журнале регистрации не оказалось ни одной записи после 7 декабря 1941 года. Мой плащ начал высыхать, а рубашка и пиджак прилипли к плечам. Я пошевелил ими, пытаясь слегка проветрить одежду. И заметил, как у Нептуна задергалось лицо. Тонкая пленка воды покрыла мозаику, и похожие на анемоны наросты, которые покрывали бога морей, пришли в восторг. Что ж, оно и понятно, если посмотреть на нимфу. Вообще-то от Геди у нее были только волосы. Лицом и фигурой она была копия Джейни Уайльд.
В кино я хожу часто, но большинство звездных фильмов Джейни как-то пропустил: «Душительница из Шанхая», «Тарзан и девушка с тигром», «Отважная Джангл Джиллиан». Зато я видел ее в газетах, причем зачастую в опасной близости к Пасторе или Брюнетту. Начинала она как пловчиха, выиграла медаль на Олимпиаде в Берлине, затем следом за Вайсмюллером и Крэббом отправилась покорять Голливуд. «Оскар» ей, конечно, не грозит, но ее ножки то и дело мелькают на аппетитных снимках, не относящихся ни к какому конкретному фильму. Причесанная и накрашенная, словно труп перед похоронами, она прекрасно смотрится в сексуальной рекламе. Характер у нее игривый, как у домашней шипучки, которая вот-вот выдохнется. Дела в детективном бизнесе шли неважно, поскольку людей больше беспокоила угроза вторжения, чем пропажа дочерей или любовных писем. Поэтому когда Джейни Уайльд позвонила в мой офис в Кахуэнга-билдинг и попросила меня разыскать одного ее неосмотрительно выбранного дружка, я перелистал стопку старых конвертов, которые служат мне настольным календарем, и ответил, что к поискам настоящего местопребывания означенной крупной рыбы готов.
Куда бы ни запропастился Лэйрд Брюнетт, в отеле его точно не было. И, как я уже начал понимать, его партнера по игорному бизнесу, Джанни Пасторе, тоже. Похоже, я зря потратил день. Снаружи дождь полил сильнее, выбивая барабанную дробь по стенам. Если это не град, значит, японцы бомбят Бэй-Сити галькой, чтобы деморализовать население. И чего так беспокоиться? Сунул бы Хирохито местным копам туго набитый конверт, они бы ему город со всеми жителями сами принесли, да еще и бантик сверху завязали.
Луж в фойе стало больше, маленькие ручейки перетекали из одной в другую. Это напомнило мне эпизод из «Отважной Джангл Джиллиан», которую я посмотрел, пока следил за потенциальным растлителем на утреннем сеансе в субботу. В самом конце Джейни Уайльд попадает в плен к Принцессе Пантере, и та запирает ее в комнате, которая медленно заполняется водой. однако та комната была куда меньше, чем фойе мотеля, и вода в ней прибывала быстрее.
За стойкой висели фотографии в рамках, на которых красивые люди в красивой одежде красиво проводили время. Пасторе был среди них, и Брюнетт тоже: оба, улыбаясь, как два тигра, тусовались с богемой — Ксавьером Кугатом, Джейни Уайльд, Чарльзом Коберном. Фотограф неоднократно запечатлел в художественных позах и Дженис Марш, лупоглазую красотку, которая, как поговаривали, сменила Джангл Джиллиан на посту подружки Брюнетта.
По телефону Пасторе заверил меня, что будет здесь. Сначала он и связываться не хотел с мелюзгой вроде меня, но имя Джейни Уайльд помогло. Мне даже показалось, будто Папа Пасторе обрадовался, что кто-то спросил его о Брюнетте, словно ему хотелось о нем поговорить. А ведь он, наверное, занят, при таком количестве войн. За океаном шла большая, а дома несколько мелких. Макси Ротко, владельца баров и младшего партнера в «Монти», нашли недавно плавающим в водорослях возле пирса в Санта-Монике, причем голова была снесена почти напрочь. А Фил Изингласс, светский адвокат и официальный представитель Брюнетта, обнаружился в ливневой канализации с легкими, забитыми песком и илом. Джейни Уайльд это встревожило, хотя Пасторе говорил о Лэйрде так, словно был уверен, что тот жив. однако теперь самого Папы нигде не было. Это меня раздражало, хотя раздражаться из-за этого типа было неразумно.
Разумеется, в лачуги на пляже Пасторе не пойдет, но в главном здании у него наверняка имелись личные апартаменты. Я решил вести расследование дальше. Джангл Джиллиан для этого меня и наняла. И заплатила за пять дней авансом, что очень приятно, поскольку я чрезмерно полагаюсь на деньги богатых и досужих, когда дело доходит до еды, выпивки и прочих удовольствий.
Коридор за стойкой упирался в лестницу, ведущую наверх. Стоило мне поставить свой ботинок девятого размера на нижнюю ступеньку, как раздался хлюпающий звук. Я понял, что где-то что-то совсем неладно. Лестница представляла собой тихий маленький водопад, который не столько тек, сколько сочился. И вода была не обыкновенной, а с примесью какой-то противной слизи. Кто-то набирал ванную и забыл закрыть кран. Моей первой мыслью было, что Пасторе, наверное, отвлекла пуля. Я ошибся. Как выяснилось позднее, он мог бы считать себя счастливцем, окажись я прав.
Поднявшись по мокрым насквозь ступенькам, я обнаружил, что дверь в квартиру не заперта, но закрыта. Собравшись с духом, я толкнул ее внутрь. Дверь уперлась, потом распахнулась, и в коридор хлынула вода, которая залила мне ноги до лодыжек и промочила мои темно-синие носки. Вместе с потоком наружу вырвался запах трупа, три недели провалявшегося в реке, куда стекает канализация и где плавает дохлая рыба, и окутал меня, точно одеялом. Сдерживая дыхание, я шагнул через порог. Водопад за моей спиной потек быстрее. Я услышал звук хлещущей из крана воды. Где-то, смешно побулькивая, играло радио. Эстрадный певец старался, как мог, исполняя «Жизнь — это миска, полная черешен», но его голос доносился как будто с глубины пяти морских саженей. Я пошел на звук и нашел ванную комнату.
Пасторе лежал ничком в переполненной ванной, а из-под него доносилась песня. На нем был шелковый домашний халат, который кто-то стянул с его спины, поясом связав ему запястья. В конце концов его утопили. однако прежде над ним хорошо поработали, то ли со зла, то ли с профессиональным хладнокровием. Я не коронер, поэтому не могу сказать, как долго почтенный Глава Семьи провалялся в ванной. Судя по объему убежавшей воды и все еще звучащему радио, Джанни не слишком давно встретил свой конец, однако вонь стояла такая, словно он пролежал там веки вечные.
У меня есть дурная привычка: я вечно нахожу в Бэй-Сити трупы, а наша самая взяткоемкая полиция в Штатах вечно пытается отыскать связь между моей персоной и персонами обнаруженных мной усопших. Выход напрашивался сам собой: позвонить в участок и вежливо, но недвусмысленно указать на местонахождение покойного мистера Пасторе, а потом откланяться, словно бы по рассеянности забыв назвать свое имя. Кто знает, а вдруг по чистой случайности трубку снимет кто-нибудь честный.
Именно так я и сделал бы, но в эту минуту открылась дверь и вошел человек с пистолетом…
Во всем была виновата Джейни Уайльд. Она заявилась без приглашения, выбрав меня по рекомендации. Странно, но ей сказал обо мне что-то довольно лестное Лэйрд Брюнетт. Мы с ним встречались. У нас никогда не было серьезных причин, чтобы пытаться друг друга убить. Бывают отношения и похуже.
Над саронгом Джангл Джиллиан возвышались острые плечи и голова в покрытой вуалью шляпе-таблетке. На ребятишек с утреннего сеанса ее чары действовали безотказно, особенно когда она дралась с чучелами змей, да и послушные долгу папаши не стали исключением, особенно когда ее привязали и саронг задрался на пару дюймов. Ее рот напоминал четыре склеенные вместе красные виноградины. Когда она клала ногу на ногу, видно было, как напрягаются под чулком гладкие мышцы пловчихи.
— Вообще-то он очень милый, — заверила она, подразумевая, наверное, что мистеру Брюнетту ни разу не доводилось прикончить человека в радиусе десяти миль от нее, не извинившись впоследствии, — совершенно не такой, как о нем пишут в этих ужасных скандальных газетенках.
В последнее время игрок вел себя странно, особенно с тех пор, как его бизнес прикрыла война. Вообще-то «Монтесито» был уже почти год как неисправен и закрыт якобы на ремонт, однако, насколько Джейни Уайльд знала, рабочих на судно не посылали. Примерно в то же время, когда Брюнетт резко сбросил деловые обороты, его свалила обычная для Калифорнии болезнь: религиозное помешательство. Несколько лет назад он был косвенно связан с одним медиумом-рэкетиром, пташкой по имени Амтор, однако с тех пор от безобидных мошеннических культов он перешел к вещам пожестче. Спиритуализм, оргиастические ритуалы, заклинания, ладан и прочее в том же духе.
Столь внезапный интерес к оккультным материям Джейни объясняла дурным влиянием Дженис Марш, которая, как нарочно, сыграла Принцессу Пантеру в «Опасностях Джангл Джиллиан» — по сюжету ей полагалось пытать Джейни Уайльд по крайней мере раз в серию. однако моя нанимательница не упомянула, что ее собственная карьера так и не поднялась выше «Отважной Джангл Джиллиан» и «Душительницы из Шанхая», в то время как бывшая Принцесса Пантера перешла из «Республики» в «Метро», где из нее принялись лепить экзотическую красавицу в духе Дитрих и Гарбо. Можете что угодно говорить о Дженис Марш в роли Нефертити, мне она все равно напоминает Питера Лорра[9]. А если верить Джейни, новая звезда отличалась своеобразными пристрастиями, и не только к морепродуктам.
По всей видимости, Брюнетт завел связи с разного рода сектантами и настолько втянулся, что стал пренебрегать бизнесом, вызвав тем самым раздражение своего давнего партнера Джанни Пасторе. Возможно, именно по этой причине кто-то решил, что Лэйрд не будет возражать, если его компаньоны начнут умирать один за другим. Тут я ничего не мог сказать наверняка. Все культы, с которыми я сталкивался, держались на плаву благодаря торговле сексом, наркотиками, властью или утешением для богатых и глупых. Я не мог представить Лэйрда в этой роли. Он был слишком крупной рыбой для такого мелкого садка.
Человек с пистолетом оказался англичанином с акцентом, как у Рональда Коулмана[10], и белым шарфом, как у летчика. Он был не один. Невозмутимый тяжеловес размером с грузовик, в котором я сразу распознал федерала, рылся в моем бумажнике, пока щеголеватый иностранец держал меня на мушке, небрежно нацелив ствол автоматического пистолета мне в середину туловища.
— Шпик, — рыкнул федерал, показывая фотокопию моей лицензии и якобы впечатляющий значок помощника шерифа.
— Интересно, — сказал британец и убрал пистолет в карман своего верблюжьего пальто. Безупречно чистого, кстати; должно быть, путь от машины до дверей здания он проделал под защитой зонта.
— Я Уинтроп. Эдвин Уинтроп.
Мы обменялись рукопожатиями. Его второй компаньон, самый интересный из троицы, просматривал бумаги покойного. Она — ибо это была женщина — подняла голову, улыбнулась, показав острые белые зубы, и вернулась к работе.
— Это мадемуазель Дьедон.
— Женевьева, — представилась она.
В ее произношении — «Же-не-вьев» — чувствовалась Франция, Париж. Она была в чем-то серебристо-белом, на голове — копна светлых волос.
— Джентльмена из вашего Федерального бюро расследований зовут Финлей.
Федерал фыркнул. Вид у него был такой, словно его вызвал к жизни Уиллис Г. О’Брайен[11].
— Вы интересуетесь неким мистером Брюнеттом, — сказал Уинтроп. Это был не вопрос, так что отвечать не было смысла. — Мы тоже.
— Вам только русского не хватает, а так все союзники налицо, — сказал я.
Уинтроп засмеялся. Он был не дурак.
— Верно. Мое правительство отправило меня сюда с заданием, которое я выполняю в сотрудничестве с вашими властями.
Одна деталь сразу показалась мне подозрительной: никто из них даже не намекнул, что хорошо бы предупредить местную полицию о смерти Джанни Пасторе.
— Вы когда-нибудь слышали о местечке Инсмут, в Массачусетсе?
Это название мне ровным счетом ни о чем не говорило, и я так и сказал.
— Считайте, что вам повезло. Коллег специального агента Финлея вызывали туда еще в двадцатые, чтобы взорвать кое-какие нежелательные объекты в море, недалеко от Инсмута. Грязная была работенка.
Женевьева произнесла по-французски что-то резкое, похожее на проклятье. И показала нам фотографию, на которой Брюнетт танцевал щекой к щеке с Дженис Марш.
— Знаете эту леди? — спросил Уинтроп.
— Только по фильмам. Некоторые от нее просто без ума, но, по-моему, она похожа на мистера Мото.
— Точно подмечено. А название «Тайный Орден Дагона» вам что-нибудь говорит?
— Похоже на очередную «церковь месяца». В остальном ничего.
— Капитан Оубед Марш?
— Не-а.
— Глубоководные?
— Это что, цветной джаз-банд?
— А как насчет Ктулху, Йхантли, Р’льеха?
— Гезундхайт.
Уинтроп ухмыльнулся, встопорщив остроконечные усы.
— Эти словечки выговорить еще труднее. Они вообще не предназначены для человеческих уст.
— Да он обыкновенный постельный шпик, — сказал Финлей, — ниче он не знает.
— Произношение могло бы быть получше. Разве Джей Эдгар не оплачивает вам уроки риторики?
Огромные кулачищи Финлея сжались и вновь разжались, как будто сожалея, что им не попалось чье-нибудь горло.
— Джини? — спросил Уинтроп.
Женщина подняла голову, рассеянно провела красным языком по красным губам и на миг задумалась. Потом она сказала на своем языке то, что я понял:
— Незачем его убивать.
«И на том спасибо», — подумал я.
Уинтроп пожал плечами и ответил:
— Прекрасно.
У Финлея был разочарованный вид.
— Вы можете идти, — сказал мне бритт. — Мы сами обо всем позаботимся. Продолжать эту линию в вашем расследовании бессмысленно. Пошлите записку по этому адресу, — он протянул мне визитку, — и вам возместят все расходы. Не беспокойтесь. Мы примем все необходимые меры. Кстати, было бы очень мило, если бы вы ни с кем не обсуждали то, что увидели здесь и услышали от меня. Война, знаете ли, в разгаре. Болтун — находка для шпиона.
Я уже приготовил парочку резких ответов, но прикусил язык и вышел. Всякий, кто считает, что меня незачем убивать, в моих глазах парень что надо, и я не собираюсь оттачивать на нем свой и без того острый язык. Пока я шагал к своему «Крайслеру», несколько нарочито неслужебных машин промчались мимо меня по направлению к «Сивью-Инн».
Темнело, над морем сверкнула молния. Вспышка осветила «Монтесито», и я успел сосчитать до пяти, прежде чем услышал гром. Мне показалось, что за пределами трехмильной зоны, рядом с плавучим казино, кто-то есть и он очень сердится.
Я сел за руль «Крайслера» и поехал прочь от Бэй-Сити, и чем дальше оставался берег, тем легче становилось у меня на сердце.
Я беру «Черную маску» Хэммета и того парня, который пишет рассказы про Теда Кармади, в ней давно не печатают, но иногда попадается неплохой Корнел Вулрич или Эрл Стенли Гарднер. Вернувшись в офис, я увидел, что мальчишка-газетчик уже приходил и оставил «Таймс» и чтиво на следующую неделю. Однако он что-то напутал. Вместо «Маски» внутри свернутой газеты лежало нечто под названием «Жуткие истории». На обложке два зеленых демона и один вампир в неизменном черном капюшоне атаковали какого-то человека. «Ад на земле» — роман о сатане в смокинге, автор Роберт Блох», — сверкала надпись над заголовком. Также были обещаны «Новый цикл рассказов Лавкрафта: «Герберт Уэст — реаниматор» и «Повелитель крыс» Грея ла Спины. И все за пятнадцать центов, ребята. Будь я детективом другого типа — из тех, которые говорят «nom de[12] что-то там…» и подкручивают усы каждый раз, когда им случится найти расчлененный труп, я бы, возможно, счел эту подмену предзнаменованием.
У меня в офисе стоят пять картотечных шкафов, три из которых пусты. Еще в тот день у меня были две бутылки, одна — уже пустая. Через несколько часов пустых станет две.
Я нашел не слишком пыльный стакан и вытер его чистым носовым платком. Потом щедро плеснул в него спиртного и сделал хороший глоток, который обжег мне горло.
Радио не работало, но откуда-то доносился Глен Миллер. Обнаружив, что мой стакан пуст, я это исправил. Усаживаясь за стол, я взглянул на потеки дождя на стеклах. Вытянув шею, я смог бы разглядеть движение на бульваре Голливуд. Люди, в чьи служебные обязанности не входило обнаружение мертвых тел в ванных, спешили с работы домой, чтобы не проводить вечер в компании бутылки.
Рабочий день принес мне некоторое развлечение, но для Джейни Уайльд много сделать не удалось. Я был не ближе к разгадке тайны местонахождения мистера Брюнетта, чем когда она вышла из моего офиса, оставив облачко соблазнительного «Эссенс де шин».
Еще она оставила мне кое-какую литературу, относившуюся к новому увлечению Брюнетта. Теперь, когда третий стаканчик спиртного согревал меня изнутри, я решил просмотреть ее, надеясь на озарение. И обнаружил интересные отголоски того списка предметов особого значения, которым огорошил меня Уинтроп. С винегретом из звуков мне не повезло, наверное, потому, что «Ктулху» больше похоже на кашель, чем на слово. Зато Тайный Орден Дагона оказался той самой группой, в которую вступил Брюнетт, а зарегистрирована она была на Восточном побережье, в Инсмуте, штат Массачусетс. Эзотерический орден имел свой храм на пляже в Венеции, а его невнятные рекламки обещали «древние захватывающие ритуалы, погружающие в тайны Глубин». Вместе с листовками потенциальным новым членам секты раздавали профессионально написанную и отпечатанную биографию Дженис Марш, в которой, кстати, сообщалось, что звезда кино родилась в Инсмуте, штат Массачусетс, и что одним из ее предков был капитан Оубед Марш, знаменитый исследователь девятнадцатого века, о котором я никогда не слышал. Очевидно, Уинтроп, Женевьева и ФБР дальше меня ушли в установлении связей. А я даже не знал, кто были этот англичанин и француженка.
Я подумал, не лучше ли мне было взяться за «Жуткие истории». По крайней мере, «Сатана в смокинге» звучит привлекательно. Конечно, не Тед Кармади с автоматическим пистолетом и красоткой, но все же. В небе снова сверкнуло, загрохотало, и я прикончил бутылку. Спать можно было пойти домой, но кресло показалось мне не менее уютным, чем моя раскладная кровать.
Пустая бутылка откатилась в угол, а я ослабил галстук и откинулся в кресле, чтобы забыть о заботах дня.
Из-за войны убийство Пасторе попало лишь на третью страницу «Таймс». По всей видимости, известного владельца игорных домов и антрепренера застрелили. Что ж, если так, то это случилось после моего ухода. До тех пор его только пытали, а потом утопили. Шеф полиции Джон Вакс отделался дежурным обещанием «завершить расследование к Рождеству». Ни о ФБР, ни о союзниках в лице Джона Булля в смокинге и мадемуазель ла Гильотен не было сказано ни слова. В тюрьме газеты выдают с аккуратными прямоугольными дырочками: из них вырезают статьи, которые цензорам кажутся провоцирующими. На воле дело обстоит ничуть не лучше: свои невидимые прямоугольники есть в каждой газете. Так и здесь: о том, как безупречно Пасторе обращался с неимущими детьми, рассказали, а о том, как он продавал им травку, когда они становились неимущими взрослыми, забыли. К некрологу прилагалась фотография, на которой он был снят в компании Джейни Уайльд и Дженис Марш на премьере фильма с Джорджем Рафтом. Появление призрачной субмарины у берегов Санта-Барбары освещалось куда подробнее. Генерал Джон Л. Де Витт, глава Комитета обороны западного округа, требовал больше войск для охраны побережья, предрекая, что «смерть и разрушение могут прийти в любой миг». Все в Калифорнии смотрели на море.
Завершив регулярное утреннее совещание с мистером Хаггинсом и мистером Янгом, я позвонил Джейни Уайльд в ее резиденцию в Малибу. Любой кумир экрана, если позвонить ему до десяти утра, окажется или в студии, или в постели, но Джейни, которой оставалось еще несколько недель до начала съемок в «Дороге на Батаан», была дома и не только не спала, но уже успела тридцать раз переплыть свой бассейн. В отличие от большинства своих коллег она считала, что бассейн существует для того, чтобы в нем плавать, а не красоваться рядом с ним в шезлонге.
Она тут же вспомнила, кто я такой, и спросила, какие новости. Я изложил вкратце.
— Мне было вежливо предложено воздержаться от дальнейшего расследования, — объяснил я. — Ребята, от которых поступило предложение, шутить не любят.
— Значит, вы отказываетесь?
Мне следовало сказать «да», но:
— Только вы, мисс Уайльд, вправе требовать от меня этого. Полагаю, вам известно мнение федерального правительства о таких вещах.
Повисла пауза.
— Я не все вам рассказала, — промолвила она наконец.
То и дело слышу эту фразу от своих клиентов.
— Есть кое-что важное.
Я молчал, как убитый.
— Меня не столько сам Лэйрд беспокоит. Просто у него Франклин.
— Франклин?
— Ребенок, — сказала она. — Наш ребенок. Мой сын.
— Лэйрд Брюнетт исчез, прихватив с собой ребенка? — Да.
— Похищение людей — уголовное преступление. Может, вам лучше к копам обратиться?
— Преступления бывают разные. Лэйрд много чего натворил, но ни дня не провел в тюрьме.
Это было правдой, но именно поэтому все выглядело особенно странно. Похищение людей — неважно, в личных целях или ради наживы, — очень рискованное преступление.
Как правило, на него отваживаются лишь самые тупые бандиты. Лэйрд Брюнетт тупым не был.
— Я не могу позволить себе скандальную рекламу. Не сейчас, когда я так близко к нужным мне ролям.
«Дорога на Батаан» должна была сделать ее одной из небожительниц экрана.
— Считается, что Франклин — ребенок Эстер. Через несколько лет я усыновлю его официально. Эстер — моя домоправительница. У меня все получится. Но я должна его вернуть.
— Но Лэйрд — отец. У него тоже есть права.
— Он сказал, что ему это неинтересно. Он… гм, ушел… к Дженис Марш, пока я… до рождения Франклина.
— А потом у него случился внезапный приступ отцовских чувств, но вас он не убедил?
— Я страшно волнуюсь. Дело не в Лэйрде, а в ней. Дженис Марш нужен мой ребенок для чего-то гадкого. Я хочу, чтобы вы вернули Франклина.
— Как я уже говорил, похищение ребенка — уголовное преступление.
— Разумеется, если ребенку угрожает опасность…
— У вас есть доказательства того, что ему грозит опасность?
— Вообще-то нет.
— Лэйрд Брюнетт или Дженис Марш когда-нибудь давали вам повод подозревать, что они желают зла ребенку?
— Не совсем.
Я задумался.
— Я не брошу работу, для которой вы меня наняли, но вы должны понять, что больше я ничего не могу сделать. Если я найду Брюнетта, то передам ему, что вы беспокоитесь. А там разбирайтесь сами.
Она принялась бурно благодарить, а я повесил трубку с таким ощущением, словно забрел в болота Ла Брея и уже чувствовал, как вязкая жижа засасывает меня до колен.
Лучше бы я сидел дома и решал шахматные задачки, но у меня в кармане лежал аванс от Джангл Джиллиан за четыре дня работы и вырезка из какого-то безумного научного журнала с адресом «Тайного Ордена Дагона». Поэтому я поехал в Венецию, всю дорогу твердя себе, что надо починить дворники.
Венеция в штате Калифорния — это отличная идея, из которой ничего не вышло. Человеку по имени Аббот Кинни пришла в голову мысль искусственно создать что-то вроде итальянской Венеции, с каналами и архитектурой. Каналы в основном пересохли, а архитектура как-то не прижилась в городе, где в двадцатые годы эстетическим триумфом была признана ванная Глории Свенсон. Остался пляж и кучи гниющей рыбы. Итальянская Венеция слывет чумной столицей Европы, и в этом смысле Венеция калифорнийская пошла по ее стопам.
Эзотерический орден находился на берегу, неподалеку от Масл-Бич, в неприметном здании яхт-клуба с собственной небольшой пристанью. Судя по внешнему виду дома, культ знавал лучшие времена. Водоросли гнили на пляже, опутывали мол, их зеленые языки лизали фундамент фасада. Все кругом позеленело: дерево, штукатурка, медь. И запах стоял как в ванной у Пасторе, только еще хуже. Глядя на это место, я поневоле удивился: и чего япошкам так не терпится высадиться?
Я посмотрел на себя в зеркало и закатил глаза. Мне хотелось придать себе вид простачка, готового променять свои земные богатства на тайны Востока, — так, по моим представлениям, должен был выглядеть причастник в этой психушке, выдающей себя за храм. Нахохотавшись вволю, я вспомнил следы пыток на теле Пасторе и постарался подойти к делу серьезно. Обозрев свою небритую наружность пропащего человека, который спит в одежде и употребляет две бутылки крепкого в день, я поздравил себя с тем, что пятнадцать лет предусмотрительно культивировал как раз такую внешность, которая послужит идеальным прикрытием для этой работы.
Чтобы войти в здание, мне пришлось спуститься к пристани и зайти со стороны пляжа. Зеленые колонны из чего-то похожего на пораженный грибком картон возвышались по обе стороны внушительной двери с панелью из цветного стекла, преимущественно зеленого и голубого, изображавшей мужчину с головой каракатицы в аккуратном монашеском одеянии, которого художник наделил ненормальным количеством глаз. Дагон, насколько я знал, был человеком-рыбой, богом филистимлян. На мой взгляд, в этом городе бог филистимлян был как раз на своем месте. У нас великая страна: если ты наполовину рыба, платишь почти все налоги, пожираешь младенцев и при этом не японец, то тебя ждет прекрасное будущее.
Я постучал по голове каракатицы, но ничего не произошло. Тогда я заглянул в некоторые из ее глаз, и у меня засосало под ложечкой. Почему-то при ближайшем рассмотрении лицо головоногого выглядело не таким уж глупым.
Я толкнул дверь и оказался в прихожей. Все было, как я и ожидал: приглушенный свет, старые, но плохие картины, несколько полупорнографических статуэток, сильный запах вчерашних благовоний, призванных заглушить рыбную вонь. Религиозной атмосферы там было не больше чем в двухдолларовом борделе.
— Йо-хо, — сказал я, — Дагон пришел…
Эхо собственного голоса показалось мне жутковатым.
Я прошелся по комнате в поисках разгадки. Попытался сказать «nom de что-то там…» и подкрутить несуществующие усы, но в голову все равно ничего не приходило. Может, пора обзавестись пенковой трубкой с кокаином и войлочной шляпой, а может, моноклем и коллекцией инкунабул.
Там, где обычно ждешь встретить портрет Джорджа Вашингтона или матери Джин Харлоу[13], орден повесил потрясающе уродливую картину «Наш Основатель»: капитан Оубед Марш, одетый как адмирал Батлер[14], стоит на берегу полинезийского рая, а его славный корабль болтается на горизонте, причем лишенный всякого чувства перспективы художник изобразил его так, словно тот был высотой в три фута. Капитан в окружении забавного вида туземных прелестниц выглядел довольным, как Эролл Флинн[15] на собрании герл-скаутов. Особенно удались художнику нагие тела. одной смазливой смуглянке он нарисовал такие бедра, что Ломбард[16] позеленела бы от зависти; ее лицо напомнило мне Дженис Марш. Вероятно, это была прапрапрабабушка Принцессы Пантеры. На заднем плане, как раз напротив корабля, из моря поднималось что-то очень похожее на каракатицу. Мазила с кисточками и тут просчитался. Тварь с извивающимися щупальцами оказалась вдвое больше Оубедова клипера. Но самой неприятной деталью картины был тип в плаще и маске, который, стоя на палубе, сжимал в каждой руке по ножке младенца. По-видимому, он только что разорвал ребенка на части, как куриную косточку, и теперь поливал его кровью глаза каракатицы.
— Прошу прощения, — пробулькал у меня за спиной чей-то голос, — могу я вам чем-нибудь помочь?
Обернувшись, я едва не задохнулся: передо мной стоял согбенный и древний Хранитель Культа. Его плащ в точности повторял одежду человека с головой каракатицы на двери и раздирателя младенцев на картине. Лицо его скрывал капюшон, голос звучал не лучше, чем радио в ванной Пасторе, а изо рта пахло хуже, чем вонял бы сам Пасторе после полутора недель в воде.
— Доброе утро, — сказал я, позволив себе пустить петуха в верхнем регистре, — меня зовут, э…
Я ляпнул первое, что пришло в голову:
— Меня зовут Герберт Уэст Лавкрафт. Гм, Г. У. Лавкрафт Третий. Меня так притягивает все древнее и эзотерическое, знаете ли.
«Знаете ли» я позаимствовал у того типа с моноклем и старыми книжками.
— У вас, случайно, не найдется вступительной анкеты? Или какой-нибудь инкунабулы?
— Инкунабулы? — просипел он.
— Это книги. Старые книги. Печатные книги, изданные до тысяча пятисотого года от Рождества Христова, старина.
Как видите, кое-какой словарный запас у меня тоже имеется.
— Книги…
Собеседником он оказался неважным. К тому же он двигался, как Лоутон[17] в «Соборе Парижской Богоматери», а его плащ спереди, там, где была вышита каракатица, как я с омерзением отметил, намок от слюны.
— Старые книги. Темные тайны, знаете ли. Что-нибудь циклопическое и гонимое судьбой как раз по моей части.
— «Некрономикон»? — Он произнес это слово с большим трудом и большим уважением.
— Похоже на то.
Квазимодо покачал головой в капюшоне, и тот едва не упал. Я успел заметить зеленоватую кожу и большие влажные глаза.
— один старый приятель присоветовал мне прийти сюда, — сказал я. — Классный парень. Лэйрд Брюнетт. Слышали про такого?
Видимо, я нажал не на ту кнопку. Квази выпрямился и на пару футов подрос. Мокрые глаза сверкнули, как два бритвенных лезвия.
— Вам надо встретиться с Дочерью Капитана.
Это мне не понравилось, и я сделал шаг назад, к двери. Квази положил руку мне на плечо и крепко сжал его. Он был в рукавицах, но мне показалось, что внутри них многовато пальцев. Хватка у него была, как у ядозуба[18].
— Превосходно, — сказал я своим нормальным голосом.
Будто по условному знаку, занавеси раздвинулись, и меня толкнули в какую-то дверь. Треснувшись головой о низкую притолоку, я сразу понял, почему Квази все время ходит, как горбун. Мне пришлось пригнуть голову и согнуть колени, чтобы пройти по коридору. Снаружи здание казалось прогнившей деревяшкой, на самом деле внутри все было каменное. Сырые голые стены покрывала резьба того сорта, что превратила термин «примитивистское искусство» в ругательство.
Вы, наверное, подумали, что к вони я уже привык, но ничего подобного. Меня едва наизнанку не выворачивало.
Квази втолкнул меня в другую дверь. Я оказался в зале для собраний размером не больше вокзала Юнион-Стейшн, со сценой, рядами удобных кресел и большим количеством статуй, изображавших людей-каракатиц. В центре помещалась точно такая же мозаика, как в «Сивью-Инн», только на нимфе было поменьше ракушек, а на Нептуне побольше щупалец.
Хлопнув дверью, Квази исчез. Я не спеша подошел к сцене и взглянул на огромный том, лежавший на краю кафедры. Тип с моноклем изошел бы слюной на моем месте, ведь книга, судя по ее виду, появилась на свет куда раньше 1500 года. Это была не Библия, и пахло от нее не благодатью. С открытой страницы на меня глядело изображение чего-то многоногого и осклизлого, текст был на нескольких заслуженно мертвых языках.
— «Некрономикон», — произнес гортанный женский голос, — его автор — безумный араб Абдул Альхазред.
— Безумный, говорите? — Я обернулся на голос. — А авторские ему причитаются?
Дженис Марш я узнал сразу. Принцесса Пантера была в тюрбане и пижаме из зеленого шелка, ее длинный, до полу, халат стоил больше, чем я зарабатывал за год. В ушах у нее покачивались нефритовые серьги, на груди висел обсыпанный жемчужинами медальон, серебряная брошь-каракатица сверкала рубиновыми глазами. В полумраке подвала ее лицо казалось зеленоватым, круглые глаза блестели. Ее сходство с Питером Лорром не уменьшилось, однако если бы голову Лорра надеть на тело Дженис Марш, то, может быть, и он сгодился бы на роль секс-символа. Пока она шла ко мне по проходу между рядами, ее обтянутые шелком бедра терлись друг о друга, как две кошки, и только что не мурлыкали.
— Мистер Лавкрафт, не так ли?
— Зовите меня просто Гэ-У. Меня все так называют.
— Я о вас слышала?
— Сомневаюсь.
Девушка подошла совсем близко. Высокая, она смотрела мне прямо в глаза. Мне показалось, что камень на ее тюрбане буравит мой мозг, словно третий глаз. Ее ладонь скользнула по открытой картинке, пробежала по ней растопыренными пальцами, словно веселый паучок, а потом взяла меня за руку выше локтя и деликатно потянула от книги прочь. Я был этому только рад. Не знаю, может, у меня аллергия на инкунабулы или я страдаю от неизвестной науке щупальцебоязни, но мне совсем не понравилось стоять рядом с «Некрономиконом». Во всяком случае, рядом с Дженис Марш было куда приятнее.
— Так вы и есть Дочь Капитана? — спросил я.
— Это почетный титул. Оубед Марш был моим предком. В Тайном ордене Дочь Капитана есть всегда. Сегодня я за нее.
— А что это за штука с Дагоном такая?
Она улыбнулась, показав ряд мелких жемчужин.
— Это альтернативная форма культа. И это не надувательство, честное слово.
— А я этого не говорил.
Она пожала плечами.
— У многих складывается превратное представление.
Снаружи поднимающийся ветер бросал на стены Храма пригоршни дождя. Звук был жуткий, как будто кашалоты завели свои мерзкие песни в глубине бухты.
— Вы спрашивали про Лэйрда? Это мисс Уайльд послала вас сюда?
Теперь пришла моя очередь пожимать плечами.
— Джейни тяжело переживает неудачи, мистер Лавкрафт. А все из-за бронзы. Она ведь так и не выиграла золотую медаль.
— Мне кажется, она вовсе не стремится его вернуть, — сказал я, — просто хочет знать, где он. Он, похоже, исчез.
— Он часто уезжает из города по делам. О которых предпочитает не распространяться. Вы должны понять.
Я то и дело стрелял глазами на брошку-каракатицу. Она колыхалась на груди Дженис Марш в такт ее дыханию, подмигивая мне рубинами.
— Полинезийская работа, — сказала девушка, тронув пальцами брошь. — Капитан привез ее в Инсмут из своих странствий.
— Ваш родной город.
— Просто город у моря. Как и Лос-Анджелес.
Я решил половить рыбку на наживку, которую подбросил мне Уинтроп.
— Вы были там в двадцатых, когда Джей Эдгар Гувер устроил свой фейерверк?
— Да, я была маленькой. По-моему, всему виной были контрабандисты. Сухой закон тогда еще действовал.
— Хорошие времена были для Лэйрда.
— Наверное. Сейчас у него легальный бизнес.
— Да. Хотя будь он стопроцентным шотландцем, каким любит прикидываться, его уже давно депортировали бы.
Глаза у Дженис Марш были зеленые, как море. И довольно привлекательные, хотя и круглые.
— Позвольте мне разуверить вас, мистер Лавкрафт, если это, конечно, ваше настоящее имя, — сказала она. — Тайный Орден Дагона никогда не покрывал бутлегеров. И вообще никого не покрывал. Орден — не банда мошенников, охотящихся за капиталами богатых вдовушек. И не тайный бордель для киномагнатов, жаждущих плотских утех с несовершеннолетними наркоманками. Орден есть то, чем он себя называет, — а именно церковь.
— Во имя Отца, Сына и Святой Каракатицы? — съязвил я.
— Я не сказала, что мы — церковь христианская.
Дженис Марш подбиралась ко мне все ближе, пока не оказалась совсем рядом. Ее вездесущие руки легли на мой затылок и нагнули мою голову, словно лампу на гибкой ножке. Своим ртом она присосалась к моим губам, едва не расплющив об меня лицо. Я ощутил вкус помады, икры и соли. Ее пальцы зарылись мне в волосы, спихнув шляпу. Веки опустились. Потрудившись час-другой на почве профессионального долга, я положил руки ей на бедра и отсоединился от ее тела. Во рту у меня был вкус рыбы.
— Это было интересно, — сказал я.
— Эксперимент, — ответила она. — Ваша фамилия наводит на размышления. Лав… крафт. Поневоле подумаешь, что в определенных вопросах вы эксперт.
— Разочарованы?
Она улыбнулась. Мне показалось, что зубы у нее растут в несколько рядов, как у акулы.
— Вот уж нет.
— Значит, я могу рассчитывать на местечко в заднем ряду, когда вы будете в следующий раз обхаживать старину Дагона?
Ее манеры снова стали деловитыми.
— Думаю, вам надо пойти отчитаться перед Джейни. Я передам Лэйрду, чтобы он позвонил ей, как только вернется, пускай не беспокоится. И пусть она от вас отстанет. Война идет, а вы тратите время на поиски человека, который никуда не пропадал, вместо того чтобы защищать «Локхид» от пятой колонны.
— А как же Франклин?
— Какой Франклин, президент?
— Нет, Франклин-ребенок.
Ее круглые глаза чуть не стали еще круглее. Девушка разыгрывала невинность. С тем же самым выражением лица Принцесса Пантера сообщала белому охотнику, что Джангл Джиллиан покинула Могилу Ягуара несколько часов назад.
— Мисс Уайльд, кажется, считает, что Лэйрд прихватил с собой ребенка, которого она по неосторожности оставила на его попечение. Теперь она хочет его вернуть.
— Но у Джейни нет ребенка. Она не может иметь детей. Поэтому она такая нервная. Ее психоаналитик разбогател, спасая ее от диких фантазий. Она даже не отличает кино от реальности. Обвинила меня в том, что я совершаю человеческие жертвоприношения.
— За такое можно схлопотать по полной.
— Это был фильм, мистер Лавкрафт. Ножи были картонные, вместо крови — кетчуп.
Обычно на этой стадии расследования я звоню своему другу Берии в контору окружного прокурора и закидываю удочки. Но на этот раз он позвонил мне сам. Когда я вошел в офис, у меня было такое чувство, что мой телефон звонит уже битый час.
— Не гони волну, — сказал Берни.
— Пардон, — огрызнулся я, мгновенно сообразив, в чем дело.
— Перестань. Холодновато купаться в такое время года.
— Даже в ванной?
— В ванной особенно.
— Мистер окружной прокурор просил мне кланяться?
Берни расхохотался. Несколько лет тому назад я служил следователем при его конторе, однако нам пришлось расстаться.
— Забудь о нем. Тобой интересуются персоны поважнее.
— Кто же? Говард Хьюз[19]?
— Тепло.
— Генерал Стилвел[20]?
— Еще теплее. Скажи лучше — майор Флетчер Баурон, губернатор Калберт Олсон и генеральный прокурор штата Эрл Уоррен. Ну и Вакс, разумеется.
Я присвистнул.
— И все интересуются моей скромной персоной. Кто бы мог подумать?
— Слушай, я сам ничего не знаю. Просто мне дали информацию и велели передать тебе. Они тут, наверное, думают, что я при тебе санитаром состою.
— А скажи, английский джентльмен, французская леди и федерал размером с гору Рашмор[21] имеют к этому отношение?
— Еще один такой вопрос, и я выхожу из игры, забирая свой выигрыш, а ты допрашивай следующего игрока.
— Ладно, Берни. Хотя бы скажи, насколько я сегодня популярен?
— У Тодзио[22] рейтинг ниже, а может, у Иуды Искариота тоже.
— Это утешает. А как насчет Лэйрда Брюнетта, где он?
В трубке наступило молчание, и началась какая-то возня. Берни хотел убедиться, что у стен его кабинета не выросли уши. Я так и видел, как он прижимает трубку ко рту и шепчет в нее:
— Его уже три месяца никто не видел. Между нами, я о нем не сильно соскучился. Но вот некоторые… — Берни кашлянул, я услышал, как на том конце провода открылась дверь, и мой приятель заговорил преувеличенно нормальным голосом: — Да, дорогая, я вернусь до начала Джека Бенни[23].
— Увидимся, зайка, — ответил я, — твой ужин в помойном ведре, а я уехала в Тихуану[24] с бильярдистом-профессионалом.
— Люблю тебя, — сказал он и повесил трубку.
К подошвам моих ботинок прилипла зеленая слизь. Я соскреб ее о край стола, а потом вытер его вчерашней «Таймс». Вид у этой заразы был чертовски эзотерический.
Плеснув себе в стакан виски из бутылки, купленной по дороге в магазине напротив, я смыл с зубов привкус Дженис Марш.
Я думал о Полинезии начала девятнадцатого века и о круглоглазых туземках, столпившихся вокруг капитана Марша. В мои мысли все время вплетались какие-то щупальца. Теоретически история капитана идеально подходила для какого-нибудь фильма с Дороти Ламур[25] в главной роли, с Дженис Марш в роли ее собственной прапрапрабабушки и Джоном Халлом[26] или Рэем Милландом[27] в роли самого юбочника Оубеда. однако почему-то от этого сюжета по спине у меня бежали мурашки, как от фильма с участием Белы Лугоши[28]. Мысли о расчлененных младенцах не давали мне покоя.
Беготня последних дней ни на шаг не приблизила меня к Лэйрду Брюнетту и его наследнику. Мысленно я составил список известных мне приятелей Брюнетта. Также мысленно вычеркнул из него всех, кто был уже мертв. Осталось раз, два и обчелся. Когда умирают коллеги Брюнетта, никто особенно не обращает на это внимания, разве что какие-нибудь храбрецы, хлебнув лишку, запоют «Динг-донг, злая ведьма умерла», да тут же смолкнут, вспомнив, что другие-то еще живы. В этом смысле я такой же, как все: счет мертвым держателям игорных домов не веду. Но если задуматься, в последнее время их что-то очень много отправилось на тот свет, вплоть до самого Джанни Пасторе. Кроме Ротко и Изингласса представители полукриминального мира похоронили в закрытых гробах по меньшей мере троих своих коллег. И очевидно, что виной тому были не японцы. Интересно, сколько еще людей встретили свою смерть в ванных? В этом деле все концы вели в воду. Я решил, что нет ничего хуже этой дряни, и поклялся, что никогда не буду разбавлять ею свой бурбон.
Выйдя под дождь, я отправился по барам. Друзей у Брюнетта было много. Может, кто-нибудь что-нибудь да вспомнит.
До вечера я подпирал стойки разнообразных баров, где пытался вытянуть информацию из разнообразных неудачников. Но ничего, кроме очевидных подтверждений паники, которая охватила весь город, мне это занятие не принесло. Не все топили свой страх в бутылке, но боялись все.
Люди боялись многого. Прежде всего японцев. Вы бы удивились, узнав, сколько колеблющихся граждан из втируш, которые прежде едва узнавали американский флаг, вдруг превратились в ярых патриотов, готовых отдать последнюю каплю своей проспиртованной крови за красно-бело-синее знамя. Куда бы вы ни пошли, везде кто-нибудь поносил Хирохито, Того, микадо[29], кабуки и оригами. Зато эпидемию внезапных смертей, охватившую в последнее время круги, где вращались Пасторе и Брюнетт, обсуждали куда менее охотно, и любой вопрос на эту тему превращал самых отчаянных горлопанов в молчунов.
— Это дело дурно пахнет, — говорили они и меняли тему.
Я уже начал думать, что лучше бы Джейни Уайльд вложила свои деньги в радиоролик с просьбой к Лэйрду позвонить ей. И тут я встретил Кертиса — крупье из «Максиз». Обычно он бывал при полном параде, как Фред Астер[30]. однако в тот вечер гвоздику в петлице, крахмальную манишку и складной цилиндр сменила форма грязно-оливкового цвета с погонами на плечах и фуражка с кокардой.
— Что, Кертис, труба зовет? — спросил я, проталкиваясь сквозь толпу восхищенных почитателей, которые спешили угостить солдата выпивкой.
Кертис расплылся в улыбке, которая сменилась надменной усмешкой, когда он меня узнал. Мы с ним уже встречались на «Монтесито». Ходили слухи, что во времена сухого закона он был однажды замечен в честной сдаче карт, однако сам он энергично отрицал это.
— Привет, дешевка, — сказал он.
Я купил себе выпить, но ему предлагать не стал: перед ним и так уже стояли в ряд три или четыре порции.
— Я вижу, дело у тебя прибыльное, — сказал я. — Сколько отдал за форму? Или на «Парамаунт» одолжил?
Крупье обиделся.
— Она настоящая, — сказал он. — Я ухожу в армию. Надеюсь попасть за море.
— Да, надо бы тебя скинуть на парашюте в Токио, чтобы ты познакомил япошек с хромыми рулетками и налитыми свинцом игральными костями.
— А ты циник, дешевка. — Он опрокинул первый стакан.
— Нет, просто реалист. Как это ты вдруг покинул «Монти»?
— Суешь нос в дела Лэйрда?
Я приподнял плечи и опустил их снова:
— Азартным играм крышка, их заправилам тоже. Взять хоть бывшего владельца этого места. Пари держу, в последнее время ты изрядно потратился на траурные венки.
Кертис опрокинул один за другим еще два стакана и заказал третий. Когда я вошел, возле него крутилась пара шлюшек, нацеливаясь на его карманы. Теперь мы с ним остались один на один. Ему такая перемена декораций не понравилась, и неудивительно.
— Слушай, дешевка, — сказал он, внезапно понизив голос, — ради твоего же блага, оставь это дело. Сейчас есть вещи поважнее.
— К примеру, демократия?
— Можно и так сказать.
— Как далеко за море ты хочешь отправиться, Кертис?
Он оглянулся на дверь с таким видом, словно ждал, что она сейчас откроется и с улицы войдут по его душу мокрые от дождя парни с автоматами Томпсона наперевес. Потом он вцепился руками в край стойки, чтобы скрыть дрожь.
— Чем дальше, тем лучше, дешевка. Филиппины, Европа, Австралия. Все равно.
— Война не самое безопасное место.
— Да неужели? По-моему, на острове Уэйк[31] Папа Джанни был бы целее, чем в собственной ванной.
— Что, и ты эту сказку слышал?
Кертис кивнул и сделал новый глоток. Джук-бокс играл «Дудли-аки-саки, хочу креветок, мама», и от этого было страшно. Глупо, но все равно страшно.
— Все умирают в воде. Вот что я слышал. Иногда на «Монти» Лэйрд выходил на палубу и часами глядел на море. Он спятил с тех пор, как связался с этой лупоглазой Марш.
— Принцесса Пантера которая?
— Так ты ее видел? Она самая, Дженис Марш. Хорошенькая штучка, особенно для любителей моллюсков. Лэйрд клялся, что в бухте есть подводный город. Слова говорил странные — «дарки боп» или что-то в этом роде. Или «джиттербаг», может. «Ктул что-то там…» или «Иог-мой-йо». Он говорил, что кто-то придет из воды и захватит всю землю, но явно не японцы.
В форме Кертису было неуютно. На ней еще не высохли круги от дождя. Он хлестал виски, как У. К. Филдз[32] во время попойки, но при этом не хмелел. Видать, против его страхов даже «Джек Дэниеле» был бессилен.
Я думал о Лэйрде на палубе «Монти». И о картине, где рядом с клипером капитана Марша из воды выныривает непропорционально большая каракатица.
— Он на корабле, так ведь?
Кертис ничего не сказал.
— один… — Я продолжал думать вслух. — Он там один, в море.
Я сдвинул шляпу на затылок и попытался вытряхнуть из головы хмель. Чистое безумие. Все равно что болтаться на волнах, повесив на грудь табличку с надписью: «Эй, Тодзио, подстрели меня!» «Монти» был настоящей плавучей мишенью.
— Нет, — сказал Кертис и так вцепился мне в рукав, что я расплескал выпивку.
— Что, его там нет?
Он тряхнул головой.
— Нет, дешевка. Он там, но не один.
Все водяные такси стояли у пристани, надежно пришвартованные и закрытые брезентом до лучших времен. Ни одного перевозчика, который взялся бы переправить меня в ту ночь на «Монтесито», мне было не найти. Ведь все знали, что прибрежные воды кишат японскими субмаринами. однако был один человек, которого не беспокоила судьба его лодок. Он наверняка не станет возражать, если одну из них позаимствуют без его разрешения.
«Сивью-Инн» был безлюден, как пустыня, и это несмотря на полицейские объявления, предостерегающие от проникновения на место преступления. В отеле было темно, холодно и сыро, и никто не приставал ко мне с вопросами, когда я взломал дверь лодочного сарая, чтобы найти ключи.
Выбрав у причала «Сивью» приглянувшийся мне катерок, я заправил его бензином, готовясь к небольшому путешествию. Еще я вынул из бардачка своего «Крайслера» «кольт супер матч» 38-го калибра и сунул его себе под мышку. В процессе я основательно промок и наверняка подхватил простуду. Оставалось надеяться, что Джангл Джиллиан оценит мои усилия.
Волны с грохотом били в дно лодки. Шум был мне на руку, особенно когда пришлось выстрелом сбивать с причальной цепи навесной замок, но от качки мой желудок скоро заходил ходуном. Мореход из меня тот еще.
«Монти» был там, на горизонте, каждая вспышка молнии выхватывала его из тьмы. Даже такой паршивый моряк, как я, в состоянии держать курс, плывя на маленьком судне к большому.
Когда попадаешь в море, сам себе начинаешь казаться крошечным. Особенно когда от родного города остается лишь россыпь огней во тьме за спиной. Какие-то крупные объекты сразу начали мерещиться мне в воде. Холод пробрался под одежду. Моя шляпа превратилась в губку из фетра, с нее отчаянно текло. Пока катер кратчайшим путем шел к «Монти», капли дождя и брызги пены кололи мне лицо, точно иглы. Глядя на свои руки, которые лежали на руле, белые от холода и сморщенные от воды, я пожалел, что не захватил с собой бутылку. Хотя с тем же успехом можно было жалеть о том, что я сейчас не дома, в теплой постели, с чашкой горячего какао и Клодетт Кольбер под боком. Не все в жизни идет по плану.
На границе трехмильной зоны мой желудок по-своему отметил освобождение от законодательных запретов. Здесь азартные игры становились легальными, а мой ужин выплеснулся через борт в воду Я глядел, как уплывают остатки сырного сэндвича. Мне показалось, что из морских глубин на меня глянуло зеленоватое отражение луны, но небо в ту ночь было затянуто тучами.
Заглушив двигатель, я дождался, когда волны сами принесут мой катер к «Монти». Борт моей лодки скребнул о корпус плавучего казино, и я поймал болтавшийся конец веревочного трапа, который порос водорослями, точно мхом. Привязав его к моему такси, я перевел дух.
Судно сидело в воде так низко, словно его внутренние помещения были полузатоплены. Водоросли забрались даже на палубу. Значит, никакого казино здесь уже не будет, даже если война кончится завтра.
Я с трудом вскарабкался по трапу — движения сковывала намокшая одежда — и перевалился через борт на палубу. Приятно было снова ощутить под ногами что-то более устойчивое, чем крошечная лодчонка, однако палуба кренилась, как крыло аэроплана. Ухватившись за поручень, я понадеялся, что мои внутренние органы как-нибудь сами выстроятся в привычном для них порядке.
— Брюнетт! — позвал я, но вой ветра заглушил мой голос.
Ничего не выйдет. Придется лезть под палубу.
Один конец каната с флагами разных стран оборвался, и его мотало по ветру. Япония, Германия и Италия бесстыдно полоскались вместе со всеми, бок о бок с несколькими европейскими государствами, уже исчезнувшими с карты. Палубу покрывала знакомая слизь.
Я пробрался за угол, к дверям бального зала. Ветер втолкнул их внутрь, и дождь хлестал по полированному деревянному полу. Войдя в зал, я вытащил кольт. Пусть лучше лежит у меня в руке, чем упирается мне в ребра.
Где-то недалеко ударила молния, мгновенно осветив весь заброшенный зал, включая подмостки для оркестра в дальнем конце и таблички с именами отсутствующих музыкантов.
Казино располагалось на следующей палубе. Там должно было быть темно, однако из-под ведущей вниз двери пробивался свет. Я распахнул ее и стал осторожно спускаться. Внутри оказалось сухо, но холодно. Запах рыбы усилился.
— Брюнетт! — снова крикнул я.
Что-то тяжелое скользнуло мимо меня, и я отскочил в сторону, ударившись бедром и рукой о привинченный к полу стол. Только ценой сверхчеловеческих усилий я не выронил пистолет.
На корабле кто-то был. В этом не оставалось сомнений.
И тут я услышал музыку. Но не Кэба Кэллоуэя[33] и не Бенни Гудмена[34]. Где-то бренчала гавайская гитара, которую почти заглушал безумный пронзительный хор. Мне даже показалось, что это не человеческие голоса, и я подумал, уж не решил ли Брюнетт поставить номер с поющими тюленями. Слов я не разобрал, но знакомое сочетание звуков, похожих на отхаркивание и плевок, «Ктулху» пару раз услышал.
Мне захотелось убраться с этого корабля, вернуться в гнусный Бэй-Сити и забыть все на свете. Но на меня рассчитывала Джангл Джиллиан.
Я двинулся по проходу туда, откуда доносилась музыка. Чья-то рука легла на мое плечо, и я почувствовал, как мое сердце ударилось о заднюю стенку моих глазных яблок.
Из полумрака прямо на меня глядело перекошенное лицо, густая борода обрамляла впалые щеки. Лэйрд Брюнетт в гриме Бена Ганна: череп обтянут кожей, глаза величиной с куриное яйцо каждый.
Его рука зажала мне рот.
— Не беспокоить, — сказал он высоким надтреснутым голосом.
Это был не тот обходительный бандит в клетчатом кушаке, с набриолиненной прической, которого я знал. Это был другой Брюнетт, в тисках безумия или дури.
— Жители Глубин, — сказал он.
Он отпустил меня, и я попятился.
— Время Всплытия пришло.
Моя задача была выполнена. Я узнал, где находится Лэйрд. Оставалось только сообщить об этом Джейни Уайльд и вернуть неиспользованную часть аванса.
— Времени осталось мало.
Музыка зазвучала громче. Я услышал, как по казино шаркают какие-то крупные субъекты. Судя по всему, ловкачи они были еще те, потому что то и дело натыкались на мебель и друг на друга.
— Их надо остановить. Динамит, глубинные бомбы, торпеды…
— Кого? — спросил я. — Япошек?
— Жителей Глубин. Обитателей Города-Дублера.
Я перестал его понимать.
Жуткая мысль вдруг посетила меня. Я ведь детектив, а значит, не могу не делать выводов. Судя по всему, на борту «Монти» было полно людей, но никакой лодки, кроме своей, я не видел. Как они сюда добрались? Не вплавь же?
— Идет война, — вещал Брюнетт, — они против нас. Война продолжается долго.
Я принял решение. Надо вытащить Лэйрда с этого корабля и привести его к Джангл Джиллиан. Пусть сама разбирается с Принцессой Пантерой и ее Тайным орденом. Брюнет в его нынешнем состоянии отдаст ей любого ребенка, было бы под рукой одеяло, чтобы его завернуть.
Я взял его за худое запястье и потянул к лестнице. Но люк с лязгом захлопнулся, и я понял, что мы попались.
Где-то открылась дверь, и рыбная вонь смешалась с ароматом духов.
— Мистер Лавкрафт, кажется? — пропел шелковисто-чешуйчатый голос.
Наряд Дженис Марш составляли висячие серьги-каракатицы и дамский револьвер. И больше ничего.
Однако выглядела она не так приятно, как можно подумать. У Принцессы Пантеры не оказалось ни сосков, ни пупка, ни волос внизу живота. Между ног слегка серебрилась чешуя, а мокрая кожа лоснилась, как у акулы. Мне подумалось, что, если ее погладить, наверняка обдерешь руку до крови. Она не надела ни тюрбана, в котором щеголяла раньше, ни темного парика, в котором снималась в кино. Ее безволосый череп был неестественно раздут. Даже брови, и те не нарисовала.
— Вы, видно, не из тех, кому добрые советы идут впрок.
Среди русалок она была бы скорее чудовищем, чем красавицей. На сгибе левой руки она держала сверток, из которого смотрело белое детское лицо с немигающими глазами. Франклин больше походил на Дженис Марш, чем на своих родителей.
— Как жаль, — послышался из его уст тихий голос чревовещателя, — что всегда возникают осложнения.
Брюнетт забормотал что-то неразборчивое, закусил свою бороду и от ужаса прижался ко мне.
Дженис Марш опустила Франклина на пол, и тот неуклюже сел: взрослый боролся с телом младенца.
— Капитан вернулся, — объяснила она.
— У каждого поколения должен быть свой Капитан, — сказал тот, кто владел сознанием Франклина. Слюни мешали ему, и он промокнул свой ангельский ротик краем пеленки.
Дженис Марш закудахтала и потянула Лэйрда прочь от меня, поглаживая ему лицо.
— Бедняжечка, — продолжала она, щекоча ему подбородок длинным языком. — Неглубок был умишко, да и тот весь вышел.
И она стиснула его голову ладонями, вдавив ему в щеку рукоять пистолета.
— Он говорил о каком-то городе-дублере, — сказал я.
Она резко дернула его голову и отпустила. Он упал, закатив глаза и вывалив наружу язык.
— Конечно, — сказал младенец. — Капитан основал два поселения. одно за рифом Дьявола, у берегов Массачусетса. Другое — здесь, под песками бухты.
Пистолеты были у нас обоих. Я дал ей убить Брюнетта, даже не пытаясь ее пристрелить. Любопытство — фатальная ошибка всех детективов. К тому же Лэйрд умер задолго до того, как Дженис свернула ему шею.
— Присоединяйся, время еще есть, — сказала она мне, по-змеиному извиваясь в такт песнопениям. — Глубины воистину упоительны.
— Сестренка, — сказал я, — ты не в моем вкусе.
Ее ноздри раздулись от злости, жаберные крышки на шее встопорщились, открыв на белой коже полосы цвета сырой печенки.
Дуло ее пистолета смотрело на меня, курок был взведен. Зеленый лак покрывал длинные ногти.
Я думал, что смогу убить ее раньше, чем она спустит курок. Но просчитался. Разве можно стрелять в женщину, пусть даже и очень странную, когда она стоит перед тобой в чем мать родила? Все ее тело вибрировало в такт музыке. Я ошибался. Несмотря ни на что, она была красива.
Я опустил пистолет и стал ждать, когда она убьет меня. Но не дождался.
Я до сих пор не знаю, в каком порядке все происходило. Но сначала сверкнула молния, потом, мгновение спустя, загрохотал гром.
Свет залил коридор, обжигая мои глаза. Затем раздался рокот, который нарастал с каждой секундой. Песнопения стихли.
Сквозь шум прорезался визг. Это был крик ребенка. Франклин закатил глаза и вопил во все горло. Я сообразил, что Капитан потерялся в глубинах младенческого сознания, а его власть над позаимствованным телом ослабла, едва ребенок закричал.
Пол под моими ногами вздрогнул и вспучился, я услышал мучительный скрежет терзаемого железа. Откуда-то потянуло жаром. Появилась дыра. Дженис Марш двигалась быстро, и, по-моему, она все же выстрелила, но в меня или просто так, повинуясь рефлексу, не могу сказать. Ее тело рванулось ко мне, и я пригнулся.
Раздался новый взрыв, а вовсе не гром, и через пробоину повалил густой дым. Я прижимался к полу, а он вставал подо мной на дыбы. Франклин упал на меня и с воплем стукнулся о мою голову. Полтонны воды обрушились на нас, и я понял, что корабль получил пробоину. Первой моей мыслью было, что японская торпеда спасла мне жизнь. Я был в соленой воде по пояс. Дженис Марш уплывала, изгибаясь, точно рыба.
Потом я оказался в окружении каких-то тяжелых тел, которые притиснули меня к переборке. Что-то мощное, холодное и вонючее оцарапало меня впотьмах своей шершавой кожей. Раздался кашляющий лай и крики, некоторые из них вполне походили на человеческие.
Лампы погасли и зашипели, залитые водой. Франклин был у меня в руках, я старался держать его на поверхности. Обнаружив, что моя голова уперлась в твердый потолок, я поневоле снова вспомнил приключения Джангл Джиллиан.
Капитан колоритно выругался на языке восемнадцатого столетия, и тельце Франклина забилось у меня в руках. Беззубый ротик попытался вцепиться в мой подбородок, но соскользнул. Я оступился и потерял равновесие, ребенок ненадолго оказался под водой. Сквозь прозрачную колышущуюся массу его изумленные глазенки смотрели на меня. Когда я снова поднял его на поверхность, Капитан исчез, и Франклин заголосил во всю мочь. Сделав два глубоких вдоха, я нырнул и поплыл к ближайшей двери, ладонью зажимая нос и рот младенца, чтобы не дать ему захлебнуться.
Судя по тому, с какой скоростью тонул «Монтесито», дыр в нем, наверное, хватало. Надо было срочно найти хотя бы одну. Я толкнул коленями дверь, и она открылась. Вместе с сотнями галлонов воды меня внесло в комнату, где хранилось игорное оборудование. Красно-белые фишки плавали повсюду, точно конфетти.
Тут я встал на ноги и зашлепал к лестнице. Что-то огромное поднялось из воды и двинулось на меня, вопя, как чайка. Я не разглядел, что это было. И слава богу. Тяжелые бескостные конечности взметнулись и хлестнули меня по лицу. Я оттолкнул их свободной рукой, почувствовав, как пальцы скользнули по холодной слизи. Тварь, кто бы она ни была, тоже испугалась и первой пролезла в дверь.
Раздался новый взрыв, и все перемешалось. Вода подскочила к потолку, я полетел на пол. Выпрямившись, я сумел ухватиться одной рукой за лестницу. Франклин барахтался и ревел, что показалось мне хорошим знаком. Где-то недалеко раздавались крики.
Ступенька за ступенькой, я вытянул нас наверх и треснулся головой в крышку люка. Будь он задраен, я бы наверняка раскроил себе череп и вышиб мозги. Но люк открылся, и напиравшая снизу вода подбросила нас, точно струя фонтана — шарик для пинг-понга.
«Монти» горел, а в воде вокруг него плавали твари. Я услышал гул самолетных двигателей и заметил несколько моторок неподалеку. Грохот стрельбы перекрывал вой ветра. Атака шла по полной программе. Добравшись до палубного ограждения, я увидел лодку в пятидесяти футах от нас. Люди в желтых дождевиках стояли, нацелив свои «томми» на воду, и поливали волны огнем.
Пули сыпались так часто, что море кипело. Твари, брыкаясь, умирали в воде. Кто-то поднял свой автомат и выстрелил в меня. Я оттолкнулся от перил, прикрывая собой Франклина, и пуля блямкнула о палубу.
Такси, которое я позаимствовал, должно быть, пошло ко дну вместе с судном.
В морской глубине определенно горели огни. В небе тоже. Над городом, вдали, как будто пускали фейерверки. Что-то рвануло в ста ярдах от нас, и водяной столб поднялся из моря, словно гигантский гриб-дождевик. Глубинная бомба.
Палуба накренялась все сильнее, вода подбиралась ближе. Ухватившись за какую-то веревку, я задумался, остались ли на плавучем казино хоть какие-нибудь спасательные шлюпки. Франклин пускал слюни и ревел.
Белое тело скользнуло мимо, направляясь к воде. Я инстинктивно ухватился за него. Руки обвили меня, и я оказался лицом к лицу с Дженис Марш. Она моргнула, прикрыв глаза мембранами, которые надвигались с боков, и поцеловала меня. Ее длинный язык залез мне в рот, точно угорь, и тут же убрался. Она выпрямилась, согнув одну ногу так, чтобы прямо стоять на кренящейся палубе. Затем, набрав воздуха в легкие — если они у нее, конечно, были, — она выпустила его через жабры, издав мелодичный крик. Ее стройный белый силуэт отчетливо выделялся в темноте, по телу текла вода. Кто-то выстрелил в нее, но она прыгнула за борт, прорезав волны, словно нож, и устремилась к подводным огням. Пули прошили то место, где она скрылась под водой.
Я выпустил веревку и оттолкнулся ногами от палубы, чтобы оказаться как можно дальше от тонущего судна. Франклина я держал над водой, а сам бултыхал ногами и коленями. «Монти» тянул за собой на дно много разных предметов, и я отчаянно боролся, чтобы не стать одним из них. Мои плечи болели, мокрая одежда мешала плыть, но я сопротивлялся течению.
Судно погружалось в воду под скрежет гнущейся стали и вопли гибнущих существ. Оставалось только плыть к лодке в надежде, что меня не подстрелят. Мне повезло. Кто-то зацепил меня багром за пиджак, и нас с младенцем выволокли на борт, словно рыбу. Заливая палубу ручьями воды, я лежал и дышал, и все никак не мог отдышаться.
Я услышал вопли Франклина. Значит, с его легкими все в порядке.
Кто-то крупный, в объемистом дождевике, в завязанной под подбородком зюйдвестке, опустился рядом со мной на колени и шлепнул меня по щеке.
— Шпик, — сказал он.
— Они называют это «большим налетом на Лос-Анджелес», — рассказывал мне Уинтроп, наливая большую кружку английского чая. — Прошлой ночью началась паника, и все в Бэй-Сити часами палили в воздух.
— Японцы? — спросил я и сделал большой глоток долгожданного горячего напитка.
— В теории. Но я сомневаюсь. Потом решат, что это была случайность, и спишут все на неуравновешенных типов с оружием. Под прикрытием переполоха мы развязали бой с врагом и вышли из него победителями.
Он был по-прежнему одет, как на посольский прием, и свеж, словно и не провел на палубе всю ночь. Женевьева Дьедон была в рыбацком свитере и солдатских штанах, волосы убраны под шарф. Перед ней стояло множество эхолокационных приборов, с которых она снимала показания.
— Значит, вы не с японцами воюете?
Уинтроп поджал губы.
— Наша война куда древнее, друг мой. Отвлекаться нам нельзя. После вчерашнего ночного боя наши глубинные друзья еще долго не высунут свои чешуйчатые носы наружу. Так что теперь и я могу сделать что-нибудь для победы над Гитлером.
— А что произошло на самом деле?
— В море, под кораблем мистера Брюнетта, находился источник опасности. Мы уничтожили его, обратив в бегство… гм… неприятеля. Корабль был нужен им как перевалочный пункт. Вот почему они уничтожили коллег мистера Брюнетта.
Женевьева сказала что-то по-французски, так быстро, что я не разобрал ни слова.
— Полное уничтожение, — объяснил Уинтроп, — большой удар для них. Теперь они долго будут знать свое место. К сожалению, на то, что это навсегда, надеяться не приходится, но и несколько лет передышки тоже кстати.
Я лежал на койке и ощупывал свои раны. Меня бил мокрый кашель, повезет еще, если обойдется без пневмонии.
— А малыш — наша несомненная удача.
Мрачный Финлей заглянул в дверь и предложил сбросить еще одну порцию глубинных бомб. Франклина, которого, по счастью, сморил сон, он держал на руках, но вид у него был совсем не материнский.
— Похоже, на него все это никак не подействовало.
— Его зовут Франклин, — сказал я Уинтропу. — На корабле он был…
— Не в себе? Это состояние мне знакомо. Грязное дело, сами понимаете.
— С ним все будет в порядке, — вставила Женевьева.
Я не знал, кто были другие парни в плащах — федералы или военные, — да и не хотел знать. Я могу отличить тайную операцию от явной, особенно когда сам оказываюсь в ее гуще.
— Кто этим занимается? — спросил я. — Гувер? Рузвельт?
Уинтроп промолчал.
— Кто-то должен, — сказал я.
— Да, — отозвался англичанин, — кто-то должен. Но широкая общественность никогда не поверит в реальность этой войны. В Бюро подразделение Финлея известно как «Неназываемые», о них не пишут в газетах, их не благодарит и не ругает правительство, их победы и поражения не фигурируют в официальной истории.
Катер покачивался на волнах, я обхватил себя руками, надеясь хоть немного согреться. Финлей пообещал открыть бутылочку, когда все кончится, но я решил, что в таком случае для меня будет делом чести пить только чай. Не хотелось оправдывать его ожидания.
— Америка ведь молодая страна, — объяснил Уинтроп. — Мы в Европе столкнулись с этим гораздо раньше.
На берегу я расскажу Джейни Уайльд о Брюнетте и верну ей Франклина. Какой-нибудь пиарщик из «Метро» объяснит исчезновение Принцессы Пантеры. Все остальное — глубинные бомбы, морской бой, тонущий корабль — поглотит мировая война.
И останутся только истории. Жуткие истории.
Гай Н. Смит
Возвращение в Инсмут
Два десятка лет я подавлял в себе желание вернуться в Инсмут. Я говорю «вернуться», хотя я никогда не бывал там раньше, просто это дьявольское местечко знакомо мне так хорошо, словно я родился и вырос среди его ужасов. В повторяющихся кошмарных снах я шел его пустынными улицами, спешил мимо бывшей масонской ложи, нынешнего Тайного Ордена Дагона, вдыхал тошнотворный рыбный запах, въевшийся, кажется, в саму кладку домов XIX века как напоминание о том, что здесь все осталось по-прежнему.
Моя двоюродная тетка, мисс Анна Тилтон, посвятившая всю жизнь служению в публичной библиотеке города Ньюбэрипорт, составила свой отчет о событиях в Инсмуте, сто страниц рукописного текста, которые я получил по завещанию дяди после его смерти. К манускрипту был приложен печатный отчет некоего Уильямсона и вырезки из газет, датированных 1927–1928 годами, в которых рассказывалось об атаке вооруженных сил правительства на этот морской город и о последующем торпедировании рифа Дьявола у его побережья. Старые, рассыпающиеся от ветхости, считавшиеся необитаемыми дома взорвали динамитом, многих жителей города арестовали, но никаких публичных судебных процессов за арестами не последовало.
Я пытался убедить себя в том, что эти рыбоподобные существа, которые метали икру в море и скрещивались с обитателями городка, давно уничтожены, что Дагон Холл взрывами стерт с лица земли, что зло искоренено навеки. Предпринятые мной разыскания не обнаружили ничего такого, что могло бы подтвердить или опровергнуть мои худшие опасения. Инсмут был просто портовым городком, каких немало в устье Мэнаксета, соленые топи и многочисленные ручейки отрезали его от цивилизации; окрестные Аркхэм, Ипсвич и Ньюбэрипорт были все равно что на Луне.
По правде говоря, все это не должно было меня трогать. Родился я в Нью-Йорке, переехал в Нью-Джерси, чтобы получить место в страховой компании. Жизнь моя была совершенно обычной, скучной, лишенной опасностей. Мне незачем было волновать себя мрачными легендами Инсмута. И лучше бы мой дядя совсем позабыл о моем существовании, чем навязывать мне эти проклятые документы с описаниями невероятных событий, которые преследовали меня теперь день и ночь, — большинство людей сочли бы их бреднями неудавшейся писательницы-фантастки, чьи попытки опубликовать свою любительскую писанину не увенчались успехом. Последнее так подействовало на нее, что, умирая и находясь в состоянии старческого слабоумия, она не придумала ничего лучше, чем наслать проклятие на родственников, заразив их своими болезненными измышлениями, чтобы они не знали мира и покоя на этой земле. Таким противоестественным способом она все же добилась того, чтобы ее жалкие писульки пережили ее самое.
Только я один знал, что Анна Тилтон вовсе не была озлившейся на весь мир неудачницей, поскольку читал отчет Уильямсона о его злосчастном расследовании ужасных событий, в котором он благосклонно отзывается о стараниях мисс Тилтон оказать ему помощь. Я начал задумываться о том, уцелели ли в Инсмуте какие-нибудь дома, кто в них сейчас живет и выходят ли еще рыбаки в море; и если да, то по-прежнему ли их тела уродливы, кожа покрыта чешуей, а глаза не мигают, точно рыбьи?
Сны зачастили ко мне с пугающей регулярностью, которая возрастала в прогрессии поистине устрашающей; я был заперт в Инсмуте, я был добычей, преследуемой на разрушающихся улицах стаями похожих на лягушек существ, мной стремились утолить жажду, меня хотели принести в жертву гнусному божеству глубин в водяной адской бездне под названием Дьявольский риф.
Была весна, когда я наконец решился вернуться в Инсмут. Пора было дать бой своим страхам, иначе я рисковал провести остаток своих дней в сумасшедшем доме и вопить от ужаса по ночам, принимая свою камеру за комнату в кошмарном Джилмэн-хаусе, а громкие голоса сторожей — за неразборчивые вопли подземных преследователей, жаждущих моей крови.
Долгий путь привел мня в Ньюбэрипорт, где я собственными глазами увидел тиару, подтвердившую, что худшие мои опасения были обоснованы. Она существовала. Лежала за стеклом, на подушке из пурпурного бархата, и в точности соответствовала описаниям, данным мисс Тилтон и Уильямсоном. Ах, если бы я, покинув строгое здание библиотеки, в ту же минуту сел на поезд в Нью-Джерси, мои преклонные годы прошли бы в относительной безопасности приюта для душевнобольных. Лучше уж безумие и кошмары, чем то, что выпало на мою долю, когда я решил продолжать путешествие в Инсмут.
Именно тогда, на залитой солнцем улице у библиотеки, где я ждал автобус, который должен был доставить меня к цели моего странствия, я заметил на тротуаре свою тень. Сначала я подумал, что деформация ее очертаний вызвана присутствием над моей головой какого-то объекта, загораживающего солнце, например, ветки дерева или выступа здания. Но надо мной не оказалось ничего, что могло бы исказить мою тень, вызвать удлинение черепа, утолщение торса и покатость плеч. В панике я перебежал на другую сторону улицы, чтобы посмотреть на себя в витрине магазина; я был таким же, как всегда, и все же, вторично взглянув на свою тень, увидел, что она осталась безобразной.
Достаточно сказать, что я прибыл в Инсмут к вечеру; автобус опоздал, и угрюмый водитель не хотел ехать в данном направлении. Я был единственным пассажиром, и этот факт тоже сильно меня расстроил. Неужели люди по-прежнему не ездят в Инсмут, из-за прошлого? Или из-за настоящего?
Город оказался точно таким, каким я и ожидал его увидеть. Только разрушений прибавилось с тех пор, как Анна Тилтон написала свой отчет — причиной тому было не только время, но и динамит. Но в целом Инсмут ничуть не изменился.
Те же кирпичные и деревянные дома девятнадцатого века, ветхие стены, заколоченные окна, те же пустынные улицы, на которых не то что живой души, бродячей кошки или собаки не увидишь. До заката оставалось не больше часа, и я, спустившись по Лафайет-стрит, перешел на Адамс-стрит и встал, разглядывая трущобы, которые тянулись оттуда на восток, до самого берега моря. Я знал, что они обитаемы, чувствовал, что в глубине этих обширных развалин теплится жизнь. Я еще раз взглянул на свою тень, но солнце уже опустилось за горизонт.
Я был почти уверен, что увижу старого Зэдока Аллена, сидящего у пожарного депо, но он, разумеется, давно умер. Вдалеке появились силуэты каких-то незнакомцев, они явно смотрели на меня, но, едва я двинулся к ним, поспешили исчезнуть. Передо мной раскинулась широкая лужайка, за ней, на развилке дорог, возвышалось то самое здание с колоннами, бывший Орден Дагона. Я обнаружил, что не хочу подходить к нему, точно боюсь, как бы одна из его дверей не распахнулась и жрец в тиаре, идентичной той, которую я видел в стеклянной витрине публичной библиотеки Ньюберипорта, не предстал передо мной. Но, к моему большому облегчению, створки дверей оставались плотно закрытыми.
Джилмэн-хаус еще стоял, в окнах нижнего этажа горел свет, окна со средниками зловеще поблескивали с другой стороны улицы. Я помешкал. Ах, будь у меня хоть малейшая возможность убраться оттуда до наступления ночи, но нет, автобус уже ушел, железная дорога была заброшена. Весь дрожа, я смирился с мыслью о том, что придется провести в Инсмуте ночные часы.
Портье в гостинице оказался таким, как я и ожидал: длинная голова на короткой шее, шершавая кожа, точно он страдал какой-то разновидностью экземы, выпученные глаза неподвижно смотрели на меня. Свободная комната только одна, буркнул он, заглянув в журнал. Я кивнул и протянул ему три доллара.
Комната показалась мне на удивление знакомой, я как будто уже ночевал в ней раньше, это была клаустрофобическая темница моих кошмаров, столь точно описанная Уильямсоном, словно именно из нее он и бежал в ту ужасную ночь. Я знал, что на двери не окажется засова и что я найду его на гладильном прессе. На то, чтобы приладить его к двери, у меня ушло несколько минут.
На северной и южной дверях, на перекрестке которых находилась комната, задвижки были, и я крепко их запер. Я не ужинал, но предпочел терпеть муки голода, чем с риском для жизни выходить на улицу в поисках еды. Волею судьбы я оказался здесь; и я приму все, что готовят мне ночные часы, ибо не в моей власти изменить порядок вещей. Если я останусь жив и утром невредимым выйду из этой комнаты, то буду наслаждаться душевным покоем до конца своих дней.
В качестве дополнительной предосторожности я придвинул к двери тяжелый комод. Больше я ничего не мог сделать для сохранения своей жизни и потому, не раздеваясь, лег на постель и попытался читать при свете единственной лампы, которая горела прямо надо мной. Но у меня не получалось сосредоточиться на чтении, слова на странице теряли смысл, и все кончилось тем, что я начал прислушиваться к доносившимся снизу звукам.
Немного погодя лампочка погасла — нельзя сказать, чтобы я этого совсем не ждал, — погрузив меня в стигийскую тьму. Непроглядный мрак как будто обострил мое обоняние, и запах рыбы так ударил мне в нос, словно все рыбаки Инсмута сложили свой улов в кучу под моим окном и оставили гнить.
Что-то зашевелилось за моей дверью, кто-то негромко заходил, шлепая ногами, как ластами. Я напрягся, услышав, как вошел в замочную скважину и повернулся в ней ключ; дверь подергали, но задвижка удержалась, и немного погодя ключ убрали. Потом так же попробовали открыть другие двери; убедившись, что крепкие засовы не поддаются, неизвестные отступили.
Голоса издавали звуки, которые нельзя было назвать словами, да и происходили они не из человеческих глоток; хриплое кваканье выражало гнев и разочарование недоступностью добычи. Деревянные двери недолго будут сдерживать натиск множества тел; хрупкое препятствие скоро рухнет под их совокупным весом.
Вонь стала всеобъемлющей, она как будто вытеснила весь воздух, так что я едва мог дышать. Я вспомнил побег Уильямсона, который бросил в ту ночь вызов тварям Дагона, но, да же умирая от страха, я отверг мысль о том, чтобы, выскочив в одну из глядящих друг на друга дверей, прыгнуть в окно на крышу соседнего дома. Вся моя надежда была лишь на импровизированные укрепления, я смирился с тем, что в случае их падения меня принесут в жертву в черной глубине неизмеримой бездны за рифом Дьявола.
Я лежал, окаменев от страха, так глубоко вонзив ногти в ладони, что из-под них текла кровь, и слушал, как все громче трещит дверь под ударами импровизированного тарана, который мои преследователи принесли, чтобы разбить им старинные доски. Меня затошнило. Я пытался кричать, но ни один звук не сорвался с моих трепещущих губ. Подернутая пурпуром тьма сгущалась с каждой секундой, пока я мешкал на грани милосердного забытья, которое обещало спасти меня от кровавой развязки ужасающей драмы.
Уже соскальзывая в блаженное небытие, я услышал, как поддалась дверь.
Утро настало серое, бессолнечное, свет, прокравшись в единственное окно, разбудил меня нежными прикосновениями пальцев. Не веря себе, я сел и стал озираться вокруг. Дверь была закрыта, громоздкий комод подпирал ее могучим плечом. Дубовые панели двери даже не треснули.
Вскочив с кровати, я по очереди осмотрел две другие двери и ни на одной из них не обнаружил и следа взлома. Меня била крупная дрожь. Похоже, ночные демоны оставили свои попытки добраться до меня в тот самый миг, когда мне уже казалось, что они вот-вот прорвут мою слабую оборону.
Каким-то чудом я пережил ночь, и, если мне повезет, я невредимым выберусь из Инсмута и оставлю позади ужасы, которые даже вооруженные силы не смогли уничтожить годы тому назад.
Сильно робея, я все же решился спуститься по лестнице вниз. На мое счастье, угрюмого пучеглазого консьержа нигде не было. Выйдя из дома, я огляделся. Ни души кругом, только слабый запах рыбы, еще не до конца развеянный ветром, витал над улицей.
Я не имел понятия о том, в котором часу уходит автобус в Аркхэм, но до его прибытия еще наверняка было много времени. Может быть, лучше не дожидаться его здесь, а прямо идти себе по дороге, ведущей из Инсмута, и, когда обветшалое транспортное средства поравняется со мной на обратном пути, сесть в него.
Я не думал ни о своей нечесаной шевелюре, ни о неумытом лице, моей единственной заботой было поскорее оказаться как можно дальше оттуда. Я снял с себя проклятие, унаследованное от Анны Тилтон и дяди. Я побывал в Инсмуте и вырвался из рук тех, кто хотел затащить меня в свой ад на вечную погибель. Забыть это я не смогу никогда, но, по крайней мере, жить буду.
Лишь некоторое время спустя я осознал, что сбился с дороги, видимо, выбрал не тот поворот на перекрестке у лужайки. Я явно двигался к морю, передо мной лежали соляные топи, изрезанные широкими и глубокими канавами, а вон то строение у самого устья Мэнаксета — наверняка та самая злополучная винокурня Марша.
Мне пришлось потрудиться, чтобы найти дорогу назад, берег словно притягивал меня к себе, я едва волочил ноги, как будто попал в трясину, которая ни за что не хотела меня отпускать. Но все же задуманное мне удалось, и скоро я шагал туда, откуда пришел.
Мне хотелось спешить, но мои движения были замедленными, видимо, из-за страха, пережитого в последние часы. однако по мере приближения к Инсмуту идти становилось все легче. Быть может, все дело было в странном влиянии берега, которое я стряхнул. Дорога на Аркхэм была передо мной, и мои шаги убыстрились. Я совершил ошибку, выбрав неверный путь, но, слава богу, вовремя ее исправил.
Солнце наконец вышло из-за туч, его лучи согревали мое тело и поднимали дух. Я вдруг вспомнил о своей искаженной вчерашней тени и обернулся, чтобы посмотреть на нее.
В тот страшный миг ужас снова стиснул меня в своих ледяных объятиях, вернулась слабость, которую я испытал прошлой ночью. Пораженный, я вытаращенными глазами смотрел на дорогу передо мной, не в силах понять того, что видел.
Там, где прежде к моим ботинкам жался уродливый силуэт, теперь не было ничего. У меня не было тени.
Адриан Коул
Переход
По общему мнению, особенно распространенному среди христиан, один только Дьявол, и никто более, охотится за душами людей, стремясь подчинить их себе или иначе отвратить от света. Общее место, заблуждение, лишающее людей защиты перед лицом иных сил, которые тоже существуют. И уловляют души людей с не меньшей жадностью и изобретательностью, чем это делает Сатана и его многочисленные приспешники.
Людвиг Кригманн, «Жаждущие звезды»
С почтой я получил неожиданную открытку. Белесо-голубое небо, каким оно лишь на подобных открытках и бывает, привлекло мой взгляд. Под ним жались друг к другу дома рыбачьей деревушки из тех, которых полно на юго-западе Англии, хотя бы в Корнуолле. Именно в те места я все время собирался, но так и не попал.
Нахмурившись, я перевернул открытку. Текст был так неразборчиво написан, что я не смог прочитать ни слова. Зато мой адрес, выведенный старомодными печатными буквами, был совершенно ясен. Я сел за стол, поглядел счета и рекламы и только потом вернулся к открытке. Сделал еще одну попытку дешифровать текст, но опять потерпел поражение.
Позже, споласкивая после завтрака тарелки, я вдруг вспомнил свое сегодняшнее побуждение — на мысль о нем меня навела деревня на открытке.
Я почувствовал запах моря. Наверное, я все упрощаю, но мой мозг как будто совершил скачок в момент выхода из сна. Если бы я анализировал тогда свои ощущения, то сказал бы, что пахло водорослями, рыбой и солью. Запах накатил волной и тут же исчез. Иллюзия, ясное дело. Ведь от моего дома до моря двести миль, и я даже не вспомню, когда в последний раз стоял на берегу. Может, в детстве.
Мать часто возила меня на побережье, хотя скорее из чувства долга, чем потому, что разделяла мой мальчишеский энтузиазм. Как всякому ребенку, поездка к морю представлялась мне необычайным приключением, полным всех мыслимых услад. Обычно в такие поездки отправлялись целыми семьями, но только не в нашем с ней случае.
Я никогда не знал своего отца. Мужчина, который был когда-то рядом с матерью, бросил ее раньше, чем мне исполнилось несколько месяцев от роду, так и оставшись для меня неясной тенью. По иронии судьбы он, скиталец по натуре, ушел в море.
Мать скрывала свою горечь, но с годами я стал лучше понимать природу присущей ее характеру сумрачности. Она жила с другим мужчиной, Бобом, который заменил мне отца и которого мать любила, как свою собственность. Это мешало мне выражать свою искреннюю приязнь к Бобу, но все равно такая жизнь была лучше прежней; одни лакуны заполнились, другие утонули в периодических приступах молчания матери, которые Боб даже не пытался нарушать.
Я вышел из кухни. В гостиной бросил взгляд на рамку с фотографией сына, Дэвида. Парню вот-вот сравняется двадцать. Он сиял на меня со снимка, обхватив рукой плечики светловолосой девушки, очевидно, не менее счастливой, чем он. Скоро они поженятся. И без толку говорить им, что они еще слишком молоды. Да и что я об этом знаю? Я ухмыльнулся. Яблочко от яблоньки недалеко падает, так? В этом была доля иронии. Мой собственный брак оказался неудачным. Мать Дэвида уже опять вышла замуж.
Наше расставание прошло на удивление безболезненно, совсем не так, как, мне казалось, должны происходить разводы. Мы с Иреной остались друзьями, и мне даже нравился Тони, тот мужчина, за которого она вышла замуж. Я был благодарен ему за то, что он никогда не создавал для меня проблем с Дэвидом. Тони хватило здравого смысла не пытаться встать между Дэвидом и его отцом, и в результате он очень быстро завоевал доверие мальчика.
Казалось бы, всеобщее внимание и предусмотрительность всех друг к другу должны были полностью устранить любые шероховатости. Но мне было мало проводить с Дэвидом выходные, возить его на неделю куда-нибудь в отпуск и говорить с ним по телефону, когда я захочу. Я невольно чувствовал себя обманутым отцом, не отвечающим отведенной мне роли, хотя и старался не показывать этого. А Тони был, вне всякого сомнения, достаточно проницателен, чтобы это понимать.
И что теперь? Дэвид скоро станет еще менее доступен для меня, чем раньше. Впервые в жизни мы за целый год не выберемся куда-нибудь вдвоем на неделю. Но дети рано или поздно перерастают каникулы с родителями. Полагаю, мне и так чертовски повезло, что Дэвид долго им не сопротивлялся. А теперь у него есть девушка, и они вместе катаются на лыжах в Альпах. Мальчика ждет блестящее будущее, вне всяких сомнений, отличный диплом и потенциально денежная работа в Сити.
Перспектива отпуска без Дэвида мне не улыбалась. Но и сидеть дома, заниматься ремонтом или строительством крыльца, которое я давно себе обещал, тоже не хотелось.
Тут я вспомнил, что принес с собой в комнату открытку. Снова взглянул на нее. Название деревни было выписано четкими буквами. Эпплдор. Северный Девон. Я едва не задохнулся от внезапного озарения. Ведь именно в той части Англии, как считалось, жил мой отец между уходами в море, хотя сейчас он наверняка уже отошел от дел.
Я сделал еще одну попытку разобрать жуткие каракули. Кособокая подпись была едва видна. Несмотря на безнадежность моих стараний прочесть текст, мне все же показалось, будто я различаю в нем слово «отец». Я покачал головой. Это мое подсознание делает скоропалительные выводы, обманывая меня.
Я всматривался в домики рыбацкой деревни, в ряды лодок на берегу. Другой мир. Может ли быть, что мой отец действительно живет где-то там, за крошечной набережной? Да и сколько ему сейчас лет? Семьдесят? Больше? Неужели эта открытка — последняя попытка моего отца попросить прощения? Я отбросил открытку в сторону и одновременно с этим принял решение отправиться туда, откуда она явилась.
Автобус петлял меж низкими дюнами, пробираясь к морю, а я наслаждался первыми видами Эпплдора. Расположенная на дальнем берегу широкого эстуария, зажатая между холмами, которые спускались там к самым волнам, рыбацкая деревушка казалась частью моря, точно принадлежала не столько суше, сколько воде. Позади холмов виднелись еще дюны, за ними открывался морской простор, но все же именно дома приковывали взгляд: я словно смотрел в прошлое, лет на сто назад, а то и больше. Изящные и старомодные, они жались друг к другу на самой кромке прилива и, казалось, ни на йоту не изменились с тех пор, как их построили. Прямо через реку до них было что-то около мили; но на автобусе мне предстояло проехать еще три мили вверх по реке, пересечь мост и только потом вернуться к деревне.
Солнце уже начинало опускаться за холмы; в небе разлился легкий золотой отсвет.
Я планировал прожить здесь, у моря, неделю. Но мне уже было одиноко без Дэвида. А это место, хотя и прекрасное, было такой глухоманью. Я уже начал сомневаться, дойдет ли автобус до него вообще когда-нибудь.
Мост находился в местечке под названием Байдфорд. Там я вышел из большого автобуса и пересел на другой, до Эпплдора, и пока он петлял по поселку, который вывел его наконец на набережную, я укреплял себя в мысли, что останусь здесь и получу удовольствие от отпуска. И не важно, обитает в здешних местах дух моего беглого батюшки или нет, сказал я себе.
Подойдя к гостинице, я ощутил, что деревня тиха, как нарисованная, и это совсем не походило на среду моего обитания. На миг ее спокойствие даже показалось мне странно тревожным.
Вдали, за стремительно убывающей водой эстуария, мелькнула вспышка света: это солнечный луч отразился в окнах отъезжавшего автобуса, возможно, того самого, что привез меня сюда, а теперь возвращался в более привычный мир.
Как я и подозревал, мой пансион оказался пабом, так что, выпив чаю в задней комнате в компании полудюжины других гостей (две семьи, совершавшие обзорный тур, завернули туда на пути к северному побережью Корнуолла), я перешел в общий бар. Роста я невысокого, но и мне пришлось пригнуться, чтобы не стукнуться головой о низкие балки: я точно оказался в трюме старинного галеона. Ощущение того, что я не только вижу прошлое, но и присутствую в нем, нарастало, но и странным образом успокаивало.
В баре сидели несколько мужчин; почему-то я сразу подумал, что они здешние. От них так и тянуло морем, их лица были бы уместны на палубе парусника, обдаваемой брызгами и пеной. Перед приездом сюда я решил почитать что-нибудь о Северном Девоне и истории местного кораблевождения. В свое время здесь построили немало парусных судов, и сам Эпплдор пользовался репутацией родины настоящих морских волков, которых тут звали баночниками из-за опасных песчаных отмелей у выхода из эстуария и широкой бухты за ними. Лет сто назад и больше они ходили в Новый Свет, где ловили косяками треску у берегов Новой Англии или приходили назад с грузом табака, а их суда ходили по морю не хуже всяких других. Я видел старые фотографии в книгах, на которых малые дети, едва научившиеся ходить, уже гребли крохотными веслами в лодочках. Если мой отец и впрямь был моряком, то легко понять, чем его так манило это место.
Я исподтишка наблюдал за мужичками у стойки. Они развлекались им одним понятной шуткой, и, хотя не игнорировали меня, но по всему было видно, что к ним не так легко найти подход, как к тем, с кем я привык иметь дело. однако я уже принял решение порасспросить их о своем отце.
— Прошу прощения!
Один из них, коренастый мужичок со спутанной бородой и глазами, сверкавшими так, словно он находил меня слегка забавным, добродушно кивнул головой.
— Вы, случайно, не знаете, где тут можно найти человека по имени Сайлас Уайт? Он одно время жил в Эпплдоре.
Не переставая кивать, бородач обернулся к своим приятелям.
— Сайлас Уайт, — повторил он с густым акцентом. — Твой отец вроде его знал, а, Деннис?
Тот, к кому он обращался, поставил на стойку свой пустой стакан. Руки у него были мощные и грубые, я так и видел, как они тянут заброшенную в глубину моря сеть.
— Видал его я, когда был мальчишкой. Давненько то было.
— Он переехал?
Тот человек, Денис, кивнул.
— Не задержался. Бывал тут проездом пару-тройку раз, жил по месяцу-другому, не больше. Отец ходил с ним в море. Хороший был тральщик, Сайлас Уайт. Похоже, осел в Новой Англии. Многие наши там осели.
— Когда он здесь был в последний раз? Простите, я не сказал, он мой отец, я ищу его.
Трое мужчин уставились на меня так, словно считали странным, что я не знаю, где искать собственного отца. Ни один из них, похоже, не мог мне ответить.
— Были у него здесь какие-нибудь друзья или родственники?
Но и тут они не могли мне помочь. Меня так и подмывало показать им открытку, которая лежала у меня во внутреннем кармане куртки, но, видя, что их мои расспросы нимало не занимают, решил этого не делать. Поблагодарив их, я отошел и сел за стол.
В тот вечер в паб приходили люди, и хотя многие из них мне кивали, ни один явно не был готов поддерживать беседу.
Потягивая пиво, я размышлял о том, что завтра пройдусь по местным библиотекам и попробую разузнать адрес отца там. Мне стало казаться, что я поспешил с выводами, и я почувствовал себя глупо. Но отнес это на счет долгой поездки в автобусе и решил пораньше лечь спать.
Снаружи воздух был невероятно тих, и лунный свет заливал узкие улицы так, что было видно, как днем. Крошечные домики окружали меня, во многих не горел свет, хотя это были не магазины, а просто жилые дома. Было слышно море, оно шумело неподалеку, и в отверстие между домами, откуда начинался спуск к воде, я ощутил, как на меня пахнуло водорослями и солью, точно как в то утро, когда я проснулся от запаха моря. Предчувствие, усмехнулся я.
Пиво и усталость в сочетании с морским воздухом вскружили мне голову, от уныния, навалившегося на меня в пабе, не осталось и следа. Кругом никого не было: как будто вся деревня вымерла и в живых остался один я. Мне стало любопытно взглянуть на пляж и окрестности при луне, и я зашагал по сходням вниз.
Под ногами было скользко: на высоте прилива вода плескалась вровень с настилом из камня. Но я шагал осторожно и не упал. Внизу расстилался влажно блестящий грязный песок и камни, черные при луне. Горбатые скалы перегораживали эстуарий, полосы пойманной в ловушку воды блестели меж глинистых берегов. Море ушло далеко, обнажив пристань и стену деревни, оставив пучки водорослей на камнях ниже линии прилива. Тут и там на илистом берегу лежали небольшие лодки, их буи наполовину зарылись в песок.
Я ступил с каменного настила на берег, пробуя его упругость — к моему облегчению, песок не пытался меня засосать; наоборот, он оказался неожиданно плотным. Вода отошла так далеко, что, казалось, эстуарий можно перейти вброд и так добраться до деревни на противоположном берегу, но подобные глупости не входили в мои намерения. Тем не менее на песок я вышел, хотя и с опаской, помня о том, что вокруг ни души, одни молчаливые лодки. Мне еще никогда не доводилось бывать на таком обширном открытом пространстве, нигде, ни в одном парке. Луна светила на удивление ярко, и к северу от меня, на северном берегу, где подпираемая атлантическими приливами река делала поворот к морю, громоздились песчаные дюны, за долгие века намытые океаном. Образованный ими пейзаж был странен, он напоминал отрезанный от всей вселенной, замкнутый в себе самом мир.
Одиночество сделало меня пугливым. Я вдруг представил, как приливная волна устремляется на берег и отрезает мне путь назад. Обернувшись, я отыскал взглядом деревню и удивился тому, как я, оказывается, далеко забрел по плоскому илистому берегу. Справа от меня раздался странный шум: как будто булькала вода, уходя в воронку в песке. Прислушавшись, я уловил другие неясные звуки, которые шли прямо у меня из-под ног, но решил, что они естественны для этого места.
Идя по своим следам обратно, я ощутил какие-то изменения вокруг. И сразу моя затея с поездкой в эту глухую деревню показалась мне несусветной глупостью. Ужас дышал мне в спину. Зацепившись носком ботинка за торчавший из песка объект, я растянулся на мокром грязном песке. Воняло тухлой рыбой; я перекатился на спину, чтобы не дышать зловонными испарениями. Пока я, шатаясь, поднимался, что-то зашевелилось, проткнув песок в нескольких шагах передо мной.
Сначала я решил, что это, должно быть, ветка, принесенная рекой. Но на моих глазах она зашевелилась, отталкиваясь от песка, точно рука, которая вылезла из влажной могилы и старается вытянуть за собой все тело.
Сзади раздался стон, но я не мог заставить себя обернуться. Я кинулся вперед через грязь, стараясь увильнуть от ветки: разве она могла быть чем-то другим?
До сходен оставалось всего каких-нибудь сорок футов, но я уже видел узкий палец воды, протянувшийся между ними и мной. В воде кишели какие-то темные тени, которые могли быть чем угодно. Я побежал, но теперь песок держал меня крепко. Вдруг моя нога попала на что-то мягкое и скользкое, и я, бросив взгляд вниз, едва не заорал: это было лицо.
Пораженный, я смотрел на этот ужас и держал ногу на весу. Но лунный свет открыл мне правду: это медуза, огромная, как суповая миска, беспомощно распростерлась на песке. Сражаясь с липкой грязью, я побрел прочь, то и дело поглядывая на сходни.
Кто-то стоял на них на полпути вниз. И этот кто-то явно наблюдал за мной, сам слишком плотно укутанный тьмой, чтобы быть различимым. Убежденный в том, что некая сущность пытается высвободиться из-под песка, я добрался до подножия холма. Когда я начал карабкаться наверх, мои ноги заскользили на предательской пленке из водорослей, которая покрывала камни, и я рухнул на колени. С бессмысленно разинутым, как у рыбы, ртом я посмотрел на незнакомца надо мной. Он чуть продвинулся по сходням вверх и оттуда наблюдал надо мной, точно поджидая. Как ни странно, но мной овладело желание во что бы то ни стало добраться до него, точно вступить с ним в контакт было для меня жизненно необходимо.
Зная, что покажусь смешным, я подавил желание позвать на помощь. Видели бы меня в тот миг рыбаки из паба, они бы надорвались от смеха. Так мне и надо, сам виноват, нечего было шлепать по этой грязи ночью.
Забраться назад на сходни оказалось совсем непросто, но я справился, карабкаясь потихоньку. Когда я поднялся наверх, силуэт исчез, точно его поглотила улица.
Мне хотелось окинуть напоследок грязный пляж испепеляющим взглядом, но что-то помешало мне обернуться. К ясно слышимому шуму моря добавился еще какой-то свистящий звук, точно что-то ползло по песку, и не с одной стороны, а со всех сразу. Злясь на себя за трусость, я, не оглядываясь, свернул на улицу. Она была пуста: деревня точно вымерла. Но вот недалеко от меня из какой-то двери показался тот самый силуэт. Луна светила ему в спину, так что лица было не разглядеть, но я все же заметил на нем тяжелый морской бушлат, уместный скорее на палубе корабля в жестокий шторм или во время океанского перехода. Ворот бушлата был поднят и прикрывал голову сзади. Передо мной явно был моряк. Но почему он ждал меня? Я вспомнил про открытку. Может быть, он и есть отправитель? Тогда к чему все эти глупые тайны?
Едва я сделал шаг вперед, силуэт тоже сдвинулся с места. Было ясно: он хочет, чтобы я следовал за ним, но почему, черт возьми, он не мог просто подойти и сказать мне об этом? Но разбираться в этих зачем и почему было некогда: силуэт слишком поспешно удалялся.
И снова я его потерял, но скоро обнаружил, что он свернул на соседнюю улицу, еще более узкую и тесную, чем эта. Там он опять ждал меня. Или мне просто казалось?
А может, он, наоборот, убегает от меня, обеспокоенный чудными кульбитами, которые я выделывал на песке?
Я свернул на мощеную улочку. Свет в домах не горел, двери были заперты. Неужели все уже легли спать?
Не успел я глазом моргнуть, как силуэт скользнул в какую-то дверь или проход и скрылся из виду. Шепотом ругнувшись, я последовал за ним, ведь выбора у меня не было. Каменные ступени уводили в казавшуюся непроницаемой тьму. Снизу шел неприятный запах, как будто лестница спускалась к самой воде. Вот где пригодился бы фонарик, подумал я. Ни минуты не сомневаясь в том, что веду себя как последний дурак, я пошел вниз, осторожно ставя обе ноги на каждую ступень.
Темнота подо мной полнилась шумом моря, внезапно оттуда налетел порыв вера, поразивший меня своей свежестью и силой, точно шел из океанских просторов. Идти дальше я не мог. Надо было поворачивать.
Раздражавший меня силуэт уже маячил надо мной, на самой верхней ступеньке. Прежде чем он исчез, я разглядел его лицо, оно было лицом старика. Быть может, этот человек знал моего отца?
— Эй! — крикнул я, но обступившие меня стены поглотили звук. Я торопливо поднялся на улицу, но, к моей досаде, старика и след простыл. Я бросился к более широкому проходу и едва успел разглядеть старика, который сворачивал на другую улицу в нескольких ярдах впереди меня. Я уже хотел бежать за ним в полной решимости наконец догнать его, когда меня поразила странность моего окружения. Я его не узнавал. И не потому, что оказался в незнакомом месте. Дома были совсем не те, что стояли тут несколько минут назад. Снова подул холодный бриз, и меня посетила шальная мысль о сдвиге во времени. Я начал лихорадочно озираться. Дома были просто другие. Да и улица, если на то пошло, тоже.
Где я, черт возьми, оказался?
Старик наверняка знает. Ведь это он, так сказать, привел меня сюда. Этому должно быть объяснение, как было оно тому, что я по глупости навоображал себе на песке. Наверняка это та же самая деревня, только другая улица, так?
На осыпающейся кирпичной стене висела табличка с названием «Фиш-стрит». Раньше я ее не замечал, как не замечал и темной тени, нависавшей над двускатными крышами и щетиной дымовых труб: это был шпиль, но выглядел он так, словно длань господня укоротила его на одну треть. Подъезжая к деревне, я видел церковь из окна автобуса, но ее башня была цела.
Вдруг с приморской стороны городка понесло такой омерзительной вонью, что я поперхнулся и, обернувшись, увидел другие фигуры, которые шаркали по той же улице. Они шли, понурившись, их головы болтались, точно у пьяных. Мне страшно захотелось, чтобы они меня не заметили, и я бросился бежать в том же направлении, которое до этого избрал старик. И снова я ощутил острую необходимость встречи с ним.
Боковые улицы и переулки, отходившие в стороны от главной магистрали, оказались более необычными, чем я помнил. Повсюду царил распад, многие крыши провалились, как будто я вернулся в деревню лет двадцать спустя и за все это время в ней не делали ни одного ремонта. Но при этом она разрослась и перестала быть просто деревней. В просвет между двумя складами, которых я не помнил, светилось море.
Оно плескалось у самого края поселка!
Как такое могло случиться? Ведь всего несколько минут назад вода была еще далеко!
Сзади раздались голоса, низкое, гортанное бормотание, эхом отдававшееся от угловатых стен. Я похолодел: звуки таили явную угрозу.
Что-то задвигалось впереди, и я едва не подпрыгнул от испуга. Это был мой старик. Теперь он рукой манил меня к себе. Я почти обрадовался. Другие голоса неслись с противоположного конца улицы. Наверное, их искажало эхо. Но я был уверен, что эти люди говорили обо мне.
Старик вошел в низкий коридор, ведущий через прогнившую калитку к одному из рассыпавшихся домов. В его окнах не горел свет, не было на них и занавесок. Зато запах тления перебивал даже запах моря. Позади меня ковыляли по улице местные жители, в лунном свете блестя какими-то зазубринами. Их сборище не предвещало мне ничего хорошего.
Достигнув порога, я захлопнул за собой толстую дубовую дверь и опустил ржавеющий засов, радуясь тому, что он есть. Старик стоял у источенного червями стола, со стен клочьями свисала паутина. В доме не один десяток лет никто не жил. Сквозь выбитые стекла внутрь сочился лунный свет. Снаружи все стихло, как на кладбище.
Чиркнула спичка, старик зажег свечу. Мгновение две наши тени танцевали вместе. У старика оказалось лицо мумии, кожа как пергамент и глаза проклятого.
— Ты ищешь Сайласа Уайта. — Это не был вопрос.
Я кивнул. Мне казалось, будто передо мной стоит оживший труп.
— Это я.
Вздрогнув, я уставился на него.
— Вы? Так это вы послали открытку?
— Я твой отец.
Встреча с легендарной фигурой моего детства должна была потрясти меня, но у меня вдруг отнялся язык, и я стоял перед ним молча, точно внезапно поглупев. Но как иначе этот старик мог узнать про открытку?
— Я Сайлас Уайт. Я пришел за тобой, парень.
Никакой радости, и уж тем более облегчения я, разумеется, не почувствовал. Я знал одно: он мне чужой, такой же далекий, как мое детство. Даже липкое чувство вины перед ним, и то отсутствовало. Я с трудом подобрал слова.
— Вы здесь… скрываетесь? — Мне вспомнилась неявная погоня, мрачное окружение.
— Не здесь. Просто не хочу, чтобы меня видели на старом месте.
— Но живете вы в Эпплдоре?
— Давненько уже там не был. — У него был сильный акцент, но я только сейчас его распознал. Он говорил как американец, почти как пуританин.
— Но не можете же вы жить здесь, в этой норе?
— Последнюю ночь тут провожу, спасибо тебе, мальчик. Сегодня же на свободу. Туда, к… — Тут он умолк, прислушиваясь к шуму за дверью. Похоже, ему показалось, и он был этим доволен. — Хватит мне уже тралить. На покой пора. Отработал я и койку, и кормежку.
— Вернетесь назад, в Америку? — спросил я нерешительно, недоумевая.
Старик скривился.
— Назад? Мы уже на месте, парень. Ты прибыл. Я привел тебя. Как и обещал им.
— Что за чушь? — Я разозлился, сбитый с толку этой путаницей. Старик явно бредил, спятил, наверное, в одном из своих бесконечных плаваний. И зачем только я сюда притащился?
— Инсмут. Ты в Инсмуте.
Это название мне ни о чем не говорило.
— Слушайте, может, пойдем, все обсудим? Я снял комнату в местном пабе. Мы могли бы…
— Времени мало. За мной скоро придут. Я уже слышу, как волны бьются о риф. — Выражение сильнейшего вожделения исказило его лицо при этих словах. — Теперь твой срок.
Что он сказал, «срок» или «урок»?
— Мой урок? Какой еще урок?
— Ты мой сын. Ты займешь мое место, как я занял место моего отца. А когда свой срок отбудешь, отработаешь у них тральщиком, вернешься. За своим сыном. Пока не приведешь его сюда, не видать тебе пути на риф Дьявола.
Я ничего не понимал. Бедный старый хрыч совсем спятил. Кто тут за ним присматривает? Не может же он жить здесь совсем один?
— Скоро они будут здесь. И я пойду. — И опять улыбка, полная устрашающего желания, скользнула по его лицу.
— Кто? Кто здесь будет?
— Дети Дагона. Они тебе все расскажут.
В конце концов, он меня совсем не знает. Я мог оказаться кем угодно. Но как же открытка? Как он меня нашел? Кто-нибудь другой его надоумил?
— Кто такой Дагон? — спросил я.
Он задрожал, но не от холода. Скорее, от похотливого восторга. Потом забормотал, но так путано и туманно, что я, наверное, смотрел на него дурак дураком. Что это, неужели у него сейчас случится припадок? Глаза его закатились, рот приоткрылся, и я увидел, что у него раздвоенный язык.
В запертую мной дверь отрывисто и громко постучали. Я понял, что от погони уйти не удалось. На улице стояли по крайней мере двенадцать человек. И нужен им был я.
— Служи им как надо, — сказал Сайлас Уайт.
Мой отец? Мне все меньше верилось в это. Между нами не могло быть никаких уз. Я воочию видел пропасть, которая разделяла нас. Он протянул руку, и мне захотелось крикнуть, что я не признаю родства с ним.
Он шагнул ко мне, свет луны упал на его лицо и руки. Их покрывала чешуя.
Я прыгнул к нему и толкнул его в грудь, он упал, застигнутый врасплох внезапной переменой моего настроения. Я слышал, как начали колотить в дверь. Я метнулся мимо Уайта; тот протянул к моим ногам свои клешни, но не достал, я уже выбегал в дверь за его спиной.
Следующую комнату я пересек едва ли не в кромешной тьме. Впереди маячили какие-то ступеньки, которые показались мне единственным выходом из этого логова кошмаров. Я нырнул вверх. Позади меня трещала, разлетаясь в щепки, гнилая древесина, раздавались крики моих преследователей, кто бы они ни были. Словно почуявшие запах крови псы, обитатели этого порочного места устремились за мной, как за добычей. Я слышал, как выкрикнул что-то Уайт, что-то про Дагона, проклятие, наверное. Забрезжило смутное воспоминание. Кажется, это какой-то бог древних?
Тут лестница подо мной угрожающе заскрипела, и я едва не рухнул вниз, когда у меня под ногой провалилась ступенька. Но источенные червями перила, за которые я уцепился, выдержали, и я по ним подтянулся наверх. Внизу кишели какие-то тени, смрад с первого этажа поднимался непередаваемый. Захлюпала вода, словно прилив вдруг заплескался прямо в комнатах. Преследователи пытались добраться до меня, но лестница не выдержала их веса: еще часть гнилых ступеней обвалилась.
И снова луна указала мне путь. Я пересек заросшую грязью комнату и подбежал к окну, рамы которого давно прогнили. Страх подгонял меня. Я готов был на что угодно, лишь бы уйти от этих сумасшедших. один Бог знал, что творилось у них в городе.
Встав на подоконник, я уцепился за водосточный желоб на крыше. Он оказался довольно крепким, и, подтянувшись, я взобрался по нему на крышу. Осторожно ступая по шаткой черепице, я дошел до дымовой трубы и прильнул к ее кирпичной кладке. Сел, оседлав конек крыши, и стал переводить дух. однако при виде того, что открылось мне, когда я посмотрел на город (а это был именно город), я едва не скатился с крыши.
Передо мной был не Эпплдор. Как он назвал это место? Инсмут? Никакого логического объяснения тому, как я здесь оказался, я найти не мог. Прилив был в самой высокой точке, я видел, как его волны лижут дома на набережной. Под ними были другие строения, уже ушедшие под воду, так что на поверхности виднелись лишь крыши с гнилыми зубами дымовых труб.
Хуже того, в глубине бухты был риф, испускавший неестественное свечение. При нем мне было ясно видно, что риф кишит каким-то тварями, словно берег тюленями, и они ползают по нему туда и сюда. Приглядевшись, я понял, что точно такие же твари выпрыгивают из моря на набережную. И они совсем не тюлени. Мне даже показалось, что когда-то, в далеком прошлом, они могли быть людьми.
Черепица рядом со мной загрохотала, когда что-то крупное проломилось сквозь крышу. Я в ужасе обернулся на шум, соображая, что это распахнулось слуховое окно. Оно сорвалось с петель, прокатилось по крыше и, зацепившись ненадолго за водосток, рухнуло во двор внизу. Из дыры показались голова и плечи: Сайлас Уайт. Им владело воодушевление, причины которого превосходили человеческое понимание. Его ужасные глаза глядели прямо в мои, нас разделяли всего несколько футов. Я поднял ногу, готовый нанести удар каблуком в лицо.
Но что-то остановило меня, возможно, призрак вины, и в тот же миг по его лицу скользнула какая-то тень, и я на миг увидел в нем человека, того Уайта, каким он был однажды. Казалась, он борется со своим внутренним демоном, чтобы опять стать прежним. И тогда я впервые почувствовал к нему острую жалость.
Тут под ним что-то зашумело, заквакало, и Уайт вскрикнул, как будто его ударили, чтобы он не отвлекался от своего страшного дела. И снова его чешуйчатая лапа потянулась ко мне.
— Иди с ними! — завизжал он. — Они не отпустят меня, пока ты не займешь мое место! Я не попаду на риф. Не дай им отвергнуть меня! Я столько лет работал на них! Иди с ними!
Я изо всех сил вцепился в дымовую трубу. Кирпичи в ней шатались, но я держался крепко. Под нами собрались на улице люди, но тени милосердно скрывали от меня их вид. Я только слышал, как они скользят по воде, как будто прилив полностью вошел в город.
— Зачем тебе на риф? — спросил я его.
Он стремился выбраться на крышу, но мог лишь извиваться в тесном окне, как рыба, выброшенная на камень.
— Там дети Дагоиа. Они примут меня. Я тралил для них много лет. А теперь наконец сам стану одним из них. Не отвергай меня. Твой срок тоже придет.
Чушь какая-то. Видя, что я хочу сбежать, он с удвоенной энергией полез наружу. Я вытащил из трубы расшатанный кирпич и занес его над головой, как оружие.
— Не знаю, как ты привел меня сюда, но теперь лучше покажи мне дорогу назад. — Я потянулся вперед, схватил его запястье и прижал к черепице. И опять наши взгляды встретились. Все, что я мог тогда, это не сводить с него глаз, читая муку, написанную на его лице.
Оскалившись, он стал царапать меня когтями свободной руки, но я ударил по ней кирпичом. Он не отставал, словно не чувствуя боли.
Голоса внизу стали громче, взволнованней. Меня заметили. И намеревались схватить. Надо было уходить с этого места, или один Бог знает, что со мной могут сотворить эти психи.
Уайт плакал, умоляя меня пойти с ними, слезы текли по его лицу. Но это лишь разозлило меня. Я снова занес над ним кирпич.
— Веди меня назад! — заорал я. — Веди, не то…
И, пока я изливал на него поток грязнейшей брани, которую только могла подсказать охватившая меня ярость, до меня дошло, что я грожу не монстру, не безумному старику, но тени человека, бросившего меня годы тому назад, отцу, которого я никогда не видел. Его преступление, вот что возмущает меня. Мое одинокое детство, обида, печаль моей матери, вот что питало меня теперь, вот что наполняло беспощадной силой руку, сжимавшую кирпич. Я замахнулся для последнего, смертельного удара.
По моему лицу он увидел, что я хочу убить его, и, может быть, даже понял, за что. На миг он снова стал человеком: передо мной был старик, ошеломленно перебирающий воспоминания минувшей жизни. Он не спускал глаз с моего лица.
— Сын… — прошептал он.
— Нам надо выбираться отсюда, — сказал я, все еще не опуская кирпич. — Слышишь?
Моя ярость, должно быть, усмирила монстра, скрывавшегося у него внутри, по крайней мере, на время. Он молча кивнул:
— Помоги мне подняться.
Он стал другим, но эта перемена не вызывала у меня доверия. однако только он мог показать мне дорогу назад, в Эпплдор, лежавший за таинственным порталом, которым он меня вел.
Я медленно выволок его на крышу рядом с собой. Что-то попыталось пролезть за ним, но я прогнал его, швырнув окно кирпич, который держал в руке, и другой, который выломал из трубы. Уайт сидел, нахохлившись, больше зверь, чем человек, но, по крайней мере, не выказывал желания предать меня. Я стиснул его плечо.
— Пошли по крышам. Ищи спуск, — приказал я ему.
Кивнув, он начал опасный подъем по рельефу из черепицы. Я шел за ним, то и дело озираясь, нет ли за нами погони, но обитатели Инсмута выбрали, должно быть, иной путь. Уайт бормотал что-то, и, хотя я не мог разобрать слов, они все же не походили на те чудные звуки, которые он издавал раньше. Он походил на человека, который никак не может забыть дурной сон. Я заставлял себя жалеть его и сопротивлялся желанию убить, которое поднималось со дна моего «я».
Дома стояли так плотно друг к другу, что мы, должно быть, прошли не одну улицу, прежде чем перед нами открылся широкий провал. Приходилось спускаться. Я прислушался, но кромешная тьма внизу не отозвалась ни одним звуком. однако, едва соскочив на крышу пониже, мы были вынуждены спрятаться в тень. Кто-то двигался под нами.
В немом изумлении я наблюдал за гротескной процессией, которая показалась из переулка, направляясь к набережной и странным водам, плескавшимся за ней. Вели ее несколько тварей — иного названия для этих существ я подобрать не могу. Их спины были согнуты в дугу, передвигались они прыжками, а их глаза, хотя я и не очень хорошо видел их в темноте, показались мне слишком широко расставленными. Лунный свет серебрил их тела, которые поблескивали, словно покрытые скользкой чешуей. Твари были мерзкие, но еще ужаснее показались мне люди, которых они вели. Это были мужчины и женщины, жители того же городка, наверное, они шли, понуро склонив головы, шаркая ногами, покачиваясь, точно пьяные. Их было не меньше двадцати, и они шагали покорно, как коровы на убой, не делая попыток освободиться. Я вздрогнул, осознав, где мне уже приходилось видеть подобное.
В старых, мутноватых черно-белых фильмах. Концлагеря. Жертвы, идущие навстречу своей страшной участи. И эти люди, которых я видел прямо под собой, были точно в такой же беде.
Я снова схватил Уайта за руку и стиснул так, что его старые кости, наверное, застонали.
— Кто они? — Мне вспомнились кое-какие его слова. Насчет траления. Уж не о людях ли он говорил?
— Больше никогда, — прошептал он. — Я свое отработал. Купил себе место на рифе Дьявола.
Подоплека его слов была просто невероятна. Мы наблюдали за процессией, пока она не скрылась из виду. Стало тихо. Наши преследователи пока не проявлялись.
— Ты мог бы остаться здесь. А потом, в конце, привел бы своего сына, когда пришла бы твоя пора взойти на риф, — прошептал он.
Дэвида? Уж не хочет ли он сказать, что я должен сначала сам стать рабом этого места, а потом, чтобы освободиться, привести сюда Дэвида?
Он смотрел на меня страдальчески, многолетняя агония сломила его дух.
— Другого способа нет. Только так я могу стать свободным. Неужели ты оставишь родного отца им на вечное поругание?
Схватив его за воротник, я рванул изо всей силы, так что едва не задушил старика.
— Ты хочешь купить свою жизнь в обмен на жизнь моего сына! Хочешь, чтобы я поступил, как ты? Предал его?
Я видел, что теперь его терзает настоящий зверь. Но никакого отношения к этому кошмарному городу он не имел. Он сам впустил его в себя, и тот сросся с ним, точно безжалостный паразит. Я разбудил в нем беспощадное чувство вины и теперь наблюдал, как оно гложет его изнутри. И мне было на руку поддерживать в нем этот внутренний огонь, если я хотел, чтобы он вывел меня назад.
— Веди меня отсюда, — прошипел я ему жестоко. Он сам вынудил меня выбирать. И как легко оказалось быть жестоким!
Зверь внутри него зашевелился. Он услышал.
Спустившись с крыши, мы, по щиколотку в соленой воде, пошли петлять по переулкам. Дома вокруг были мне незнакомы. Они были еще старее и непригляднее виденных мной раньше, вот и все, что я мог сказать о них.
Но вот наконец мы оказались на улице под названием Фиш-стрит. Ее я узнал.
Когда мы остановились возле устья узкого тоннеля, который вел к ступеням, Уайт отпрянул.
— Я не могу пойти назад. Сжалься.
— Нельзя же оставаться здесь…
— Если я и вернусь, — прокаркал он, — то не протяну там долго. Я — Дагонов. Тамошнее море смоет меня и принесет к ним. Рано или поздно оно все равно доставит меня к ним, живьем. А ты иди. И держись подальше от моря, парень. Оно тебя не забудет.
К нам снова близились голоса, стены домов перебрасывали их друг другу.
— Они за тобой не полезут, — сказал он. — Только ты и я можем ходить туда и обратно. Так я им и служил… — Тут он умолк, оборвав на полуслове признание, выслушивать которое у меня не было никакой охоты. Похоже, он тоже сделал выбор, и я подумал, что он, наверное, все же был моим отцом. Иначе зачем ему отказываться от своего безумного плана, когда он уже заманил меня сюда? Общая кровь, которая текла в наших с ним жилах, одержала верх над его темным богом.
— Меня им надолго хватит, — добавил он.
Я помолчал и ринулся в проход, стараясь не задумываться о смысле его последних слов. Но, в конце концов, именно они склонили чашу весов не в его пользу. Он знал, что мне нужен последний толчок. Я нырнул во тьму, куда вели ступени. Жуткие вопли преследователей и одинокий крик тральщика — вот все, что я услышал под конец.
Вот так я вернулся в свой мир. В рыбацкую деревушку под названием Эпплдор, где мой отец много лет заманивал в сети ничего не подозревающую добычу, предназначая ее на корм мрачному богу, которого выбрал сам.
Десмонд Ф. Льюис
В сапогах
Болото воняло рыбой. Тяжело шаркая ногами, она вышла из своей лачуги на краю мокрой, как губка, тоскующей по морю земли и не увидела ничего, кроме освещенных луной луж, которые тянулись до самого горизонта. Прилив уже много лет не доходил сюда, а моря нельзя было увидеть, даже если залезть на двускатную крышу дома и глядеть оттуда, держась за ступенчатую дымовую трубу, — некий чистюля-божок взял швабру и, как пригородная домохозяйка, следящая за чистотой общественного тротуара перед своим домом, насухо вытер всю морскую воду… а Мэдж с ее лысеющей метлой и усталым сердцем осталось лишь смотреть, как энтропия Земли охватывает и медленно разлагает ее дом и очаг…
Опершись на палку метлы, Мэдж вслушивалась в далекий нерегулярный пульс моря. Маяк, крошечная искра, чуть ярче остальных, что плавали у нее перед глазами, изо всех сил старался попадать в такт биению земного сердца… — и не попадал в основном потому, что смотрители ушли домой, завтракать, а путь им неблизкий — до самого Инсмута.
Более того, она различала жалобный монотонный вой противотуманных сирен, словно это черные тени паровых катеров ее разных мужей рыскали по равнине ее памяти, давно лишенные и топлива, и улова. Рыбы передохли в лужах, и их хвостовые плавники замерли навсегда, когда море в панике покинуло эти места после Великого шторма 1987 года: скорость отступления была такова, что рыба не поспела за волнами и осталась лежать вокруг лачужки Мэдж, устелив землю ковром из слизи с рваными дырками жабр.
Луна сегодня совсем округлилась: она освещала кости рыб, которые сухо потрескивали под налетавшим время от времени ветерком, словно он нарушал их планы слиться в один скелет и стать памятником Единой Рыбьей Душе. Мэдж не могла взять в толк, что это сирены так разошлись. Разве только туман ползет по морю и с минуты на минуту будет здесь, а ветер улетит в глубь суши, где предастся более своевременным занятиям.
Все мужья Мэдж были мертвы, за исключением, как она надеялась, последнего. Который ушел, шлепая по лужам, еще раньше утром. Так рано, что даже не стал ложиться в постель. Боялся пропустить прилив, как все его предшественники, которых он рано или поздно настигал без возврата… а до прилива надо было идти и идти по бесконечным пляжам из отвердевшей ребристой грязи. Едва он шагнул за порог их лачужки, сапоги громко зачавкали в грязи, и этот звук, проникая в уши дремлющей Мэдж, уходил дальше в сон, куда она не имела силы за ним последовать. Жажда жизни взяла свое. Пробуждение было Полярной звездой, и ее кровь толчками стремилась к нему от полюсов смерти, как магнитная стрелка всегда поворачивает к северу.
Никто из них не вернулся. Исчезновения стали ритуалом, как запоздалые месячные кровотечения, столь же бессмысленные, сколь и разрушительные. Рыбная ловля была у ее супругов в крови, хотя она больше напоминала погоню за беззубым раком в трясине собственных внутренностей, а не выуживание божьих тварей из дренажных каналов приморской земли.
Стоя на пороге своей лачужки, она представляла, как рыбацкие катера с заглушёнными моторами качаются на пенных гребнях соленых волн; борта от носа до кормы щетинятся удочками, их лески сплетаются в паутину, похожую на «колыбель для кошки», игру, из-за которой Мэдж и ее сестра частенько ссорились в былые дни; сети ожившими водорослями полощутся за кормой; глубинные чудовища в спиральных кратерах потухших вулканов топорщат зубчатые спинные плавники и поднимаются выше в отчаянной попытке вернуться во вселенную, в громадное пространство над небом, где их создал из ничего, одной лишь силой мысли тот, чье место в иерархии снов даже выше Бога…
Да, но это лишь сны, напомнила себе Мэдж. Она топнула ногой, но жест не получился: нога утонула в грязи.
И тут она увидела их: болотные сапоги мужа торчали из трясины двумя черными корешками от зуба, плохо вынутого дантистом-Богом, который обнажил в ухмылке свои гнилые клыки, длинные, как у вампира, орудия смерти, грозящие незаживающей раной скорее ему самому, чем его жертве…
Она встряхнулась. Опять эти сны. Нет, это не сапоги. Тогда что же?
Той ночью они разговаривали, быть может, в последний раз.
— Не забудь коробку с ланчем, Оуэн… и гамаши надень, они сушатся у двери.
— Не нужны мне гамаши — сапоги высокие, пах прикрывают.
— Зато кое-что другое мокнет…
— Я рассказывал тебе про моего отца? Он говорил: никогда не носи гамаши, парень, а то как помрешь, люди увидят, что ты их носил, и решат, что был слюнтяем…
— Какая чушь! — Она прикусила язык.
— Да нет, что-то в этом есть. Времени и так мало, когда уж тут подтяжки надевать да подпоясываться. Жизнь слишком коротка, чтобы рассусоливать…
И тут, неизвестно почему, из его глаз выступили слезы. Она решила, это оттого, что он отца вспомнил. Может, и тот тоже оставил вот так свою жену, уходя на рыбную ловлю. Бессмысленное занятие, особенно учитывая, что рыбаки никогда не возвращались… и рыба тоже. Приходилось довольствоваться черствым хлебом, не имея даже рыбьих кишок, чтобы сухая корка рот не рвала.
Ночью она впервые поцеловала его в соленые губы и пошла спать, зная, что он будет сидеть, пока не настанет время идти. Как можно сидеть и ничего не делать? Собственных мыслей ей всегда было мало: руки тоже должны были что-нибудь делать: штопать, вязать узор «рыбья кость», печь сухой хлеб; теребить край вечно растущей горы домашней работы; но даже уйма отупляющих дел, которые только множились, пока она корпела над ними, не могли погасить пламя лихорадочно работающего мозга; ей было мало; она не знала покоя; она скорее умерла бы, чем погрузилась в безделье.
Заря медленно скользила по краю неба вверх, затапливая его, точно бледно-желтое море с волнами облаков. Луне некуда было деться, ведь земля была плоская, сколько хватал глаз. Лишь два сапога стояли часовыми, удостоверяя, что Оуэн стал духом, не успев даже покинуть окрестности лачуги и добраться до берега так называемого моря, где его лодка до сих пор качается на воде или лежит на волнах застывшей грязи…
Его непромокаемый плащ и куртка, поверх которой он его носил, лежали рядом, точно старая шкура монстра, который, сбросив ее, полетел пугать очередную бедную вдову своим сходством с огромным насекомым.
На всякий случай — вдруг он услышит — она шепнула сделавшему ее вдовой духу:
— Говорила я тебе, надень гамаши. — Но никакого смысла в этом не было; и она, взявшись за лысую метлу, принялась мести бесконечные лужи со всей энергией, на какую была способна при сложившихся обстоятельствах.
Рэмси Кэмпбелл
Церковь на Хай-стрит
…Пастух, стерегущий у секретных врат, кои имеет, как известно, каждая могила, и он же питается тем, что из той могилы произрастает…
Абдул Альхазред, «Некрономикон»
Если бы я не стал жертвой обстоятельств, то никогда бы не поехал в древний Темпхилл. Но в те дни у меня было очень мало денег, и, вспомнив приглашение друга из Темпхилла занять должность его секретаря, я понадеялся, что вакансия, открытая несколько месяцев назад, все еще свободна. Я знал, что другу вряд ли удастся найти кого-нибудь, кто пожелал бы остаться с ним надолго; немногим придется по вкусу место, пользующееся столь дурной репутацией, как Темпхилл.
Размышляя таким образом, я сложил в чемодан немногие имевшиеся у меня пожитки, погрузил его в маленький спортивный автомобиль, позаимствованный у другого друга, который отправился в длительное морское путешествие, и в ранний час, когда движение в столице еще не достигло своего обычного пика, покинул Лондон и крошечную каморку в почерневшем, ветхом здании на задворках.
Я много слышал о Темпхилле и его обычаях от своего друга, Альберта Янга, который провел в этом умирающем городке в Котсуолде несколько месяцев, изучая разные немыслимые суеверия в качестве материала для своей книги о ведовстве и связанной с ним фольклорной традиции. Хотя сам я не суеверен, мне было тем более интересно, неужели вполне здравомыслящие люди и впрямь избегают лишний раз проезжать через Темпхилл — если верить Янгу — не столько из-за того, что им не по душе этот маршрут, сколько из-за странных слухов, которые то и дело просачиваются из города и его окрестностей.
Может быть, оттого, что я слишком долго думал об этих сказках, пейзаж по мере приближения к месту моего назначения показался мне тревожным. Вместо плавных складок холмов Котсуолда с укрывшимися в них деревушками и их коттеджами с деревянным вторым этажом и соломенными крышами вокруг раскинулась мрачная, угрюмая равнина, почти необитаемая, где даже из растительности присутствовала лишь жухлая, серая трава и редкие, покрытые лишайником дубы. Некоторые места меня даже напугали: к примеру, тропа, сворачивавшая от дороги к ручью, в медлительной, поросшей зеленой ряской воде которого проезжавший мимо автомобиль отражался, как в странном кривом зеркале; объездной маршрут, проложенный прямо через болото, где деревья смыкались надо мной так плотно, что я ехал, почти не видя жижи по бокам дороги; а еще почти отвесный склон одного лесистого холма, нависший над самой дорогой так, что ветви тянулись к проезжавшим внизу, как костлявые узловатые руки леса, который, казалось, рос тут всегда.
В письмах Янга часто встречались оговорки о том, что он узнавал, читая разные старинные книги; например, о «цикле забытых суеверий, которые лучше оставить в покое»; и странные, чужеродные имена, а в одном из последних писем — прошло уже несколько недель, как я не получал от него вестей, — намекнул на культ неких потусторонних существ, которым все еще поклоняются в Кэмсайде, Бричестере, Севернфорде, Гоутсвуде и Темпхилле. В его последнем послании шла речь о храме Йог-Сотота, сосуществующем с церковью в Темпхилле, где раньше проводились чудовищные ритуалы. Этот жуткий храм, как полагают, и дал название городу — Темпхилл как искаженное «Темпл Хилл», — выросшему вокруг церкви на холме, где позабытые ныне чуждые заклинания открывали «врата» в другой мир и пропускали на землю древних демонов из иных сфер. Есть одна особенно страшная легенда, писал он, о цели, ради которой они приходят сюда, однако он воздержался от ее пересказа, по крайней мере, до тех пор, пока лично не побывает на месте земного расположения враждебного храма.
Едва выехав на первую улицу древнего города, я начал сожалеть о своем поспешном решении. Если окажется, что Янг уже нашел секретаря, то мне, учитывая мои обстоятельства, будет не так-то легко вернуться в Лондон. Моих средств едва хватит на то, чтобы снять какое-нибудь жилье здесь — о местной гостинице я не хотел и думать, такое отвращение внушило мне ее покривившееся крыльцо, осыпающаяся штукатурка и престарелый швейцар, бессмысленно уставившийся в пространство за моей спиной, когда я проезжал мимо. Другие кварталы города также оптимизма не внушали, и меньше всего лестница, которая вела от позеленевших кирпичных развалин к черной церкви, чей шпиль вздымался среди бледных могильных камней.
Но хуже всего оказался южный конец города. На Вуд-стрит, входившей в Темпхилл с северо-запада, и на Мэнор-стрит, примыкавшей к лесистому склону холма слева от города, дома были кирпичные, основательные, в более или менее приличном состоянии; но почерневшую гостиницу в центре окружали сплошные развалюхи, у одной трехэтажки, первый этаж которой занимал магазин с надписью «Супермаркет Пула» на замызганной витрине, и вовсе провалилась крыша. За мостом, позади центральной Рыночной площади, начиналась Клот-стрит, торчавший посреди нее высокий необитаемый дом под названием Вул Плейс скрывал поворот на Саут-стрит, где Янг жил в небольшом трехэтажном доме, который он купил по дешевке и даже смог отремонтировать.
Состояние зданий на другой стороне реки, за костлявым мостом, внушало еще большие опасения, чем дома в северной части. Серые склады на Бридж-лейн скоро сменились домиками с фронтонами, в которых за окнами с выбитыми стеклами и кое-как подлатанными некрашеными фасадами жили люди. Здесь редкие неухоженные дети покорно смотрели с запыленных крылечек или играли в луже оранжевой грязи на пятачке ничейной земли, а обитатели постарше скрывались в полутемных комнатах, и атмосфера этого места в целом показалась мне такой гнетущей, как если бы я попал на развалины города, населенные призраками.
Я выехал на Саут-стрит между двумя трехэтажными домами с фронтонами. Номер одиннадцатый, дом Янга, стоял в дальнем конце улицы. однако его вид вызывал дурные предчувствия — ставни были закрыты, проем незапертой двери зарос паутиной. Я свернул на подъездную дорожку сбоку от дома, проехал по ней и остановился. Пройдя через серый, заросший грибами газон, я поднялся по лестнице. При моем прикосновении дверь качнулась внутрь, и я увидел слабо освещенный холл. Я постучал, потом позвонил, но ответа не было, и я еще некоторое время мешкал на пороге, не решаясь войти. На пыльном полу не было видно никаких следов. Вспомнив, что Янг писал мне о беседах, которые он вел с владельцем номера восьмого, через дорогу, я решил обратиться к нему за информацией о моем друге.
Я перешел через дорогу и постучал в дверь номера восьмого. Мне открыли почти сразу, но так тихо, что я даже испугался. Обитатель номера восьмого оказался высоким мужчиной с белыми волосами и сверкающими темными глазами. Он был одет в поношенный твидовый костюм. однако удивительнее всего была витавшая вокруг него аура древности, как будто он был обломком давно минувшего века. одним словом, его наружность вполне соответствовала портрету педанта Джона Клотье, обладателя несметных знаний о разного рода древностях, о котором писал мне мой друг.
Когда я представился и объяснил ему, что ищу Альберта Янга, он побледнел и ненадолго замешкался, но потом все же пригласил меня в дом, бормоча, что он знает, куда исчез Альберт Янг, но я вряд ли ему поверю. Из темного холла он провел меня в большую комнату, слабо освещенную лишь одной масляной лампой, горевшей в углу Там он жестом показал мне на стул у камина. Потом вытащил трубку, закурил, сел напротив и как-то торопливо заговорил.
— Я дал клятву ни с кем об этом не говорить, — начал он. — Вот почему я мог лишь предостеречь Янга, посоветовать ему уезжать и держаться подальше от… того места. Но он не послушал, вот вы его и не нашли. Не смотрите на меня так — это правда! Мне придется сказать вам больше, чем я сообщил ему, иначе вы станете искать его, а найдете — кое-что другое. один Бог знает, что будет теперь со мной — став одним из Них, нельзя говорить об их месте с чужими. Но не могу же я просто смотреть, как другой идет путем Янга. Вообще-то я не должен вам мешать, ведь я поклялся, но Они все равно заберут меня со дня на день. А вы уезжайте, пока еще не слишком поздно. Вы знаете церковь на Хай-стрит?
Несколько секунд я не мог опомниться, но потом ответил:
— Если вы про ту, что на центральной площади, то да, я ее знаю.
— Ею больше не пользуются как церковью — сейчас, — продолжал Клотье. — Но в давние времена там проводили кое-какие ритуалы. Они оставили свой след. Может быть, Янг писал вам о храме, существующем на том же месте, что и эта церковь, только в другом измерении? Да, по вашему лицу я вижу, что писал. Но известно ли вам, что ритуалы, проведенные в определенное время, до сих пор открывают врата и пропускают сюда тех, с другой стороны? Это правда. Я сам стоял там и видел, как посреди церкви в пустоте открылся портал и в нем возникли видения, которые заставили меня визжать от ужаса. Я сам принимал участие в молебне, который свел бы с ума любого непосвященного. Видите ли, мистер Додд, почти все жители Темпхилла по сей день ходят в церковь в определенные ночи.
Почти уверенный в том, что Клотье спятил, я нетерпеливо спросил:
— Какое отношение имеет это все к местонахождению Янга?
— Самое прямое, — продолжал Клотье. — Я предупредил его, чтобы он не входил в церковь, но он пошел туда ночью, да еще в год завершения обряда Юла, так что Они наверняка следили за ним. После этого его задержали в Темпхилле. Они знают, как свернуть пространство в точку — не могу объяснить точнее. Он не мог уехать. Целыми днями он сидел в том доме и ждал, пока придут Они. Я слышал его крик — и видел цвет неба над крышей его дома. Они забрали его. Вот почему вы никогда его не найдете. И вот почему вам лучше уехать прочь из города, пока еще есть время.
— Вы искали его в доме? — спросил я, не веря своим ушам.
— Нет такой причины, которая заставила бы меня войти в тот дом, — сознался Клотье. — И никто другой туда тоже не пойдет. Теперь это их дом. Они увели его Наружу, но кто знает, какие ужасы остались там, внутри?
Он встал, давая понять, что сказать ему больше нечего. Я тоже поднялся, радуясь возможности убраться из полутемной комнаты, да и из самого дома. Клотье проводил меня до дверей и немного постоял на пороге, со страхом оглядывая улицу, точно ждал появления невесть каких ужасов. Потом он скрылся в доме, не интересуясь тем, куда я пойду.
Я направился к номеру одиннадцатому. Входя в до странности темный холл, я вспомнил, что рассказывал мне друг о своей жизни здесь. У Янга была привычка читать определенные старинные тома устрашающего содержания, делать записи касательно своих открытий и предаваться разным другим штудиям именно в нижнем этаже дома. Комнату, служившую ему кабинетом, я нашел без затруднений; стол, покрытый листами писчей бумаги, книжный шкаф, наполненный томами в кожаных переплетах, нелепая настольная лампа — все говорило о том, для чего одно время предназначалась эта комната.
Смахнув со стола и стоявшего рядом стула толстый слой пыли, я включил лампу. Ее свет успокаивал. Я сел и взялся за бумаги. Стопка, первой попавшаяся мне на глаза, была подписана «Подтверждения и доказательства» и содержала информацию, типичную, как я скоро понял, для коллекции моего друга. В нее входили разрозненные на первый взгляд записи, касавшиеся культуры майя Центральной Америки. Поначалу я не находил в этих записях никакого смысла и связи. «Боги дождя (духи воды?). Хобот-большой нос (им. отнош. к Древним). Кукулькан — Ктулху?» И так далее в том же духе. Но я не оставлял попыток, и постепенно перед моими глазами начала складываться жуткая в своей многозначности картина.
По всей видимости, Янг искал объединяющие черты различных мифологических циклов, чтобы связать их с одним центральным, который, если его записям можно было верить, был древнее, чем сам человеческий род. Откуда он черпал свою информацию, если не из старинных томов, выстроившихся на полках вдоль стен комнаты, я боялся даже подумать. Я часами вглядывался в составленный Янгом список мифических циклов о чудовищах и пришельцах — в легенды о том, как Ктулху явился из неописуемого пространства, расположенного за самым дальним пределом нашей вселенной — о полярных цивилизациях и отвратительных нечеловеческих расах с черного Юггота на краю, — о страшных Ленгах и их верховном жреце, полумонахе-полупленнике, скрывавшем то, что считалось его лицом — и о бесчисленных ересях, слухи о существовании которых сохранились лишь в богом забытых уголках нашего мира. Я читал о том, каким был Азатот, прежде чем у этого чудовищного сгустка атомной энергии отняли разум и волю, о многоликом Ньярлафотепе, о формах, которые мог принимать крадущийся хаос и которые люди никогда не решались даже упоминать — о том, как разглядеть дхола и что при этом видно.
Мысль о том, что подобные жуткие верования могут считаться правдой в каком-либо уголке разумного мира, потрясла меня. Но обращение Янга с собранным им материалом указывало на отсутствие скепсиса. Я отодвинул пухлую стопку бумаг. Вместе с ней отползла промокашка, под которой обнаружилась тонкая пачка листков, озаглавленных «Легенда церкви на Хай-стрит». Вспомнив предупреждение Клотье, я подтянул ее к себе.
К первой странице были прикреплены степлером две фотографии. Подпись под одной из них гласила «Фрагмент мозаичной римской мостовой в Гоутсвуде», под другой «Репродукция гравюры со стр. 594 «Некрономикона». На первом снимке не то послушники, не то жрецы в капюшонах клали какое-то тело перед присевшим на корточки монстром; на второй то же существо изображалось в больших подробностях. Его ни на что не похожие черты вызывали истерический ужас и не поддавались описанию; больше всего он напоминал мерцающий бледный овал без лица, но с вертикальным щелеобразным ртом, окруженным похожими на рога выступами. Никаких видимых членов у него не было, однако нечто в нем заставляло предположить его способность сформировать любой по собственному желанию. Вне всякого сомнения, существо было лишь порождением больного мозга какого-нибудь мрачного художника, но тем не менее оба изображения вызывали странную тревогу.
На второй странице знакомым почерком Янга была записана местная легенда о том, что римляне, положившие эту самую мостовую в Гоутсвуде, придерживались древних верований, считавшихся мертвыми уже в их время, и что в обычаях более примитивных, чем они, обитателей окрестностей до сих пор сохранились остатки их ритуалов. За этим следовал абзац перевода из «Некрономикона»: «Пастыри могил не даруют милостей тем, кто им поклоняется. Силы их невелики, ибо они могут лишь расстраивать пространство в отдельных областях и делать ощутимым исходящее от мертвых в других измерениях. Они властны там, где в нужное время поют гимны Иог-Сотота, и притягивают к себе лишь тех, кто по собственной воле открывает их врата в склепах. В этом измерении у них нет тел, но они могут вселяться в оболочки земных обитателей и питаться через них в ожидании времени, когда звезды займут нужное положение и врата вечности падут, дав волю Тому, Что Скребется у Границы». К этому Янг добавил собственную загадочную надпись: «Ср. с легендами Венгрии, австралийских аборигенов. — Клотье о церкви на Хай-стрит, дек. 17», побудившую меня обратиться к дневнику Янга, который я отверг, оказав предпочтение его бумагам.
Я перелистывал страницы, проглядывая записи, не имевшие отношения к интересовавшему меня вопросу, пока не нашел запись от 17 декабря. «Клотье рассказал еще кое-что о легенде церкви на Хай-стрит. Он говорил о прошедших временах, когда там встречались почитатели темных, чуждых человечеству богов. Говорят, что под церковью есть подземные тоннели, связывающие ее с ониксовым храмом, и т. д. По слухам, те, кто проползали по этим тоннелям на молитву, не были людьми. Указания на проходы в иные пространства». И так далее, в том же духе. Я ничего не понял. И продолжал листать.
Под датой 23 декабря я нашел другую запись: «Рождество напомнило Клотье новые легенды. Он говорил что-то о любопытном святочном обряде, практиковавшемся когда-то в церкви на Хай-стрит — что-то о пробуждении существ из подземного некрополя под церковью. По его словам, ритуал исполняют и сейчас, но сам он никогда этого не видел».
На следующий вечер, если верить записям Янга, он пошел в церковь. «У лестницы на улице собралась толпа. Фонарей ни у кого не было, вся сцена освещалась плававшими в воздухе сферическими объектами, которые удалились при моем появлении. Я не смог понять, что это было такое. Собравшиеся, поняв, что я пришел не для того, чтобы присоединиться к ним, обратилась ко мне с угрозами. Я бежал. Что-то преследовало меня, но что именно, я не знаю».
Несколько дней прошли без относящихся к делу записей. И вдруг, 13 января, Янг написал: «Клотье наконец признался, что и его заставили участвовать в определенных ритуалах Темпхилла. Он упрашивал меня покинуть Темпхилл, говорил, что мне никак нельзя ходить в церковь на Хай-стрит ночью, а то меня увидят, а потом за мной придут — но не люди! Похоже, он тронулся умом».
В течение девяти месяцев ничего относящегося к делу в дневнике не появлялось. Потом, 30 сентября, Янг написал о своем намерении посетить церковь на Хай-стрит ночью того же дня, после чего, 1 октября, нацарапал в дневнике каракули, — видимо, в большой спешке. «Что за аномалия, что за космическое извращение! Чудовищно, разумные люди на такое не способны! До сих пор не могу поверить, что я на самом деле видел содержимое того склепа, куда привели меня ониксовые ступени — скопление кошмаров!.. Я пытался уехать из Темпхилла, но все дороги вели к церкви. Неужели я тоже тронулся умом?» На следующий день снова — неразборчивые каракули: «Кажется, я не могу покинуть Темпхилл. Сегодня все пути ведут к номеру И — это работа тех, Снаружи. Может, поможет Додд». И тут же отчаянные слова телеграммы на мое имя и адрес, которую он, видимо, собирался отправить в тот же день. «Немедленно приезжай Темпхилл. Нужна твоя помощь…» Последнее слово заканчивалось длинной чернильной линией, протянувшейся до самого края листа, как будто писавший протащил ручку через всю страницу.
После этого ничего не было. Только Янг исчез, испарился, и единственный намек о его местопребывании, который мне удалось отыскать в его записях, указывал на церковь на Хай-стрит. Может быть, он там, в какой-нибудь потайной комнате запертый? В таком случае мне, возможно, удастся его освободить. Движимый этим желанием, я вышел из комнаты и из дома, сел в машину и поехал.
Повернув направо, я поехал по Саут-стрит к Вул Плейс. Других машин на улице не было, не заметил я и людей, прогуливающихся по тротуарам; страннее всего было то, что дома, мимо которых я проезжал, были темны, а заросший травой клочок земли в центре, окруженный давно не крашенными перилами и залитый светом луны, круглившейся над белыми фронтонами, выглядел заброшенным и непокойным. Лежавший в руинах район Клот-стрит был еще менее привлекателен. Раз или два мне показалось, что в дверях домов, мимо которых я проезжал, возникали какие-то силуэты, но они были настолько неясными, что я принял их за продукт своего напряженного воображения. Надо всем висело жуткое ощущение заброшенности, особенно сильное в кривых темных проулках, разъединявших неосвещенные, заколоченные досками дома. Наконец на Хай-стрит луна сверкнула над шпилем, оправленной в склон холма церкви, точно диадема, но стоило мне направить машину в ложбинку у лестницы, как ночное светило нырнуло за черный шпиль, как будто церковь норовила стащить спутника Земли с неба.
Поднимаясь по лестнице, я заметил, что в стену на всем ее протяжении вделаны железные перила, а вырубленные из грубого камня ступени растрескались и пауки сплели в трещинах паутину, склизкий зеленый мох покрыл камни, затрудняя продвижение. Ветки голых деревьев свисали над головой. Горб растущей луны, плывущей в безднах пространства, освещал здание церкви, а дряхлые могильные камни, увешанные мерзкой разлагающейся растительностью, отбрасывали странные тени на поросшую грибами траву. Любопытно, что церковь, столь очевидно заброшенная, сохраняла жилую атмосферу, и, входя внутрь, я почти ожидал увидеть кого-нибудь — сторожа или молящегося.
Я взял с собой фонарь, рассчитывая, что он поможет мне обыскивать темное здание, но какое-то свечение, вроде радуги, наполняло помещение изнутри, как будто лунные лучи проникали в него сквозь витражные окна. Я шел по центральному проходу, освещая фонарем все скамьи по очереди, но, судя по нетронутой толще пыли, на них давно никто не сидел. Пожелтевшие стопки сборников гимнов, сложенные у одной колонны, напоминали всеми забытые коленопреклоненные существа, скамьи тут и там обрушились от старости, в застоявшемся воздухе мускусно пахло склепом.
Добравшись наконец до алтаря, я увидел, что крайняя слева скамья перед ним странно наклонилась в моем направлении. Я еще раньше замечал, что многие скамьи покосились от небрежения, но теперь увидел, что доски пола под первой скамьей тоже задрались, обнаружив темную бездну внизу. Я оттолкнул скамью — благо следующая стояла от нее на значительном удалении, — и мне открылся прямоугольный черный колодец. Желтый луч фонаря осветил лестницу, которая, извиваясь, спускалась вниз меж сырых стен.
Я помешкал на краю бездны, бросая тревожные взгляды в темные углы церкви. Потом начал спускаться, стараясь не шуметь. Уходящий в глубину тоннель был тих, только капала со стен вода, невидимая за пределами луча моего фонаря. Освещая винтовую лестницу передо мной, он выхватывал из тьмы то повисшие на стене капли сырости, то ползучих черных тварей, которые прятались по щелям так быстро, точно свет мог их уничтожить. Погружаясь все глубже, я заметил, что ступени под моими ногами уже не каменные, а земляные и из них растут грибы с отвратительно раздутыми, пятнистыми шляпками, да и крыша тоннеля, поддерживаемая редкими непрочными опорами, тоже внушала мне опасения.
Сколько я так полз под шаткими сводами, не знаю, но вот наконец под очередной аркой возникла необычная лестница, совсем не затронутая временем, с острыми, как в первый день, ступенями, хотя и покрытыми грязью, принесенной сверху множеством ног. Фонарь показал мне, что эта лестница уже не закручивалась спиралью, как прежде, а значит, конец спуска был близок, и мысль об этом вселила в меня странную тревогу и неуверенность. Я остановился и снова прислушался.
Снизу не доносилось ни звука, сверху тоже. Справившись с напряжением, я смело шагнул вперед и, поскользнувшись на ступеньке, скатился с лестницы к самому подножию гротескной статуи в рост человека, которая ухмылялась в свете моего фонаря, пялясь на меня невидящими глазами. Таких статуй оказалось шесть, они стояли в ряд вдоль одной стены, а от стены напротив на них глядел точно такой же мерзкий секстет, выполненный неизвестным скульптором столь искусно, что статуи были как живые. С трудом оторвав от них взгляд, я поднялся и посветил фонариком во тьму перед собой.
О, если бы милосердное забвение стерло из моей памяти то, что открылось тогда моему взгляду! — ряды за рядами серых каменных плит уходили в темную бесконечность, разделенные лишь катастрофически узкими проходами, и на каждой лежал укутанный в саван труп и смотрел невидящими глазами в черную, как эбонит, крышу над собой. А поблизости в стенах были еще арки, отмечавшие начала проходов, которые вели вниз, на невозможную глубину; их вид наполнил меня неизъяснимым холодом, усилившим страх от кладбищенского видения, открывшегося передо мной. Мысль о том, что придется искать останки Янга среди этих плит, наполняла меня содроганием, — но то, что он где-то там, среди них, я чувствовал интуитивно. Я долго собирался с духом, чтобы пойти дальше, а когда наконец сделал первый робкий шажок к центральному проходу, возле которого я стоял, внезапный звук заставил меня застыть на месте.
Сначала это был свист, он исходил из тьмы передо мной, медленно нарастая, потом к нему присоединились удары, похожие на взрывы, они становились громче, словно приближаясь, как приближался ко мне и самый их источник. Пока я, напуганный, не мог оторвать глаз от точки, из которой, как мне казалось, шел звук, раздался продолжительный треск, и внезапно в темноте возник рассеянный зеленоватый свет: он не имел источника и проникал в подвал сквозь небольшой кружок с ладонь размером. Едва мой взгляд остановился на нем, как он погас. Но уже через несколько секунд круг появился вновь, причем раза в три увеличившись в диаметре, — и в следующее мгновение я увидел иной, чуждый пейзаж, точно передо мной распахнулось окно в другое, не похожее на наше измерение! Я отпрянул — световой круг погас — тут же вернулся, засияв еще ярче, — и против моей воли показал мне сцену, отпечатавшуюся в моем мозгу навеки.
Над странным пейзажем дрожала звезда, овальные вытянутые облака ползли по небу. Звезда, которая и была источником того зеленоватого света, освещала землю с черными треугольниками крупных скал, тут и там торчавших среди гигантских металлических зданий круглой формы. Похоже, что почти все круглые дома стояли в руинах, так как из их нижних полушарий были вырваны металлические пластины, а через отверстия виднелись перекрученные железные балки, частично расплавленные какой-то невообразимой силой. В изгибах балок зеленовато поблескивал лед, а крупные ярко-красные снежинки оседали на землю или проскальзывали в трещины в стенах, медленно падая из глубин черного неба.
Мгновение картина была неподвижна и вдруг ожила, когда бесформенные студенистые белые силуэты возникли неведомо откуда на переднем плане. Я насчитал тринадцать и, холодея от ужаса, продолжал смотреть, как они подползли к самому окну и вывалились из него прямо в подвал, где стоял я!
Отступив назад, к статуям, я смотрел, как близятся к ним жуткие силуэты и как лица статуй дрожат и оживают, словно во сне. Вдруг одна из бесформенных тварей быстро покатилась прямо ко мне. Что-то холодное, как лед, тронуло меня за лодыжку. Я завизжал — и милосердное забвение унесло меня в собственную ночь…
Очнувшись, я обнаружил, что лежу на камнях между двумя могильными плитами, довольно далеко от того места, где упал, лицо у меня горит, а во рту жуткий горький вкус и сухость такая, как будто я ел шерсть. Сколько я пролежал так, не знаю. Мой фонарь остался там, где я выронил его из рук, батарейки еще не сели, и кружок рассеянного света позволил мне оглядеться. Зеленоватое свечение исчезло — кошмарное окно закрылось. Быть может, мой обморок был вызван тошнотворными запахами и страхом от пребывания в склепе? Но вид особенно тошнотворных грибов, раскрошенных на полу и на моей одежде, — их не было здесь раньше, откуда они взялись, я не знал и не хотел даже думать об этом, — наполнил меня таким ужасом, что я вскочил, подхватил свой фонарь и кинулся в темный проход, который привел меня в эту пропасть кошмаров.
Я мчался вперед, как одержимый, то и дело натыкаясь на стены, поскальзываясь на ступенях и спотыкаясь о препятствия, которые материализовывались из ниоткуда. Как я добрался до церкви, не помню. Пробежав по центральному проходу, я отпихнул скрипнувшую дверь и со всех ног бросился по затененной лестнице вниз, к машине. Я дергал дверцу до тех пор, пока не вспомнил, что запер ее, уходя. Тогда я стал шарить по карманам — напрасно! Связка со всеми моими ключами исчезла — наверняка я потерял ее в адском склепе, из которого сам только что спасся. Значит, машины у меня больше нет — ничто на свете не могло бы заставить меня вернуться в подземелье или хотя бы ступить под своды проклятой церкви.
Я бросил машину Я выбежал на улицу, свернул на Вуд-стрит, желая оказаться в соседнем городе, в чистом поле, где угодно, только не в забытом богом Темпхилле. Вниз по Хай-стрит, на рыночную площадь, освещенную неполной луной и одним ущербным фонарем, через площадь на Мэнор-стрит. За ней лежала окаймленная лесом Вуд-стрит, один поворот, и все, Темпхилл останется позади. С удвоенной скоростью я мчался по улицам, не замечая тумана, который поднялся и заволок лесистый склон, мою заветную цель, и весь пейзаж позади нависших над тротуарами домов.
Я бежал вслепую, дико размахивая руками — но загородные холмы не приближались, — внезапно я с ужасом узнал неосвещенный перекресток и рассыпающиеся дома Клот-стрит — а ведь они давно должны были остаться позади, за рекой — в следующую секунду я был уже на Хай-стрит, у той же лестницы, ведущей к отталкивающей церкви, и у машины, брошенной рядом с ней! Ноги мои подкосились, я прислонился к придорожному дереву, в голове был хаос. Потом я повернулся и побежал снова, всхлипывая от страха и ужаса, с колотящимся сердцем пересек Маркет-сквер, потом мост, ведущий за реку, и тут ощутил кошмарную вибрацию и жуткий приглушенный свист, ставший столь хорошо знакомым мне в последнее время, понял, что меня преследуют…
Я не сразу заметил автомобиль и успел лишь откинуться назад, чтобы избежать прямого удара. Тем не менее меня отбросило на тротуар, и я погрузился во тьму.
Очнулся я в госпитале в Кэмсайде. За рулем сбившей меня машины был врач, он возвращался в Кэмсайд прямым путем через Темпхилл. Он и забрал меня, контуженого и со сломанной рукой, из этого проклятого города. Выслушав мою историю — ту ее часть, которую посмел рассказать, — он вернулся за моей машиной в Темпхилл. Ее там не оказалось. Как не оказалось и никого, кто видел бы меня или мою машину. В доме номер 11 по Саут-стрит, где жил Альберт Янг, также не было ни книг, ни записей, ни дневника. И о Клотье не было ни слуху ни духу — владелец смежного дома сказал, что тот отсутствует уже много времени.
Возможно, врачи правы, и я просто страдаю от затянувшейся галлюцинации. Возможно, и это была иллюзия, а не реальность, когда, приходя в себя после анестезии, я слышал, как перешептывались врачи и как доктор сказал, что я выскочил перед его машиной, как бешеный, и, хуже того, мою одежду, руки, лицо и даже рот покрывали какие-то наросты, вроде грибов, и вид у них был такой, точно они не прилипли, а и впрямь росли на мне!
Все возможно. Но чем они объяснят то, что теперь, месяцы спустя, содрогаясь от отвращения и ненависти при одной мысли о Темпхилле, я чувствую, как меня влечет и тянет туда, словно этот проклятый, призрачный город есть некая мекка, куда я во что бы то ни стало должен проложить свой путь? Я молил их запереть меня — в тюрьме — где угодно — но они лишь улыбались и успокаивали меня, твердя, что «все пройдет» — скользкие, самодовольные слова, которые не обманывают меня, ведь они пусты в сравнении с магнитом Темпхилла и призрачным свистом, который я слышу теперь не только во сне, но и в часы бодрствования!
Я сделаю то, что должен. Лучше смерть, чем этот невыразимый ужас…
Из папки с отчетом полицейского констебля Уилларса по делу об исчезновении Ричарда Додда, 9 Гэйтон-террас, Дабл-ю 7. Рукопись написана почерком Додда, найдена в его комнате после исчезновения.
Питер Тримейн
Даоин Домейн
С чего же мне начать? И успею ли я закончить? Вопросы один за другим вспыхивают в моем мозгу и остаются без ответа, потому что ответить на них нельзя. однако следует хоть что-нибудь написать; по крайней мере, попытаться предупредить человечество об опасности, которая таится в глубинах морей. До чего же мы жалкий и бестолковый биологический вид, с нашей вечной убежденностью в том, что мы умнее других существ, что мы — «избранные». Какое высокомерие — и какое невежество! До чего же мы инфантильны в сравнении с… однако я должен начать с того, с чего все началось для меня.
Зовут меня Том Хакет. Родился я в Рокпорте, Кейп Энн, штат Массачусетс. В этой части Америки много семей, похожих на мою. Мои прадед и прабабка приехали из графства Корк, в Ирландии, и поселились в Бостоне. Мой дед, Дэниэл, появился на свет в Европе, родители привезли его в Америку, когда ему было всего несколько лет от роду. Ни у моего отца, ни у меня никогда не возникало желания посетить Ирландию. В отличие от многих американских ирландцев, нас не мучила ностальгия по «старой родине». Мы оба чувствовали себя нормальными американцами. Но вот дедушка Дэниэл… да, он — наша фамильная тайна. И если уж искать исток всех этих любопытных событий, то я должен сказать, что начало всему — мой дед.
Дэниэл Хакет пошел служить в военно-морской флот США и был лейтенантом на эсминце. Где-то в начале весны 1928 года он взял отпуск и поехал в Ирландию, оставив в Рокпорте жену с младенцем (моим отцом). Назад он не вернулся, и никто из нашей семьи ничего о нем больше не слышал. Моя бабушка, по словам моего отца, всю жизнь верила, что ему помешали вернуться.
Командование флота США придерживалось не столь благородных взглядов и объявило Дэниэла Хакета в розыск как дезертира. После смерти бабушки, которая была убеждена в верности своего супруга, мой отец высказал мнение, что он нашел в Ирландии веселую девчонку и осел где-нибудь с ней под вымышленным именем. По правде говоря, таинственное исчезновение отца оказало на его характер тяжелое влияние. Но, что интересно, он так и не продал наш семейный дом в Рокпорте; мы никогда никуда не переезжали. Лишь к концу жизни он открыл мне, что таково было желание его матери. В свое время она отказалась продать дом и переехать, веря, что в один прекрасный день Дэниэл Хакет найдет ее, если сможет. И моего отца она заставила пообещать, что дом будет принадлежать нашей семье так долго, как только возможно.
Однако с меня такого обещания никто не брал. Старый деревянный дом в колониальном стиле, стоящий на самом краю Кейп Энн, достался мне по наследству после того, как умер от рака мой отец. Моя мать умерла еще раньше, братьев или сестер у меня не было, и одинокий старый дом был целиком мой. Но я работал репортером в «Бостон Геральд», и мне не нужен был дом. Поэтому я решил предложить его какому-нибудь агенту по продаже недвижимости, а на вырученные деньги купить себе хорошую квартиру в Бостоне.
Я уже не помню, почему я приехал в дом в ту конкретную неделю. Мне, разумеется, приходилось приезжать не однажды, надо было разобрать безделушки, копившиеся в доме при жизни трех поколений, прежде чем новый хозяин ступит в дом. Может, дело было в этом. Знаю только, что был вторник, я разбирал коробку с фотографиями, когда в дверной звонок кто-то решительно и твердо позвонил.
На пороге стоял высокий худощавый мужчина с копной ярко-рыжих волос и широкой улыбкой. Он произвел на мня впечатление красивого человека, несмотря на то, что один его глаз был прикрыт повязкой, а одно плечо было слегка деформировано, как будто у него был горб. Когда он заговорил, я сразу понял, что он ирландец. однако не это выделяло его, ведь Бостон вообще ирландский город. Но он обладал особым старосветским шармом и невероятной куртуазностью. А его здоровый глаз сиял яркой зеленью.
— Это дом Хакетов? — спросил он.
Я подтвердил.
— Меня зовут Кикол О’Дрискол. Я из Балтимора.
— Вы проделали долгий путь, мистер О’Дрискол, — сказал я вежливо, недоумевая, чего он, собственно, хочет. В то же время я подумал, что его имя, которое он произнес как «Кик-ол», не совсем обычно для ирландца. — Вы прилетели сегодня утром?
Он хитро усмехнулся.
— О, нет. Я не из того Балтимора, что в Мэриленде, сэр. Я из того, чьим именем он назван — из Балтимора в графстве Корк, Ирландия.
Было бы неучтиво с моей стороны не пригласить его в дом и не угостить кофе, который он принял.
— Так вы, насколько я понимаю, Хакет? — спросил он.
Я представился.
— Значит, миссис Шейлы Хакет нет больше в живых?
— Она была моей бабушкой. Да. Ее нет в живых уже больше пятнадцати лет.
— А ее сын, Джонни?
Я пожал плечами.
— Мой отец. Умер три недели назад.
— О, в таком случае мне жаль, что приходится беспокоить вас.
— Но в чем дело? — нахмурился я.
— Не о чем говорить, — ответил он на своем чудном английском. — Как я уже сказал, я из Балтимора, это маленький порт на юго-западе Ирландии. Год назад я купил небольшую ферму на Инишдрисколе, острове, который лежит к западу от Балтимора. Я решил перестроить его, чтобы превратить в летний дом. Так вот, один из моих строителей ломал стену и обнаружил в ней полость, вроде тайника, а в ней — старый кисет из непромокаемой ткани. Внутри было письмо, адресованное миссис Шейле Хакет из Рокпорта, штат Массачусетс, с припиской, что, если письмо достигнет ее, когда ее уже не будет в живых, передать его Джонни Хакету, ее сыну. Письмо было датировано первым мая одна тысяча девятьсот двадцать восьмого года.
Я смотрел на него как зачарованный.
— И вы проделали такой путь только для того, чтобы доставить письмо, написанное шестьдесят три года назад?
Он усмехнулся, покачал головой.
— Не совсем. У меня дело в Бостоне. В Ирландии я владею небольшой экспортной фирмой. Вот я и решил убить, как говорится, двух птиц одним камнем. Отсюда до Бостона небольшой путь. К тому же я фактически проезжал мимо по дороге в Ньюбэрипорт, где у меня тоже дела. Я подумал, интересно будет, если я через столько лет привезу письмо Шейле и Джонни, если они, конечно, еще живы. Вообще-то я не надеялся застать их здесь. Когда в местном магазинчике мне сказали, что дом Хакетов еще стоит, я очень удивился.
Помешкав немного, он вытащил сверток и положил его на стол. Это был, как он и сказал, старый клеенчатый кисет, довольно тонкий.
— Полагаю, он принадлежит вам.
Он стремительно встал и бросил взгляд на часы.
— Мне пора.
Я смотрел на сверток.
— Что в нем? — спросил я.
— Просто письмо, — был его ответ.
— Я хочу сказать, что в этом письме?
Его лицо мгновенно исказилось от гнева.
— Я его не открывал. Оно не мне адресовано, — раздраженно ответил он.
— Я ничего такого не имел в виду, — запротестовал я. — Я не хотел вас оскорбить. Просто… ну, разве вам не интересно, что вы такое принесли?
Он покачал головой.
— На письме ясно написано, для кого оно. Значит, о чем оно, меня не касается.
— Тогда подождите, пока я прочитаю, — пригласил его я, чувствуя себя обязанным хотя бы так отблагодарить его за то, что он привез письмо в такую даль.
Он покачал головой.
— Я еду в Ньюбэрипорт. У меня там кузен. — Он снова улыбнулся, к нему, похоже, вернулось хорошее настроение. — Мир тесен. — Помолчав, он добавил: — На будущей неделе я снова окажусь здесь на пути в Бостон. Из чистого любопытства мне бы хотелось узнать, есть ли в этом письме что-нибудь интересное. Может быть, что-нибудь из истории нашего острова, Инишдрискола.
— Что это значит?
— Остров Дрисколла. О’Дрисколлы были могущественным кланом в наших краях, — с гордостью отвечал он.
Вообще-то я договорился с Киколом О’Дрисколлом, что сам встречусь с ним в Бостоне на следующей неделе, так как в понедельник мне все равно нужно было возвращаться на работу. Я наблюдал, как он идет по подъездной дорожке к воротам, где, по всей вероятности, оставил свой автомобиль. Помню, я подумал тогда, что нечасто встретишь человека такого старосветского шарма и любезности. Пролететь две тысячи миль и даже не попытаться вскрыть письмо, которое он вез. Вернувшись к кухонному столу, я взял письмо и стал вертеть его в руках. И только тогда я вдруг узнал почерк, которым был написан адрес.
До чего глупо с моей стороны, что я не понял этого сразу — но мозг иногда работает удивительно медленно. Дата, почерк — который я неоднократно видел только что, разбирая семейный архив, — все указывало на то, что я держу в руках письмо от моего деда, Дэниэла Хакета.
Дрогнувшими руками я развязал кисет и вытащил из него пожелтевший конверт. Взрезал его кухонным ножом. Вынул из него несколько страниц, исписанных с двух сторон, и разложил их на столе.
Инишдрискол,
Возле Балтимора,
Графство Корк,
Ирландия.
Апрель, 30, 1928
Дражайшая Шейла,
Если ты читаешь эти слова, следовательно, меня уже нет в живых. Мужайся, моя Шейла, мужество понадобится тебе, если мое письмо достигло тебя, ведь я настаиваю, чтобы ты опубликовала его содержание и тем самым предупредила человечество об опасности. Ты должна сообщить в министерство военно-морского флота, что они не уничтожены, что они существуют, подкарауливают, ждут, готовые вернуться… они ждут уже много тысяч лет, и скоро, уже скоро их время придет.
Сегодня здесь празднуют белтейн. Да, древние обычаи еще живут в этом уголке мира. День этот посвящен Байлу, древнему богу смерти, и я должен спуститься в бездну, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Не думаю, что я переживу это. Вот почему я пишу это письмо в надежде, что когда-нибудь оно все же попадет в твои руки и ты узнаешь сама и предостережешь других…
Однако начну с начала. Как я сюда попал? По чистой случайности, как тебе известно. Ты ведь не забыла экстраординарные события в Инсмуте несколько месяцев тому назад? Как федеральные агенты при помощи военно-морского флота взорвали часть старой гавани? Все это делалось в тайне, но разве можно сохранить уничтожение старого морского порта в секрете от жителей массачусетского побережья? Скажу тебе, что в ходе той операции мое судно оказалось в числе других, которым было поручено сбросить глубоководные бомбы и послать торпеды в бездну за рифом Дьявола. Нам сказали, что это просто такое упражнение, вроде маневров, но при этом ходили разные сплетни о том, почему старую гавань необходимо взорвать в то же самое время, когда уйдут в глубину бомбы и торпеды. Матросы пугали друг друга россказнями об ужасающих существах, которых мы якобы должны были уничтожить. Шли толки о тварях — или обитателях глубин, — которых надо было истребить раньше, чем они сотрут человечество с лица земли. однако мы, офицеры, относились к этим байкам с юмором.
Когда операция завершилась и суда вернулись в свой порт, всем, кто участвовал в маневрах — и офицерам, и низшим чинам, — дали внеочередной четырехнедельный отпуск; событие, которому я за все годы моей службы не знаю прецедентов. Теперь я понимаю, что это было сделано с одной конкретной целью — чтобы люди не болтали о тех маневрах. Полагаю, наверху подумали, что, вернувшись из отпусков, люди позабудут о том событии и не станут больше о нем думать.
Итак, мне предстоял четырехнедельный отпуск. Мне всегда хотелось повидать места, где я родился. Помнишь, ты настояла, чтобы я поехал один, потому что у маленького Джонни началась скарлатина, и даже переболев, он был бы слишком слаб для такого долгого пути, а ты не хотела оставлять его? Мне не хотелось ехать. Ах, зачем я только поехал. Глаза бы мои никогда не видели этих проклятых ирландских берегов!
Купив билет до Корка, я высадился в симпатичной гавани Кобх, откуда поехал в Балтимор, где я родился. Это крошечный рыбацкий городишко, расположенный в диком и угрюмом краю, на самом берегу моря. Полузаброшенная дорога, которая ведет туда, там и заканчивается, и немногие приезжают туда иначе как по делу. Домики обступают со всех сторон превосходную гавань, над которой на скалистом выступе возвышается замок О’Дрисколлов, разрушенный, как мне потом рассказали, в 1537 году. Подняться к нему можно лишь по ступеням, вырубленным в скале. Кстати говоря, почти все местные жители носят фамилию О’Дрисколл, так как Балтимор лежит в самом сердце земель их клана. В солнечные дни там необыкновенно красиво. В гавани постоянно толкутся рыбачьи лодки и даже небольшие парусные суда, а в море, недалеко от берега, видны многочисленные острова.
По совету местных жителей я поднялся на мыс, который они зовут Маяком. Дорога была узкой и шла меж двух каменных стен по открытой, каменистой местности. С мыса открывается поразительный вид на острова. Здешние люди зовут их Сто Островов Карбери. Прямо напротив Маяка лежит самый крупный из них, Шеркин, на котором до сих пор сохранились развалины другого замка О’Дрисколлов и руины францисканской обители, также разрушенных в 1537 году. За ним встает Инис Клеир, иначе Клиар Айленд, с самой высокой точкой на мысе Клиар, где построен еще один о’дрисколловский замок, Дунанор, а в четырех милях дальше его оконечности находится скала Фастнет.
Здесь все говорят по-ирландски, это ставит меня в невыгодное положение, и мне жаль, что мои родители не передали мне своих знаний. Мне удалось узнать лишь то, что Балтимор — это англизированный вариант названия Байл ан Тигх Мойр, Город Большого Дома, и что некоторые люди также зовут его Дун ан Сеад, Крепостью Сокровищ.
Здесь еще ощущается некоторая враждебность, и неудивительно, ведь война с Англией за независимость и последовавшая за ней ожесточенная гражданская война кончились лишь в 1923 году, всего пять лет назад. Воспоминания о страшных временах еще слишком свежи в умах людей и сказываются на их отношении к любому постороннему, пока они не разберутся, желает он им зла или наоборот.
Через несколько дней по прибытии в Балтимор я выяснил, что родился вовсе не там, а на одном из островов, Инишдрисколе, то есть острове О’Дрисколлов. Он лежит в трех милях от гавани Балтимора, и мне скоро удалось уговорить одного рыбака переправить меня туда. Остров довольно велик, в одном его конце находится деревня, в другом школа, формой остров похож на букву «Т».
Мне удалось нанять коттедж неподалеку от того, где я родился. Его владельцы, объяснил мне Бреннан, уехали искать счастья в Америку. Бреннан — единственный человек на этом острове, который говорит по-английски. Он — любопытный тип: местный мэр, антрепренер, рыбацкий старшина, советник, — в общем, какую роль ни назови, Бреннану она как раз впору. Бреннан — его имя, по крайней мере, так оно звучит в моем произношении, хотя по-настоящему оно пишется Браонайн — это он мне показывал, — и по-английски означает «печаль». Фамилия его, естественно, О’Дрисколл, и от него я впервые узнал, что по-настоящему она пишется О’Хайдерскейол и означает «посредник». Имена вообще имеют в этой стране большое значение. Наша фамилия, Хакет, к сожалению, здесь не в чести, так как в 1631 году два галеона корсаров из Алжира разграбили Балтимор, многих убили, а двести человек увезли с собой для продажи на невольничьих рынках Африки. А дорогу через проливы показал им человек по фамилии Хакет, которого впоследствии поймали и повесили в Корке. Ах, если бы я знал их язык, как много интересного открыли бы мне эти произвольные знаки, которыми мы пользуемся!
За неимением другого собеседника я то и дело оказываюсь в компании Бреннана, который стал моим гидом и провожатым на этом острове. Настоящей родни я здесь не нашел, хотя несколько человек назвались моими дальними родственниками. Некоторое время спустя я успокоился и стал занимать праздные дни рыбалкой и пешими прогулками.
Несколькими днями позже меня на остров прибыли еще визитеры, но ненадолго, всего на несколько часов. Бреннан объяснил мне, что один из них был официальным представителем английского правительства, а другой — ирландского. По всей видимости, в ходе войны за независимость немало английских солдат и офицеров пропали без вести, и судьбы их оставались неизвестными. На нашем острове тогда тоже была крошечная военная часть. Капитан, сержант и четверо рядовых. однажды ночью капитан исчез. Полагали, что он был захвачен и расстрелян местными партизанами. однако все попытки прояснить его судьбу так ни к чему и не привели. Островитяне хранили молчание. Партизаны, многие из которых сейчас входят в ирландское правительство, также не спешат пролить свет на это событие. И вот теперь, девять лет спустя после исчезновения, английские власти при помощи официальных властей Республики Ирландия решили это дело закрыть.
Я повстречал английского чиновника как-то утром, на прогулке, и мы разговорились об этом событии.
— Беда в том, — сказал он, — что эти проклятые местные молчат, как рыбы.
Он любезно игнорировал тот факт, что я как уроженец этого острова тоже вполне могу быть причислен к «проклятым местным».
— Слова из них не вытянешь. Кодекс молчания какой-то, хуже, чем на Сицилии.
— Вы считаете, что это местные жители убили капитана?..
— Пфайфера, — подсказал он. — Может, не они сами, но я точно знаю, что им известно, кто это сделал. Наверное, партизанский отряд с Большой земли. На этих островах во время войны мало что происходило, хотя в западном Корке дрались по-крупному. Много накопилось дурной крови. Да и к политическим разногласиям здесь относятся всерьез. Взять хотя бы местных… им не нравится правительственный чиновник, с которым я приехал.
— Почему?
— Он представляет Свободное Государство. А в здешних местах в годы войны большинство было за республику. Но они проиграли и теперь ненавидят Свободное Правительство Ирландии. Полагаю, они нам ничего не скажут. Зря мы сюда приехали, только время убили.
Я кивнул из сочувствия к его задаче.
— Может, вы оставите мне вашу визитку, и тогда я, если услышу что-нибудь… какие-нибудь полезные сплетни… сразу вам напишу. Как знать. Может, они скажут мне то, чего не скажут вам.
Он радостно заулыбался.
— Вот это я называю спортивным поведением, лейтенант. (Он произносил это слово любопытно, как это делают англичане: лефтенант.)
— Когда исчез ваш человек?
— Девять лет назад. Вообще-то ровно девять будет 30 апреля. — Он сделал паузу. — Вы ведь живете в розовом беленом коттедже у мыса, так?
Я подтвердил его мысль.
— Любопытно, но капитан Пфайфер тоже был расквартирован именно туда перед тем, как исчезнуть.
В тот же день чиновники покинули остров, а я заговорил об этом деле с Бреннаном. однако я поспешил с выводами, решив, что раз я сам родился на этом острове и принадлежу к старинной здешней семье, то местные жители будут доверять мне больше, чем чиновникам из Дублина и Лондона. Я был для них американцем, чужаком, и они вовсе не спешили делиться со мной всеми тайнами острова. Бреннан тактично отвечал на мои вопросы, но результат все равно был тот же. О судьбе капитана никто со мной говорить не хотел.
Несколько дней спустя я почти позабыл о Пфайфере. Мы с Бреннаном отправились на рыбалку. Нашей целью была морская форель, или бреак, как называл ее Бреннан. Мы сели в его ялик — по крайней мере, я так его называю. Он зовет его наомхог, это чудная, легкая лодочка из парусины, натянутой на деревянную раму и для прочности многократно покрытой смолой и дегтем. Несмотря на хрупкость, это было очень маневренное суденышко, справлявшееся с волной с поразительной ловкостью. В одной или двух милях от острова из воды поднималась жутковатая изогнутая скала высотой тридцать или сорок футов. Бреннан называл ее камкерриг, а когда я спросил его, что это значит, он ответил, что ничего, просто «гнутый камень». По его мнению, морская форель должна была проходить здесь, мимо гнутого камня в бухту Ревущей Воды неподалеку. Подойдя к скале на веслах, мы остановились футах в ста от линии прибоя, который, ревя, как медленный гром, бился о камень с прожилками водорослей, и забросили удочки.
Первое время рыбалка шла хорошо, нам не приходилось стесняться нашего улова.
Внезапно, не помню точно, как именно это случилось, над нами прошла какая-то тень. Я поднял голову, ожидая увидеть облако, закрывшее солнце. Но оно стояло высоко и светило по-прежнему, хотя света от него как будто и не было. Никаких облаков, на которые можно было бы списать этот феномен, в небе тоже не было. Повернувшись к Бреннану, я увидел, что он стоит на коленях на носу лодки и, склонив голову, вглядывается в воду. Только тогда я заметил, что вода вокруг нас потемнела, став угрюмой, черно-зеленой, как бывает, когда море вдруг нахмурится перед штормом, омраченное тенями стремительно несущихся облаков. Но в тот раз небо оставалось чистым.
Я почувствовал, как воздух, сырой и холодный, облепил меня и сдавил со всех сторон.
— Что это? — спросил я, оглядываясь в поисках объяснения любопытного феномена.
Но Бреннан уже схватил весла и изо всех сил греб прочь от гнутой скалы, к далекому берегу острова. Начисто позабыв весь английский, он непрерывно бормотал что-то на красноречивом ирландском и, несмотря на явную спешку, то и дело бросал весла и преклонял колени.
— Бреннан, — крикнул я ему, — успокойся. Что ты говоришь?
Некоторое время спустя, когда между нами и гнутым камнем пролегло порядочное расстояние, к солнцу вернулось тепло, а море снова радостно заулыбалось, отражая синеву небес, Бренан извинился.
— Мы слишком близко подошли к скале, — сказал он. — Там есть сильное подводное течение, против него нам не выгрести.
Я нахмурился. Мне так совсем не показалось. Я прямо сказал ему об этом, но он оставил мои слова без внимания.
— Просто я испугался, что нас затянет в это течение, — сказал он. — Вот и помолился немного.
Я поднял бровь.
— Мне показалось, что это была длинная и выразительная молитва, — заметил я.
Он усмехнулся.
— Длинную молитву скорее услышат, чем короткую.
Тут усмехнулся я.
— А что это была за молитва? Вдруг она и мне пригодится?
— Я просто сказал, Господь между мной и дьяволом, девять раз и девять по девять раз.
Это меня озадачило.
— Почему же девять? Разве счастливое число не семь?
Он был изумлен моим, как он наверняка считал, устрашающим невежеством.
— Семь? Семерка в этих местах считается несчастливой. Только число девять свято. В древние времена неделя состояла из девяти дней и девяти ночей. Разве у Кухулинна было не девять орудий, разве король Леогар, идя арестовывать святого Патрика, не приказал соединить вместе девять колесниц, как было заведено богами? И разве королеву Медб сопровождали не девять колесниц…
Я поднял обе руки, чтобы унять этот эмоциональный взрыв.
— Хорошо. Я вам верю, — улыбнулся я. — Значит, важное число — девять.
Он умолк, несколько мгновений глядел своими зелеными, как море, глазами прямо в мои, потом пожал плечами.
В тот вечер я пошел в амбар Томаса О’Дрисколла, который назывался постоялым двором, хотя на самом деле был всего лишь лавочкой, где можно было купить выпивку и разные товары в те дни, когда с Большой земли приходил корабль. Такие места называются сибином, или, по-английски, шибином, то есть питейным заведением, торгующим без лицензии. Там уже собрались местные старики, и Бреннан сидел в углу у огня на трехногом табурете, покуривая трубку. Как я уже упоминал, на острове он был главным выразителем общественного мнения, и старики, усевшись вокруг него полукругом, громко говорили по-ирландски. Вот когда я пожалел, что не понимаю ни слова. однако два слова, которые непрестанно повторялись в их беседе, я все же расслышал. Даоин Домейн. Для меня они звучали вроде «дайнйа доуан». однако, заметив меня, они тут же замолкли. В их молчании мне почудилась странная неловкость. Бреннан смотрел на меня с особенным выражением на лице… я не сразу понял, что это было… но потом определил его как печаль.
Я предложил купить всей компании выпить, но Бреннан меня остановил.
— Давай-ка лучше я тебя угощу, — сказал он. — Негоже такому, как ты, покупать выпивку таким, как мы.
Их поведение в отношении меня тоже показалось мне странным. Не могу определить, в чем именно: они были дружелюбны и гостеприимны, как всегда, вот только в глазах засквозило что-то непонятное — они разглядывали меня, словно диковину, и, затаившись, ждали, — но чего?
В тот вечер я рано возвращался из амбара и заметил, что ветер дул с юга через камкарриг прямо на мыс, где горстка коттеджей ютилась на самом краю обрыва. Странно, за шумом порывистого ветра, раскачивавшего тяжелые черные валы, которые вкатывались в Бухту Ревущей Воды и разбивались о гранитные уступы островной крепости, мне послышался свист, похожий не столько на вой ветра, сколько на плач изгнанного животного, страдающего от одиночества. Звук показался мне таким сильным, что я даже подошел к двери своего коттеджа и некоторое время стоял, вслушиваясь, не окажется ли это и впрямь какое-нибудь животное в беде. Но звук постепенно затерялся в вое ветра, налетавшего с моря.
Есть одна старая пословица, я никак не могу ее запомнить. Что-то вроде «устами ребенка говорит истина…». Мне довелось вспомнить о ней двумя днями позже, когда я рыбачил с высокого берега возле своего коттеджа, забрасывая удочку в волны, которые беспокойно катились к острову от камкеррига. День был ленивый, и рыба была в настроении брать наживку. Несмотря на это, я был вполне доволен, расслаблен и даже хотел спать.
Я не ощущал ничьего присутствия, пока какой-то голос не произнес несколько ирландских слов прямо у меня под ухом. Я моргнул, обернулся и увидел девочку лет девяти, с изумительными волосами цвета красного золота, которые разметались по ее плечам. Она была необычайно красивым ребенком, ее глаза были такие зеленые и яркие, что казались ненастоящими. Девочка серьезно смотрела на меня. Ее ноги были босы, рваное платьишко все в пятнах, но держалась она с необычайным достоинством, которое шло вразрез с ее очевидной бедностью. Она снова повторила свой вопрос.
Я потряс головой и, чувствуя себя дураком, ответил ей по-английски.
— А, так это ты чужак.
— Ты говоришь по-английски? — спросил я изумленно, так как привык считать Бреннана единственным англоговорящим человеком на острове.
Она не ответила на мой ненужный вопрос, так как было совершенно очевидно, что она понимает мой язык.
— Море сегодня неспокойное, — сказала она, кивком указав на потемневшую воду вокруг камкеррига. — Значит, Даоин Домейн сердятся. Прошлой ночью я слышала их песню.
— Дайа доуан? — повторил я, стараясь как можно точнее воспроизвести эти звуки. То же самое выражение я слышал в шибине пару вечеров тому назад. — Что это?
— Муша, но они фомории, живущие под морем. Это те самые злые существа, которые населяли Ирландию до прихода гаэлов. От века они ведут борьбу за наши души и то побеждают, то проигрывают. Это страшный народ… однорукие, одноглазые, одноногие. Они ужасные… Жители Глубин — Даоин Домейн.
Я широко улыбнулся тому, как торжественно рассказывала девочка местные сказки.
Заметив мою улыбку, она нахмурилась. Ее лицо вдруг стало серьезным.
— Господь между нами и злом, чужестранец, негоже улыбаться, когда вспоминают Жителей Глубин.
Я заверил ее, что улыбаюсь вовсе не из-за них. Спросил, как ее имя, но она не ответила. Когда она поглядела на меня, ее лицо было другим. Ее глаза внезапно наполнились печалью, она отвернулась и побежала прочь. Я забеспокоился. И стал гадать, кто ее мать, чтобы пойти к ее родителям и объяснить им, что не нарочно испугал их девочку. Я собирался сказать им, что не хотел ребенку вреда, и если ее напугали какие-то мои слова или выражение моего лица, то совершенно случайно.
Я складывал удочки, когда появился Бреннан. Мы поздоровались, и я сразу спросил про ребенка. Сильно озадаченный, он ответил, что на острове нет детей, могущих изъясняться по-английски. Почувствовав, что его недоверие к моим словам меня разозлило, он постарался задобрить меня, сказав, что раз я видел такого ребенка, то он, наверное, приехал с другого острова или с Большой земли к кому-нибудь в гости.
Он предложил проводить меня до коттеджа, и по дороге я спросил:
— Кто такие фомории?
Мгновение он был в замешательстве.
— О, да ты любитель старинных сказок, — нашелся он наконец.
— Так кто же? — напомнил ему я, так как он, похоже, не собирался ничего больше говорить на эту тему.
Он пожал плечами.
— Просто старинная легенда, вот и все.
Это меня немного раздражило, он заметил и продолжал:
— Название означает «жители подморья». Это уродливые и грубые люди, сотворенные злыми богами древней Ирландии. Их предводителем был Балор Дурной Глаз и другие из их народа, такие как Морк и Кикол, но их власти на земле пришел конец, когда они проиграли битву при Marx Туйреадхе, в которой их победил Туатха Де Данаан, бог добра.
— И это все? — спросил я, немного разочарованный рассказом.
Бреннан выразительно поднял одно плечо.
— Разве этого мало? — спросил он с доброй усмешкой.
— Почему их называют Жителями Глубин? — продолжал настаивать я.
Тут он нахмурился.
— Кто тебе сказал? — спросил он злобно.
— Разве тогда вечером, в шибине, вы не говорили про Жителей Глубин? Дайнйа Доуан. Это ведь по-ирландски Жители Глубин? А с чего бы вам вспоминать старые сказки?
Он натужно улыбнулся.
— Ты имеешь право знать, — согласился он. — Мы вспоминаем старые легенды потому, что они — часть нас самих, наследия наших предков и нашей культуры. А фомориев мы называем так потому, что они обитают в глубинах моря. Никакой тайны здесь нет.
Я кивком показал на камкерриг.
— И считается, что они живут вон у той скалы?
Он помешкал, потом безразлично сказал:
— Так сказано в легенде. Но человеку вроде тебя вряд ли интересны наши сказки и легенды.
Он словно отказывал мне в праве на наше с ним общее наследство, забывая, что я тоже родился на этом острове.
После этого он больше ни слова не сказал ни о той девочке, ни о Жителях Глубин, ни о фомориях, ни о Даоин Домейн.
Два вечера спустя, сидя за ужином в большой комнате своего маленького двухкомнатного коттеджа, я вдруг почувствовал дуновение сквозняка и поднял голову. Я был поражен, увидев ту самую девочку — она стояла, прислонившись спиной к двери. Моей первой мыслью было, как же тихо она вошла, что я ее даже не заметил. Лишь небольшой сквозняк, пока она открывала и закрывала дверь, выдал ее присутствие. Потом я подумал, как странно, что ребенок ее лет ходит в одиночку так поздно вечером, да еще и заглядывает в коттеджи к незнакомцам. Я знал, что островитяне — люди доверчивые, но здесь доверие граничило с безответственностью.
Она смотрела на меня все с той же печалью, которую я заметил в ее глазах тогда, на утесе.
— В чем дело? — спросил я строго. — Почему ты здесь и кто ты?
Я вспомнил, как Бреннан говорил, что на острове нет такой девочки, но передо мной было не привидение.
— Ты избран, — тихо прошептала она. — Берегись праздника костров в честь Байла, бога смерти. Посредник придет за тобой тогда и отведет к ним. Они уже ждут: в этот праздник девять лет истекут. Каждые девять лет они ждут дани. Так что берегись. Ты — тот, на кого пал выбор.
От изумления я просто разинул рот, пораженный не столько смыслом сказанного, сколько самими словами, оборотами, которые превышали обычные возможности девятилетнего ребенка.
Так же внезапно, как вошла, она вдруг повернулась, открыла дверь и выбежала в вечерние сумерки. Я поспешил к двери и выглянул за порог. В темноте никого не было видно.
Как тебе известно, нервы у меня крепкие, но тут мне вдруг стало не по себе.
В ту ночь я проснулся от странного скулящего звука. Сначала я думал, что это ветер воет в горах, зовет и плачет, то стихая, то вновь набирая силу. Потом я понял, что это не ветер. Это было живое существо, изгнанное и одинокое. Может, волк? Но откуда взяться волкам на этой скале посреди моря? Звук продолжался еще некоторое время, а потом стих, и я постепенно успокоился и заснул.
Наутро я заглянул к Томасу О’Дрисколлу и нашел там Бреннана, который, как обычно, сидел в маленькой комнате у бара. И снова он отказался принять от меня угощение и сам предложил мне виски.
— Бреннан, — сказал я ему, думая о визите рыжеволосой девочки, — ты не говоришь мне всю правду, потому что на острове живет маленькая рыжеволосая девочка. И она говорит по-английски.
Он побледнел и яростно затряс головой, даже не дав мне закончить.
— Здесь нет никого, похожего на нее, — твердо сказал он и спросил, почему я о ней спрашиваю. Я рассказал ему, и лицо у него стало как у мертвого. Он преклонил колени и что-то сказал по-ирландски, на что Томас отрывисто ответил ему из-за стойки. Бреннану, похоже, стало легче, и он кивнул, соглашаясь со словами Томаса.
— Что здесь происходит? — резко спросил я. — Я настаиваю на объяснении.
Бреннан озирался по сторонам, словно ища, куда бы ускользнуть.
Но я протянул руку и сердито схватил его за плечо.
— Не надо так волноваться, — отрезал он.
— Так объясни мне, — твердо стоял на своем я.
— Это просто дочка лудильщика. Ее семья часто наведывается на остров, чтобы поудить форель из озера в горах на северной оконечности. Должно быть, они и сейчас здесь. Клянусь тебе, я ничего об этом не знал. Но оказалось, что она вот кто. Лудильщики — не те люди, с кем хорошо водить компанию. Они часто говорят странные вещи и утверждают, что обладают даром ясновидения. Я бы не стал им доверять.
После этого он перевел взгляд на свой стакан и умолк.
В ту же минуту мне захотелось немедленно покинуть этот остров и всех его жителей с их странными предрассудками и дикими обычаями. Ну и что, что я сам здесь родился, они больше не мой народ, не часть моего «я». Я стал американцем, а Америка — страна реальности, а не вымысла.
— Могу я взять сегодня лодку съездить в Балтимор, Бреннан? — спросил я.
Он посмотрел на меня и грустно улыбнулся.
— Не сегодня и не завтра, мистер Хакет, — тихо ответил он.
— Почему же?
— Потому что сегодня канун первого мая. А это один из четырех главных праздников здесь, у нас.
Я немного удивился:
— Вы празднуете день труда?
Бреннан покачал головой:
— О, нет. Первое мая и вечер перед ним — это древний праздник, отмечавшийся кельтами задолго до прихода христианства. Мы зовем его Белтайн — время, когда зажигаются костры в честь Байла, одного из наших древних богов.
Мне вдруг стало очень холодно — я вспомнил слова дочки лудильщика.
— Ты хочешь сказать, что сегодня праздник в честь бога смерти?
Бреннан утвердительно кивнул.
Девочка предостерегала меня о том, что в праздник костров Байла какой-то посредник придет за мной и отведет меня… к ним. К кому? К Жителям Глубин, разумеется. К ужасным фомориям, что обитают на дне моря.
Я нахмурился в ответ собственным мыслям. Что это я? Принимаю их легенды и сказки за правду? Но ведь я сам уроженец этого острова. Значит, это и мои легенды, мои сказки, моя реальность, а не только их. А ясновидение девочки, неужели я и его принял на веру? Поверил, что она и впрямь приходила, чтобы предупредить меня… о чем? Похоже, я схожу с ума.
Я встал и недоуменно потряс головой.
Нет, я и впрямь спятил, если хотя бы на секунду поверил в такую чепуху.
— Выпейте, мистер Хакет, — уговаривал Бреннан. — И будете как новый девятипенсовик.
Мгновение я глядел на него. Его слова, выражение, которое я не раз слышал в этих местах, пробудили мою память.
— Девять, — медленно сказал я. — Девять.
Бреннан сурово наблюдал за мной.
Но я уже был как одержимый. Девять лет назад в этот самый день капитан Пфайфер исчез из того самого коттеджа, в котором теперь живу я. Девочка говорила о том, что каждые девять лет они ждут дани. Девятка была мистическим числом древних кельтов. Неделя состояла из девяти дней и девяти ночей, а три недели, квадратный корень из девяти, давали двадцать семь ночей, складывавшиеся в месяц, привязанный к двадцати семи созвездиям лунарного зодиака. Девять, девять, девять…] Мысль об этой цифре билась в моем мозгу.
Неужели я сходил с ума?
Так о чем я? О том, что каждый девятый год эти люди приносят жертву древним языческим богам, обитающим, как они верят, в глубинах моря, — Даоин Домейн, — Жителям Глубин? О том, что капитана английской армии Пфайфера принесли в жертву девять лет назад, ровно девять лет в сегодняшнюю ночь?
Я заметил, что Бреннан с сочувствием смотрит на меня.
— Не мучайте себя, мистер Хакет, — негромко сказал он. — Радости от этого мало. Что толку расспрашивать о том, чего нельзя понять.
— Когда я смогу достать лодку, чтобы перебраться на Большую землю?
— Когда закончится праздник, — вежливо, но твердо ответил он.
Я развернулся, вышел из шибина и зашагал к мысу.
Бреннан шел за мной до дверей, я слышал, как он сказал мне вслед:
— Это совсем не страшно. Я зайду за вами сегодня. Сегодня вечером.
Я шел по деревенской улице, направляясь в северную оконечность острова. Там я намеревался найти дочку лудильщика и потребовать объяснений у нее. Пространства там были небольшие, и я скоро набрел на горстку грязных, латаных-перелатаных палаток, напротив которых теплился торфяной костерок, а возле него женщина неопределимого возраста жарила на вертеле большую рыбу. Никого другого рядом с ней не было.
Я спустился со скалы к лагерю, разбитому на пляже; ширина песчаного берега в этом месте была приличной.
Женщина, с коричневым от загара обветренным лицом, явно привычная к бродячей жизни, сощурив глаза, следила за моим приближением. Вид у нее был настороженный. Сперва она поздоровалась со мной по-ирландски, но когда я ответил ей на английском, ее напряженные плечи расслабились, она заулыбалась и ответила мне на том же языке.
— Отличный денек, сэр. Приехали на остров порыбачить?
— Да, — ответил я.
— А. По говору вы вроде американец.
Я подтвердил, что так и есть. Глазами я искал каких-нибудь следов девочки, но в лагере, похоже, не было никого, кроме женщины, у которой, как я заметил, подойдя поближе, были точно такие же густые огненно-рыжие волосы.
— Мой муж ушел за рыбой, — сказала она, перехватив мой бегающий взгляд.
— А, — сказал я без всякого выражения. — А ребенок у вас есть?
— Дочка, Шина, сэр.
Теперь в ее взгляде снова засквозила подозрительность.
— Мне показалось, что я видел ее не так давно, — сказал я.
Женщина пожала плечами.
— Может быть.
— Это правда, что вы ясновидящие? — внезапно переменил тему я.
Сбитая с толку, женщина некоторое время молча глядела на меня.
— Некоторые да. А вам что, погадать?
Я кивнул.
— Я беру за это шиллинг.
Порывшись в кармане, я протянул ей монету, которую женщина тут же с жадностью схватила.
— Вам погадать по ладони или взглянуть, что скажут чаинки?
Я открыл было рот, но тут полог палатки качнулся, и появилась та самая девочка. Посмотрев на меня своими большими, серьезными, печальными глазами, она чуть слышно вздохнула.
— Он — избранный, мама. Он уже предупрежден, — тихо сказала она.
Женщина переводила взгляд с меня на девочку и обратно. Вдруг она побледнела и швырнула мою монету назад, как будто та обожгла ей руку.
— Уходите, мистер. — Ее голос был хриплым.
— Но… — У вас что, ушей нет? Вы не слышали, что сказала Шина? Это она ясновидящая. Это она умеет видеть невидимое. Ее ли вам дорога ваша душа, слушайтесь ее предупреждения. А теперь уходите. — Она озиралась и, судя по ее лицу, была сильно напугана. — Шина, ищи своего отца… нам надо отсюда уходить.
Я медленно отошел от них, удивленно качая головой. Что ж, по крайней мере, я убедился, что это была не галлюцинация. Девочка Шина существует. Дочка лудильщика, наделенная, как считают, даром ясновидения, которая предостерегла меня…
Поднявшись на скалистый мыс над своим коттеджем, я уселся на камень и стал смотреть на темное бурное море в сторону камкеррига. В каком кошмарном мире я оказался? Или я теряю разум? И принимаю тени за реальность? Неужели я и впрямь поверил, что та девочка обладает неведомой способностью провидеть зло и способна предупредить меня о нем? Я был избран. Избран для чего? И что же все-таки случилось с капитаном Пфайфером в эту самую ночь девять лет назад?
Я слегка вздрогнул.
Море черной беспокойной массой колыхалось внизу, а издалека, как будто даже от камкеррига, донесся тот самый странный крик, который ночью потревожил мой сон; тихий полустон, полувздох терзаемой души.
И вот, пока я сидел и слушал, мне вспомнились слова девочки:
«Ты избран. Берегись праздника костров в честь Байла, бога смерти. Посредник придет за тобой тогда и отведет к ним. Они уже ждут: в этот праздник девять лет истекут. Каждые девять лет они ждут дани. Так что берегись. Ты — тот, на кого пал выбор».
И тут же мне вспомнился голос Бреннана, как он кричал мне вслед от дверей шибина:
«Это совсем не страшно. Я зайду за вами сегодня».
Бреннан О’Дрисколл. О’Дрисколл, который объяснял мне значение фамилии О’Хайдерскейол — посредник!
Так значит, Бреннан и есть тот, кто отведет меня к Жителям Глубин!
Тут я вскочил и стал прочесывать остров в поисках лодки, какой угодно лодки или любого другого плавательного средства, которое поможет мне выбраться из этого кошмара. Но ничего не нашел. Я был одинок на этом острове, заперт, как в тюрьме. Даже лудильщики, и те, похоже, уплыли. Никого, кроме островитян и меня, на острове не осталось.
Я остался один на один со своей судьбой.
Было это сегодня днем, моя дорогая Шейла. Сейчас уже темнеет, и я пишу при свете штормового фонаря, который стоит прямо передо мной, на столе в маленьком коттедже. Скоро Бреннан О’Дрисколл придет за мной. Скоро я буду знать, спятил ли я окончательно или во всем этом кошмаре есть какая-то правда. Я решил положить это письмо в мой старый непромокаемый кисет и спрятать его за шатающимся кирпичом в стене у камина. В надежде, что когда-нибудь, если будет на то воля божья, письмо попадет в твои возлюбленные руки или в руки молодого Джонни, который к тому времени уже станет взрослым мужчиной и, может быть, захочет разузнать что-нибудь о судьбе своего несчастного отца. Скоро стемнеет, и скоро придет Бреннан… посредник; посредник между мной и чем? Что ожидает меня в тех глубинах? Почему эти существа требуют жертв и за что им приносят жертвы? Господь, помоги мне в моей слабости. Дэниэл Хакет.
Таков был рассказ, изложенный на коричневых от времени страницах и оборванный как будто в спешке. Некоторое время я еще сидел, вперив глаза в странные слова и недоверчиво качая головой. Что за безумие побудило моего деда выдумать такую странную фантазию?
Поднимался ветер, и я слышал, как волны с ревом бьются о скалистую грудь мыса, на котором стоял наш дом, окнами глядя на потемневшую Атлантику. Для конца апреля день выдался мрачноватый, и я повернулся к стене, чтобы нажать на выключатель.
Разум моего деда испытал какое-то помрачающее влияние, это очевидно. Но вот остался ли он жить на том острове? Разумеется, нет, иначе представители американского морского флота нашли бы его там. Но если он исчез, то почему жители этого острова, Инишдрискола, не заявили об этом? Может быть, в помрачении ума он прыгнул со скалы в море и утонул, или имело место что-нибудь другое…? Вопросы осаждали мой мозг.
Внезапно я осознал, что он написал этот любопытный документ, столь явно свидетельствовавший о расстройстве его рассудка, в эту самую ночь ровно 63 года тому назад. На календаре было 30 апреля. Детский голосок вспыхнул у меня в памяти, он отсчитывал таблицу умножения на девять: семью девять — шестьдесят три!
Я слегка вздрогнул и подошел к окну, чтобы заглянуть в черный простор Атлантики. С мыса дальше по берегу был виден мигающий свет, отмечавший дорогу на Инсмут, а за ним тревожно пульсировал луч маяка у рифа Дьявола, за которым начиналось одно из самых глубоких мест во всей Атлантике. Глубина. Жители Глубин. Господи, что за чушь!
Пока я стоял у окна и глядел вдаль, во тьму за краем утеса, пытаясь успокоить взбудораженные мысли, с моря раздался тихий свист, точно от ветра. Он то утихал, то усиливался через равные промежутки времени, напоминая голос одинокого брошенного животного. Свист летал над морем, и это показалось мне так жутко и странно, что я даже задрожал.
Я задернул шторы и вернулся в комнату.
Да, интригующую загадку привез мне ирландец из Старого Света. Ничего удивительного в том, что мой дед так и не вернулся. По какой-то непонятной причине он сошел с ума на том далеком острове у берегов Ирландии, и теперь уже никто не дознается, почему это с ним случилось.
Мне придется о многом попросить Кикола О’Дрисколла, когда я увижу его вновь. Быть может, по приезде в Балтимор он согласится начать расследование обстоятельств гибели моего деда и причин, по которым никто не уведомил мою бабушку о его исчезновении или смерти.
Я нахмурился, пытаясь поймать ускользающее воспоминание, и снова вернулся к рукописи деда.
«Это уродливые и грубые люди, сотворенные злыми богами древней Ирландии. Их предводителем был Балор Дурной Глаз и другие из их народа, такие как Морк и Кикол…»
Кикол! одноглазый человек с искривленной спиной!
Я уже не мог сдержать дрожи, которая пробегала по моему позвоночнику.
Попытался выдавить циничную улыбку.
Кикол О’Дрисколл. О’Дрисколл — посредник. Тридцатое апреля — канун Бельтейна, праздника костров Байла. Семью девять — шестьдесят три…
Даоин Домейн. Жители Глубин. «Каждые девять лет они ждут жертвы».
Тогда я понял, что увижу Кикола О’Дрисколла скоро. Очень скоро.
Снаружи из беспокойных атлантических глубин поднимался ветер, завывая, точно живая душа под пыткой. А сквозь его вой прорывался скулящий зов, точно плач одинокого брошенного животного.
Ким Ньюман
Без четверти три
Иногда ночи так достают, правда? Когда никто не бросает в джук-бокс монеты, он без конца крутит одну и ту же песню Пегги Ли. Лихорадка. Похожий на щелканье пальцами звук возврата дорожки так и вгрызается в череп. И остается там до конца жизни, как сердечный ритм. Особенно в не сезон — а в Смуте, признаемся честно, не сезон круглый год, — когда с полуночи до рассвета не дождешься ни одного клиента. И немудрено: ведь у нас подают растворитель au lait и жареные пирожки из высокопрочного бетона. Когда я в первый раз заступил на смену между волком и собакой в 24-часовой забегаловке «Капитан Код», то мне даже нравилась идея получать деньги (неплохие) за то, чтобы не спать всю ночь, и никакой беготни. Я тогда подумал, что, может, хоть «Моби Дика» дочитаю, пока профессор Уиппл меня не выгнал взашей из университета. Но не вышло.
Два часа ночи, и ни одного человеческого лица. А в конце ноября стекло в окне-витрине ходит ходуном от малейшего ветерка с моря. Волны с грохотом перекатывают никому не нужную гальку на пляже. Смут не туристическое место, а пропахший рыбой морг размером с небольшой город. Компанию мне составлял один картонный Капитан Код: чешуйчатая лапа приветствует посетителей, просоленная улыбка на лице. Вообще-то лица у него практически не осталось, потому что раньше он стоял на улице и каждый высокий прилив полоскал его за милую душу. Не знаю, какое отношение он имел к этому месту раньше — теперь им владеет лупоглазый парень по имени Мюррей Как-то-там, который платит вонючей наличкой, — но сейчас он просто призрак из картона. Я не прочь перемолвиться с ним словечком-двумя, да боюсь, как бы он не ответил в одну прекрасную ночь.
Забегаловка у нас тематическая, как, впрочем, и все остальные на этом берегу. Рыбачьи сети на потолке, мертвые рыбины в рамах по стенам, негорючий пластик на столах, а на полу столько песка, сколько и на пляже не увидишь. А еще у нас есть кофемашина, которая булькает и плюется такой гадостью, какой вас не напоят больше нигде, и стеклянный прилавок с набором закусок, которые, можете смело поклясться, не меняются из месяца в месяц. Но что-то меня заело на одном и том же, совсем как Пегги, когда я забываю пнуть автомат на середине куплета про Покахонтас. А все эта чертова глава «О белизне кита». Я всегда ее пропускаю, а она считается сердцем книги.
Я заметил ее, только когда сменилась песня. Дебби Рейнольде запела «Должно быть, это был лунный свет». Господи. Наверное, она вошла, пока я в очередной раз прикрыл глаза минут на двадцать. И сидела спиной к стене у самого автомата, разглядывая прилавок с едой. Молодая, может, хорошенькая, пара светлых прядей выбилась из-под шарфа, пальто в обтяжку, не подходящее для беременной. У него был пояс, который она вряд ли могла застегнуть. Я учусь в Мискатонике на анг. лит-ре, а не на медицинском, но даже я сразу определил, что она вот-вот разродится. Наверное, пятерняшками.
— Чем могу помочь, мадам? — спросил я. Мюррей велел мне называть клиентов «сэрами» и «мадам», а не «парнями» и «куколками» или «старыми задницами» и «кошелками». Других инструкций я от него не получал.
Она посмотрела на меня — большие ореховые глаза с избытком красноты, — но не сказала ничего. Вид у нее был усталый, и неудивительно: ночь-полночь, а она со своим неподъемным пузом таскается по городу.
— Кофе? — предложил я. — Если вы ищете способ покончить со всем сразу, то это не худший выбор. Дешевле, чем стрихнин. А может, вы предпочитаете мороженое с маринованными огурчиками?
— Это все чушь, — сказал она, и я сразу понял, что она и правда молоденькая. Не будь она беременна, я дал бы ей нагоняй и отправил домой — детское время вышло. Навскидку лет 16–17. Хорошенькая, как чирлидерша, но, судя по лицу, ее уже не волнует, с кем сегодня свиданка у Боба Фуллбэка или как сдать тест по экономике в следующую пятницу — заботы у нее иные.
— Насчет странных желаний, вот что чушь. Ничего чудного есть не хочется. Я так вообще есть не хочу, давно уже. Но надо, а то растворюсь. Как будто ленточного червя подцепила. Ем столько, сколько влезает, а все равно хожу голодная. Все калории получает эм-брион.
Эм-брион. Так она и сказала. Мне понравилось, как это звучит.
— И чего вашему эм-бриону хотелось бы сегодня утром?
— Чизбургер.
— У нас рыбный ресторан, мадам. Бургеров не подаем. Но я могу растопить кусочек сыра на рыбном пироге и подать вам с булочкой.
— Фу, гадость. Ну ладно, сделайте, для мутанта…
Джули Лондон запела «Край ми э ривер». «Кра-а-ай ми э ривер, край ми э ривер, ай крайд э ривер овер ю». В этой песне есть одна из лучших английских рифм: «plebeian» рифмуется с «through with me an’… now you say you are lonely…»
Я шлепнул кусок замороженного пирога на тарелку и раскопал кусок не самого престарелого сыра. Обычно, если на сыре не появилась плесень, так мы его и не берем.
— А спиртное у вас есть?
— А паспорт у тебя есть?
— Черт, ну почему в этом штате забеременеть разрешается на пять лет раньше, чем купить выпить?
Лед на пироге полопался и запузырился. На заднем плане надрывала голос и сердце Джули. Да, жизнь, должно быть, не сахар.
— Не я же придумываю законы.
— Я все равно не опьянею. Только эм-брион.
— Он тоже несовершеннолетний, мадам.
— Это оно. Я прошла тесты.
— Прошу прощения?
— Имбирный эль…
— Хорошо.
— …и плесните в него каплю чего-нибудь.
Я сдался и поискал скотч. Здесь на него не много спроса. Горец на этикетке совсем выцвел, желтая капля попала ему на лицо, превратив его в прокаженного. Плеснув виски на донышко, я накрыл его доброй мерой безалкогольного напитка. Она выпила его в один прием и тут же заказала вторую порцию. Я налил и перевернул пирог. Жаль, нельзя сказать, что пах он приятно.
— Я не замужем, — сказала она. — Школу пришлось бросить. А с ней и шанс поступить в колледж. Мою единственную возможность выбраться из Смута. Короче, крушение надежд. Вы небось такие истории каждый день слышите.
— Да нет, вообще-то. Здесь почти никто не бывает. Думаю, на следующий год Капитан уже не будет стоять круглосуточную вахту. Все его старые клиенты потонули или еще что. Энтропия. От времени все становится хуже. Чего еще ожидать.
Я растопил сыр и принес ей сырно-рыбную булочку. Она не заинтересовалась. Я заметил, что возле нее были аккуратной башенкой сложены четвертаки, которые она по очереди опускала в автомат.
— Вот моя песня, — сказала она. Розмари Клуни, «Ты воспользовался своим преимуществом». — Точно как мой ублюдок.
Любительница поговорить, я давно это понял. После полуночи все клиенты делятся на болтунов и молчунов. Мне самому ничего говорить не надо было, только заполнять возникавшие изредка паузы.
— Твой друг?
— Ага. Чертова амфибия. Уже должен быть здесь. У меня с ним встреча.
— И что произойдет?
— Кто знает. Не все ведь на свете люди.
Повозив тарелку по столу, она поддела булочку. Вынужден с ней согласиться: я тоже вряд ли бы стал это есть. Мюррей никогда не спрашивал меня, умею ли я готовить.
— Смотри, свет… — Она имела в виду морские огни. В Смуте это местный феномен. Зеленоватое свечение наполняет воду позади отмелей. Каждый, кто это видит в первый раз, кидается в панику. — Скоро он придет. Еще один имбирный, с добавкой.
Я налил. Она пила медленно. Капитан Ахав смотрел безумными глазами с бумажной обложки распластанного на прилавке карманного издания, одержимый своим белым китом. Чертов псих. Посмотрел бы я на него в каком-нибудь ток-шоу с активистом Гринписа один на один.
Кто-то шел по пляжу к нашей забегаловке. Она поерзала на стуле, безуспешно отодвигая живот от края стола. Скорое появление нового посетителя ее, похоже, не волновало.
— Это он.
— Он промокнет.
— Да уж, наверняка.
— Без разницы. Я тут полы не мою. Это забота дневной смены.
Запел Синатра. Главный мужик. «Без четверти три…»
— «Никого вокруг, только я и ты…» — сказал я, адресуясь к картонному председателю. Улыбка у нее была вымученной, кривой, зеленоватой. Подмененный ген.
Дверь сильно толкнули внутрь, и вошел он. Видок у него был не очень, как и следовало ожидать. С присвистом дыша, он долго шлепал от двери к столу. Его походка, то, как он подволакивал свои мокрые лапы, напоминала движения Чарльза Лоутона в роли Квазимодо. Что она в нем нашла, тоже было ясно: промеж отпечатков кривых лап по полу тянулся тонкий непрерывный след. Пока он добрался до прилавка, она прикончила свой эль.
Он с трудом вскарабкался на табурет, шаря скользкими, перепончатыми лапами по краю прилавка в поисках опоры. Кожа на шее и щеках раздувалась и опадала, пока он, пытаясь улыбнуться, глядел на нее.
— «…может много сказать, — заливался Фрэнки, — нужно слово держать, если дал его бейби…»
Поставив стакан, она посмотрела на меня, улыбаясь.
— Плесните-ка по одному моему бейби и моей жабе.
Брайан Муни
Могила Приска
— Отец Ши! Это опять тот профессор Кэллоуэй!
Моя домоправительница, вдова из графства Оффали, неохотно передала мне трубку телефона, словно боясь, что ее прикосновение может оказаться заразным. Миссис Бирн — добрая душа, но Кэллоуэя она не одобряет. Считает, что он оказывает на меня дурное влияние.
— Родерик. — Голос Кэллоуэя звучал резко. — Приезжай. Мне надо тебе кое-что показать. — И он повесил трубку прежде, чем я успел ответить.
За долгие годы дружеского общения с профессором Ройбеном Кэллоуэем — и, надо сказать, не без вины последнего — я не однажды попадал в странные и опасные приключения. Конечным результатом того телефонного звонка должна была стать страшная трагедия в Нижнем Бедхо.
Прекрасное утро предвещало хорошее лето. Делать мне было нечего, поездка в университет Саутдауна обещала быть приятной, так что я отмахнулся от миссис Бирн и пошел надевать пиджак.
Дороги были относительно свободны, и мое путешествие продлилось недолго. Оставив свой убогий «Лендровер» на парковке для посетителей, я зашагал через согретый солнцем и обсаженный по периметру нарциссами и прочими весенними цветами прямоугольник главного двора к старинному кирпичному зданию, украшенному высокими стрельчатыми окнами, а там по обшитому деревянными панелями коридору добрался до кабинета моего друга. Коротко постучал в дверь и вошел.
Комната, как всегда, была завалена бумагами, книгами и газетами, стопки которых громоздились на столах, стульях и на полу, поминутно грозя рассыпаться. На ветхом приставном столике покоилась черная пишущая машинка «Ройал» — настоящий музейный экземпляр — с заправленным в каретку почти полностью отпечатанным листом бумаги Бонд формата А4. Окна были плотно закрыты, батареи отопления работали во всю мощь, застарелая вонь турецкого табака мешала дышать. Кэллоуэй поднял голову от блокнота и отложил шариковую ручку, которой делал в нем какие-то записи.
Он снял полукруглые очки в золотой оправе, которые носил только для чтения и письма.
— А, Родерик, это ты, — буркнул он так, словно я лишь на пару минут отлучился в соседний кабинет, а не отсутствовал несколько месяцев. — Думаю, ты оценишь это странное совпадение.
Мы были старые друзья, и небрежность манер Кэллоуэя меня не задела. Сняв со стула стопку сочинений с потрепанными уголками, я сел напротив него и стал ждать.
Набросав еще несколько строк в своем блокноте, он сказал:
— Погляди-ка на это, пока я налью тебе кофе. — И он перебросил мне через стол тронутую сепией фотографию. — Крепкий, черный, без сахара, правильно?
— Все верно, спасибо. — Бросив на фотографию беглый взгляд, я почувствовал, как моя верхняя губа поползла вверх от омерзения. — Это же… богохульство, — сказал я, швыряя ее на стол.
— Да, да, — нетерпеливо буркнул Кэллоуэй. — С христианской точки зрения, возможно. Но отбрось свои предрассудки, Родерик, забудь их и посмотри еще раз. — Он поставил чашку рядом с моим локтем.
Я снова взял снимок и начал внимательно его разглядывать. Он был старый и передержанный, его глянцевая поверхность выцвела и покрылась сломами от частых складываний, однако он сохранил волнующую силу. Изображал он распятие. Но не святое.
Кэллоуэй подал мне большое увеличительное стекло.
— Может быть, это поможет.
Само распятие представляло собой не традиционный христианский крест, а просто столб с перекладиной, как у буквы «Т», так любимый римлянами. С его горизонтальной балки свисало коренастое нечто с массивной головой, склоненной на выпуклую бочкообразную грудь. Я намеренно говорю «нечто»; возраст и состояние фотографии не позволяли точно определить природу жертвы, в которой сочетались как человеческие, так и не человеческие черты. После долгого изучения головы, угол наклона которой почти целиком скрывал лицо, я пришел к выводу, что в ней есть что-то от амфибии, и так и сказал моему другу.
— Постановочная фотография, как я понимаю, — был мой комментарий. — Какой-нибудь инструментарий сатанинского культа?
Кэллоуэй покачал головой, закуривая турецкую сигарету.
— Ничего подобного, — сказал он. — Фото снято с натуры. Или, если быть точным, с мертвой натуры.
— Какое-нибудь несчастное животное замучили во время Черной Мессы?
— Нет, — снова отвечал Кэллоуэй. — Перед тобой инсмутский гибрид. Фотография из архивов ФБР США. Полагаю, ты никогда не слышал об Инсмуте?
Когда я отрицательно покачал головой, он продолжил:
— Ничего удивительного. Его нет ни в одном туристическом справочнике и ни в одном атласе. Это одно из тех мест и одна из тех историй, гордиться которыми у американского правительства нет никаких причин. Вообще-то они даже пытались стереть Инсмут с лица земли вместе с куском берега, на котором тот стоит, но не вполне преуспели.
Он затушил свою сигарету и сделал глоток кофе.
— Инсмут — небольшой порт в Массачусетсе. Его история, в том виде, в каком ее удалось собрать по крупицам заинтересованным сторонам, такова: много лет назад, задолго до Гражданской войны в Америке, мореплаватели из Инсмута вступили в торговые отношения с одним любопытным народом с островов в Тихом океане. Выяснилось, что эти островитяне вступали в браки с… чем-то еще, с не людьми, с жителями океанских глубин.
— Считается, что разные виды не дают потомства при скрещивании, — перебил его я.
Кэллоуэй поднял свою большую лапу, чтобы заглушить мой протест.
— В нормальной природе, может быть, и нет, — сказал он. — Но мы ведем речь не о норме. Короче говоря, со временем люди из Инсмута обнаружили в Атлантике целую колонию этих морских существ и сами стали с ними скрещиваться. Получавшиеся в результате гибриды при рождении выглядели как люди, ну, или почти как люди. однако примерно на середине жизни они вдруг начинали меняться, превращаясь сначала в то, что ты видишь на фотографии, а потом и кое во что похуже.
Кэллоуэй рывком поднял себя из кресла и прошлепал к окну, где встал и начал смотреть на залитый солнцем кампус.
— В прошлом, Родерик, ты слышал от меня упоминания о так называемых Древних. — Он повернулся и показал на фотографию. — Существа, вроде этого, из Инсмута, поклоняются и служат этим ужасным старым богам. Не стану описывать тебе их ритуалы подробно, скажу лишь, что они мерзки до отвращения.
Он вернулся к столу, потянулся за пачкой с сигаретами.
— Где-то в конце двадцатых федеральные власти пронюхали о том, что творится в Инсмуте, и отправили своих агентов разобраться в ситуации. Те были беспощадны, но не вполне. Многим обитателям Иннсмаута удалось бежать. Часть из них ушли в море, среду, для жизни в которой их делают пригодными происходящие с ними метаморфозы. Другие еще не успели превратиться, и доступ к морю как безопасному убежищу был для них закрыт. Такие пытались укрыться на материке. Того, что на фотографии, поймали фермеры, они же его и линчевали. Люди из Инсмута не пользовались популярностью у своих ближайших соседей.
— Суд Линча отвратителен при любых обстоятельствах, — сказал я. — Но распинать… это еще более варварский способ, чем вешать или стрелять.
— Хотя они и жили в двадцатом веке, эти фермеры из Массачусетса, народ они были куда как суеверный, — сказал Кэллоуэй. — Их места и так на протяжении многих лет считались колыбелью ведовства и рассадником черной магии. Вот у местных и сложилось вполне крестьянское представление о том, как поступать с ненормальным. Полагаю, толпа линчевателей просто решила, что распинать эффективнее, чем вешать. А после того, как сделали эту фотографию, труп сожгли.
Их целью было позаботиться о том, чтобы от тела ничего не осталось. Они не скрывали убийство. Фермеры откровенно рассказали федералам о том, что случилось, и без всяких колебаний отдали им фотографию. Об этом пронюхали журналисты, но, в отличие от властей, им ничего от линчевателей не обломилось. Жители Новой Англии вообще предпочитают держать рот на замке, даже в наше время; а уж тогда регулярность совершения странных событий на их родной земле отнюдь не способствовала уменьшению их природной неразговорчивости.
Эта фотография — единственное доказательство случившегося, но и она существует лишь потому, что кто-то уволок ее из архива прежде, чем она была уничтожена вместе с остальными документами как часть общего прикрытия. Ее прислал мне один американский коллега, которому известен мой интерес к подобным вещам.
— Полагаю, что власти ничего не предприняли по поводу того линчевания? — спросил я.
Кэллоуэй мотнул головой, отчего затрясся его мясистый второй подбородок.
— А зачем? Местные жители просто сделали то, к чему они и сами склонялись. Несколько более жестоко, конечно, но цель у них была общая. Ну вот, Родерик, тебе уже, наверное, интересно, к чему это все?
Я кивнул.
— Ты говорил о каком-то совпадении, — напомнил я ему.
С самодовольной ухмылкой Кэллоуэй пододвинул ко мне еще три фотографии. Теперь это были цветные снимки, сделанные полароидом.
На первой была снята низкая каменная дверь, скрытая в глубине похожего на земляной тоннель прохода. Фотоаппарат, вероятно, из самых простых, держали на некотором расстоянии от двери, и я, хотя и видел некие изображения на косяке и притолоке, даже с лупой не мог разглядеть, какие именно.
На втором и третьем снимках были запечатлены косяки по отдельности. На каждом был вырезан один и тот же рельеф — распятие, очень похожее на то, которое снял американский фотограф. Резные фигуры на косяках имели черты, делавшие их похожими на земноводных. Выпученные глаза глядели прямо перед собой, огромный бесформенный рот кривился в ненавидящей ухмылке.
— Я заинтригован, — сказал я. — Рассказывай дальше.
— Эти создания, эти Жители Глубин, как их еще иногда называют, невообразимо древние, — продолжал Кэллоуэй. — Есть свидетельства тому, что на протяжении всей человеческой истории то одни, то другие племена и народы вступали с ними в контакт. Шумеры и первые династии египетских жрецов наверняка знали об их существовании, так же как и китайцы династии Хсаи и Шанг.
— Но это было — постой! — пять или шесть тысяч лет тому назад!
Кэллоуэй пожал плечами.
— Мне встречались артефакты, судя по которым, наши палеолитические предки тоже знали о Жителях Глубин. Вполне возможно, что они старше, чем человечество.
Он хотел закурить следующую сигарету, но с тихим проклятием швырнул пустой спичечный коробок в и без того переполненную мусорную корзину. Пока он шарил по ящикам своего стола, возникла пауза. Наконец он нашел непочатый коробок и расслабился.
— Обычно, Родерик, эти твари чураются контактов с людьми, но не из страха, а потому, что могут позволить себе подождать возвращения своих ужасных богов. Продолжительность их жизни куда больше нашей, и они ограничивают свои контакты с человечеством лишь теми, кто поклоняется им. — Кэллоуэй встал, чтобы подлить мне кофе. За этим занятием он продолжал: — Эти полароидные снимки были сделаны всего пару дней назад, на археологических раскопках в нескольких милях от Гастингса, я получил их с утренней почтой. — Покончив с кофе, он вытащил из кучи на своем столе листок бумаги. — Это письмо пришло вместе с ними. — Написано оно было на дешевой бумаге, вероятно, на листке, вырванном из обычного блокнота, зато почерк был изысканный. Письмо гласило:
Мой дорогой Кэллоуэй,
Мне повезло. После долгих лет безрезультатных запросов я получил разрешение копать в местечке Нижний Бедхо в Сассексе.
Прежний владелец, упрямый старый черт по имени сэр Питер Гренгием, ни под каким видом, не позволял копать в своих владениях, но его наследник, он же последний представитель рода — австралиец, у которого процветающий бизнес в собственной стране. Он не намерен приезжать в Англию и собирается со временем продать все свои владения в Великобритании. А тем временем он дал мне разрешение на раскопки, и несколько недель назад я со своей командой приступил к работе.
На месте раскопок я обнаружил небольшое каменное кольцо, а в нем — насыпной холм, оба, вероятно, ровесники Стоунхенджа. Но есть одна любопытная штука, Кэллоуэй. Мы вскрыли курган и откопали вход в усыпальницу, которая, я клянусь тебе, римская. Работы еще много, поскольку вход в могилу завален огромным камнем. В ближайшем будущем надеюсь прорваться.
Кроме того, что в явно британском кургане обнаружена римская могила, есть еще одна странность: непонятные рельефы у входа. Зная твой интерес ко всякого рода курьезам, посылаю тебе их снимки.
Я никогда ничего подобного не видел и надеюсь, что ты сможешь пролить на них немного света. Почему бы тебе не приехать и не взглянуть на них самому? Буду благодарен за любую помощь, какую ты сможешь мне оказать.
Искренне твой, Аларих Уэйт.
— Уэйт когда-то преподавал в Саутдауне, — пояснил Кэллоуэй. — Но несколько лет тому назад получил небольшое наследство и с тех пор преследует свои профессиональные интересы независимо от какого-либо академического учреждения. Как многие ученые, Уэйт, скорее всего, не столь открыт новым идеям, как считает сам — обрати внимание, что мои оккультные знания для него всего лишь «интерес к курьезам». Они все пользуются подобными эвфемизмами. Уэйт хочет, чтобы я объяснил ему смысл этой резьбы. Но мне пока не хочется это делать.
— Почему?
— Потому что если я это сделаю, то он, опубликовав результаты своих изысканий, по всей вероятности, припишет их объяснение мне. И тогда поток презрительных оскорблений прольется на мою голову, а не на его. Академики ведь сволочи похуже актеров.
— Но если серьезно, Родерик, то как тебе нравится мысль прокатиться в Сассекс и взглянуть на древнюю могилу?
На раскоп Уэйта мы прибыли в начале дня. Езда от Саутдауна по прибрежному шоссе была одно удовольствие, и, только свернув к Нижнему Бедхо, который лежал в полумиле пути от берега, мы столкнулись с небольшими трудностями. Местные жители не хотели показывать нам дорогу к раскопу.
Нижний Бедхо был крохотной деревушкой, состоявшей из одной главной улицы, нескольких боковых да редких одиноких домов на отшибе. Как во многих других английских деревнях такого же рода, в Нижнем Бедхо была лужайка и утиный пруд, а вокруг них норманнская церковь, паб и — что совсем необычно в наши дни — работающая кузня. А еще, разумеется, неизбежная деревенская лавочка-почта и старая школа из двух комнат, откуда доносились голоса маленьких ребятишек.
Сначала мы спросили дорогу в лавке. Владелец, невысокий человек со сморщенными, точно чернослив, щеками, ответил:
— Плохое дело затеяли на этих раскопках, джентльмены. Вряд ли вы будете мне благодарны, если я покажу вам, как туда попасть. Всего вам доброго. — И он повернулся к очередному покупателю, видимо, считая, что все нам сказал.
Расспросы других обитателей деревни также ни к чему хорошему не привели. В лучшем случае люди просто пожимали плечами и отказывались отвечать, в худшем проявляли откровенную враждебность. Самыми агрессивными оказались кузнец и владелец паба. Возможно, если бы люди с первого взгляда понимали, что я священник, нам оказали бы несколько иной прием, но я оделся в мирское платье.
Наконец мы покинули деревню, но, не проехав и мили, остановились и окликнули человека, который работал в поле. Нога за ногу тот подошел к нам узнать, чего от него хотят. Когда я спросил его, где то место, в котором ведут раскопки, он подозрительно прищурился.
— Еще двое копать приехали? — спросил он.
— Что?
— Будете помогать тем, которые там, выкапывать то, что лучше оставить в покое?
Кэллоуэй высунулся в окно и предложил мужчине сигарету.
— Мы из департамента окружающей среды, — сказал он. — Хотим проверить, законно ли то, что они там делают.
Работяга мгновенно подобрел. Короткими грязными пальцами он взял сигарету, зажег и с наслаждением задымил.
— Вот это славно, мистер! Поезжайте, пропишите им ордерок какой, коли сможете. Уж не знаю, законная там она или нет, да только нет в их затее ничего хорошего.
Езжайте, как едете, где-то через полмили или около того окажетесь на развилке. Слева, чуть в сторонке, увидите молодежное общежитие. За ним, через пару сотен ярдов, уходит в сторону старая грунтовка. Сворачивайте на нее и увидите два холма, большой против малого. Отец и Малец, как мы их тут зовем. Эти, которые копают, разбили между ними лагерь. Выкурите их оттуда, мистер. Здешние люди уж так вам благодарны будут. — Поправив козырек своей потрепанной кепки, он вернулся к работе.
— Интересно, — прокомментировал Кэллоуэй, когда я на первой скорости тронулся с места. — Мне доводилось слышать о враждебности к археологическим раскопкам, которую демонстрируют дикари, но чтобы так себя вели цивилизованные люди — ни разу.
Данные нам инструкции оказались точными, и скоро мы уже подъезжали к возвышению, которое могло быть только Мальцом. Это был даже не пригорок, а так, крупная кочка посреди ландшафта, не выше двухэтажного дома. За ним поднимался настоящий холм, высотой футов сто — сто пятьдесят, с гривой густого леса на вершине. Крохотную долинку меж ними заполняла пестрая мешанина палаток, самых различных — от крошечных современных легковесов до видавших виды брезентовых конструкций, размерами приближавшихся к ярмарочным балаганам. Заглушив мотор моего «Лендровера», я поставил машину на ручник.
— А вот и Уэйт, — сказал Кэллоуэй, показывая на большую палатку, перед которой у импровизированного стола из козел и досок стояли двое мужчин.
Старший из двух, широкий в кости человек среднего роста с гривой белых волос, радостно вскинул руку и пошел нам навстречу.
— Кэллоуэй! Рад, что вы смогли выбраться.
— Здравствуйте, Уэйт, — сказал Кэллоуэй. — Это мой друг, отец Ши. Он здесь потому, что его машина куда больше подходит для езды по этим кочкам, чем мой старый «Ролле».
— Рад познакомиться, Ши, — сказал Уэйт, крепко пожимая мне руку. Потом показал на второго человека, помоложе, с короткой стрижкой, который с сильным американским акцентом крикнул:
— Привет!
— Моя правая рука, Кен Портер. Кен — студент-исследователь Висконсинского университета. Ни за что не скажешь, что мы с ним соотечественники, правда?
— Вы меня удивляете, — ответил я. Сам Уэйт разговаривал с глубоко английскими интонациями.
— Я родился в Штатах, отец Ши, — объяснил археолог. — Мои родители умерли, когда я был совсем маленьким. Дальняя родственница моего отца привезла меня в Англию и воспитала здесь.
— Судя по вашему письму, вы весьма довольны собой, — сказал Кэллоуэй.
— Именно так, — согласился Уэйт. — Я уже почти потерял надежду, что мне когда-нибудь дадут покопать в этом месте. И я в восторге от того, что новый сэр Джон оказался куда более сговорчивым, чем старик. Правда, местные, по-моему, чуток расстроены.
— Мы заметили, — сухо ответил Кэллоуэй. — А где же раскоп?
— За большим холмом. Между ним и береговыми утесами есть небольшое плато. Я собрал сюда с дюжину молодых энтузиастов, и они сейчас там роются, как кроты. Мы с Кеном только что спустились нанести новую информацию на карту. Вот, взгляните.
Уэйт подвел нас к столу из козел, на котором лежала большая схема раскопа, вычерченная на миллиметровой бумаге.
— Вот это курган, — сказал Уэйт, показывая пальцем. — Вход в могилу здесь, со стороны суши. Здесь дюжина камней образует круг, а вот тут, ближе к утесу, плоский камень, возможно, жертвенник.
— Я думал, что все каменные круги Британии известны наперечет, — заметил Кэллоуэй. — Но об этом я никогда не слышал.
— Разумеется, — ответил Уэйт. — И мало кто из непосвященных о нем знает. Местные землевладельцы всегда помалкивали о нем. Нашли его только после войны. Да и то по чистой случайности, разумеется. Военный самолет-разведчик испытывал какую-то новую камеру и делал серию снимков местного побережья. Это место получилось очень хорошо. Но ничего определенного о нем известно не было, и пилот передал снимки своему старшему брату, который издавал специализированный журнал. Публикация снимков взорвала археологический мир. Я был тогда студентом, и мое воображение уж точно запылало.
Разные университеты страны наперебой предлагали прислать сюда свои археологические команды, но, несмотря на все оказанное на него давление, покойный сэр Питер оставался тверд, как алмаз. Никому не было позволено даже ступить на его землю. Несколько лет он держал здесь вооруженных егерей, и, полагаю, многим светилам науки довелось вытаскивать мелкую дробь из своих задов.
Разумеется, все это было много лет назад, и с тех пор многие археологи решили, что дело это безнадежное, и забыли про холм. Но не я. Много лет я следил за этим местом и даже не поленился порыться в родословной сэра Питера и узнать, кто его наследник. Не успел старикан испустить дух, а телеграмма от меня уже была на пути в Австралию. Впрочем, что мы тут стоим, идемте, сами увидите.
Приближаясь к Отцу, я заметил, что нижнюю часть его склонов покрывает не только короткая упругая трава оливкового цвета, какая часто встречается на меловых холмах юга Англии, но также дрок, ежевика и дикие цветы. Подъем обещал быть трудным.
А потом Уэйт вывел нас на тропу, пробитую в слежавшейся, пыльной земле. С молодым Портером впереди и Уэйтом в арьергарде мы начали подъем. Тропа оказалась твердой, как взлетная полоса.
— А вот это любопытно, — размышлял вслух Кэллоуэй. — Там, куда, как принято считать, уже бог весть сколько лет не пускают посторонних и где, очевидно, никогда не бывают местные, существует вполне удобная и нисколько не заросшая тропа.
— Очень необычно, — согласился Уэйт. — Я думаю, что этой тропе сотни, если не тысячи лет. С другой стороны, до нас ею долго не пользовались. Когда мы сюда прибыли, тропа была неразличима, трава и заросли ежевики полностью скрывали ее от глаз. Всю дорогу к лесу на вершине видно, где нам пришлось вырезать кусты. Мы и нашли ее совершенно случайно. Бродили тут в поисках легкого подъема, и один студент натолкнулся на тропу.
— Судя по тому, как расположены ежевичные кусты, я полагаю, что они выросли здесь не сами по себе, а были целенаправленно высажены по чьему-то приказу именно с целью замаскировать тропу. Вероятнее всего, это работа мизантропа сэра Питера.
Хотя подъем был не особенно крут, беседа стихла по мере нашего продвижения. Наконец мы добрались до верхней границы травяного покрова, за которой тропа ныряла под полог леса. Мы остановились перевести дыхание.
— Дальше надо идти осторожно, — предупредил нас Кен Портер, — лес очень густой.
Он был прав. Едва ступив под сень деревьев, мы сразу поняли, что их никогда не касалась хищническая рука человека. После яркого солнца нас вдруг окутал зеленоватый сумрак, и мы то и дело кланялись и уворачивались, чтобы не столкнуться с могучими древними ветвями, которые торчали отовсюду и нависали над нашими головами. Тропа у нас под ногами стала пружинистой и мягкой, так как ее устилала многими годами копившаяся палая листва. И вдруг, почти столь же внезапно, как оказались в лесу, мы вышли из него и, ослепленные солнцем, от которого успели отвыкнуть, ступили на голую вершину холма.
Ведущий вниз склон с этой стороны оказался гораздо более пологим и составлял всего треть той высоты, на которую мы только что поднялись. Складки земли расходились к востоку и к западу, плавно опускаясь к утесу и превращая небольшое плато между ними в естественный амфитеатр в форме подковы. За его дальним неровным краем, где обрывалась земля, уползали к горизонту темные коричневато-зеленые волны Ла-Манша. Далеко на западе виднелось какое-то туманное пятно, которое, как я догадался, было Пляжным мысом, выдающимся в море.
Каменное «кольцо» оказалось скорее овалом, а курган — крупной бородавкой в его центре. Вокруг него повсюду кипела работа, молодые мужчины и женщины были погружены каждый в свою задачу — копали, скребли, просеивали, отчищали. Даже туда, где мы стояли, доносилось приятное гудение их голосов, изредка прерываемое пунктирами смеха или выкриков.
— Похоже, работа их радует, — заметил я.
— Я многого с них не требую, — сказал Уэйт. — Они все — волонтеры, и чем они веселее, тем больше с них проку для меня. Ладно, давайте спускаться.
Едва мы спустились, кто-то из студентов окликнул Уэйта, и он, извинившись, отошел. Кэллоуэй побрел к дальнему краю каменного круга, а я поплелся за ним.
— Не подходите к утесу, — завопил нам вслед Уэйт. — Он ненадежный, а до пляжа несколько сотен футов.
Кэллоуэй помахал ему рукой в знак того, что понял, и продолжал идти к плоскому камню, в который почти упирался одним концом овал. Его поверхность вообще-то была не плоской, а слегка выпуклой, шероховатой, растрескавшейся, замшелой, с зарубками сверху и по бокам.
— Думаю, Уэйт прав. Это жертвенник. — Сложив ладони лодочкой, он прикурил сигарету. — Желобки явно предназначались для того, чтобы по ним стекала кровь.
— Человеческая, надо полагать.
Кэллоуэй пожал плечами.
— Зависит от того, о какой именно милости жрецы намеревались просить богов, — сказал он. И снова помахал рукой Уэйту. — Нашему другу не терпится показать нам могилу.
Пока мы прогулочным шагом шли назад, я с интересом разглядывал стоячие камни. Они были небольшими, примерно как те, что в уилтширском Эйвбери, только поменьше числом, но, несмотря на это, каждый из них наверняка весил очень много. Оставалось лишь удивляться, сколько труда положили люди древности на то, чтобы перенести эти колонны на громадное расстояние и поднять на такую высоту.
— Извините, что веду себя, как нянька, — сказал Уэйт, когда мы вернулись к нему. — В этой части побережья береговая эрозия — серьезная проблема. Иные утесы ближе к Гастингсу теряют по нескольку футов ширины в год из-за оползней. Это еще одна причина, почему мне так не терпелось добраться до этого места. Мне хотелось проникнуть в его секреты раньше, чем оно рухнет в море.
Он взял большой фонарь, протянутый ему одним из студентов, и начал углубляться в недавно прорытый тоннель, а мы гуськом двинулись за ним. Вход был низкий, и нам пришлось согнуться в три погибели, чтобы пройти. Я сочувствовал Кэллоуэю, который был недостаточно гибок для подобных упражнений. Внутри оказалось еще хуже, там нам вообще пришлось опуститься на корточки и так, шаркая, продвигаться вперед. Пройдя таким манером ярдов пять или шесть и едва не растянув себе ноги, мы уперлись в большой камень, который перекрывал вход в могилу. Он все еще стоял на месте, несмотря на явные следы попыток расчистить землю вокруг, которая, слежавшись, не давала его сдвинуть.
— Как видите, нам пока не удалось прорваться, — сказал Уэйт. — Но рано или поздно мы это сделаем. — Он направил луч фонаря в сторону. — А вот один из тех рельефов, о которых вам уже известно, Кэллоуэй.
Фотографии не смогли передать искусство каменотеса, который вырезал то изображение. В свете фонаря, в окружении резких теней фигура на кресте казалась странно живой, я даже испугался, как бы она не начала извиваться и корчиться.
— Какая она… жуткая, — сказал я. Уэйт улыбнулся, довольный моей реакцией.
Кэллоуэй потянул руку и нежно коснулся изображения.
— Невероятно, — прошептал он.
Уэйт направил фонарь на другой косяк, где была высечена точно такая же фигура.
— Ну, вот, Кэллоуэй, вы эксперт по всякого рода странностям, скажите, что означают эти фигуры?
— Ничего подобного раньше не видел, — солгал Кэллоуэй.
— Понятно. — Уэйт явно был разочарован. — Вот еще что, — добавил он, скользнув лучом фонаря по притолоке. — С тех пор, как я послал вам те фото, мы смогли расчистить это. Теперь совершено ясно, что могила римская.
На каменной притолоке была отчетливо видна высеченная резцом латинская надпись:
HIC JACET PRISCVS
— Я много знаю о римской Британии, — сказал Уэйт. — Но ни разу не встречал имени Приска. А он, видимо, был значительной персоной, раз заслужил такое погребение.
— Или, наоборот, обыкновенным солдатом, — предположил я. — Важность которого была чисто символической, почему его имя и неизвестно историкам. Вечный воитель, универсальный солдат.
Уэйт покачал головой:
— Нет, отец Ши, римляне никогда не оказывали почестей простым солдатам, хороня их в значительных могилах, и тем более не скрывали могилы так, как эту. А уж о том, чтобы высечь имя простого солдата на надгробии, не могло быть и речи.
— Жаль, — ответил я. — Великие мгновения истории принадлежат простым людям не менее, чем выдающимся. По-моему, нам следовало бы знать имена не самых крупных фигур на шахматном поле истории. Мне, например, очень хотелось бы знать, как звали центуриона в Калвари.
— Дукус Уэйнус, — буркнул Кэллоуэй, который обожал плохие эпические фильмы. Уэйту он скучным голосом сказал: — Это вполне могло быть полковое знамя, принадлежавшее какому-нибудь легиону наемников. А теперь я вылезаю, пока мои ноги не свело окончательно, не то как бы вам не пришлось тащить меня отсюда бульдозером.
С трудом выбравшись из кургана, мы долго с осторожностью разминали затекшие мышцы ног. Помню, я еще подумал, как, интересно, чувствует себя шахтер к концу восьмичасовой смены. Кэллоуэй достал свой портсигар и закурил.
— Жаль, что я ничем не могу помочь вам, Уэйт. И спасибо за то, что дали мне возможность взглянуть на могилу; это было интересно. А теперь нам пора, нам еще далеко ехать.
Археолог сокрушенно улыбнулся.
— Ну, что ж, самые приятные загадки те, которые приходится долго разгадывать. Вы меня извините, если я не стану вас провожать. Побуду еще здесь, посмотрю, что моя команда сделала за сегодня. Кен отведет вас к машине. — Пожав нам руки, он отвернулся.
Когда мы достигли гребня холма, я оглянулся. Уэйт был уже погружен в работу и параллельно, по всей видимости, читал лекцию восхищенно внимавшим ему слушателям. Полагаю, из него вышел бы хороший учитель.
Пока я открывал дверцу «Лендровера», Кэллоуэй спросил у Портера:
— Вы с уважением относитесь к Уэйту?
— Конечно, мы все его уважаем.
Кэллоуэй вытащил из своего кармана карточку и подал ее молодому американцу.
— Мне не нравятся эти раскопки, — сказал он. — Меня можно найти по этому адресу. Я хочу, чтобы вы связались со мной, если на этом раскопе что-нибудь хотя бы в малейшей степени станет вас тревожить. Если меня не окажется на месте, оставьте сообщение. Но не говорите об этом Уэйту. Я не хочу давать ему повод для беспокойства.
— По-вашему, здесь что-то может пойти не так? — спросил я, разворачивая автомобиль.
— Может быть, — ответил он, закуривая очередную плоскую турецкую сигарету.
Покурив несколько минут в молчании, мой друг сказал:
— По крайней мере, теперь я знаю, куда девался Приск.
— Не обыкновенный солдат? — спросил я.
Кэллоуэй опустил окно и выбросил окурок.
— Совершенно не обыкновенный.
Я подождал продолжения, но не дождался.
— Рас с кажи-ка мне, что ты знаешь.
Кэллоуэй кивнул.
— В первом веке нашей эры, в правление императора Веспасиана, семейство Приска исчезло вместе со всеми слугами и рабами, а их имя было вычеркнуто из всех документов, даже из тех, которые относились ко временам ранней республики. И все из-за Вителия Приска, который, как я полагаю, лежит в той могиле. Если кто-нибудь из профессиональных историков и слышал когда-нибудь имя Приска, то только как легенду, не подтвержденную документами. однако в определенных оккультных кругах его история широко известна.
Вителий Приск был патрицием и занимал высокий офицерский чин в армии. Он был хорошим солдатом и, в отличие от многих представителей своего класса, предпочитал проводить время подальше от той пучины разврата, в которую погрузился Рим. Ему нравилось вести военные кампании в дальних странах, он любил участвовать в настоящем бою. Был он известен и как ученый, некоторое время даже считался протеже Петрония Арбитра, с которым, однако, благоразумно порвал, едва тот впал в немилость у Нерона. одним словом, ему надо было только стараться не испортить отношения ни с кем из тогдашних сумасшедших цезарей, и блестящее будущее было ему обеспечено. В свое время он получил должность помощника губернатора Египта.
Там-то Приск и стал другим. Его ученость и природное любопытство подтолкнули его к оккультизму. Он получил доступ в странную тайную секту египетских жрецов и сделался их самым старательным учеником. Говорили, что он обладал редким природным даром, который помогал ему учиться быстро и без задержек достичь самых высоких степеней оккультной науки. И, как многие, кому подъем дается слишком легко, он предпочел пойти стезей зла. Его оккультное наследие — это «Двадцать одно эссе», в которых он признается, что проводил и переживал сам отвратительные опыты, какие не снились ни одному самому закоренелому римскому сластолюбцу. Книгу запретили, на дальнейшей военной карьере автора был поставлен крест. В то время его семья еще сохранила достаточно влияния, чтобы помочь ему избежать казни, но не высылки в Британию. одновременно с этим о Приске стали говорить, точнее, шептаться, что он меняется внешне, превращаясь в «демона».
Последнее, что известно о нем наверняка, это что он прибыл в Британию. Больше о нем не слышали никогда, а всю его семью уничтожили. Судя по тому, что мы видели сегодня, я думаю, произошло следующее. Каким-то образом, живя в Египте, Приск заразился чужеродностью, как люди из Инсмута. Приска распяли и похоронили в том кургане — на мой взгляд, римляне и друиды договорились уничтожить то, что тем и другим представлялось угрозой.
Вот и все. А теперь, Родерик, если ты не возражаешь, я немного сосну. Разбуди меня, когда мы будем в Саутдауне.
После этого я на пару месяцев ездил во Францию, где участвовал в независимом расследовании предполагаемых злоупотреблений в одном монастыре.
Домой я вернулся днем, усталый, предвкушая несколько дней отдыха. В мои первостепенные планы входило принять ванну, поужинать и засесть на остаток вечера в любимое кресло с «Пиквикским клубом» и бокалом «Гленливета». Потом я подумывал взять пару дней отпуска и отправиться на рыбалку, ведь я очень устал, работая во Франции. Мои викарии, заменявшие меня, пока я был в отъезде, люди способные и справятся сами.
Едва я начал распаковывать вещи, как в мою дверь раздался резкий стук и вошла экономка.
Обычно добродушное лицо миссис Бирн было сморщено от раздражения.
— Сам явился! Профессор Кэллоуэй! — объявила она. — Требует вас и ничего не хочет слушать.
— Ты ведь не занят, а, Родерик? — прогудел бас Кэллоуэя, и он сам ввалился в мой кабинет. — Уверен, ты сможешь уделить мне несколько дней, три-четыре, не больше.
— Но, Ройбен, — запротестовал я. — Я едва вернулся из Франции. У меня ведь приход, я не могу опять срываться с места. — Тут я почувствовал укол совести, напоминавшей мне, что именно это я и собирался сделать.
— Чепуха! — отрезал мой друг. — Молодой отец Как-Там-Бишь и этот, другой, прекрасно управлялись тут без тебя. Справятся и еще немного.
— Вряд ли это честно по отношению к ним… — начал я опять, но умолк, снова вспомнив о своих недавних намерениях.
— Ладно, я пойду и подожду тебя в «Роллсе», а ты пока собери вещи, — заявил Кэллоуэй, зная, что выиграл главное сражение, и без больших усилий. — одежду бери простую и практичную. Да, и потемнее, покрепче.
Через несколько минут я уже садился в машину Кэллоуэя, бросив саквояж с вещами на заднее сиденье, где уже лежал один сверток.
— Спасибо, Родерик, — сказал Кэллоуэй, одновременно пытаясь выехать на главную дорогу и закурить одну из своих жутких сигарет. — Хорошо, когда рядом есть кто-то, кому можно доверять.
— Куда мы едем?
— О, разве я не говорил? В Нижний Бедхо.
— Что-то случилось на раскопе, — сказал я.
Он кивнул.
— На прошлой неделе мне позвонил тот американский парнишка, Портер. Он больше не на раскопках, и его тревожит то, что там, возможно, происходит. Я попросил его прийти и рассказать мне все лично, а когда он пришел, записал его рассказ на магнитофон. Слушай.
Кэллоуэй вставил аудиокассету в магнитолу автомобиля и нажал кнопку воспроизведения. Из динамиков зазвучал голос Кена Портера, сначала робкий, как будто ему непривычно было говорить на магнитофон, но постепенно набирающий уверенность.
— Примерно через месяц после вашего визита мы смогли войти в могилу, — начал Портер. — Непосвященному такой срок покажется слишком большим, но в археологической работе главное не спешить и работать аккуратно, чтобы не повредить ничего важного. Земля вокруг валуна, закрывавшего проход, слежалась и затвердела, но когда мы все же счистили ее, то обнаружили, что дверь по всему периметру заклеена каким-то составом вроде цемента, который был в отличном состоянии и очень прочный. Было решено проделать для начала небольшое отверстие в этом цементе, дюймов пять-шесть. Сделав это, мы увидели бы, есть ли опасность повредить содержимое могилы. Если бы пространство за дверью оказалось свободным, то мы смогли бы продолжать ее расчистку с большей энергией.
Начав долбить цемент, мы обнаружили, что его слой довольно толстый. Пару дней несколько человек работали посменно, пока наконец отверстие не было готово. Вы были в раскопе и знаете, как там тесно и душно, так что можете себе представить, каково было там работать. Но доктору Уэйту все было нипочем, он почти все время проводил в тоннеле, наблюдая за ходом работы.
Наконец мы решили, что цемент совсем истончился. Все были согласны с тем, что честь последнего прорыва принадлежит доктору Уэйту. Он скромничал, отказывался, но это были его раскопки, только благодаря его настойчивости они и состоялись, и мы его уговорили. В тесный коридор перед входом в усыпальницу набилось столько народу, сколько он мог вместить, остальные окружили курган, и все с нетерпением ждали, когда наступит великий момент.
Уэйт взял резец и молоток и осторожно обстучал края препятствия. Замазка раскрошилась и осыпалась внутрь могилы, с легким стуком упав по ту сторону двери. «Похоже, они не поленились соорудить там каменный пол, — сказал нам доктор Уэйт. — Кто-нибудь, дайте фонарь, я посмотрю». Подняв фонарь вверх и вправо, он приблизил свое лицо к открывшейся щели так плотно, как только мог. Тут послышалось какое-то шипение или дуновение, и Уэйт закричал и упал в обморок. Вокруг тоже раздались вскрики, начиналась легкая паника, наконец кто-то сказал: «Он вдохнул застоявшегося воздуха!»
Но вот что странно, профессор Кэллоуэй, и чего я никак не могу объяснить. Когда все случилось, я стоял слева от доктора Уэйта, прижавшись к двери, и хорошо видел с левой стороны его освещенный фонарем профиль, когда он прижимался к щели. У меня было такое впечатление, как будто что-то вырвалось из той щели и накрыло лицо доктора Уэйта, точно маска. Он закашлялся, как будто вдохнул это в себя, и поперхнулся. Не знаю, что это было и было ли вообще. Но мне показалось, что я видел черную полупрозрачную летучую субстанцию, вроде облачка пыли или паутины. Но когда мы вынесли его наружу, вокруг его носа и рта не было ничего, кроме следов пота и пыли, что вполне естественно. Возможно, это была какая-то оптическая иллюзия; в темноте, в давке, при свете единственного фонаря мне могло показаться что угодно.
Я уже отправлял кого-то из ребят за доктором, но тут Уэйт как раз пришел в себя и отменил мой приказ. Сказал что-то насчет того, что упал в обморок от духоты и судорог и что отдохнет у себя в палатке, пока ему не станет лучше.
Там он провел всю ночь, наутро ему стало лучше, но он сделался как-то тише. Прежде доктор Уэйт всегда был полон энтузиазма и энергии, так что перемена была очень заметна. Он сказал, что в последнее время мы все много работали, и предложил нам взять пару дней отпуска. Я даже переспросил его, серьезно ли он — в конце концов, я всегда знал его как самого настоящего трудоголика. На что он довольно резко ответил: могила, мол, стоит на своем месте уже пару тысяч лет, постоит и еще немного.
Несколько дней он просто болтался без дела, потом продлил нам отпуск и попросил меня подбросить его на моем мотоцикле в Лондон. Сказал, что хочет кое-что почитать в библиотеке Британского музея. Получилось так, что мы провели в Лондоне четыре дня. Я жил у друзей, а где останавливался Уэйт — не знаю.
Потом, когда мы вернулись на раскопки, доктор взял да и уволил нас всех. То есть не совсем всех, несколько человек он все же оставил. Остальным делать было нечего — мы просто сложили палатки и пошли восвояси. Все это ужасно мне не нравилось, все шло как-то не так. За несколько дней в Лондоне доктор Уэйт сильно переменился. У него испортились манеры, он стал скрытным. И еще… странных людей он при себе оставил.
— В каком смысле странных? — вмешался голос Кэллоуэя.
— Ну, начать с того, что это были самые неопытные студенты. Потом, они все были иностранцы — то есть не англичане, не американцы и вообще не англоговорящие. Две девушки из Центрального Китая и один парень из Уганды. Да, и вот еще что странно: эти трое были самыми малорослыми и щуплыми во всей партии и совершенно не годились для тяжелой работы. Не знаю почему, но у меня прямо… мурашки по спине шли, когда я думал об этом. однажды ночью я даже вернулся туда, надеясь что-нибудь разнюхать. Но на месте лагеря не было никого и ничего, кроме большой старомодной палатки Уэйта. Потом я услышал звуки, издалека, как будто из-за холма.
— Что это были за звуки?
— Не знаю. Жутковатые какие-то, вроде пения.
— Вы не попытались узнать?
— Нет, черт меня возьми! — ляпнул Портер. — Мне вдруг стало так страшно, что я слинял оттуда. Вот тогда мне и вспомнились ваши слова насчет того, чтобы позвонить вам.
Голос стих, послышалось шуршание пустой магнитной ленты. Я протянул руку, чтобы выключить магнитофон.
— Ты что-нибудь уже сделал? — спросил я Кэллоуэя.
— Позвонил другу в музей и выяснил, что там делал Уэйт. Оказалось, он читал «Аль Азиф» и другие столь же отвратительные книги.
Кэллоуэй однажды рассказывал мне об «Аль Азифе». Я повернулся к нему. Его лицо было мрачным.
— И тебя это беспокоит, — сказал я.
Он вертел в руках свой портсигар.
— И это меня беспокоит, — признался он.
Нижний Бедхо мы проехали без остановки. По-моему, на нас никто не обратил внимания, к тому же прошло время, а двое мужчин в старом «Роллс-Ройсе», наверное, выглядят совершенно иначе, чем двое мужчин в старом «Лендровере». Но Кэллоуэй не поехал прямо к лагерю, а оставил «Ролле» на маленькой стоянке позади молодежного общежития.
Мы выбрались из машины, и Кэллоуэй принялся разминать свои массивные конечности, да так смачно, что я испугался, как бы его поношенный серый костюм не треснул по швам.
— Приятный летний вечерок, Родерик, — сказал он. — В такой вечер одно удовольствие взобраться на тот холм. однако придется идти в обход. Лучше, чтобы Уэйт не знал, что мы там, пока мы к нему не нагрянем.
Даже не подумав поинтересоваться моим мнением по этому поводу, Кэллоуэй пустился вперед рысцой, совершенно неожиданной от человека его комплекции. Мы перелезли через деревянную изгородь и подошли к Отцу с западной стороны.
— Боюсь, воспользоваться преимуществом той замечательной тропы нам не удастся, — сказал Кэллоуэй. — Надеюсь, что мой костюм не сильно пострадает от колючек.
Я милосердно предпочел не высказываться.
Однако подъем оказался не столь трудоемким, как я предполагал, поскольку склон с запада был более пологим. Ежевика, конечно, портила нам жизнь, но самые устрашающие места удалось миновать. Скоро мы уже стояли на опушке леса и смотрели вниз, на каменный круг.
— Почти на месте, — хмыкнул Кэллоуэй.
Едва подошвы наших ботинок коснулись ровной площадки амфитеатра, Кэллоуэй метнулся к плоскому камню и начал осматривать землю.
— Подойди сюда, Ши, — окликнул он меня. Когда я подошел, он показал на крохотные пятнышки на затоптанной и смятой траве.
— Здесь кто-то боролся, — сказал я.
— Да, и посмотри, вот… вот… и вот, — Кэллоуэй находил все новые и новые зловещие бурые пятна и на вытоптанной траве, и на самом камне. Комментарии были излишни. Перекрестившись, я произнес короткую молитву, по кому или чему, не знаю сам.
— И еще кое-что. — Кэллоуэй подвел меня к кургану, и мы протиснулись внутрь при мигающем свете его зажигалки. Огромный камень все так же стоял на месте, закрывая вход в могилу Приска. С косяков на нас выпученными глазами глядели резные фигуры, казавшиеся совершенно живыми среди прыгающих теней, которые отбрасывал крошечный огонек. Кэллоуэй кивнул головой на вход, и мы полезли назад.
— Никакой работы больше не было, — сказал я, счищая грязь со штанов. Мой друг постоял, постукивая концом турецкой сигареты о ноготь большого пальца, и впервые за все время нашего знакомства положил ее в портсигар, не прикурив.
— Пойдем-ка, потолкуем с Уэйтом, — тихо сказал он.
Возвращались мы через лес и на этот раз торной тропой.
Обогнув одинокую палатку, оставшуюся от некогда большого лагеря, мы остановились перед входом. Несмотря на теплый вечер, вход был закрыт, однако приглушенные голоса, доносившиеся изнутри, сказали нам, что палатка обитаема.
— Эй, там, внутри! — позвал Кэллоуэй.
— Что это! Кто там? — Испуганный голос принадлежал Уэйту, но в нем появилось кое-что новое. Он стал шероховатым, как будто в начальной стадии ларингита.
— Это Кэллоуэй.
— Чего вам надо? Как вы смеете приходить сюда без разрешения?
Кэллоуэй давно уже возился с полами палатки и теперь распахнул их.
— Лучше бы нам поговорить лицом к лицу, — сказал он.
Вечерний свет почти не проникал внутрь палатки. Я стоял за спиной Кэллоуэя, откуда мне был виден лишь край раскладного стола, покрытого блокнотами и листами бумаги, многие из которых были украшены геометрическими орнаментами или плотно исписаны от руки. Еще на столе лежала рука, которая тут же исчезла, будучи поспешно отдернутой, едва на нее упал свет.
Я не успел ее разглядеть, но заметил, что с этой рукой что-то не так. У меня осталось впечатление какой-то неприятной кожной болезни, вроде псориаза. Пространство позади стола находилось в глубокой тени, и я не мог различить ничего, кроме самых общих очертаний сидевшей за ним фигуры.
— Вон отсюда! — завизжал Уэйт.
Кэллоуэй был сама любезность.
— Но ведь я пришел предложить помощь, — промурлыкал он. — Я подумал, что, работая вместе, мы сможем разгадать загадку тех странных рельефов.
Из палатки раздался смех, очень похожий на лай.
— Вы глупец, Кэллоуэй! Мне не нужна ваша помощь! Я не хочу, чтобы вы мне помогали! Я уже нашел разгадку. Я точно знаю, что означают эти рельефы. Их значение слишком громадно для вашего крестьянского интеллекта, так что уходите и оставьте меня в покое. Мне предстоит важная работа.
— Разумеется, — заверил его Кэллоуэй. — Прошу прощения за беспокойство. — Он сделал мне знак, и мы потопали обратно к дороге. В тот вечер мой друг преподносил сюрприз за сюрпризом. Сначала он не закурил сигарету, а теперь еще и сдался без боя, что было совсем на него не похоже.
— Вы обратили внимание на руку Уэйта? — спросил я.
— Да, — сказал Кэллоуэй. — Интересно, правда?
Мы вернулись к машине, и я спросил:
— Что теперь?
Кэллоуэй внимательно разглядывал ландшафт и вдруг ткнул пальцем в небольшое возвышение на расстоянии примерно одной трети мили от нас, в направлении Нижнего Бедхо.
— По-моему, отличное место для лагеря, — сказал он.
— Какого лагеря?
Кэллоуэй склонился над задним сиденьем автомобиля и взял с него мой саквояж и другой узелок, который я заметил раньше. Вручив его мне, он сказал:
— Это твоя палатка. Оставляю тебе коробку с провизией и отличный бинокль ночного видения.
— Кэллоуэй, может, ты объяснишь, в чем дело?
Ройбен Кэллоуэй посмотрел на меня, как на дурачка.
— Как в чем? Ты остаешься приглядывать за Уэйтом, пока я на пару дней съезжу в Лондон и кое-что выясню. И еще мне надо повидаться там кое с кем из оккультистов. Думаю, что они смогут одолжить мне очень важную вещь.
Кэллоуэй был прав. Пригорок действительно оказался прекрасным местом для лагеря, откуда я мог наблюдать за палаткой Уэйта, оставаясь невидимым для него. Кэллоуэй, должно быть, потратил немало времени на поиски навязанной мне палатки, так как ее цвет совершенно не отличался от цвета растительности вокруг.
Я противился затее Кэллоуэя, но напрасно. Когда он уверен в своей правоте, то не слышит никаких аргументов. Наконец я согласился, зная, что если буду сопротивляться и дальше, то он просто запрыгнет в «Ролле» и уедет один, поставив меня перед свершившимся фактом.
— Уверен, что в дневные часы тебе не о чем беспокоиться, — сказал он мне. — Если мои подозрения верны, то Уэйт не рискнет выходить наружу при свете из страха быть увиденным. Так что днем можешь спокойно отдыхать, а следить за ним будешь ночью. Я также уверен в том, что в ближайшие две ночи ничего не произойдет, а там я и сам приеду. И еще, Родерик, будь осторожен. Ты здесь поставлен наблюдать. Не предпринимай ничего, коме как в самом крайнем случае.
Как священник, я стараюсь проявлять терпимость и милосердие. Но как человека меня порой раздражают и самоуверенность Кэллоуэя, и его вечная правота. Мы с ним друзья, но я прекрасно понимаю людей, которые находят его невыносимым.
Днем я отдыхал. Проголодавшись, я открывал банку холодных консервов и бутылку минеральной воды, так как не хотел разводить огонь, боясь запахами дыма и готовящейся еды привлечь внимание Уэйта. Когда темнело, я надевал черные джинсы, черную водолазку и такую же ветровку и шнырял по кустам, рассматривая оттуда через бинокль палатку Уэйта.
Уэйт либо тоже отдыхал днем, либо просто чувствовал себя в темноте комфортнее многих, но свет в его палатке зажигался лишь в самые глухие часы ночи. Тогда на парусиновом боку палатки появлялась его тень, искаженная слабым светом фонаря, и я видел, как он бродит взад и вперед по палатке или сидит, скорчившись, за столом до самого рассвета.
Я едва не пропустил момент, когда на третью ночь он вышел из палатки. Было уже за полночь, небо усыпали звезды, всегда такие многочисленные и яркие за городом, но луна еще не появилась. Я скучал и то и дело на пару минут переводил бинокль на небо, любуясь красотой божьего творения. В тот раз я вовремя повернул бинокль назад: свет в палатке погас у меня на глазах. Прижав к ним бинокль, я стал напряжено вглядываться, что происходит.
Вот что-то шевельнулось в темноте, наверное, откинулся полог палатки, и сгусток тьмы двинулся к дальнему краю маленького холма, за которым начиналась дорога.
Несмотря на свое обещание, Кэллоуэй не вернулся. Я чувствовал, что обязан поступить так, как он поступил бы на моем месте. Я вскочил на ноги и бросился к дороге, позабыв об осторожности. Вся моя надежда была на то, что Уэйт не повернет назад, а если и повернет, то меня не заметит.
Добежав до изгороди, я перелез через нее и спрятался в темной канаве у самой обочины. Потом осторожно высунул голову и поднес к глазам бинокль, наведя его на дорогу. Я не знал, в какую именно сторону направится Уэйт, но решил дать ему несколько минут, а если он не появится, пуститься за ним в погоню.
Но вот на полотне дороги, похожей на полосу светлого металла, возник темный силуэт, который приближался ко мне. Я был уверен, что это не кто иной, как Уэйт, однако что-то во внешности археолога меня встревожило. На нем был просторный плащ с капюшоном из темного материала, он шел, согнувшись, а его походка скорее напоминала лягушачьи прыжки, чем человеческий шаг. Я глубже забился в канаву, опасаясь немедленного разоблачения, но Уэйт вдруг свернул к молодежному общежитию.
Едва Уэйт скрылся из виду, как я поспешил за ним и снова спрятался прямо напротив здания. Не прошло и нескольких минут, как тот, за кем я следил, появился вновь, на этот раз с большим плотным свертком на плече, неся его без видимых усилий. Он повернул туда, откуда пришел, и я, дав ему достаточно времени, двинулся за ним следом.
Уэйт шел назад той же дорогой, однако вместо того, чтобы вернуться в палатку, он пошел прямо к большому холму и стал подниматься по его склону. Я следил за ним в бинокль, пока он не скрылся в лесу.
Прицепив бинокль к поясу, я быстро взбежал по тропе и окунулся в темные заросли — кошмар клаустрофоба. Идти было трудно, но мне казалось, что я достаточно хорошо помню направление тропы. По глупости я еще прибавил шагу и почти бежал, когда могучий удар по голове опрокинул меня на спину. Оглушенный, я лежал в ожидании coup de grâce[35].
Но его не последовало. Не знаю, сколько времени я провел на земле, возможно, нескольких секунд, не больше. Потом мне стало ясно, что никто на меня не нападал, а просто я налетел на торчавший над тропой сук огромного дерева. Сбитый с толку, мучимый тошнотой, я подполз к нему и, цепляясь за ствол, встал на ноги.
Прислонившись к нему, я ощупал рукой голову. Над правым глазом вздулась шишка, весьма болезненная на ощупь, по лбу и щеке текло что-то мокрое. Кровь, конечно, кожа-то содрана. Я снова двинулся в путь в том направлении, которое считал верным, но теперь шел медленно, протянув вперед руки, ощупью находя во мраке путаницу кустов и ветвей, чтобы не столкнуться еще с чем-нибудь.
Вдруг над моей головой раздался странный звук. Он походил на монотонное пение без слов, через каждые несколько нот прерываемое леденящим кровь воем, пронзительным скорбным воплем, от которого пересыхало во рту и судорогой сводило живот. Возможно, это же самое слышал и молодой Портер, когда приходил сюда на разведку. Теперь я понял, отчего он так запаниковал, мне и самому пришлось собрать в кулак всю мою волю, чтобы не броситься наутек.
Лес начал редеть, тьма — рассеиваться, и я вдруг оказался на открытом пространстве. Мне повезло, я более или менее попал туда, куда собирался — к началу тропы, которая вела вниз, к могиле Приска. Скрываться больше не было необходимости, так как шансов, что Уэйт заметит меня в черной одежде на фоне темного леса, почти не существовало.
Холодно сверкали звезды, почти напротив меня ярко светила полная луна. Едва появившись в небе, она, однако, стояла уже достаточно высоко для того, чтобы развернуть на спокойной глади моря дорожку света, сотканную из ультрамарина, гагата и серебра. Сияние проливалось и на землю, превращая амфитеатр с его каменным кольцом в мерцающую чашу. Подо мной по склону холма ковылял своей примечательной походкой неузнаваемо изменившийся археолог.
Достигнув подножия холма, он повернул со своей ношей к жертвенному камню. Я пошел за ним, как вдруг заметил, что в полосе белого света из моря поднялись два-три темных силуэта, чрезвычайно похожих на огромные плоские головы. Пока я наблюдал, вынырнула еще одна и еще. Несмотря на расстояние, было в этих безликих фигурах что-то такое, отчего я содрогнулся. Потянувшись за биноклем, я обнаружил, что на поясе его больше нет. Должно быть, потерялся во время происшествия в лесу.
Тогда я понял, что жутковатое пение, перемежавшееся воем, доносилось из открытого моря и приближалось к земле.
Луна облегчала мне спуск. Я старался идти крадучись, но, думаю, Уэйт был так увлечен своим делом, что совершенно позабыл обо всем остальном.
Достигнув дна долины, я лег на живот и полз вперед до тех пор, пока не укрылся за менгиром. Со стороны моря, кроме пульсирующего пения, доносились теперь всплески и другие звуки, смесь неразборчивого бормотания с отрывистым не то кашлем, не то кваканьем. И хотя сами по себе эти звуки не казались чем-то особенным, в том месте и в то время волосы от них встали у меня дыбом.
Я выглянул из своего укрытия. Уэйт склонился над алтарем, своим телом закрывая от меня то, что там лежало. Судя по его движениям, он что-то на нем раскладывал, и мне внезапно вспомнилось, как служащий морга укладывает на металлическом столе труп.
Вдруг за моей спиной раздался слабый шорох: то ли прошмыгнуло ночное животное, то ли птица шевельнулась во сне в ветвях какого-нибудь дерева. Уэйт стремительно обернулся. Его лицо полностью скрывал тяжелый капюшон, но я чувствовал, как в нем растет подозрение. Он повел головой сначала в одну сторону, потом в другую, точно вынюхивая добычу. Несмотря на мою уверенность в том, что он не видит меня в глубокой тени, отбрасываемой менгиром, я всем телом еще крепче вжался в землю.
Шум не повторился, и Уэйт, видимо, расслабился. На миг он отошел от алтаря, и я смог разглядеть то, что на нем лежало. Словно распятая на страшной плите, привязанная за щиколотки и лодыжки, на ней распростерлась обнаженная молодая женщина. Так, значит, она была той ношей, ради которой Уэйт совершил вылазку в молодежное общежитие. Несомненно, ни в чем не повинная туристка или велосипедистка, и если она путешествовала одна, то ее еще не скоро хватятся. Она лежала так тихо и спокойно, что, по моим предположениям, должна была быть под действием наркотика или в трансе. Мне вспомнилось предостережение Кэллоуэя: не предпринимать ничего до тех пор, пока это не будет совершенно необходимо.
Уэйт вернулся к алтарю и простер к небесам обе руки. Запрокинув голову, он запел какие-то слова — ритуал или молитву. Язык был мне не знаком, более того, вслушиваясь в его звуки, я пришел к выводу, что они вообще не человеческого происхождения, слишком уж странными они были. Ни за что не попытался бы даже приблизительно воспроизвести эти чуждые нашему уху и языку слоги. Когда в торжественной песни Уэйта наступала пауза, с моря ему отвечали квакающие голоса, с каждым разом все громче и громче.
Внезапно наступила тишина, и руки Уэйта повисли вдоль боков. Он коротко склонил голову, словно в знак повиновения, и снова поднял правую руку. Длинное, кривое лезвие блеснуло в лунном луче.
Из моей груди вырвался невольный крик.
— Не-е-ет!
Вскочив на ноги, я бросился к нему так стремительно, что покрыл разделявшее нас небольшое расстояние в доли секунды — результат, который в иных обстоятельствах мне самому показался бы невероятным. Обеими руками я сжал запястье Уэйта, чтобы не дать опуститься роковому ножу.
Быть может, причиной моей слабости был удар по голове, полученный недавно, но я вдруг ощутил, что все мои попытки удержать противоестественно мощную жилистую конечность ни к чему не приведут. Несколько секунд мы боролись, и нож отлетел в сторону. Извернувшись, Уэйт обратил ко мне свое лицо, и в ту же секунду капюшон свалился с его головы, выставив ее на посмешище лунному свету. В ужасе я закричал и ослабил хватку.
Лицо принадлежало Уэйту, никаких сомнений в этом у меня не было, но человеческого в нем осталось мало. Отвратительную маску, в которой сливались воедино черты человека, амфибии и рыбы, — вот что видел я перед собой. Черные глаза с желтыми прорезями горизонтальных зрачков таращились на меня из складок плоти, покрытых чешуей и бородавчатыми наростами; плоские, далеко отстоящие друг от друга ноздри раздувались; широкий безгубый рот слюняво осклабился. Ничего не осталось и от шапки прекрасных светлых волос, лишь несколько свитых жгутами прядей покрывали кое-где иссеченный шрамами череп. одним небрежным взмахом руки создание швырнуло меня на колючую траву.
— Ха! Да это же поп! — Слова, которые вылетали из его рта, были, вне всякого сомнения, английскими, но голос, гортанный, клокочущий мокротой, казалось, силился породить невозможные звуки. — Какой недостойный оппонент для меня. Поди-ка сюда, иоп! — Он протянул ко мне руки, меж пальцами которых уже начали отрастать перепонки, а ногти заменяться когтями, схватил меня за воротник и рывком поставил на ноги.
Я человек крепкого сложения, не легковес, и все же этот человеко-зверь с такой быстротой перенес меня на край утеса, как будто я был ребенком. Почувствовав, как из-под моих ног осыпаются камешки, я решил, что в его намерения входит швырнуть меня вниз. Шепотом я произнес последнюю молитву, готовясь разбиться насмерть о прибрежные валуны и гальку.
Но вместо этого Уэйт, крепко держа меня одной рукой, другой указал на море.
— Смотри, поп, смотри туда! — приказал он. — Увидь будущее и удивись!
Из моря глядели уже дюжины уродливых черных силуэтов. Некоторые из них добрались до отмели, где и стояли, выпрямившись во весь рост, так что море плескалось у их колен или бедер. Другие, лежа на животах, покачивались вместе с волнами, как жуткие пародии на дельфинов. Все вместе они издавали то самое пение и вой.
Когда Уэйт показал меня им, какофония стихла, сменившись отдельным редким кваканьем. Но в основном они просто стояли и молча смотрели.
— Истинные мои братья! — утробно рыкнуло державшее меня существо. — Скоро, свершив необходимое число жертвоприношений, я изменюсь и, освободившись от жалкой и недолговечной человеческой оболочки, займу по праву принадлежащее мне место в лоне извечного океана.
Представь же, поп, что, когда ты и толстый олух Кэллоуэй и все другие жалкие… черви… превратитесь в прах, забытые даже вашим ничтожным богом, я буду еще жить. Я буду в числе верных, когда звезды займут правильное положение и время возвращения придет. Я увижу, как восстанет из морских глубин несравненный Зеленый Город. Я буду здесь и упаду на колени, когда Он… Он! — стряхнет оковы и явится в ужасном великолепии, чтобы править на земле во веки веков! О, величайший из отцов, услышь призыв своего сына!
И он, не ослабляя своей ужасной хватки, снова поволок меня с утеса к алтарю, где задумчиво на меня уставился.
— Да… — бормотал он. — Да, ты можешь сослужить мне службу. Быть может, жертвоприношение христианского жреца ускорит желаемую метаморфозу. Но сначала надо покончить с самкой! — И, отшвырнув меня, словно котенка, он нагнулся в поисках жертвенного ножа.
Я шарил в карманах ветровки в поисках распятия. Борясь с ужасом, я поднял крест и двинулся на странную тварь.
— Во имя всемогущего Господа, остановись! — приказал я.
Уэйт в изумлении уставился на меня, а потом издал хохот, похожий на лай. Шагнув ко мне, он снова одним шлепком свалил меня с ног. Потом встал на колени, вырвал у меня крест и пальцами смял его в комок.
— Глупец, — квакнул он. — Как можно думать, что твой жалкий символ святости способен меня остановить.
— Распятие тебя не остановит, — сказал негромкий знакомый голос. — А вот это может. — Мощная рука с зажатым в ней предметом в форме звезды появилась откуда-то сбоку и втиснулась между мной и Уэйтом. Издав вопль ярости и страха, Уэйт отпрянул. С трудом поднявшись на ноги, он бросился к склону холма, но, съежившись, метнулся оттуда к пропасти. Но и там путь ему был отрезан.
Кэллоуэй помогал мне встать.
— Прости меня за опоздание, Родерик, — сказал он. — Чтобы собрать мою армию, пришлось повозиться. Мы чуть не выдали себя, когда какой-то дурак споткнулся на холме.
Оглянувшись, я увидел, что Кэллоуэй пришел не один. С ним были люди, человек десять или больше, и у каждого в руке был предмет в виде звезды. Они окружили чудовище-Уэйта, который теперь скорчился на земле в центре круга и жалобно подвывал. Кое-кого из пришедших я узнал: среди них был тот крестьянин, который указал нам дорогу, и кузнец, который нас чуть не побил. А еще морщинистый торговец и неразговорчивый хозяин паба. Все остальные были жителями Нижнего Бедхо.
— Вы знаете, что с ним делать, ребята, — сказал Кэллоуэй.
— Осторожно, Ройбен, он очень силен, — предупредил его я.
— Уже нет, — ответил мой друг. — Звездные камни об этом позаботились.
Я поволок Кэллоуэя к обрыву и показал оттуда на море, где в грозном молчании ждали те, собравшиеся.
— Посмотри на них!
— Я их видел, — спокойно ответил Кэллоуэй. — Они ничего не могут нам сделать. Утес слишком высок и хрупок, так что взобраться на него им было бы трудно, да и против наших амулетов они бессильны, хотя их и много.
И он опять повернулся к обессилевшему Уэйту.
Несколько мужчин, среди них кузнец, подошли к нему, в то время как остальные продолжали держать его под прицелом странных звездных камней. Он не сопротивлялся, когда его схватили, и тут я понял, что его ждет.
С возмущенным криком я бросился вперед, чтобы остановить гнусность, которую они затеяли, но туша Кэллоуэя заступила мне путь.
— Прекрати это, Кэллоуэй, скажи им, чтобы они перестали! — закричал я. — Ты должен прекратить это! Это святотатство!
— Нет, — проворчал он, удерживая меня на месте своими могучими лапами. — Это очищение.
Еще несколько деревенских ступили на сцену амфитеатра, шатаясь под тяжестью своей ноши. Это была балка из цельного куска дерева с шестифутовой перекладиной на одном конце. Они опустили ее на землю у входа в могилу, и один из них начал заступом и лопатой рыть глубокую узкую траншею в земле.
Пленители Уэйта уложили его на крест и крепко привязали его руки до локтя к горизонтальной перекладине. Присев рядом с лежавшим навзничь Уэйтом, кузнец беспощадными ударами небольшого молотка вогнал шестидюймовые гвозди в запястья чудовища.
Пыхтя от натуги, мужчины подтянули крест к приготовленной для него яме и со страшными усилиями стали отрывать его от земли. Как только балка приподнялась на несколько футов, под нее продели веревки и стали тянуть за них. Наконец крест стал вертикально, а его нижний конец с глухим стуком уперся в дно ямы. Кузнец вбил между краем ямы и столбом несколько клиньев, пока не убедился, что крест стоит крепко и не упадет.
Во все время этого испытания Уэйт оставался немым и неподвижным, стоицизм не изменял ему ни на секунду. Длинные гвозди, пробившие его запястья, дробящий кости рывок к перпендикуляру, тошнотворный наклон вперед после водружения креста на место — все это наверняка причиняло ему неимоверную боль. И вот теперь, явно превозмогая страдания, он поднял голову и тщился взглянуть на небо. Было слышно, как дыхание клокочет у него в груди и в горле, но ему все же хватило силы крикнуть. Сорвавшийся с его уст призыв прозвучал устрашающей пародией на другое распятие.
— Отец! — прокричал он. — Страшный отче со звезд и из глубин! Накажи их! Покарай их за то, что они творят с твоим учеником! — Силы оставили его, и, с долгим свистящим вздохом выпустив воздух из груди, он уронил гротескную голову, а его челюсть отвалилась и повисла.
Тупая боль от предыдущего столкновения не прекращала пульсировать у меня в голове, и я почувствовал, как уныние окутывает меня своим мрачным плащом. Дрожащими руками я закрыл лицо. Невероятно, но чудовище на кресте вызывало во мне какой-то отклик, что-то вроде сострадания. В его последнем крике было духовное страдание, выходившее за пределы простой физиологии. Возможно, Уэйт стал дурным, заблудшим и пугающим, несомненно, но все это по человеческим критериям. Но он остался мыслящим существом, с присущими ему нуждами и желаниями, хотя по нашим стандартам его эмоции были нам чужды.
— Прекратите его страдания, — распорядился Кэллоуэй. — И кончайте с ним так, как я вам сказал.
Кузнец кивнул, замахнулся своим молотом и раскроил им человеко-зверю череп. Уэйт дернулся один раз и затих. Я увидел, что по склону холма спускаются на плато еще люди. Удивительно, неужели весь Нижний Бедхо был так или иначе причастен к происходящему?
Почти все пришедшие несли охапки мертвых ветвей, набранных в лесу, которые они складывали в кучу у подножия креста. Кто-то плеснул жидкости на растопку, и я уловил сильный запах бензина. Подожгли тряпку и бросили на костер, который немедленно ожил и взметнулся, наполнив воздух ревом пламени и треском горящего дерева. Жители деревни торопливо подкармливали огонь, и белеющее пламя поднималось все выше и выше, пока полностью не скрыло от глаз и не пожрало останки Алариха Уэйта.
Еще там были женщины, они накрыли лежавшую без сознания девушку одеялом и унесли.
Я вздохнул, а Кэллоуэй взял меня за плечо и легонько тряхнул.
— Это было очищение, Родерик, — повторил он тихо. Потом вытащил из кармана пиджака фляжку и протянул мне. Я пригубил, почувствовал вкус бренди и сделал второй, большой, глоток. Бесполезно. Я вернул фляжку другу.
— Что произошло? — спросил я. — Чем это было вызвано?
Настала очередь Кэллоуэя вздыхать.
— Рассказ Кена Портера и то, что мы видели своими глазами, заставили меня подозревать, что с Уэйтом происходит перемена, похожая на инсмутскую. Я был уверен в том, что до сегодняшней ночи ничего не случится, просто я не смог вернуться так скоро, как намеревался. «Аль Азиф» учит, что жертвоприношение должно совершаться в каждую важную фазу луны. Видимо, такова была судьба трех студентов-иностранцев — последнее полнолуние, новая луна и половина луны. Сегодня наступило следующее полнолуние.
Оставив тебя здесь вести наблюдение, я поехал повидаться с одним парнем, которому немало пришлось повоевать с Древними и их прислужниками. Я знал, что у Тита большой запас камней-звезд, и умолял его одолжить их мне на эту ночь. А еще я задержался, чтобы задать кое-какие вопросы, на которые получил вполне ожидаемые ответы.
В Инсмуте было четыре главные семьи, связанные с жителями Глубин: Марши, Джилмэны, Элиоты и Уэйты, причем последняя фамилия звучала именно так. Несколько месяцев назад я говорил тебе, что кое-кто из жителей Инсмута, возможно, избежал сетей федералов. К примеру, судьба нескольких ребятишек так и осталась невыясненной. Он, — и Кэллоуэй кивнул в сторону креста, с которого теперь распространялся ужасный смрад, — был отпрыском одного из Уэйтов. В Англию его — младенца — привезла дальняя родственница, член британской ветви семейства. Уэйта усыновили, и его фамилия изменилась, став более архаичной.
Мы уже не узнаем, кто уничтожил Вителия Приска — римляне или бритты. Кем бы они ни были, не думаю, что они предали тело огню, и его сущность — черная тень, которую видел Поттер — уцелела в гробнице и долгие века ждала нового хозяина. Но и традиция не подпускать чужаков к этому месту тоже пережила тысячелетия. Причина могла быть забыта, но здешние помещики один за другим твердо держались заведенного порядка, пока не умер сэр Питер и титул вместе с землей не унаследовал человек, родившийся и выросший в другой стране.
Не знаю, что произошло бы, если бы могилу вскрыл другой человек, а не Аларих Уэйт. Скорее всего, то же самое, хотя, полагаю, кровь предков усилила его предрасположенность к заразе. Возможно даже, что именно его наследственность была причиной его решимости раскопать этот курган — память рода. Могильная тень, возможно, пробудила в нем инстинктивное желание вступить в контакт со своими жуткими родичами, причем, вероятно, сделала это во сне — именно так поступали жители Инсмута. Они подтолкнули его к тому, чтобы принести жертвы, необходимые для трансформации, и он разыскал «Аль Азиф», в котором нашел описания ритуала. Потом он отобрал студентов, в основном по двум параметрам: все были мелкорослыми, чтобы не тратить на них силы, пока их у него не так много, и еще они были из таких мест, где их не скоро должны были хватиться. Остальное ты знаешь.
— Как мы объясним исчезновение Уэйта? — спросил я.
— Несчастный случай, — сказал Кэллоуэй. — В его палатке начался пожар, и она выгорела так основательно, что расследовать уже нечего. Свидетели подтвердят, что в последнее время его странности все росли, он прогонял всех из своей палатки и любил оставаться там наедине с масляной лампой и запасом топлива. Местный коронер сам из Бедхо, так что вердикт смерти в результате несчастного стечения обстоятельств обеспечен.
— А как же девушка?
— Она просто в трансе. Первые жертвы давались Уэйту непросто, пока он не открыл секрета гипноза. Моих знаний хватит на то, чтобы все поправить. Ей скажут, что ее нашли на дороге, где она ходила во сне.
Я поискал других возражений.
— Откуда ты знаешь, что это не повторится? — спросил я. — Другие тоже могут получить разрешение копать здесь. Что, если какой-то осадок заразы еще остался, и они заболеют?
Кэллоуэй закурил сигарету.
— Я так не думаю, — ответил он. — Я обратился к влиятельным людям. Я уверен, что эту землю признают зараженной сибирской язвой и министерство сельского хозяйства закроет ее на длительное время.
Луна уже стояла высоко, и поверхность пролива серебрилась до самого горизонта. Она была ровной, не считая легкой ряби от небольших волн.
— Ушли, — сказал я.
— Пока, — ответил Кэллоуэй. — Они вернутся где-нибудь, когда-нибудь. Здесь сегодня мы выиграли не войну, и даже не сражение. Мы одержали верх в небольшой стычке, такой незначительной, что и говорить не о чем.
Я не смог подавить чувства горечи при взгляде на факел, пламеневший позади нас.
— Тогда зачем все это?
— Перестань думать как священник, хоть ненадолго, — заявил Кэллоуэй. — Если бы его не остановили, сколько невинных людей пали бы его жертвой на пути к достижению цели? Понятно, что он уже сильно изменился, но далеко не достаточно для того, чтобы занять свое место в море.
Кэллоуэй швырнул окурок со скалы и проследил его огненный след до каменистого пляжа, где он, ударившись о скалы, рассыпался каскадом искр.
— Ты знаешь, — продолжал он. — По моему мнению, нам никогда не выиграть эту тайную войну. Эти слова насчет того, что Древние вернутся, когда «звезды займут нужное положение», повторяются снова и снова. Подумай, Родерик, что это значит и с чьей точки зрения это положение правильное?
Он смотрел в звездное небо.
— Вселенная бесконечна, и в каждой точке этой бесконечности положение звезд всегда будет иным. И каждые несколько тысяч лет рисунок звезд будет меняться в каждой из этих точек. Учитывая ограниченность человеческого разума и мысли, масштаб времени и расстояния кажутся нам невообразимыми, даже неприемлемыми. В астрономических терминах этот масштаб, однако, ничто, не больше чем шаг, одно мгновение. Если смотреть откуда-нибудь извне, то звезды могут сложиться подходящим для Древних образом уже завтра; или наоборот, нужное время может оказаться столь отдаленным, что человечество может вымереть само по себе. Надеюсь, что так. Ради всего человечества надеюсь, что так.
Нет, нам никогда не победить Древних и их многочисленных слуг. Видишь ли, время на их стороне.
Брайан Стейблфорд
Наследие Инсмута
Следуя инструкциям, которые Энн продиктовала мне по телефону, я достиг Инсмута без больших затруднений; сомневаюсь, что справился бы столь же успешно, если бы мне пришлось полагаться только на карту, напечатанную на последнем развороте ее книги, или спрашивать дорогу у встречных.
Спускаясь вниз с почти отвесных склонов горной гряды, расположенной к востоку от города, я смог сравнить Инсмут с описанием, которым открывалась книга Энн. По телефону она назвала его «оптимистичным», и теперь я понимал, что заставило ее сделать такое предупреждение. В книге Энн не решилась использовать слово «неиспорченный», однако сделала все возможное, чтобы у читателя возникло представление об Инсмуте как об уголке, полном «старосветского шарма», если прибегнуть к расхожему английскому выражению. однако здешние дома, хотя и безусловно старые, очарованием не отличались. Нынешние обитатели — в основном «приезжие» и «дачники», как называла их Энн, — очевидно, приложили немало усилий, чтобы спасти дома от окончательного распада и уничтожения, однако подновленные фасады и свежая краска на стенах лишь усиливали общее впечатление заброшенности и придавали улицам неуместно кричащий вид.
Правда, гостиница, где для меня был заказан номер, — Нью-Джилмэн-хаус — оказалась счастливым исключением из общего правила. Это здание принадлежало к числу тех немногих, которые были построены в городе относительно недавно — не далее, чем в 60-е. Фойе было декорировано и меблировано с большим вкусом, а портье любезен и внимателен настолько, насколько можно ожидать от американского портье.
— Моя фамилия Стивенсон, — представился я. — Мне кажется, мисс Элиот заказала для меня номер.
— Лучший в отеле, сэр, — заверил меня он. Я охотно ему поверил, ведь Энн была владелицей заведения. — А вы разговариваете, как англичанин, — добавил портье и протянул мне карточку, подтверждающую бронь. — Вы там познакомились с боссом?
— Совершенно верно, — смущенно подтвердил я. — Не могли бы вы сообщить мисс Элиот, что я здесь?
— Само собой, — был его ответ. — Помочь вам отнести сумку?
Я покачал головой и поднялся в номер самостоятельно. Он оказался на верхнем этаже и имел вид из окна, который, не без некоторой натяжки, можно было назвать приличным. В общем-то, это был бы даже великолепный вид, если бы не руины домов на набережной, из-за которых я вынужден был созерцать океан. Там, ближе к горизонту, вода пенилась — это волны перекатывались через Дьявольский риф.
Я все еще смотрел туда, когда сзади подошла Энн.
— Дэвид, — сказала она. — Хорошо, что ты приехал.
Я повернулся, немного неуклюже, и, чувствуя себя неловко от смущения, протянул ей руку, которую она немедленно пожала.
— Ты не постарел ни на один день, — сказала она лицемерно. С нашей последней встречи прошло тринадцать лет.
— Ну, да, — согласился я, — я ведь уже подростком выглядел как пожилой человек. Зато ты выглядишь великолепно. Быть капиталисткой тебе идет. Этот город весь принадлежит тебе?
— Примерно на три четверти, — сказала она, сделав воздушный жест узкой рукой. — Дядя Нед скупил землю за сущие гроши еще в тридцатые, а теперь она так и стоит — гроши. Все его амбиции — «вернуть Инсмут на карту мира» — ни к чему не привели. Дома, которые он отремонтировал, в шестидесятые удалось сдать, правда, арендаторы приезжали только на уикенды, это были жители больших городов, которым недоставало денег на статусную загородную собственность. За сезон здесь останавливается несколько сотен туристов — любителей редкостей, рыбаков, тех, кому просто все надоело, — но для такого отеля, как этот, недостаточно. Вот почему я написала книгу — но, полагаю, во мне все еще слишком много от ученого и слишком мало от сенсационного журналиста. Надо было уделить больше внимания тем старым историям, но совесть не позволила, так что я обошлась одними строгими фактами.
— Вот что университетское образование с людьми делает, — сказал я. Мы с Энн познакомились в Манчестере — настоящем, а не том, в который судьба и стечение обстоятельств привели меня теперь, — где она изучала историю, а я — биохимию. Мы с ней дружили — увы, в буквальном, а не в эвфемистическом смысле этого слова, — но только до диплома, а потом не поддерживали отношений до тех пор, пока она, узнав, что я в Нью-Гэмпшире, не прислала мне письмо с известием о своей карьере в области недвижимости и приложенной к нему книгой. Я планировал навестить ее еще раньше, но теперь, когда я прочитал книгу, у меня появился предлог, и перспектива стала очень заманчивой.
Пока она следила за тем, как я распаковывал вещи, выражение ее серых глаз оставалось непроницаемым. Она и впрямь похорошела, я сказал это не из вежливости, вид у нее был ухоженный, кожа чистая, манеры уверенные.
— Полагаю, твое появление в Штатах — результат печально известной утечки мозгов, — сказала она. — Что тебя соблазнило — доллары или оборудование для исследований?
— И то и другое, — признался я. — Но больше все-таки последнее. Ученым, занимающимся генетикой человека, так много не платят, да и я не столько написал трудов, чтобы залучить меня к себе считалось большой удачей. Я — обычный рядовой в армии ученых, ведущих длительную кампанию по изучению генома человека и составлению его карты.
— Это лучше, чем быть главным хранителем Инсмута и его истории, — сказала она ровным голосом, не оставлявшим лазейки для вежливого возражения.
Я пожал плечами.
— Что ж, — ответил я, — если я напишу эту статью, то Иннсмаут снова окажется на карте, по крайней мере, научной, — только сомневаюсь, чтобы это принесло прибыль твоему отелю. Не думаю, что по моим следам сюда явится легион генетиков.
Энн опустилась на край кровати.
— Боюсь, все может оказаться не так просто, — сказала она. — Информация, которая есть в книге о внешнем виде жителей Инсмута, несколько устарела. Раньше, еще в двадцатые, когда население города составляло меньше четырех сотен человек, это, возможно, и была та самая закрытая община, все члены которой — близкие родственники, но после войны сюда приехали до двух тысяч человек из разных мест, и, хотя представители старых семей предпочитали держаться друг друга, остальные вступали с пришельцами в браки. Я смотрела архивы и знаю, что почти все ведущие семьи в городе — Марши, Уэйты, Джилманы — выродились. Думаю, то же случилось бы и с нами, Элиотами, если бы не английская ветвь семейства. Инсмутская внешность еще встречается, но редко — сейчас можно увидеть лишь ее следы, да и то только в ком-нибудь старше сорока.
— Возраст не имеет значения. — заверил ее я.
— Это не единственная трудность. Почти все люди с такой внешностью стесняются ее сами или стесняются их родственники. Они не показываются на люди. Их может оказаться не так легко убедить сотрудничать.
— Но ты ведь с ними знакома — вот и представь меня им.
— Я знакома лишь с некоторыми из них. Но это не значит, что я смогу тебе помочь. Хотя моя фамилия Элиот, но для старожилов Инсмута я тоже чужая, а значит, мне нельзя доверять. Есть лишь один человек, который мог бы согласиться выступить посредником между ними и тобой, но убедить его будет не так просто.
— Уж не тот ли это рыбак, о котором ты говорила по телефону — Гидеон Сарджент?
— Верно, — ответила она. — Он один из носителей внешности, которые не прячутся, хотя именно у него характерные черты проступают сильнее, чем у других, кого я знаю. Он и разумнее многих — отслужив в сорок пятом во флоте на Тихом океане, при Дж. Ай. Билле получил образование — и все же разговорчивым его не назовешь. Прятаться он не будет, но и служить живым образчиком инсмутской внешности тоже вряд ли пожелает — он, как и всякий на его месте, терпеть не может, когда на него пялятся туристы, и никогда не соглашается возить их на Дьявольский риф в своей лодке. Со мной он всегда очень вежлив, но я не знаю, как он отреагирует на тебя. Ему уже за шестьдесят, он не женат и никогда не был.
— Это как раз не странно, — заметил я. Я и сам не был женат, да и Энн не бывала замужем.
— Может быть, и нет, — ответила она и усмехнулась. — И все же я не могу справиться с подозрением, что он не женился только потому, что не нашел девушку, достаточно похожую на рыбу.
Мне показалось, хотя Энн явно не имела этого в виду, что ее замечание довольно жестоко. Более того, оно показалось мне еще более жестоким, когда я увидел Гидеона Сарджента воочию, потому что сам тут же пришел к прямо противоположному мнению: ни одна девушка на свете не согласилась бы выйти за него замуж, слишком уж он сам походил на рыбу.
Его внешность до малейших подробностей соответствовала описанию, приведенному Энн в ее книге: узкая голова, плоский нос, выпученные глаза, шероховатая кожа, полное отсутствие волос — но даже моя готовность не смогла сгладить жутковатого впечатления, которое производил портрет в целом. Продубленный солнцем и ветром старик походил на престарелого карпа кои, нельзя было лишь сказать — мешал поднятый воротник куртки, — есть ли у него на шее характерные отметины, вроде жаберных щелей, эти завершающие и самые странные стигматы уроженцев Инсмута.
Когда мы пришли навестить Сарджента, он сидел в парусиновом кресле на палубе своей лодки и терпеливо чинил сеть. Он даже не поднял головы при нашем приближении, но, думаю, он разглядел нас издали и знал, что мы идем именно к нему.
— Здравствуйте, Гидеон, — сказала Энн, когда мы подошли ближе. — Это доктор Дэвид Стивенсон, мой друг из Англии. Сейчас он живет в Манчестере и преподает в колледже.
Старик продолжал сидеть, опустив голову.
— На риф не вожу, — ответил он лаконично. — Вам, мисс Энн, это известно.
— Он не турист, Гидеон, — сказала она. — Он ученый. Он хочет поговорить с вами.
— С чего бы? — отозвался старик, но головы не поднял. — Это потому, что я урод?
— Нет, — ответила Энн в замешательстве, — разумеется, нет…
Я поднял руку, чтобы остановить ее, и сказал:
— Да, мистер Сарджент. Именно поэтому, в некотором роде. Я специалист по генетике, и меня интересуют люди, чья внешность отличается от внешности других людей. Я хотел бы объяснить вам свой интерес поподробнее, если позволите.
Энн раздраженно покачала головой, уверенная, что я сказал не то и все испортил, но старик, похоже, нисколько не обиделся.
— Када я был мальцом, — начал он рассеянно, — один мужик предложил моей матери за меня сотню долларов. Хотел посадить меня в аквариум и показывать в шоу. Она отказалась. Дура была — сотня баксов тада на дороге не валялась. — У него был примечательный акцент, совсем не такой, как тот, который я уже привык считать типичным для Новой Англии. Слова покороче он жевал, а длинные произносил старательно, — видимо, продолжало сказываться образование.
— Вы знаете, что такое генетика, мистер Сарджент? — спросил его я. — Мне бы очень хотелось объяснить, почему разговор с вами так важен для меня.
Наконец он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Я был к этому готов и не моргнул, встретив его тревожащий пристальный взгляд.
— Я знаю, что такое гены, док, — холодно сказал он. — Мне и самому интересно, как это я такой получился. Может, вы мне скажете? Или сами только надеетесь узнать?
— Это то, что я надеюсь узнать, мистер Сарджент, — ответил я ему со вздохом облегчения. — Можно мне подняться к вам на борт?
— Нет, — ответил он. — Это неудобно. Вы в отеле?
— Да, в отеле.
— Там и увидимся, вечером. Семь с четвертью. Выпивка за вами.
— О’кей, — ответил я. — Большое спасибо, мистер Сарджент. Очень вам благодарен.
— Не стоит, — сказал он. — А на риф я все равно не вожу. И для япошек с их камерами не позирую — запомните, мисс Энн.
— Я помню, Гидеон, — сказала она, и мы пошли восвояси.
Едва мы отошли от него на приличное расстояние, она сказала:
— Он оказал тебе честь, Дэвид. Раньше он никогда не соглашался прийти в отель — и не от недостатка предложений выпить. Он еще помнит старую гостиницу, которая стояла на его месте, и ему не нравится то, что сотворил там дядя Нед, так же, как ему не нравятся колонисты — те, кто приехали в город в тридцатые, когда он почти загибался.
Мы как раз шли через ту часть набережной, которая больше всего напоминала послевоенный пустырь с руинами от бомбежек, — или бывшие трущобы в настоящем Манчестере, где старые дома снесли, а что построить на их месте, так и не придумали.
— Это ведь та часть города, которую сожгли? — спросил я.
— Точно, — ответила она. — Еще в 27-м. Никто толком не знает, как это случилось, хотя версий множество, и самых диких. Гангстерские войны можно исключить сразу — бутлегерство не процветало здесь в достаточном объеме. Может, поджог ради поджога. Большая часть территории теперь моя — дядя Нед хотел построить здесь все заново, но так и не собрал денег. Я бы продала этот участок первому попавшемуся застройщику, но, боюсь, мои шансы избавиться от него ничтожно малы.
— А что, военные действительно торпедировали каньон позади рифа? — спросил я, вспомнив историю, которую она приводила в своей книге.
— Глубинными бомбами, — сказала она. — Я не поленилась поднять соответствующие документы, надеялась раскопать в них какую-нибудь сенсацию, но оказалось, что это были простые испытания. За этим рифом очень глубоко — трещина в континентальном шельфе, — вот его и решили использовать как полигон для испытаний зарядов на воздействие давления по всему спектру. При этом военные не подумали о том, чтобы посоветоваться с жителями или хотя бы оповестить их о готовящемся; наверное, информация была засекречена. Оттуда и всякие байки о морских чудовищах, на которые некому было возразить.
— Жаль, — сказал я, оглянувшись на рассыпающийся пирс, когда мы уже поднимались на невысокий холм Вашингтон-стрит. — А мне так нравилась эта история с жуткими ритуалами Тайного Ордена Дагона в старом здании масонской ложи и про договор капитана Оубеда Марша с морским дьяволом.
— Тайный Орден Дагона существовал в действительности, — сказала она. — Правда, теперь трудно установить, в чем именно заключались их ритуалы или во что конкретно верили его посвященные, потому что они остерегались создавать или хранить какие-либо записи — у них не было даже священных текстов. Похоже, что орден принадлежал к разряду тех безумных квазигностических культов, которые расплодились вокруг книги под названием «Некрономикон» — они в большинстве своем перестали существовать, когда «Мискатоника Юниверсити Пресс» выпустило первый полностью аннотированный перевод этой библиографической редкости. Кому нужна эзотерическая секта, главная книга которой доступна всякому желающему, так я понимаю. Что касается легендарных похождений капитана Оубеда Марша в Южных морях, то все рассказы о них, так или иначе, восходят к одному и тому же типу, жившему здесь в двадцатых — старому пьянице Зэдоку Аллену. Не поклянусь, что все до последней истории о его подвигах выужены со дна бутылки, однако с радостью поставлю все свое наследство против того, что его карьера в реальности была куда менее цветистой, чем стала, когда старина Зэдок закончил вышивать по ее канве.
— Но у Маршей действительно была здесь фабрика по обработке золота? И хотя бы часть так называемых инсмутских украшений все же существует?
— О, конечно, — ювелирная фабрика была отзвуком индустриального подъема, который сошел в этих местах на нет после большой эпидемии в середине девятнадцатого века. Но я видела бухгалтерские книги этого предприятия и могу сказать, что на нем почти ничего не производили лет тридцать пять — сорок перед закрытием. Теперь его, разумеется, нет. Те немногие образцы инсмутского ювелирного искусства, которые еще сохранились, не столь прекрасны или экзотичны, как их описывают, но все же довольно интересны — и вдохновлены действительно не местными мотивами. В городе есть пара магазинов, где делают «оригинальные копии» для туристов и других заинтересованных лиц, причем один владелец клянется своими глазами в том, что авторами первых образцов были индейцы доколумбовой Америки, другой — что старый Оубед нашел их во время своих странствий. Версий много, выбирай любую.
Я глубокомысленно кивнул, как будто желая сказать, что именно это я и подозревал с самого начала.
— А что ты ищешь, Дэвид? — спросила вдруг она. — Ты ведь не считаешь, что в фантазиях Зэдока Аллена есть правда? И вряд ли ты можешь всерьез принимать гипотезу о том, что прежние жители Инсмута были помесью людей с какой-то чуждой расой!
Я рассмеялся.
— Нет, — совершенно искренне заверил я ее. — Ни во что подобное я не верю, как не верю и в то, что в них внезапно возродились наши мифические океанские предки. Посиди с нами сегодня вечером, пока я буду объяснять старому Гидеону, что к чему; реальность наверняка окажется куда более прозаичной, увы.
— Почему же увы? — спросила она.
— Потому что результаты моих поисков потянут лишь на небольшую статью. А если бы фольклор, который ты цитируешь в своей книге, оказался хоть наполовину правдой, она стоила бы Нобелевской премии.
Гидеон Сарджент явился в отель точно в назначенное время. одет он был, смею предположить, в свой лучший выходной костюм, включавший, однако, водолазку с глухим воротом, который полностью закрывал шею. В баре в это время было с полдюжины человек, и приезжие стали бросать на Гидеона любопытствующие взгляды, которые его почти не смутили. Он привык носить свои стигматы.
Он заказал неразбавленный бурбон, но пил медленно, как человек, в намерения которого не входит набраться. Я задал ему несколько вопросов, чтобы узнать, имеет ли он представление о генетике, и обнаружил, что он неплохо знаком с азами. Я решил, что сумею объяснить ему, в чем состоит мой план.
— Мы уже начали читать геном человека, — сказал я ему. — Чтобы довести дело до конца, потребуются коллективные усилия тысяч людей в сотнях исследовательских центров, и все равно на это уйдет лет пятнадцать-двадцать, но главное, у нас есть инструмент. Мы надеемся, что процесс даст нам ответы на некоторые основополагающие вопросы.
Одна проблема в том, что мы не знаем точно, как именно гены кооперируются, чтобы создать ту или иную физическую форму. Мы знаем, какие гены несут информацию о белке, но плохо представляем биохимический процесс, который сообщает растущему эмбриону о том, что он должен стать человеком, а не китом или страусом. А потому, как бы странно это ни казалось, но лучший способ понять, как это происходит — изучить случаи, когда что-то пошло не так, и увидеть, какой там произошел сбой или чего не хватает. Поняв это, можно сделать выводы о том, какова должна быть картина в нормальном случае, когда все происходит правильно. Вот почему генетиков так интересуют человеческие мутации — а меня в особенности интересуют мутации, связанные с изменением внешнего вида.
К сожалению, физические мутации распадаются всего на несколько четко определенных категорий, обычно связанных с радикальным и довольно очевидным разрушением всей хромосомы. Существует очень мало жизнеспособных человеческих мутаций, работающих на уровне более высоком, нежели простое изменение цвета кожи или эпикантуса, который отличает так называемые восточные глаза. И это не удивительно, ведь те изменения, которые возникали в прошлом, были исключены из базы генетических данных естественным отбором или разбавлены гибридизацией. Ирония нашей профессии в том, что пока молекулярная генетика развилась настолько, чтобы научиться различать мутации, закрытые общины с большим количеством внутренних браков почти исчезли по всему миру. Все, что осталось, например, в Америке, это кучка религиозных сообществ, чья база рецессивных генов не представляет для нас особого интереса. Вот почему, прочитав книгу Энн, я сразу решил, что Инсмут наверняка был настоящей сокровищницей для генетиков в двадцатые. Надеюсь, что время еще не упущено и важную информацию еще можно получить.
Гидеон ответил не сразу, и минуту-другую я думал, что он просто ничего не понял. Но вот он заговорил:
— Сейчас мало таких, кто выглядит, как прежде. Иногда признаки возникают с возрастом, но я все меньше вижу таких, у кого они проявляются. Маршей и Уэйтов уже не осталось, а те Элиоты, какие есть, — тут он бросил взгляд на Энн, — в дальнем родстве с теми, которые жили тут в старину.
— Но ведь, кроме тебя, есть и другие, у кого признаки видны, разве не так? — ввернула Энн.
— Есть кое-кто, — признал Гидеон.
— И они не откажутся помочь доктору Стивенсону — если ты их попросишь.
— Может быть, — сказал он. Им владела какая-то тяжелая задумчивость, как будто что-то в нашем разговоре его встревожило. — Только нам-то ничего уже не поможет, так ведь, док?
Мне не надо было переспрашивать, о чем он. Он хотел сказать, что всякое понимание, к которому я приду в процессе своих исследований, будет иметь лишь теоретическое значение. Не в моих силах помочь жителям Инсмута стать такими, как все.
Моя работа ни в каком случае не привела бы к открытию того, что хотя бы с натяжкой можно было назвать лекарством от инсмутских стигматов, да в этом и не было больше нужды. Жители города сами справились со своей проблемой. Я вспомнил, что, говоря о стирании серьезных отклонений во внешности из банка генетических данных, я употребил термин «естественный отбор», и сделал это в смысле скорее эвфемистическом, как это сейчас принято. Селекция наверняка была двунаправленной: новые поселенцы, приехавшие в город после войны, так же не хотели вступать в браки с носителями инсмутской внешности, как те не хотели передавать ее своим детям.
Гидеон Сарджент наверняка был не единственным носителем, который никогда не вступал в брак, и не вступил бы, даже если бы нашлась девушка, выглядевшая так же, как он.
— Мне жаль, Гидеон, — сказал я. — Жестокость ситуации в том, что ваши предки страдали от невежества и предрассудков потому, что генетики еще не существовало, а теперь, когда она есть, вы все равно ничего не выиграете лично для себя из анализа вашего положения. Но давайте не будем недооценивать самого знания, Гидеон. Ваши предки, не обладая пониманием истинной сути вещей, придумали Тайный Орден, чтобы заполнить вакуум невежества и создать иллюзию того, что свалившейся на Инсмут напастью можно гордиться. По той же причине получили распространение и истории вроде тех, которые рассказывал Зэдок Аллен — они ведь давали видимость объяснения тому, что происходило. Мне в самом деле очень жаль, что я не могу помочь вам достичь вашей цели; надеюсь, что вы сможете помочь мне достичь моей. Вы поможете?
Он смотрел на меня своими глазами-блюдцами, такими устрашающими в своей невинности.
— Вы совсем ничего не можете, док? — спросил он. — Я не про глаза и не про кости — уж с чем родились, с тем и помрем. Я про сны, док, — вы можете что-нибудь сделать со снами?
Я неуверенно покосился на Энн. Кажется, в ее книге действительно было что-то про сны, но я не придал этому тогда большого значения. Сны не имели отношения к проблеме, по крайней мере, с точки зрения биохимика. По всей видимости, Гидеон смотрел на вещи иначе; именно в снах был для него корень зла, именно из-за них он и согласился со мной встретиться.
— Все видят сны, Гидеон, — сказала Энн. — Сны ничего не значат.
Резко обернувшись, он уставился на нее своими наводящими жуть глазами.
— И вы тоже видите сны, мисс Энн? — спросил он с заботливой нежностью.
Энн не ответила, и я воспользовался моментом.
— Расскажите мне про сны, Гидеон, — попросил я. — Я не понимаю, с какого они тут боку.
Он снова перевел взгляд на меня, явно удивленный тем, что я не все знаю. В конце концов, я же врач или кто? Я же генный маг, которому известно, из чего сделаны люди.
— Всем носителям снятся сны, — начал он поучительным тоном, старательно произнося слова. — И умираем мы не от того, что у нас не такие глаза или кости, а от снов, в которых нам приказывают идти на риф и бросаться в бездну. Не все справляются с этим, как я, док, — вид у меня похуже, чем у многих, причем с детства, но мы, Сардженты, никогда не отличались суеверностью, не то что Марши, хоть родичи Оубеда и владели всеми его богатствами, пока те не достались Неду Элиоту. Мой дедушка первым завел здесь автобус, чтобы сохранить связь с Аркхэмом после того, как заглохла узкоколейка на Роули. С ума сходят те, кто меняется, док, — а меняются те, кто начинает верить.
— Во что верить, Гидеон? — спокойно спросил я.
— В то, что эти сны — правда… верить в Дагона, Ктулху и Итхи тхиа лъи… в то, что они могут дышать жабрами и донырнуть до самого дна бездны, где их ждет Й’хантхлеи… верить в Жителей Глубин. Вот что случается с носителями, док. Естественный отбор — так, кажется, вы это называете?
Я облизал губы.
— Всем носителям снятся такие сны? — повторил я вопросительно. Если это правда, соображал я, то загадка Инсмута становится еще интереснее. Физическая деформация — это одно, но связанные с ней психотропные эффекты — это уже совсем другое. Меня так и подмывало рассказать Гидеону о том, что другая нерешенная проблема, связанная с работой генов, как раз и состоит в их влиянии на поведение индивида через химию мозга, но это завело бы нас в такие глубины, которые были бы старому рыбаку явно не по силам. Разумеется, у снов могло быть более простое и вероятное объяснение, но, столкнувшись со спокойной настойчивостью Гидеона, я поневоле задумался, нет ли тут чего-нибудь поглубже.
— Сны и внешность всегда идут вместе, — настаивал между тем он. — Мне они снятся всю жизнь. Настоящие ужасы, иногда вообще ни на что не похожие. Словами не опишешь, но верьте слову, док, вы бы не захотели такое увидеть. Про лицо я уже не думаю, сделать бы что-нибудь со снами… я вам всех соберу. Всех до единого.
Я понимал, что это означает увеличение числа тестов, но оно могло того стоить. Если окажется, что сны имеют значение на уровне биохимии, значит, я нашел действительно что-то стоящее. Нобелевскую премию, может, и не получу, но репутацию определенно заработаю. Перспектива открытия целого нового класса галлюциногенов оказалась настолько завораживающей, что я с трудом заставил себя спуститься с небес на землю. «Сначала убей медведя, а потом уже шкуру дели», — напомнил я себе.
— Я ничего не обещаю, Гидеон, — сказал я ему, изо всех сил стараясь произвести впечатление, будто я скромничаю. — Не так-то просто отыскать дефектную ДНК, не говоря уже о том, чтобы расшифровать ее и понять, что именно она делает. И еще должен сказать, что я слабо верю в существование простого ответа, который позволит приступить к непосредственному лечению. Но я сделаю все возможное, чтобы найти объяснение снам, а когда оно будет найдено, мы посмотрим, можно ли что-нибудь предпринять, чтобы их больше не было. Если вы уговорите остальных дать мне образцы крови и тканей, то я приложу все силы.
— Эт можно, — пообещал он мне. Потом встал, видимо, сказав все, что собирался, и услышав то, на что надеялся. Я протянул руку, но он не ответил тем же. Вместо этого он вдруг сказал: — Проводите меня до берега, ладно, док?
Я удивился почти так же сильно, как Энн, но согласился. Выходя, я сказал ей, что вернусь через полчаса.
Сначала мы шли вниз по улице молча. Я уже начал сомневаться в том, что ему на самом деле есть что мне сказать, как я предположил сначала, и это не постой каприз с его стороны. Но когда впереди показалась набережная, он спросил:
— Вы давно знаете мисс Энн, док?
— Шестнадцать лет, — сказал я, но решил не вдаваться в объяснения того факта, что из последних тринадцати лет двенадцать с половиной мы с ней не общались.
— Женитесь на ней, — сказал он так спокойно, как будто это был самый обычный совет, какой один совершенно чужой человек может дать другому. — Увезите ее в Манчестер, а еще лучше — в Англию. Инсмут — плохое место для носителей, даже с нормальным лицом. И не оставляйте это место детям… завещайте все государству или еще кому. Знаю, лок, вы думаете, что я спятил, вы человек ученый и все такое, но я знаю Инсмут, он у меня в костях, в крови и в моих снах. Он того не стоит. Заберите ее отсюда, лок. Пожалуйста.
Я открыл рот, чтобы ответить, но он точно рассчитал свою речь и не дал мне такой возможности. Мы были на одной из узеньких улочек близ набережной, из тех, что пережили пожар, и он уже остановился перед одной развалюхой и отпирал дверь.
— Внутрь не приглашаю, — коротко сказал он. — Неудобно. Доброй ночи, док.
Не успел я вымолвить ни слова, как дверь захлопнулась у меня перед носом.
Гидеон сдержал слово. Он знал, где прячутся другие обитатели Иннсмаута с такими же лицами, как у него, и понимал, как уговорить или застращать их, чтобы они согласились мне помочь. Некоторых он убедил прийти в отель; остальных мне было разрешено посетить у них дома, где они, как настоящие пленники, просидели безвылазно десятки лет.
За неделю я собрал первую группу образцов и увез их в Манчестер. Две недели спустя я вернулся с дополнительным оборудованием и взял еще образцы тканей, частично у людей, которых я уже тестировал, частично — сравнения ради — у их не затронутых изменениями родственников. Я отдался проекту с энтузиазмом, несмотря на массу рутинных дел, которыми должен был заниматься как исследователь и как преподаватель. Скорость, с которой я продвигался, считается в моем деле хорошей — и все же она оказалась недостаточной для жителей Инсмута: хотя мне и так с самого начала было ясно, что никакого лекарства от их дурных снов я не найду.
Через три месяца после нашей первой встречи Гидеон Сарджент погиб в жутком шторме, который разразился внезапно, пока старик рыбачил. Его лодка разбилась о риф Дьявола, а все, что в ней было, включая тело самого Гидеона, нашли позже. Вскрытие выявило, что он умер от перелома шеи, а множественные порезы и синяки его тело получило уже после смерти, пока его лодку носило и било о риф.
Гидеон умер первым из моих подопытных, но не последним. В течение года я потерял еще четверых — все скончались в своих постелях от самых заурядных причин, — и не удивительно, ведь одному из них было за семьдесят, а два других разменяли девятый десяток.
Разумеется, пошли неприятные толки (доказывающие, как обычно бывает со сплетнями, что раз после этого, значит, от этого) о том, что взятие образцов ткани перевозбудило или ослабило этих людей, но Гидеон проделал замечательную работу, убеждая носителей внешности в том, что сотрудничество со мной в их интересах, поэтому никто из оставшихся в живых не выставил меня за порог.
Не осталось никого с такой же замечательной внешностью, как у Гидеона. У тех, кто уцелел после взятия образцов тканей, признаки были недоразвитыми и присутствовали не все — однако и они жаловались на периодически посещающие их сны, настолько кошмарные, что они готовы были избавиться от них любой ценой. Они то и дело спрашивали меня о том, как продвигаются поиски лекарства, но я уходил от прямого ответа, как всегда.
Пока я регулярно ездил в Инсмут и обратно, я, естественно, часто видел Энн и был рад этому. Мы оба были слишком скромны, чтобы открыто расспрашивать друг друга, но со временем я начал понимать, насколько одинока она была в Инсмуте и в каком розовом свете виделись ей теперь годы учебы в Англии. Я понял, почему она решила написать мне, едва узнав о моей работе в Манчестере, и в какой-то момент поверил в то, что она хочет перевести наши дружеские отношения на более прочную и постоянную основу.
Но когда я наконец собрался с мужеством и попросил ее стать моей женой, она отказала.
Видимо, она знала, как сильно огорчит меня ее отказ и как пострадает моя уязвленная гордость, потому что постаралась сделать это как можно тактичнее, но тщетно. — Мне и вправду очень жаль, Дэвид, — уговаривала меня она, — но я просто не могу это сделать. В некотором роде я бы даже хотела выйти за тебя, и очень, — иногда мне бывает так одиноко. Но я не могу оставить Инсмут сейчас. Не могу уехать даже в Манчестер, не говоря уже об Англии, а ведь ты не захочешь остаться в Штатах насовсем, я знаю.
— Это лишь предлог, — возражал я ей тоном мученика. — Я знаю, что тебе принадлежит здесь изрядный кусок недвижимости, но ты сама говорила, что она почти ничего не стоит, к тому же ренту можно собирать и из-за океана — мир полон владельцев жилья, которые живут в одной стране, а сдают — в другой.
— Дело не в этом, — отвечала она. — Дело в том… я не могу объяснить.
— Дело в том, что ты Элиот, да? — спрашивал я обиженно. — Ты думаешь, что не можешь выйти замуж по той же самой причине, по какой Гидеон Сарджент всю жизнь отказывался жениться. В твоей внешности нет и следа инсмутской заразы, но ты видишь сны, так? Ты едва не проболталась об этом Гидеону в тот вечер, когда он приходил в отель.
— Да, — произнесла она едва слышно. — Я вижу сны. Но я не старуха, всю жизнь просидевшая взаперти до твоего прихода. Я знаю, что ты не найдешь лекарства от снов, даже если сможешь объяснить, что их вызывает. Я хорошо понимаю, что может выйти из твоих исследований, а что — нет.
— Не уверен, — ответил я. — Вообще-то я не уверен даже в том, что ты правильно оцениваешь свое положение. Учитывая, что у тебя нет и следов инсмаутской внешности, а также то, что ты не происходишь от здешних Элиотов напрямую, почему ты решила, что твои кошмары — это не просто кошмары, а нечто большее? Ты же сама возразила Гидеону, когда он заговорил об этом впервые, что сны снятся всем. Даже мне они снятся. — Я чуть было не сказал «снились», но вовремя сдержался — это уж было бы откровенное нытье.
— Ты же биохимик, — сказала она. — По-твоему, физическая трансформация — корень проблемы, а сны — явление периферийное. Для жителей Инсмута все по-другому — сны главное, а внешность — их последствие, а не причина. А я одна из них.
— Но ты же образованная женщина! Пусть ты историк, но все же ты имеешь достаточно представления о науке, чтобы знать, какова истинная причина инсмутской внешности. Это генетическое расстройство.
— Я знаю, что Тайный Орден Дагона и похождения капитана Оубеда Марша в Южных морях — мифы, — согласилась она. — Состряпанные, как ты говорил Гидеону, для того, чтобы объяснить сны и не объяснимую ничем иным напасть, вызванную дефективными генами. однако занести эти гены в общину могли, среди прочих, и Элиоты, ген мог передаваться в семье из поколения в поколение еще до переезда в Америку — в Англии, как тебе известно, тоже были свои закрытые общины. Я знаю, что ты взял у меня образцы тканей исключительно, как ты говоришь, в целях сравнения, но все это время я ждала, что ты вот-вот придешь ко мне и скажешь, что нашел ген, ответственный за инсмутскую внешность, и у меня он тоже есть.
— Не имеет значения, — отвечал я жалобно. — Ну, какое это имеет значение? Пожениться-то мы можем?
— Для меня это важно, — сказала она. — И выйти за тебя я не могу.
Наверное, неудача с Энн должна была удвоить мою решимость выследить ДНК, ответственную за синдром Инсмута, хотя бы ради того, чтобы доказать ей: она не носитель, а ее сны — это просто сны. Но этого не случилось; уязвленный ее отказом, я впал в депрессию. Я продолжал работу над проектом так же усердно, как и раньше, но мне день ото дня труднее становилось ездить в Инсмут, останавливаться в отеле, где она жила, ходить по улицам, которыми она владела.
Я стал искать другую женщину, которая помогла бы мне залечить мою эмоциональную травму, а наши отношения с Энн становились все более и более прохладными. Мы больше не были друзьями в самом прямом смысле этого слова, хотя и продолжали притворяться при встрече.
Тем временем члены моей контрольной группы продолжали умирать. На второй год ушли еще трое, и стало особенно очевидно, что, каковы бы ни были мои открытия, людям, чьи ДНК я вижу перед собой, они уже ничем не смогут помочь. Вообще-то для моей программы это не имело значения — образцы ДНК Гидеона и других продолжали существовать, тщательно замороженные, они лежали в холодильнике. Проект продолжался, более того, приносил результаты.
На третий год я наконец нашел то, что искал: инверсию седьмой хромосомы, затрагивавшую семь генов, в том числе три непарных. У гомозиготов, как Гидеон, все гены были парными и изображались обычным путем; у гетерозиготов, к которым относились почти все мои подопытные, в том числе и живые, хромосомы могли образовывать пары только в том случае, если одна из них закольцовывалась, тем самым прекращая функционирование нескольких генов. Что эти гены делали и как, я не знал, но биохимический анализ частично дал мне ответы.
На следующий день я поехал в Инсмут, чтобы сообщить новость Энн. Хотя наши отношения к тому времени окончательно испортились и почти сошли на нет, я все же чувствовал себя обязанным объяснить ей все, что смогу.
— Ты знаешь, в чем заключается закон Геккеля? — спросил я ее, пока мы шли вдоль Мэнаксета, мимо того места, где когда-то стояла ювелирная фабрика Маршей.
— Конечно, — ответила она. — Я все про это читала, еще когда мы начали участвовать в эксперименте. Закон Геккеля гласит, что онтогенез повторяет филогенез — то есть эмбрион, развиваясь, проходит через последовательные стадии, каждая из которых является памятью эволюционной истории организма. однако в последнее время было доказано, что закон нельзя воспринимать буквально, а лишь как своего рода метафору. Я всегда думала, что инсмутская внешность может быть как-то связана с тем моментом развития эмбриона, когда у него появляются жабры.
— Не настоящие жабры, только их следы, — поправил ее я. — Видишь ли, те же структуры эмбриона, которые отвечают за рост жабр у рыбы, у других организмов отвечают за что-то совсем другое; это называется гомологией. Традиционное мышление, сбитое с толку отсутствием истинного понимания того, как именно происходит копирование физических структур, полагает, что когда естественный отбор заменяет одни структуры на другие — к примеру, плавники у рыб постепенно превращаются в лапы амфибий или передние конечности некоторых ящериц становятся крыльями птиц, — то гены, порождающие эти структуры, заменяются на гены, порождающие другие. Но все может происходить и совсем иначе. Возможно, новые гены просто образуются в каких-то местах старых, и тогда те просто отключаются. Поскольку старые гены больше не имеют отражения в структурах взрослого организма, они не подлежат исключению путем естественного отбора, а значит, не теряются, и, хотя их могут попортить накопившиеся со временем случайные мутации — которые тоже не подлежат исключению путем естественного отбора, — выключенные гены могу сохраняться в организмах из поколения в поколение миллионы лет. Если так, то они могут когда-нибудь и проявиться в каком-нибудь конкретном организме, при условии, что произойдет нечто такое, отчего отключение не сработает.
Подумав над моими словами некоторое время, она сказала:
— Из твоих слов следует, что все человеческие существа, а также все млекопитающие, рептилии и амфибии, могут носить в себе гены, отвечающие за развитие рыб. Обычно они спят и не доставляют хлопот организму-хозяину, но при определенных условиях механизм их отключения дает сбой, и тело, в котором они живут, начинает приобретать морфологические признаки рыбы.
— Все правильно, — сказал я. — Именно это я и предлагаю считать причиной инсмутского синдрома. Иногда, как в случае с Гидеоном, он проявляется в начале жизни, даже до рождения. У других носителей процесс начинался уже в зрелом возрасте, возможно, из-за того, что в молодости иммунная система подавляла зарождение исходных мутаций, а с возрастом, когда организм начинал стареть и все системы ослабевали, запускался необходимый механизм.
Следующего вопроса пришлось подождать, но я знал, каким он будет.
— А с какого же боку тут сны? — спросила она.
— Ни с какого, — ответил я ей. — К биологии они не имеют отношения. Как я и думал. Сны — вещь чисто психологическая. Никакого психотропного протеина в нашем случае нет. Речь идет лишь о легкой недоработке отключающего механизма, которая приводит к изменениям физической структуры. Энн, сны приходят оттуда же, откуда возник Тайный Орден Дэгона и фантазии Зэдока Аллена — они реакция на страх, тревогу и стыд. Они заразны и распространяются точно так же, как слухи — люди слышат их и переносят дальше. Носители знают, что должны видеть определенные сны, ведь они носители, и этого знания оказывается достаточно, чтобы сны начали сниться. Вот почему никто не может их толком описать. Даже человек, который не является носителем, но боится им стать, может начать видеть сны под влиянием чистого страха или самовнушения.
В моих словах она услышала упрек, смысл которого был в том, что я с самого начала был прав, а она — ошибалась и у нее не было реальных причин отказываться выходить за меня.
— Хочешь сказать, что мои сны — чистое воображение? — спросила она с обидой. Люди всегда обижаются в таких случаях, даже если им сообщают хорошую новость и сами они ни в чем не виноваты.
— У тебя нет инверсии, Энн. Это совершенно точно, ведь я нашел ген и проверил все образцы. Ты даже не гетерозиготна. У тебя никогда не будет инсмутской внешности и нет никаких причин для того, чтобы не выходить замуж.
Она посмотрела мне прямо в глаза, и взгляд ее был таким же тревожащим, как у Гидеона Сарджента, хотя ее глаза были совершенно нормальными, человеческими, и серыми, как море.
— Ты же никогда не видел шоггота, — сказала она тоном глубокого отчаяния. — А я видела — хотя у меня нет слов, чтобы его описать.
Она не спросила, означают ли мои слова повтор предложения руки и сердца, — наверное, знала, каков будет ответ, или ее собственный ответ ничуть не изменился. Мы еще немного погуляли по берегу мрачной реки, гонящей свои тяжелые воды через пустынный пейзаж. Местность походила на декорации дешевого ужастика.
— Энн, — спросил я ее, — ты веришь мне или нет? У инсмутского синдрома действительно нет психотропного компонента.
— Да, — ответила она. — Я тебе верю.
— Потому что, — продолжал я, — я не хочу видеть, как ты растрачиваешь попусту свою жизнь в таком месте, как это. Я не хочу думать о том, как ты сидишь тут одна, в добровольном изгнании, словно те бедолаги-носители, которые заперлись в своих домах от стыда перед людьми — или которых заперли их отцы и матери, братья и сестры, сыновья и дочери, не понимая, что происходит, веря байкам о шашнях Оубеда Марша с дьяволом или мистериях Дагона. Вот где настоящий-то ужас, понимаешь, — не в страшных снах и не в дурацких ритуалах бывшей масонской ложи, а в том, какое множество жизней погубили суеверие, страх и стыд. Не становись частью этого кошмара, Энн; делай что хочешь, только не поддавайся. Гидеон Сарджент не поддавался — и он однажды сказал мне, хотя тогда я его не понял, что я должен приглядеть за тобой, чтобы и ты тоже не сдавалась.
— Но в конце концов они его достали, ведь так? — сказала она. — Жители Глубин его достали.
— Он погиб от несчастного случая в море, — строго сказал я ей. — Ты это знаешь. Давай обойдемся без мелодрамы, пожалуйста, ты ведь и сама этому не веришь. Ты должна понять, Энн: истинный ужас не в кошмарных снах, а в том, что ты можешь позволить им сделать с тобой.
— Знаю, — ответила она тихо. — Я все понимаю.
Я тоже понимал, в некотором роде. Ее первое письмо ко мне уже было криком о помощи, хотя никто из нас тогда еще этого не знал, но в конце концов она не нашла в себе сил принять помощь, когда я ее предложил, и поверить в найденную мной научную интерпретацию фактов. На когнитивном уровне она понимала, но сны — результат самовнушения или нет — лежали глубже и потому оказались слишком сильны для доводов рассудка.
И в этом, подумал я, крылся новый ужас: правда, даже когда она найдена и раскрыта, недостаточно сильна, чтобы спасти нас от самых отвратительных предрассудков.
У меня долгое время не было повода съездить в Инсмут, и прошло несколько месяцев, прежде чем я наконец нашел причину позвонить. Портье в отеле удивился, что я ничего не слышал — как будто все, известное жителям Инсмута, должно немедленно становиться известно и всем остальным.
Энн умерла.
Утонула в глубокой воде за рифом Дьявола. Ее тело так и не нашли.
Я так и не получил никакой премии за инсмутский проект, и, хотя его теоретическая подоплека довольно любопытна, репутацию он мне не создал, вопреки моим надеждам. В общем-то, из этой работы не вышло ничего, кроме статьи.
Николас Ройл
Возвращение домой
Железнодорожный вокзал «Дунай» в Белграде был холоден и темен, служащие неприветливы. Даниела с трудом подавила желание бросить все и вернуться в свою маленькую комнатку рядом с бульваром Юрия Гагарина. Но она приняла решение, и она его выполнит.
В Белграде было уютно — уровень жизни куда выше, чем где бы то ни было в Румынии, — но все равно не как дома. Ее знаний сербского с трудом хватало на то, чтобы заказать пива или купить автобусный билет. Лишь благодаря помощи других беженцев из Румынии она смогла найти комнату и купить туда большой диван и старый телевизор.
Когда из Румынии начали просачиваться первые сообщения о массовой бойне в Тимишоаре, она сутками сидела возле телевизора и ждала новостей. Мутными от бессонницы глазами она смотрела, как в центре Бухареста толпы людей собираются, по видимости, для того, чтобы выразить поддержку президенту Чаушеску. Она не верила своим глазам. Всего несколько недель назад пала Берлинская стена, из Чехии прогнали коммунистов. А румыны хотят простить режиму Чаушеску убийство тысяч людей в Тимишоаре, не говоря уже о тотальном подчинении всей страны в последние двадцать четыре года.
Люди на площади махали знаменами и слушали, как бормочет с балкона Чаушеску. И тут начало совершаться немыслимое. Даниела застыла на своем диване, едва осмеливаясь дышать из страха пропустить что-нибудь. Кое-где в толпе люди стали бросать знамена наземь и поносить своего президента. Их становилось все больше, и Чаушеску смешался. Он верил, что народ его любит, ведь его подхалимы твердили ему об этом каждый день. Его правая рука рубила и кромсала что-то в воздухе, как будто желая смести зачинщиков беспорядка с лица земли, стереть их, как досадную ошибку.
В ту ночь отряды из рядов Секуритаты — ненавистной тайной полиции — ответили силой. Десятки людей погибли, но дух народа сломить не удалось. В одиннадцать утра на следующий день по телевидению передали, что министр обороны оказался предателем и покончил с собой. Люди увидели в этом событии поворотный момент, и толпа атаковала здание центрального комитета.
Даниела, скорчившись, сидела перед телевизором на полу, ее рот то пересыхал, то наполнялся соками страха и возбуждения. Все ее тело вибрировало, точно взведенная до отказа пружина.
Чаушеску был еще в здании, когда революционная толпа ворвалась внутрь и принялась неистовствовать. По телевизору показали, как его вертолет оторвался от крыши в тот самый миг, когда на нее повалили люди.
Даниела плюнула в экран и взмолилась: Господи, пусть этот вертолет упадет!
Она смотрела, как Секуритата вела свои последние, отчаянные бои против революции, смотрела и в Рождество, когда показывали мертвых Чаушеску, которые лежали на земле, расстрелянные после суда за их суммарные преступления.
Она сидела так близко, что едва не упиралась носом в экран. Вот он, Кондукатор, президент Социалистической Республики Румыния, великий вождь народов Румынии, деспот, который обескровил страну своей безумной затеей выплатить все государственные долги, так что люди в пять утра вставали в очереди за хлебом, а куриные лапки считали пиром. Тиран-параноик, который приказывал протирать сиденье унитаза спиртом до и после того, как воспользоваться им, и отправлял людей на два года в тюрьму за анекдоты о нем, лежал в грязи, воротничок рубашки наглухо застегнут, серое старое лицо опухло, глаза закрылись навеки.
Она прижала телевизор к груди и перекатилась на спину.
Два месяца спустя на вокзале Дунай в Белграде она думала о том, чтобы изменить своему решению вернуться домой, в Румынию. Нет, этого не будет. Она забралась в поезд. Проводник требовал доллары за место в спальном вагоне. Она предложила десять. Он помотал головой.
— А сколько? — спросила она.
— Тридцать, — буркнул он кисло.
Теперь настала очередь Даниелы трясти головой.
— Вот еще, — фыркнула она и пошла искать место. Проблема с Румынской Железной Дорогой заключалась в том, что место резервировалось за пассажиром в момент покупки билета. Но только при путешествии внутри Румынии. В Белграде купить билет с местом было нельзя. Когда они пересекут румынскую границу и в Тимишоаре в поезд сядут люди, у которых будут билеты с местами, Даниела рискует оказаться на полу. И все равно тридцать долларов за спальник — это слишком. Позор и совсем не по-революционному требовать с людей такие деньги.
Поезд катил по северной Сербии, через провинцию Воеводина, и Даниела изнемогала от неменяющегося пейзажа за окном. Возвращение в Румынию сделало ее нервной и напряженной.
После революции прошли несколько недель. С контрреволюцией справились за неделю, после чего агентов Секуритаты выкуривали из их убежищ и либо расстреливали на месте, либо отдавали под суд. Так что бояться было нечего. Она и не боялась: напротив, ее возбуждала мысль о возвращении домой. Только вот возбуждение всегда немного отдает страхом.
Движение поезда укачало ее, и она заснула.
Ей снились картины революции. Те, которые она видела по телевизору, только теперь без посредничества экрана. Танки грохотали по улицам Бухареста, изрыгая клубы выхлопных газов и обстреливая все здания без разбора. Автоматные очереди оставляли глубокие рытвине в гипсовой лепнине обветшалых многоквартирных домов. В одном окне возникло рыло пулемета, за ним показалось чье-то лицо, и на улицу немедленно обрушился поток огня. Какой-то солдат выстрелил, укрывшись за танком. Выстрел попал в цель, и мужчина в окне упал в комнату, а пулемет, кувыркаясь, полетел наружу. Орудийная башня танка сделала поворот на тридцать градусов и плюнула снарядом в дом. Осколки стекла и кирпича брызнули во все стороны, как игрушки, а из нескольких почерневших окон вырвались языки пламени. Продолжая разворачивать башню, танк обстрелял соседний дом и еще один.
Идет процесс очищения, смутно поняла она. Экзорцизм огнем и штукатуркой для изгнания злого духа из города.
Она проснулась с тревожной мыслью о тоннелях. Очевидно, под Бухарестом существовала тайная система подземных ходов, доступ к которым имела только Секуритата. Но тайные агенты бросились врассыпную, как кролики в поисках укрытия, а значит, их потайные места не могут остаться неприкосновенными.
Она опять уснула. Ее разбудили пограничники. Ей, измученной потрясениями последнего времени, они показались автоматами в форме. Сон одолел ее снова. В Тимишоаре поднялся шум и топот, когда обитатели опального города начали штурмовать состав.
— Резерват! Резерват! — тонкими ноющими голосами причитали они, но она захрапела громче, и они отстали.
До Бухареста было еще несколько часов пути. Даниела выскальзывала из сна и снова погружалась в него, как в ванну с мыльной тепловатой водой. Жалкое купе с набившимися в него пассажирами путалось у нее с обрывками снов. В какой-то момент она даже подпрыгнула, когда ей показалось, что в креслах напротив сидят обмякшие Чаушеску и его злодейка жена, оба с распухшими лицами в оспинах от пуль и с отвисшими челюстями.
В какой-то неопределенный миг Даниела сквозь сон ощутила, что стало светать. Ранний утренний свет, мутноватый, как вода, в которой вымыли посуду, размазался по оконному стеклу вперемешку с полосами непрозрачных облаков, точно разводы от тряпки. Двое из ее спутников уже проснулись: небритый старик в помятой мягкой шляпе и болезненный парнишка лет восемнадцати-девятнадцати. Оба были под стать серому утру, без искры революционного энтузиазма, которого она ждала.
Проснувшись, не стоило засыпать снова. Уж очень тревожные были сны. Уставившись в немытое окно, она высматривала в тумане знакомый пейзаж. Но ничего не увидела. Чем дольше она смотрела, тем сильнее становилось ее ощущение отрыва от реальности. Может, Румыния испарилась, оставив лишь этот густой, как в море, туман? Она почти ждала, что за окном вот-вот махнет хвостом проплывающая рыба или какой-нибудь житель морских глубин устремит на нее свой скорбный взгляд.
Должно быть, она все же заснула, потому что пейзаж за окном как-то вдруг сменился окрестностями Бухареста. Туман поднялся, но все еще висел над крышами, закрывая небо; не столько туман, сколько дымка, загрязненная городской копотью и пылью.
Поезд миновал переезд со шлагбаумом, и Даниела заметила отдельные фигуры, бредущие врозь по пыльной улице. одна «Дакия» в длинном ряду автомобилей, припаркованных под скелетами деревьев, выгорела дотла. Она ожидала увидеть что-нибудь подобное.
Но поезд уже грохотал дальше, глубже вползая в город. Она не была здесь всего год, но как все переменилось. В предыдущее десятилетие многие старинные городские здания, и прежде всего церкви, оказались под угрозой уничтожения. Угроза была не пустой. Поезд проехал мимо большого пустыря, заросшего сорняками, в котором Даниела с болью в сердце опознала место, где когда-то стояла одна из старейших католических церквей.
Локомотив затормозил на последнем повороте, состав встряхнулся, и Даниела увидела впереди большую дугу грязно-зеленых вагонов, медленно вползающих под своды Гара де Норд.
Вокзал остался таким, каким она его помнила. Страшным, как смертный грех. Жаждая впечатлений, она вышла на улицу. Там пахло, как прежде, — отходами и гнилыми фруктами. Поскольку в Бухаресте свежих фруктов почти не бывало в продаже, Даниела всегда думала, что причина в неисправной канализации. Ее огорчило то, что революция не оставила в городе своего запаха. Она оглядывалась, ища следы боев, которые показывали по телевизору. В дорожном покрытии были рытвины, но они были и раньше. Люди, встречавшиеся ей на улицах, выглядели, как раньше: больными, запуганными, побежденными. Они не радовались свободе, в их глазах не горел огонь независимости. Тяжесть как будто и не думала падать с их плеч.
Ошеломленная, она пошла прочь от вокзала и окружавших его дешевых отелей и проституток. одна улица пересекала другую и вливалась в третью. Но все они выглядели одинаково. По дороге ей то и дело попадались заколоченные окна с выбитыми стеклами. Все двери были крепко заперты, а ставни, там, где они еще сохранились, закрыты.
Каждый раз, когда она замедляла шаги, из закрытых окон и забаррикадированных дверных проемов до нее доносилась какая-то возня. Эти шелестящие звуки почему-то снова напоминали ей о городской канализации.
На углу стоял замызганный гастроном. Она заглянула внутрь, но ничего не разобрала за огромными тенями и пыльными лучами преломленного света. На улице за ее спиной зашушукались, и она вдруг почувствовала себя неуютно. Она оглянулась. На углу напротив трое ребятишек стояли над какой-то мохнатой кучкой. Приглядевшись, Даниела различила собаку. Она была ранена в пасть, ее челюсти покрывала запекшаяся кровь, а лапы торчали, как палки. Дети смотрели на Даниелу большими, но нелюбопытными глазами. один из них пнул босой ногой собаку в живот. Мертвое животное скребнуло когтями по замусоренному тротуару. Даниела поспешно нырнула в магазин.
И немедленно потерялась в лабиринте полок. На них не было ничего, кроме пыли, которая лежала так густо, что напоминала штабеля дохлых мышей. Даниела повернула в тупик и спугнула паука. Огромный, как связка ключей, он шлепнулся на пол и засеменил под нижнюю полку.
Струйки пота потекли по ее пыльному лбу, дышать стало трудно. Она ринулась назад в поисках выхода. один проход показался ей знакомым, она свернула в него, но оказалась у прилавка. Она успела бы убежать, но тут из густой тени, подрагивавшей, точно занавес, материализовался продавец.
— Что вы хотите? — спросил он дружелюбно. Она подумала, не ловушка ли это.
— Полки пусты, — хрипло прошептала она.
Он показал на полку с пикулями и пресервами позади прилавка. Объяснил, что снабжение пока плохое. Вел он себя вполне доброжелательно, и Даниела решила, что если уж не верить ему, то значит, и никому другому в этом богом забытом городе тоже нельзя верить.
— Я была в отъезде, — сказала она. — Видела все по телевизору. А теперь все опять как раньше.
Продавец пожал плечами под заношенным халатом.
— Чего боятся люди? — спросила она сердито. — Секуритате ведь конец или нет?
Тут продавец нахмурился и прижал к губам пожелтевший палец. Когда его губы разомкнулись, с них сорвался звук, напомнивший ей заколоченные окна. Еще она заметила, что палец продавца как будто показывал на стену над его головой. Прищурившись, она разглядела в тени, под фестонами паутины, фотографию в рамке.
Даниела повернулась и побежала. Она не могла не узнать на фотографии блестящие пуговки глаз и хомячьи щеки бывшего диктатора. Почему же портрет не уничтожили? Тут она налетела на полку и закашляла и зачихала от пыли, которая поднялась ей в лицо, точно рой мух.
Она обрадовалась, когда нашла дверь, но тут же огорчилась, увидев, как трое ребятишек на той стороне улицы, опустившись на корточки перед мертвой собакой, погружают свои длинные костлявые пальцы в ее лопнувший труп.
Обессиленная своими приключениями в гастрономе, Даниела не стала пытаться положить этому ужасу конец. Повернувшись к детям спиной, она пошла дальше и на следующем перекрестке свернула в другую улицу, выглядевшую не столь устрашающе. Выбитых окон и осколков стекла на асфальте и здесь хватало, но тут присутствовали кое-какие обнадеживающие знаки. Работали магазины, из их открытых дверей высовывались хвосты очередей. Дойдя по улице до следующего перекрестка, она свернула на главный бульвар, ведущий прямо к центру города.
Здесь шрамы гражданской войны встречались повсеместно. Выжженные и перевернутые автомобили, целые жилые кварталы, уничтоженные огнем, воронки в асфальте. Нетронутым казался лишь отель «Интерконтиненталь», где, вне всякого сомнения, останавливались иностранные корреспонденты и журналисты. Даниела зашла в несколько магазинов. Фотографии Чаушеску сняли, оставив белые прямоугольники на стенах. Покупать было почти нечего, кроме все тех же вездесущих банок с фруктовыми компотами и кусков залежавшегося сыра.
Она заходила в торговый квартал все дальше. Узкие переулки были полны людей, которые ничего не покупали, а только разглядывали витрины. Даниела не удержалась и принялась сравнивать товары и услуги с теми, которые предлагались в Белграде. По правде говоря, никакого сравнения не было.
Тогда она обратила свое внимание на продавцов. Почти все были убого одеты и погружены в себя. До революции считалось, что в стране каждый четвертый — стукач. Поэтому люди предпочитали держать языки за зубами, и в Бухаресте не было слышно ничего, кроме шаркающих шагов. Даже теперь редко кто обменивался парой слов, как будто, привыкнув молчать, люди разучились говорить.
Если только…
Если только не осталось каких-нибудь серьезных причин для того, чтобы бояться разговоров.
Что-то оборвалось у Даниелы в животе. Сердце яростно забилось. В прежние времена неофициальной формой Секуритаты были спортивные костюмы и кожаные куртки.
Теперь вся улица вокруг нее вдруг оказалась полна людьми, одетыми именно так. В Белграде она привыкла видеть на улицах спортивную одежду и совершенно не обращать внимания на тех, кто в ней. Но в Бухаресте такая одежда кое-что значила.
Темноволосый смуглый мужчина в джинсах и черной кожаной куртке, с сумкой, полной банок и картошки, приближался к Даниеле. У нее стали ватными ноги. Он прошел мимо, глянув ей в глаза, и она почувствовала, как ее душа ощетинилась.
На другой стороне улицы мужчина средних лет в тренировочном костюме изучал витрину обувного магазина. Женщина в длинном черном пальто вышла из магазина и взяла его под руку.
Двое молодых людей неспешно шагали прямо посередине тротуара и смеялись какой-то шутке. Над кем это они? — подумала она, разглядывая их кожаные куртки.
Она не помнила, встречалось ли столько спортивных костюмов и кожаных курток на улицах раньше. Но, может быть, теперь они ничего не значили. Просто после революции их стало легче достать. Да и вообще, Секуритаты ведь больше нет. Фронт Национального Спасения об этом позаботился.
Голова у нее кружилась, она не знала, чему верить. Ей вспомнилась мысль, которая пришла к ней в момент пробуждения в поезде, о тоннелях. Тоннели шли прямо под улицей, на которой она стояла, тайные проходы вели к зданию Центрального Комитета и к Дому Народа. Неужели Секуритата так глубоко вошла и в землю под городом, и в психологию народа, что стала его частью, неотделимой и бессмертной?
Жители Глубин.
Выведенная из равновесия страхом, она побежала по улице, тормозя у дверей магазинов и заглядывая внутрь. Люди останавливались и смотрели на нее. Мужчины в кожаных куртках, женщины в меховых шапках, парни в тренировочных костюмах. У одного магазина она схватилась за дверной косяк и ввалилась внутрь. Там продавали одежду. Дешевые блузки и некачественные джинсы висели справа и слева. Посетители и продавцы смотрели, как она металась меж стоек с одеждой и рылась в блузках, так что вешалки разлетались.
В последнем зале магазина, самом дальнем от входа, она встала, как вкопанная. Ковер на полу был потертый, старый, пол под ее ногами прогибался. Ковер вонял, но все перешибала вонь выделанной кожи. По всей комнате с потолка спускались специальные перекладины, а на них висели черные кожаные куртки. Их были сотни. Посреди комнаты была стойка со спортивными костюмами, их было так много, что вешалки пришлось бы раздвигать с трудом. Краем глаза она заметила, как кто-то шмыгнул из комнаты прочь через узкий проход в занавесе из кожи, украшенном «молниями» и пряжками.
Первой ее мыслью было погнаться за тем человеком, схватить его за плечи и с силой развернуть к себе лицом. Но страх парализовал ее. Изобилие дорогой одежды должно было вызвать у нее облегчение — значит, теперь ее можно свободно купить — но она чувствовала совершенно обратное. Как будто ее изучали. Как будто кожаные куртки и хлопковые штаны уже содержали в себе бдительных и острых на ухо агентов Секуритаты. Она вспомнила, как произнесла имя Чаушеску в фабричной столовой и как целый стол тут же затих. Каждый четвертый из ее коллег напрягал слух в надежде услышать шепотом высказанную критику, остальные в страхе прикусили языки. Неделю спустя она получила несколько ударов по костяшкам пальцев и шлепков от надзирателя за то, что не выполнила свою дневную норму, хотя обычно в таких случаях дело ограничивалось простым выговором. Никаких доказательств того, что между этими двумя случаями была какая-то связь, у нее не было. Но в стране, где правит безумие и страх, доказательства и не нужны.
Она говорила себе, что беспокоиться больше не о чем. Чаушеску и Елена мертвы. Она сама видела их тела по телевизору. Теперь они — одни из Древних. Они стали историей.
Предметы одежды вокруг нее были не более чем тканью, облекающей лишь гнутые куски проволоки.
Они были как саваны на привидениях.
Или пеленки, в которых растет новый, едва народившийся ужас.
Страх — точно раковая опухоль. Тебе уже кажется, что ты от него избавился. И вдруг он разрастается снова.
Даниела вздрогнула и зашагала к дверям. По пути она толкнула куртку, и металлическая вешалка брякнулась на пол, точно паук в том гастрономе. Куртка коснулась ее щеки, и она отпрыгнула: кожа была холодной, как дохлая рыба. Перепуганная, она выскочила из магазина, словно заяц.
Снаружи было не лучше. Сограждане заполнили узкие улицы и переулки, и никому нельзя было доверять. Проскользнув между хвостами очередей, она выбралась из торгового квартала и направилась на бульвары, где легче дышится. Людей там было не больше, чем обнаженных деревьев, под которыми они проходили. Угловатые подростки в плохо сидящих костюмах из полиэстера стояли на карауле у неких дверей, как будто революции не было в помине или это был фильм, снятый для ТВ.
На следующем перекрестке на бульвар въехали двое полицейских на мотоциклах, рев их моторов громом отражался в каньоне, образованном стенами массивных жилых домов. За полицейскими следовали две новенькие черные «Дакии». Через две секунды показался завершающий эскорт. Вся группа набирала скорость, двигаясь прочь от Даниелы.
Ледяная рука стиснула ее внутренности. Почему новые лидеры страны ездят с полицейским эскортом? Ведь Фронт Национального Спасения и есть революция. Им не нужна защита от народа. Они же сами народ. Она пошла дальше. Может, они тоже боятся Секуритаты, как и она. Теперь, когда Чаушеску мертвы, старой тайной полиции нечего терять, и она может оказаться опаснее, чем раньше.
Тоннели, тоннели…
Ей казалось, что она слышит, как они шушукаются в темных лабиринтах, ощупью пробираясь под городом, хоронясь за его фасадами, словно черви в гнилом яблоке. И так же дурно пахнущем.
Она заметила, что пешеходы, заметив черные «Дакии», поспешили слиться с тенями зданий. Теперь они вылезали из своих убежищ, точно слепые, безмозглые твари из-под камней.
Она ступила на дорогу и перешла через улицу. Шагая прямо через промзону, она направлялась туда, где жила раньше, до того, как решила, что с нее хватит, и, собрав рюкзак, пешком отправилась в горы к югу от Резиты, где можно было пересечь границу в утренние часы. Похлопав себя по карману, она с удовлетворением ощутила выпирающую связку ключей.
Чем дальше к юго-востоку она забирала, тем заметнее становились опустошения. Целые кварталы лежали в руинах, в других на нижних этажах были выбиты все окна и двери, а верхние стояли заброшенными. Местами, где люди еще цеплялись за остатки прошлой жизни, рваные оконные занавески колыхались на ветерке, проникавшем сквозь дыры в стеклах. Из одного окна смотрело на улицу лицо. Судя по цвету кожи, его обладатель провел всю жизнь на глубине сотен саженей под землей, без доступа солнечного света. Проходя мимо, Даниела наблюдала за ним, заинтересованная: будет он провожать ее глазами или нет. Глаза остались неподвижны. Ощутив неожиданную легкость, она подумала: неужели отрешенное выражение этого лица — нечто большее, чем просто впечатление? Вообще у этой головы был до того обескровленный вид, что ее вполне могли отрубить от тела, причем довольно давно.
Разочарование ждало ее у дома, где она когда-то жила. Верхние этажи были разрушены, и мусор заполнил квартиры внизу. Даниела обитала в четырех облупленных, потрескавшихся стенах на третьем этаже. Она и теперь еще могла разглядеть свою комнату. Та напоминала гнилой зуб, в котором много лет пировал кариес.
Глаза щипало от слез. Костяшками пальцев она старалась втереть их обратно. Это не бессмысленное разрушение, а жертва во имя народа. Древние умерли, Жители Глубин лишились вождя. И все, что она потеряла при этом — место для сна. Вытащив из кармана бесполезную связку, она швырнула ее в груду мусора у подножия развалин. Потом, вытирая рукавом слезы, побрела восвояси искать укрытия.
С тех самых пор, как она сошла с поезда, на задворках ее сознания теснилась мысль о брате, который жил в юго-западной части столицы. Пятнадцать лет прошло с их последней встречи, да и до того она никогда не посещала его дома, но адрес у нее был.
Она пошла назад, к центру, морща нос от вони, которой несло с боковых переулков, от заброшенных домов и испорченной канализации. Снова оказавшись среди прохожих, она начала украдкой их рассматривать, но теперь ее взгляд то и дело наталкивался на выпученные в ее сторону глаза. За ней наблюдали. Тогда она стала смотреть на тротуар — там, где он был, — или на ухабистую дорогу там, где его не было. Она недоумевала, что именно в ней вызывало подозрение: может быть, купленная в Белграде одежда. Но ведь она была совсем незаметной в сравнении с тем, что там можно было приобрести.
Заметив автобус, она решила, что хорошо бы и ей сесть на какой-нибудь транспорт для экономии времени: скоро начнет темнеть. Автобус встал на светофоре, и Даниела нахмурилась, увидев его выбитые стекла и мятые бока. Весь автобус как будто покрывала туго натянутая пленка грязи. Головы без тел дернулись за толстыми, словно аквариумные, стеклами, когда автобус тронул с места на зеленый.
Даниела содрогнулась при мысли о том, чтобы войти в автобус, где дверцы-гармошки захлопнутся за ее спиной, точно разумные пособники того сомнительного народа, который уже сидит внутри. Среди них она почувствует себя обвиняемой, представшей перед присяжными и судьями. Виновной, пока не докажет обратное. Приговор будет вынесен и приведен в исполнение тут же, в суде. Ведь, в конце концов, именно так народ поступил с Чаушеску. Так что теперь Секуритата возьмет реванш. Внезапно все до одного жители города оказались прислужниками Секуритаты, а она — их добычей.
Еще один автобус остановился у обочины дороги, его дверцы раздвинулись. Даниела повернулась к нему спиной и бросилась в ближайший переулок. Не оглядываясь, она прошла переулок насквозь и вышла с другой стороны. И лишь на следующем перекрестке посмотрела назад. Но там ничего не было. Та же случайная череда битых стекол и заколоченных окон, те же шрамы от пуль и воронки от снарядов. Она продолжала шагать в направлении, которое, как она надеялась, было выбрано правильно, но мужество покинуло ее. То и дело она заглядывала в просветы между домов, — ею владел иррациональный страх перед автобусом: вдруг он преследует ее, двигаясь по параллельной улице.
Скоро она совсем сбилась с пути, зубы застучали от холода. Сумерки искажали природу всего, что было в поле ее зрения. Уличные фонари, это наследие Древних, едва горели. Они, как факел, внесенный в темный дом, не столько рассеивали мглу, сколько сгущали ее. Даниела напрягала глаза, пытаясь прочесть название сотой по счету улицы, в которую она сворачивала сегодня. Она почти отчаялась, когда тени, скрывавшие буквы, вдруг на мгновение расступились, и она увидела: улица Георгиу.
Та самая улица. Иначе быть не может.
Дрожащими от волнения пальцами она вытащила из кармана сложенный листок бумаги и стала вчитываться в него. Название улицы совпадало.
Легким шагом она пошла вниз по улице, рассматривая номера домов. Найдя нужный, она отступила назад и оглядела его. Дом ничем не отличался от своих соседей. Небо над крышами быстро утрачивало цвет. Она взбежала на три лестничных марша вверх, уворачиваясь от кусков свисавшей с потолка штукатурки, огибая кучи мусора. Дверь в квартиру брата была приоткрыта. Она постучала, не рассчитывая на ответ, и тихонько толкнула дверь внутрь. Было слишком темно и ничего не видно. Она щелкнула выключателем, но ничего не произошло.
Мешкая на пороге, она испугалась и не могла ни войти внутрь, ни покинуть квартиру. В здании было тихо, с улицы тоже не доносилось ни звука. Не журчала далее канализации. Пахло в квартире плохо. Все же она ничего не различала в темноте, хотя ее глаза и привыкли.
Проделав такой большой путь, через границы реальные и воображаемые, она не могла просто развернуться и уйти. Что-то — быть может, та самая решимость, которая вывела ее когда-то из страны — толкнуло ее внутрь, в квартиру. Положив руку на стену за выключателем, она медленно пошла. Штукатурка под ее правой рукой была липкой на ощупь. Она продвигалась вперед, вытянув в темноту перед собой левую руку. Вдруг стена кончилась. Она дошла до дверей и теперь стояла, вглядываясь внутрь. Свет снаружи проникал в щели меж досок, которыми заколотили окно. Три-четыре прутика света выдали секреты комнаты: лопнувший матрас с торчавшими из него набивкой и пружинами, расколотый стол и неизбежная мозаика из битого стекла на полу.
Вдруг за ее спиной что-то тихо звякнуло.
Она застыла, затаив дыхание. Может быть, птица бьется под крышей или крыса. А может, и человек. Скрывающийся агент Секуритаты. Отчаянный человек, которому нечего терять.
Она напрягала слух, стараясь уловить еще хотя бы один звук. Но улицы точно вымерли. И тут тихо, как перья, падающие на снег, зашелестели маленькие когтистые лапки.
Крысы. Против крыс она не возражала. Лучше они, чем люди.
Оставаться в квартире было бессмысленно. Брат, судя по всему, давно ее покинул, а без света она не могла ни найти подсказку о том, где он сейчас, ни расчистить себе место для сна. Она опасливо вышла из квартиры и спустилась на улицу. Там было пустынно. Она перешла на другую сторону и дошла до перекрестка. Там она повернула направо и пошла, как она надеялась, к центру.
Она даже успокоилась, снова услышав журчание канализации. Появились прохожие. одни нарочито оборачивались ей вслед; другие, наоборот, жались к стенам, подальше от желтого, как моча, света уличных фонарей. Моргнула жужжащая вывеска отеля. Она попросила номер на одного. Помощник управляющего дал ей формы для заполнения, а потом, после короткого неразборчивого разговора по телефону, и ключ. Она тяжело поднялась на второй этаж и встала, ища глазами номер 25. Освещение было скудным: каждая вторая лампочка была вывернута, оставшиеся 20-ваттки лили мутный, как бульон, свет. Покрутив ключ в руках, она подошла к ближайшей двери. И лишь убедившись, что никто не шел за ней следом и не подслушивает теперь у дверей, начала раздеваться. Бросила свитер на простой деревянный стул у окна. Луна была почти полной. Стягивая через голову рубашку и расстегивая белье, она поймала свое отражение в треснувшем зеркале. Лунный свет льнул к ее коже, как сорочка, делая особенно заметным вытатуированный на плече номер: 20363.
Забравшись в постель, она закуталась в одеяло. Она жалела, что вернулась, и не желала признаться себе в этом. С улицы, несмотря на закрытое окно, слышались шаркающие шаги. однако через полчаса все стихло. Ее клонило ко сну, болели руки и ноги.
От звука за дверью она подпрыгнула, вибрируя от страха. Это были шаги. Она прислушалась, но ничего больше не услышала. Наверное, приснилось. И тут же совершенно отчетливо услышала стук подошв: кто-то прошел по коридору и остановился у ее двери. Звук еще чьих-то шагов донесся с другой стороны, и все повторилось. Голоса забормотали что-то неразборчивое, повышаясь, точно в споре.
Вдруг дверь задрожала на своих петлях. Ручка несколько раз повернулась. Снаружи ударили чем-то тяжелым, и Даниела услышала деревянный треск.
Они вошли, а она не могла пошевелиться: одеяла придавили ее к кровати. Она металась и мычала.
Вдруг дверь сказала громкое краааак.
Она завизжала.
И тут же проснулась, вся в поту, дрожа от страха.
В комнате и за дверью все было тихо. Весь отель был беззвучен, как морг. Свернувшись калачиком под простыней, она попыталась расслабиться.
Она снова шла по городу. По его неразличимым улицам со шрамами, оставленными революцией. Шагала просто так, без всякой цели. одна улица перетекала в другую. Огибая углы, она даже не отдавала себе отчета в том, что меняет направление. Зато ее обонянию приходилось туго. Город вонял канализацией, которая бурлила под его улицами. И вонь только усиливалась. Она шла вперед, мимо затемненных окон и забаррикадированных дверей. По улице ей навстречу волнами катился смрад. В конце улицы она свернула влево, на широкий бульвар, где было безлюдно, как в ранние часы утра, хотя небо было совершенно полуденным. Простор бульвара раскинулся перед ней. Тихо, но непрестанно пульсировал под ногами асфальт. Старые дома исчезли, на их месте возвышались другие, громадные и обтекаемые. Она перешагнула через крышку смотрового колодца и услышала, как под ней что-то ползет. Пахло по-прежнему канализацией, но звук был какой-то плотный, почти телесный. Она подивилась, что за твари ползают под городом.
Жилые дома остались позади. Посреди бульвара были фонтаны из искусственного мрамора и гипса и высокие фонари, изогнутые, словно абордажные крюки. Но вдруг мираж растаял, и она снова оказалась в гуще зловония. Он напомнил ей море, как в Констанце, где смрад городского коллектора смешивался с запахом волн.
Бульвар превратился в огромное пространство, над краем которого, у горизонта, вздымался риф.
И тут же она увидела воду. Она покрывала весь бульвар от того места, где стояла Даниела, до рифа впереди. Даниела тревожно отступила, поскольку вода была нечистой.
Над ней висела дымка, возможно, туман или гнилостные испарения. Пространство напоминало море, в котором плавали человеческие испражнения. Смрад стоял такой, что Даниела рыгнула. В глубине дымки светился риф и, кажется, даже менял свою форму, и без того невнятную. Потом он снова затвердел и стал особенно уродливым и угрожающим, как прежде. Возможно, внутри он был скалой, но его поверхность пересекали многочисленные ходы и норы, похожие на лабиринт. Она гадала, что за твари могут обитать в таком мерзком месте. Тут ей пришла в голову мысль, что это, наверное, просто скопление грязи и отходов, которому волны придали форму скалистого рифа.
Она заметила, что ноги несут ее вперед, прямо в гнилостное мелководье, завизжала и визжала до тех пор, пока не проснулась.
Она села, голова болела от ужасного сна и собственного крика. Вопль звенел в ее ушах, словно записанный на магнитофон. Но отель вокруг был тих. Никто не бежал унимать сумасшедшую женщину. Меж двух похожих на тряпки портьер в комнату грязным бетонным столбом падал утренний свет.
Устрашающий образ рифа, возвышающегося над морем омерзительной грязи, накрепко засел в ее мозгу. Она представляла мириады грязных паразитов, копошащихся на теле хозяина.
Риф ничем не напоминал то, что она увидела вчера в Бухаресте, однако запах канализации и путаный рисунок улиц стали для нее неотъемлемой частью нового ощущения города.
Чувствуя, что утро, должно быть, позднее, Даниела вытащила себя из постели. Из крана над ванной в конце коридора текла тонкая струйка коричневой воды, и она лишний раз вспомнила свой сон.
Внизу помощник управляющего внимательно наблюдал за ней, пока она пересекала фойе, клала ключ на стойку и выходила на улицу. Открывая дверь, она услышала, как он поднял телефонную трубку и с сильным акцентом пробормотал в нее несколько слов.
При свете дня дом брата выглядел непримечательно. Кучки мусора, усеивавшие лестницу, не содержали никакой информации. Она толкнула дверь и вошла.
Квартира была опустошена, но, видимо, не артиллерийским огнем, поскольку потолок и стены уцелели, а обыкновенными вандалами, скорее всего, агентами Секуритаты, когда те подняли мятеж против революции; на стене черной краской было намалевано ПРЕДАТЕЛЬ. Вся мебель до последнего предмета была разбита. Сантехника повреждена кувалдой. Ванна пробита, из раковины и унитаза выбито по куску. Даниела покрутила кран. Трубы застонали, и вода того же цвета, что во сне, брызнула ей на руку. Она тут же отдернула ее и, содрогаясь от отвращения, вытерла о брюки. однако она заметила, что вода продолжала течь и скоро из коричневой стала прозрачной. Обследуя остальные комнаты, она подивилась размерам апартаментов брата. И задумалась, почему он так хорошо жил.
Доску в изголовье его кровати изрубили в щепки, но изножьем еще вполне можно было пользоваться. Она притащила из передней комнаты вспоротый матрас и положила его на кровать целой стороной вверх. Может, если удастся найти простыни и какое-нибудь одеяло, то не надо будет возвращаться в отель.
Она работала часа два или больше, выметая из квартиры горы мусора и сохраняя каждую уцелевшую мелочь. Тряпками, найденными под расколотой раковиной, и водой из-под крана она попыталась хотя бы частично убрать грязь со стены кухни. Движимая решимостью спасти остатки своей прежней жизни в этом городе, а вовсе не связью с братом, которую считала эфемерной, она отчаянно терла и скребла стену. Но усталость скоро взяла свое, и она поняла, что без нужных материалов ей с грязью не справиться. В передней комнате было еще граффити, которое она тоже намеревалась стереть. Ее брат был патриотом. Она не сомневалась, что, пока громили его квартиру, он митинговал в городе. И, хотя они никогда не были близки, она вдруг испытала к нему приступ любви и нежности. «Пусть с ним все будет хорошо», — молилась она, а в ее уме мелькали образы — он погребен под рухнувшим зданием, или брошен в общую могилу, и чужая нога закрывает ему лицо, или лежит, свернувшись калачиком, у исчирканной пулями стены, как мертвый тиран.
Она вышла из квартиры поискать чистящие средства, а заодно подышать свежим воздухом. Она прилагала все усилия, чтобы не испугаться улицы. Ей казалось, что ее личные усилия по устранению Секуритаты должны придать ей сил. Выбрав новый маршрут, который, как она надеялась, приведет ее к магазинам — в районе отеля не было ни одного, — она подпрыгнула, когда в соседнем квартале выстрелила машина.
Хмурая утренняя облачность развеялась совсем немного. Тем не менее, когда она повернула на бульвар, там посветлело. Для середины дня тротуары были удивительно пустынны. По обе стороны стояли современные дома, не столь унылые, но зато более банальные, чем прежние. Пройдя сквозь ряд изысканных фонтанов, она встала как вкопанная.
Ее сердце пропустило удар, а потом забилось как бешеное. Рот пересох, на лбу выступил пот.
Перед ней плескалось грязное море из ее сна, над которым мерцал риф.
Ей стало плохо. Страх затопил рот. Кожу словно кололи иголками.
Мираж исчез, на его месте остался Новый Дворец Народа, окруженный морем искусственного мрамора. Она узнала дворец, последнюю причуду Чаушеску, который видела по телевизору в репортажах о его строительстве. Эту часть города систематически разоряли, превращая в Новый Бухарест. Теперь она вспомнила, что новые дома, мимо которых она проходила, предназначались для агентов Секуритаты. Ходили слухи, будто и сам Дворец, и эти дома связаны тайными ходами с существующей под городом системой тоннелей.
Она снова посмотрела на Дворец. И завизжала. Он снова стал рифом. От мерзкого запаха она рыгнула. Извергнув поток желчи в море, она шарахнулась от него назад.
Но у ее ног был лишь искусственный мрамор, запачканный невольно извергнутым отвращением. Дворец с его массивным фасадом, стрельчатыми окнами и глубокими арками походил на риф так сильно, как будто она смоделировала его во сне по образу и подобию сияющего чудища.
Оторвавшись от созерцания Дворца, она пошла дальше в поисках моющих средств и тряпок. однако нашла она только ведерко жидкой белой краски и толстую кисть. Продолжая работу над стеной в кухне, она с тревогой думала о Дворце и его оборотной стороне — рифе. Еще ее беспокоили мысли о новых домах и особенно о канализации, о тоннелях…
Если аду суждено снова воскреснуть на земле, то его насельники, несомненно, выползут из этих тоннелей.
Она макнула в краску кисть и провела по стене широкую полосу. «Замазываю», — подумала она. Но по ее ощущениям то, чем она занималась, было честнее. От ствола отделили больную ветку, и она забеливала обрубок, чтобы сохранить его от паразитов. Может быть, брат вернется и поблагодарит ее за старания. Но теперь ее больше всего занимала практическая задача — как сделать квартиру обитаемой. Конечно, она могла в любой момент вернуться в Белград, но она чувствовала себя связанной с Бухарестом. Она вернулась домой. Ее семья, единственная, какая у нее была на этом свете, осталась здесь. Где-то здесь. Она макала кисть и мазала стену. Макала и мазала.
В передней комнате она закрасила оскорбление, ПРЕДАТЕЛЬ. Но, отступив, она увидела, что слово все еще можно прочесть, и наложила еще несколько слоев. Она дотягивалась до каждого уголка и приседала перед стеной на корточки.
Вдруг она перестала красить. Что-то привлекло ее взгляд; косая надпись в самом низу стены. Стерев пятно грязи, скрывавшее граффити, она увидела: «Даниела. 20363». Ее сердце подпрыгнуло, хотя она не могла понять, от чего именно. От любви к брату, которого она почти не знала, или от страха перед тем, что ее личный номер и имя вот так запросто нацарапаны на стене? Написал ли он его от страха и волнения, внушенного революцией, которая захватила город? Может, он беспокоился, в безопасности ли она. Или, наоборот, обвинял ее и проклинал за что-то? Или это подонки, оскорбившие ее брата, намеревались прийти за ней, не зная, что она еще год назад сбежала из страны? Но зачем писать на стене ее номер и имя? И как они вообще узнали номер, вытатуированный на ее левом плече?
Нет, это написал брат, ему нужна была помощь, но он не знал, как с ней связаться. Он ведь наверняка видел номер, когда они были детьми в Приюте Номер Шесть. До того, как их разлучили. Как он запомнил этот номер, будучи еще совсем ребенком, было для нее загадкой. Но он запомнил. У нее защипало глаза, и она подумала о том, какими были их родители. Наверняка они страдали и умерли молодыми. Она не знала их имен и никогда не видела их портретов, но тупая боль от их потери, которая всегда жила в ней, вспыхивала время от времени с новой силой, как приступ язвы.
Огромная тяжесть жалости к себе внезапно опустилась на ее плечи. Лишенная родителей, она не видела ни одного проявления любви в заведениях, где ее воспитали; а теперь у нее не было и брата, который разделил бы ее боль. Бросив кисть в банку с краской, она побрела в спальню, где легла на холодный, сырой матрас и свернулась клубком.
Жители Глубин. Древние.
Тоннели, тоннели…
Тревога продолжала грызть ее до тех пор, пока сон, таившийся в темных углах комнаты, не выбрался из них и не забрал ее с собой.
Риф гордо высился над смрадным морем. Воздух вибрировал, но риф стоял твердо, как скала.
Защипало глаз. Она потерла его пальцем, но причина раздражения не исчезла. Она яростно заморгала, надеясь смахнуть надоедливую соринку. Не вышло. Тут она заметила на рифе огоньки и удивилась, откуда они взялись. Может быть, если она не ошиблась насчет происхождения рифа, в нем откладывают свои личинки мухи, и это их зеленоватые крылья поблескивают в лучах зимнего солнца.
Она снова потерла глаз. В нем была соринка, что-то крохотное и черное. Солнце снова взблеснуло на крыльях, ослепив ее на миг.
Полусонная, она протерла глаза. Они горели, как будто их промыли соленой водой. Что-то ярко светило прямо в них. Закрыв глаза пальцами, она сильно надавила, почувствовала, как подались внутрь глазные яблоки, и продолжала с силой тереть.
Тут она поняла, откуда идет свет, и, затенив глаза ладонью, приоткрыла их. Узкий луч солнца пробрался в заднее окно и светил прямо в лицо Даниеле. Она повернулась на бок, к окну спиной. Ее голова была все еще занята рифом, мухами, кишащими на нем, морем грязи вокруг, но солнышко так приятно пригревало ей сзади шею, что ужасающие образы стали утрачивать остроту.
Она вспомнила вчерашнюю покраску и задумалась о том, чего, собственно, хотела достичь в Бухаресте. Хотя это не очень чувствовалось, но город изменился безвозвратно. Оба тирана мертвы — она сама видела их изрешеченные пулями тела по телевизору, — и страна впервые за двадцать четыре года вздохнула свободно. Солнечный луч соскользнул с ее шеи и уперся в стену напротив, высветив сырой нарост. Надо продолжать, поняла она. Ее дом в этом городе. Белград был просто остановкой. Солнечный луч полз по полу, обшаривая одну за другой разбитые половицы. Она снова ненадолго вспомнила своих давно умерших родителей. Луч добрался до большой щели между двумя половицами, и из-под пола что-то блеснуло. Даниела с любопытством подняла голову. Луч глубже вошел в щель, что-то блеснуло снова, а потом засверкало прямо ей в лицо.
Она развернулась и сползла на пол. Приподняв половицу так, чтобы прошла рука, она нашарила под ней пластиковый футляр. Осторожно вытянув его через дырку, она положила его перед собой на пол.
Сердце Даниелы часто билось. В голове роились вопросы. У нее было такое чувство, словно она держит своего потерянного брата за руку и он вот-вот с ней заговорит.
В футляре оказались две фотографии, карта Бухареста, на которой шариковой ручкой были проведены линии вдоль определенных улиц, смыкавшихся друг с другом, и два письма, адресованные брату и подписанные «Даниела».
Сначала она решила, что у брата случился роман с какой-то женщиной, которую звали так же, как и ее. Пока не начала читать первое письмо. Пока не поняла, что письмо написано якобы ею самой в ответ на другое, полученное от него. У нее все хорошо, она живет в Констанце, говорилось в письме. Работает на ткацкой фабрике, зарабатывает неплохие деньги, вступила в партию.
Во втором письме было сказано, что она с большой теплотой вспоминает детство, но что в Констанце ей хорошо и она не имеет ни малейшего желания возвращаться в Бухарест.
Видимо, брата обманули этой историей, и он попросил разрешения увидеть ее. И его упрятали. Она не была в Констанце с ранней юности, когда ее ненадолго перевели в сиротский приют на Черном море. однако, судя по почтовым штемпелям, письма пришли оттуда совсем недавно.
Письма ее расстроили. О предназначении карты она могла лишь догадываться. Но фотографии… Там, где она ожидала найти драгоценные снимки любимых родителей, оказались официальные портреты диктатора и его жены, в полном здравии.
Глядя на вечно юную улыбку тирана и спокойное, чуть вытянутое лицо его жены, она почувствовала, как ее желудок завязывается узлом.
Мозг неохотно зашевелился, припоминая граффити ПРЕДАТЕЛЬ на стене передней и дополняя логическое уравнение недостающими данными. Зря она решила, что это написали агенты Секуритаты.
Она шла по знакомым улицам и чувствовала, что из каждого окна, даже из тех, что были заколочены досками, на нее устремлен чей-то взгляд.
Теперь она вспомнила, что говорили телерепортеры, рассказывая о революции в Румынии. Оказалось, что многих румынских сирот помещали в специальные заведения, где их с младых ногтей учили любить и почитать диктатора и его жену, как только дети научались распознавать лица на фотографиях. Они вырастали, любя Николае и Елену как своих приемных родителей, и потом с легкостью превращались в личную охрану вождей — чернорубашечников.
Последняя улица привела ее на бульвар, и перед ней засияли громады жилых домов.
Они составляли самое надежное и безжалостное подразделение Секуритаты. Так говорили репортеры по телевизору. И у нее не было причин сомневаться в их словах. ПРЕДАТЕЛЬ. Семейные фото его приемных родителей. Ее имя и детдомовский номер, нацарапанные на стене.
Дворец сверкал за фонтанами, в сотнях окон играли солнечные лучи. У нее защипало глаз. Какая-то соринка попала в него и мешала смотреть. Она заморгала, но продолжала идти, хотя в голове у нее звенело.
В Белграде она видела по телевизору стоячие кадры, на которых оба Чаушеску лежали у стены, насквозь прошитые пулями.
Раздался тихий пульсирующий звук.
Тоннели, тоннели…
После суда Чаушеску вывели из зала под охраной, в присутствии специально набранной группы судей и наблюдателей. Человек с камерой шел позади и еще не добрался до выхода, когда прозвучали выстрелы. Вот почему он снял только трупы, но не саму казнь.
Или даже так: капля макияжа, немного притворства, и вся история оказывается разыгранной, как по нотам.
Соринка в глазу увеличивалась в размерах, пульсация превратилась в шум в ушах. Дворец сиял. Тоннели молчали.
Когда соринка превратилась в вертолет, а Даниела поняла, кто возвращается на нем домой, она уже бежала по морю засохшей грязи к мерцающему рифу. Пока они, худые и потрепанные, но живые, высаживались на крышу Дворца Народа, Даниела подбежала к первой попавшейся двери и забарабанила в нее. Здание отталкивало и притягивало ее, пугало и восхищало в одно и то же время, и она во весь голос требовала, чтобы ее впустили.
Властелин вернулся, и жизнь, а с ней и смерть начинались снова.
Дэвид Лэнгфорд
Дипнет
Зимой 1990 года я наконец собрал воедино подозрения, копившиеся целое десятилетие, и почти пожалел, что копнул так глубоко. Открытие правды о мире может оказаться столь же сокрушительным, как и узнавание правды о самом себе. Возможно, вверив свои беспорядочные мысли диску, я начну мыслить яснее и найду способ избежать следующего шага, который сейчас представляется мне катастрофически неизбежным.
Моя дочь…
Центром тайны, которую, как мне представляется, я открыл, является крошечный американский портовый городок, где сам я никогда не был, но у моей покойной жены Джанин жила там то ли тетя, то ли двоюродная сестра. (Слишком много лет прошло, и я уже не помню все, что она говорила, дословно, хотя и жалею об этом.) Все равно, его название знают все в нашем деле, хотя пользователи редко сознательно обращают на него внимание. Первое, что они видят на экране, запуская любой компьютер марки Дипворд, это возникающий на фоне волнообразного дизайна, пусть и на долю секунды, значок авторского права Дипворд Коммьюникейшн Инкорпорейтед, Инсмут, Массачусетс.
Сам я сейчас пользуюсь версией 6.01. Несмотря на все мои недавние подозрения, я привык к плавной гладкости ее работы. Все программисты клянутся, что наша индустрия развивается стремительно и всегда находится «на переднем крае», но в душе большинство моих коллег — приверженцы традиции и ритуала. Освоить новую комбинацию клавиш, чтобы перейти на более совершенную программу и сберечь время? Нам некогда.
Теперь я жалею, что не нашел времени послушать Джанин, когда она рассказывала мне о своем визите к провинциальным родственникам. Ее образ меркнет в море воспоминаний, память отредактировала его, стерев былую жизнерадостность и оставив застывшее лицо, как на единственном сохранившемся у меня снимке (Джанин всегда плохо выходила на фото). Что же она говорила… что-то смешное, но я не слушал, а раздумывал над программным кодом. Заброшенный городок на побережье, в окружении тоскливых соляных пустошей, его немногочисленные обитатели — готовые персонажи «Негостеприимной фермы», скособоченные поколениями близкородственных браков: «Аррр, — смешно копировала она, — да ты, как я погляжу, не из наших, ишь, на какие каблучищи влезла, хе, хе… И так далее, в том же духе». Останься она жить, ей было бы сейчас не до шуток.
В рекламном проспекте много трепа о том, как благосостояние вернулось в заброшенные дома, едва волшебная палочка программной индустрии коснулась города на заре всеобщей компьютеризации. Новые фривеи прорезали соляные трясины. В 70-е и 80-е Дипнет превратился в интернационального монстра, чьи щупальца раскинулись повсюду. Деревенщины и генетические мутанты уцелели только в колонке юмора наших профессиональных газет; так мы, по крайней мере, думали.
Я прерываюсь. Сара своим густым, затрудненным голосом, который я научился понимать, сообщает мне, что хочет поиграть на моей резервной машине в компьютерную игру. Ее десятый день рождения не за горами, скоро придется покупать ей отдельный компьютер. Джанин хотела много детей, но Сара — все, что у меня есть. Я очень ее люблю.
И все же я жалею, что она совсем не похожа на Джанин, которая была красива.
Когда тайная история нашего времени станет явной, боюсь, Джанин заслужит в ней особого упоминания как одна из первых жертв. Ведь нас только сейчас начинают предупреждать о том, что беременным женщинам следует остерегаться электромагнитного излучения, в особенности исходящего от мониторов. Под серебристой рябью окружающего нас мира всегда прячется какой-нибудь монстр, как когда-то талидомид.
В те дни невинности, когда компьютеры были медлительнее и примитивнее, чем сейчас, и наверняка лишены какой-либо защиты от утечки электромагнитного излучения, мы с Джанин были бедны. Доход, который приносили ее технические тексты, был для нас важен, и она до самого конца беременности почти не вставала из-за клавиатуры. Хуже того, она была близорука (что придавало взгляду ее серых глаз замечательную отстраненность) и сидела, буквально уткнувшись в монитор.
В те последние месяцы она пользовалась программой Дипнет 1.6.
Лучше не считать, сколько времени из последних отпущенных нам месяцев мы провели вместе. Когда я закруглялся со своей подработкой, мы с Джанин зачастую уставали до такой степени, что могли только молча сидеть и смотреть друг на друга помутившимися глазами, как сквозь воду.
Разумеется, я сказал, что пойду с ней на роды; как обычно, она поняла мои истинные чувства и ответила, что незачем корчить из себя мученика. Даже став такой большой, что с трудом могла повернуться в постели, Джанин не утратила доброты и чувства юмора. Все продолжалось очень долго: для меня это были одиннадцать часов в серой комнате ожидания, где несло кофе и дезинфекцией, ее последние одиннадцать часов. Никогда прежде я не видел, чтобы профессиональная медсестра так угрюмо выражала соболезнования, как та молоденькая, которая даже проговорилась, стоит ли ставить на искусственное жизнеобеспечение младенца.
Думаю, пройдет не так уж много лет, и наша трагедия станет классическим примером чрезмерного воздействия электромагнитного излучения в период беременности и его патогенного влияния на развитие тканей, в особенности младенческих. Отсюда выкидыши, лейкемия у младенцев и аномальное развитие плода.
Сару мне некоторое время не показывали. (Джанин не показали вообще.) Возможно, трудные роды перекрутили ее мягкие косточки, придав им невозможную форму, а потом они расслабились, как это бывает у младенцев, и заняли нормальное — или почти нормальное — положение. Никто так и не объяснил мне, откуда взялись швы по бокам ее горла. Жалко, что не удалось расспросить ту первую медсестру, ей явно было не по себе.
Должен признать, что Сара настоящая дурнушка.
Наблюдая, как она неуклюжими пальчиками играет в квест «Подводный мир», я вспоминаю, что и я в некотором роде бывал в трансатлантическом доме Дипнета. Демонстрационный диск их системы графического дизайна высокого разрешения под названием ШОГГОТ представляет собой один большой спецэффект, экскурсию по улицам Инсмута, когда кажется, будто ты плывешь по ним безо всяких усилий.
Город является местом странных контрастов, над которыми доминируют огромные приземистые строения комплекса Дипнет. Среди его крыш одна-две стилизованы под старинные мансарды, но есть и аутентичные старинные дома из кирпича и камня, причудливо выступающие из моря новой застройки. Для всесторонней демонстрации возможностей ЗД-программного обеспечения добавили несколько фантазийных штрихов. один из фабричных монолитов представляет собой, как на гравюрах Эскера, геометрически невозможную фигуру со вновь входящими углами; и я более чем уверен, что в реальном Инсмуте на центральной площади не стоит 20-футовая пирамида, к тому же вращающаяся, медленно, но неоспоримо.
Как и все программные продукты этого производителя, ШОГГОТ на удивление быстро вызывает привыкание. Быть может, все дело в светотени. Изобретательные программисты решили не тащить зрителя со сверхзвуковой скоростью по грубо сработанным моделям улиц, как это обычно бывает в компьютерных играх, но предпочли открывать свое творение зрителю медленно, шаг за шагом, что, вкупе с зеленоватым колыханием экрана, создают полную иллюзию движения под водой.
«Восторг глубин», так описывала Джанин мое состояние, когда я забывал себя, погрузившись в недра компьютерного терминала. Это была шутка, но она стала горькой с тех пор, как я задумался о том, как мало времени мы проводили вместе и как подолгу я сидел в компьютере, восторженно создавая программные коды.
В ШОГГОТЕ намеренно отсутствует все то, что в качестве программистского фольклора время от времени всплывает на страницах разных профессиональных изданий. Например, в «Компьютер Дейли» недавно пытались шутить на тему истории о том, что из главного здания Дипнета выходит якобы 45-дюймовый оптоволоконный кабель многоканальной связи, который опускается в эстуарий Мэнаксета и оттуда идет в море, к рифу Дьявола, где и пропадает. Соперничающее с ними издание «Компьютинг» то и дело отпускает шутки о местных работниках-мутантах, с выпученными от постоянного сидения за мониторами глазами, которые трудятся в глубинах комплекса и никогда не выходят на свет, по крайней мере, днем.
Свое мнение об этих сплетнях я оставлю при себе. Нечто подобное, если не хуже, наверняка говорят и о ДЕКе, и об АйБиЭм, и о любой другой обособленной компании.
Хотя, если верить пословице, дыма без огня не бывает…
Подозрения давят на меня, как глубокая вода.
Но что их порождает — прозрение или безумие? Слишком много совпадений подозрительны (тут я вспоминаю о том, что излучение монитора, как считается, способно вызывать рак мозга или суицидальную депрессию). Полностью признаю, что у меня нет никакой статистики и основанных на ней доказательств. Будь у меня больше друзей, я бы, наверное, знал не только о случаях с Джанни или Джо Пенник, Хелен Уир и еще парой незнакомых мне людей из школы рядом с моим домом в Беркшире.
О Джанни я рассказал. С другими все случилось позже.
Мы, программисты-контрактники, ведем скитальческий образ жизни, переходим из одной компании в другую, где трудимся изолированно от других служащих, которые завидуют нашему мастерству и гонорарам. Иногда мы обмениваемся профессиональными сплетнями в барах (многие из нас — люди пьющие). Так я и узнал…
Миссис Пенник пристрастилась к Дипворд 2.2 в том же состоянии и примерно по тем же причинам, что и Джанин. Она умерла от осложнений вскоре после рождения сына Питера. В случае с мисс Уир это была программа крупных таблиц Дипкальк 1.14, дочка Роза и беспричинное самоубийство месяц-другой спустя. Неизвестное остается неизвестным, и у меня нет никакого права гадать о том, какова роль компьютерных программ в этом деле. И все же кошмарная убежденность завладевает мной всякий раз, когда я вижу (а это бывает нередко) детишек компьютерного века, у которых, надо полагать, есть где-то родители или родитель, и которые так сильно похожи на абсолютно чужих друг другу Сару, Питера и Розу. Очень похожи.
Мне сказали, что политически корректно называть это «экзофтальмический».
Я только выдвигаю гипотезу. И даже не смею сознаться в том, что сам в нее верю. В конце концов, изучение электромагнитных полей еще не дало никаких неоспоримых результатов. Но предположим, только предположим… Похоже, что тот маленький порт в Массачусетсе давно пользуется чудной репутацией. К его поразительным обитателям нередко применяли термин «кровосмешение». А что, если это произошло не случайно, а в результате осознанной политики?
«Дипнет, — написано в типичной рекламной листовке, которая лежит у меня под рукой. — Вашему бизнесу хватит плескаться у берега. Наши углубленные программы помогут вашим компьютерным изображениям обрести глубину. Компьютерное обеспечение с берега моря…»
Под влиянием жутковатой подводной образности многих продуктов Дипнет (даже включая их процессор, первое, что видишь на экране — стилизованные волны) слово «кровосмешение» превращается у меня на глазах в «смешение», а потом в «возвращение», и я вспоминаю, что жизнь на земле впервые возникла в море. А еще я против воли вспоминаю швы на шейке Сары, когда ей было всего несколько часов от роду, и то, что они могли скрывать.
С величайшей осмотрительностью я позволяю себе предположить, что вредоносность электромагнитного излучения монитора частично зависит от программы, которая оживляет этот монитор; также я напоминаю себе, что исследования этого излучения и его влияния на биологические объекты продолжаются тридцать лет; и, наконец, задаюсь вопросом, а не могла ли какая-нибудь фирма — производитель программного обеспечения поставить своей целью лет этак двенадцать назад разработку софта, оказывающего определенное влияние на беременных пользовательниц?
Что, если инсмутские дети подрастают повсюду вокруг нас?
«Дипнет. Новые огромные возможности от старой, признанной на рынке компании. Программное обеспечение для нового поколения. Ждем ваших вопросов на инсмут@дипнет. ком.»
И последний щекотливый вопрос касается «Подводного квеста» моей дочери, компьютерного бестселлера, получившего множество наград за «удовольствие, не замаранное насилием». Игроков учат добиваться цели, не убивая огромных и безобидных обитателей виртуального мира этой игры, слегка похожих на лягушек, а сотрудничая с ними. Все вполне экологически безупречно. Скоро обещан выход полной версии виртуальной реальности.
Что-то в водянистом сверкании их графики заставило меня броситься на поиски буклета с инструкцией и посмотреть название производителя. ППП: Пелагический Программный Продукт, дочерняя компания, полностью подчиненная Дипнет Коммьюникейшнз Инк. Значит, это их послание новому поколению.
Дойдя в своих размышлениях до этого пункта, я был поражен внезапным воспоминанием: Джанин, как живая, встала перед моими глазами и со своей обычной лукавинкой назвала меня «сексистской скотиной». Значит, беременным женщинам, «слабому полу», я выдумал жуткие последствия сидения за монитором, а про себя-то, часами работавшего над программами Дипнет, забыл? Ведь двенадцать лет прошло, как-никак. На моем-то теле, в моем мозгу никакие эффекты, что ли, не сказались?
Больше всего меня пугает то, что я, кажется, знаю ответ на этот вопрос. Через несколько лет, когда придет время, ее время, это знание, наверное, уничтожит меня, если я сам не наложу на себя руки. Вот и сейчас, пока я печатаю эти предложения и они появляются передо мной на экране в текстовом редакторе программы Дипворд 6.01, мой лоб и ладони покрывает противная испарина.
«Дипнет. Место встречи лучших из молодого и старого поколений. Семья программных продуктов, уверенно плывущая по течению завтрашнего дня».
Смешение и кровосмешение. От нечаянного прозрения меня бросает в жар. Обернувшись, чтобы взглянуть на Сару, я вижу ее выпуклые глаза, восхищенно прикованные к компьютеру, мягкий зеленоватый отсвет, который он бросает на ее широкое лицо. Я вдруг ощущаю исходящий от нее морской, солоноватый запах, и чувствую, что люблю ее и хочу ее.
Майкл Маршалл Смит
Увидеть море
Когда автобус добрался до вершины холма, с которого наконец-то открывался вид на океан, Сьюзан повернулась ко мне.
— Я вижу море! — сказала она, совсем как четырехлетняя девочка. Улыбнувшись в ответ, я обнял ее за плечи, и мы оба стали смотреть в окно. Вид за полупрозрачными отражениями наших лиц состоял из узкой полосы светло-серого облака над широким простором темно-серого моря. Море лизало скалистый пляж, который тоже был серым.
Водитель, похоже, был не готов послать предусмотрительность ко всем чертям и отказаться от наложенного им на себя ограничения скорости в тридцать миль в час, так что мы приготовились ждать. Мы и так уже не меньше двух часов петляли по пустынным проселкам, ведущим к берегу Еще каких-нибудь тридцать минут нас не убьют.
Зато теперь мы, по крайней мере, могли видеть то, ради чего приехали, и, наблюдая в стекле отражение наших исполненных добродушия глаз, я чувствовал, как мы оба расслабляемся. Море, по правде говоря, выглядело не столь заманчиво, как где-нибудь на Бонди-бич, да и конец октября не самое удачное время для подобной поездки, но все же лучше, чем ничего. Лучше, чем сидеть в Лондоне.
Все четыре месяца, что мы со Сьюзан провели вместе, жизнь нас не баловала. Мы работали в одной коммуникационной компании, где все держалось на агрессии и страхе. Вообще-то работа обещала быть интересной, но почему-то каждый день в офисе превращался в блуждание по пустыне некомпетентности, где мы увязали по колено в песке мелких свар. Любое дело, за которое бралась наша компания, выполнялось небрежно и неумело: даже наша автостоянка, и та была сплошная катастрофа. Ее спланировали в форме клина, а значит, каждый раз, когда кому-нибудь надо было выезжать из дальнего конца, всем остальным, чьи машины стояли ближе к краю, приходилось бросать все, выходить на улицу и отгонять их, освобождая уезжающим путь. Да еще и наша собственная машина отказывалась заводиться каждые две недели, несмотря на регулярные визиты на станцию техосмотра, которая тоже располагалась так неудобно, что хуже не придумаешь.
Квартира, в которой мы поселились, была великолепна, но и там нас преследовали сонмы надоедливых мелких проблем. Бойлер, который гас дважды в день, находился как раз под кухней, так что нам регулярно нечем было помыть посуду. Лампочки в квартире перегорали с интервалом минут в сорок, причем каждая оказывалась сделана где-нибудь в Сомали, так что найти подобную в местных магазинах не представлялось возможным. Живший под нами старый хрыч умудрялся сочетать тугоухость, из-за которой его телевизор весь день работал на громкости рок-концерта, с удивительной чуткостью, из-за чего он орал на нас по ночам, если мы осмеливались хотя бы вздохнуть после одиннадцати.
До самого четверга мы думали провести уикенд дома, как всегда. Обычно к концу рабочей недели мы выдыхались настолько, что сама мысль о том, чтобы собирать вещи, проверять давление в шинах и тащиться куда-то за город, была невыносима. Но тут опять накрылась машина, причем в пятницу вечером, тем самым неожиданно сподвигнув нас на поездку. Наверное, эта случайность просто истощила наше терпение, добавив последний, лишний камешек к пустынному берегу неприятностей, который и без того окружал нас, куда ни глянь.
— К черту, — фыркнула Сьюзен, когда в тот вечер мы кое-как добрались до дома. — Поехали за город.
Утром мы поднялись насупленные, взяли по паре белья, зубной щетке и книжке и угрюмо потопали к ближайшей станции метро. И вот, отметившись, кажется, на всех поездах, существующих в расписании железных дорог Британии, мы прибыли на место. Ну, или почти прибыли.
Пока престарелый автобус, дребезжа, спускался к берегу, мы заметили указатель, согласно которому до Доутона оставалось всего восемь миль. Судя по состоянию знака, местоположение деревни не особо занимало окрестных жителей. Название черными печатными буквами значилось на стреле, которая была когда-то белой, но теперь посерела и покрылась потеками от многочисленных дождей. Вид у нее был такой, словно никому никогда и в голову не приходило ее помыть.
Вообще говоря, все мелкие неприятности, которые отравляли каждый наш день, были сами по себе незначительными. Убивало их количество и беспощадность, с которой они преследовали нас. В результате мы постоянно дергались и не были самими собой. Но в этом, как ни странно, было и свое преимущество: мы быстро узнали друг друга, в том числе и те стороны наших характеров, которые при нормальном положении вещей еще не скоро вышли бы на поверхность. В отчаянных попытках вернуть душевное равновесие мы открывались друг другу, выбалтывали каждый свои секреты.
Один из таких секретов, поведанный как-то поздно вечером, когда мы оба порядком устали и были на взводе, касался матери Сьюзан. Я уже знал, что та оставила несмываемую печать на психике дочери, бросив ее и мужа, когда Сьюзан было всего пять, и так никогда и не позаботившись дать о себе знать. Потребность в защите была одной из причин, толкнувших Сью в объятия ее смехотворного прежнего друга. Но оказалось, что мать еще до своего ухода успела передать дочери и другой страх.
В 1955 году, за десять лет до рождения Сьюзан и за пять лет до замужества, Джеральдин Стэнбери отправилась в отпуск. Отсутствовала она три недели — ездила с подругами из колледжа в круиз по европейским портам. На обратном пути их корабль под названием «Олдвинкль» приближался к английскому берегу в сильный шторм, когда случилось несчастье. Судно неожиданно налетело на неизвестно откуда взявшуюся скалу, которая распорола его корпус ниже ватерлинии, отправив его ко дну. Но бывшим на его борту людям невероятно повезло: один отсек корабля каким-то чудом сохранил водонепроницаемость, и все триста десять пассажиров плюс команда набились туда и до утра ждали помощи. В общем, живы остались все, и, может быть, поэтому крушение «Олдвинкля» не врезалось в память людей, как другие истории морских катастроф.
Мать часто рассказывала Сьюзан эту историю в детстве и всегда делала ударение на том, как страшно было там, на дне, ждать помощи и не знать, придет она или нет. Когда Сьюзан сама рассказала мне об этом однажды вечером, напряженно сидя на ковре нашей гостиной, я был так шокирован, что даже временно протрезвел и сел рядом с ней, чтобы держать ее за руку. За пару недель до того мы с ней чуть не поссорились, обсуждая, куда поедем в отпуск, наступление которого предвкушали. Я, чье детство прошло в приморском городке, люблю море и предложил поехать в Сан-Августин во Флориде. Она уклончиво возражала и предлагала что-нибудь подальше от берега. После того рассказа я лучше понимал, почему.
После того как миссис Стэнбери ушла, история ее чудесного спасения продолжала тревожить ее дочь, хотя и по-иному. Она росла, и у нее появлялись вопросы. К примеру, почему на берегу не было огня, который предупреждал бы корабли об опасности. И почему никто в ближайшей деревне не поднял тревогу до самого утра. Ведь судно пошло ко дну прямо в виду берега, может ли быть, чтобы его крушение осталось никем не замеченным? А если кто-то его все-таки видел, то почему молчал до тех пор, когда уже должно было быть слишком поздно?
Деревня, о которой шла речь, носила название Доутон и представляла собой крошечное поселение на западном побережье Англии. В ту ночь, обнимая Сьюзан, чтобы своим теплом растопить то недоумение, в котором она застыла за годы поисков ответов на свои вопросы, я обещал ей, что мы когда-нибудь съездим туда и прогоним тревоживших ее духов. Конечно, все дело в том, что никто просто не видел, как затонул корабль, иначе наверняка подняли бы тревогу. А маяки иногда тоже подводят.
Утром, когда мы, оба страдая от похмелья, поднялись на работу, такая поездка казалась уже не столь важной. однако в следующие две недели нам случилось провести еще парочку вечеров в пабе, где нас нельзя было достать с надоевшей работы, и мысль о поездке всплыла опять. В жизни — моей и ее — настало время генеральной уборки. Разобраться со своей жизнью, выбросить из нее все следы прошлого, которые могли так или иначе угрожать нашему совместному будущему, было одним из способов укротить лавину повседневности, которая все еще время от времени грозила погрести нас под собой.
Вот почему в пятницу, когда Сьюзан потребовала, чтобы мы провели выходной вне города, я предложил съездить в Доутон, и она согласилась.
Я заметил, что чем ближе наш архаический автобус подбирался к деревне, тем сильнее нервничала Сьюзан. Мне хотелось пошутить о чем угодно. Но я не успел ничего придумать, когда она заговорила:
— Здесь так спокойно.
Так оно и было. За последние десять-пятнадцать минут мы не встретили ни одной машины. Хотя что удивительного: чем ближе день клонился к вечеру, тем хуже становилась погода, а, судя по размерам деревушки на карте, в ней не было ничего такого, зачем туда поехали бы люди, кроме, конечно, тех, кто там жил. Так я и сказал.
— Да, но все же. — Я хотел спросить ее, что она имеет в виду, когда мне в глаза бросились развалины фермы недалеко от дороги. На единственной уцелевшей стене кто-то нарисовал свастику. Моргнув, я показал на нее Сьюзан, и мы оба покачали головами, как это делают либералы среднего класса, когда сталкиваются с силами неразумного.
— Погоди-ка, — сказала она секунду спустя. — А разве ее не наоборот рисуют? — Она была права, и я расхохотался. — Господи, — сказала она. — Это же надо быть настолько глупым, чтобы нарисовать эту гадость, и то неправильно.
Потом наше внимание привлекла стая чаек, вынырнувшая откуда-то из-за автобуса. Птицы были тощие и несимпатичные, они неорганизованно, но с какой-то угрозой кружили около окна. Наблюдая за ними, я все время думал о том, что напоминает мне эта свастика и кому понадобилось забраться в такую глушь, чтобы нарисовать ее здесь. До Доутона было еще две мили. Мне показалось, что ехать сюда, чтобы малевать на никому не нужной стене — слишком долго; с другой стороны, вряд ли такой крохотный приморский городишко раздирают расовые противоречия.
Десять минут спустя автобус обогнул последний поворот, и впереди показалась деревня Доутон. Я повернулся к Сьюзан и посмотрел на нее, приподняв брови. Она глядела вперед, не отрываясь. Вздохнув, я принялся вытаскивать из-под сиденья нашу сумку Оставалось только надеяться, что Сьюзан не ждет от этой сонной деревушки слишком многого. Чего я сам ожидал от этого уикенда, не знаю: ну, переночуем в занюханном бед энд брекфасте, да, может, прогуляемся по набережной до обеда. Я представлял, как Сьюзан будет вытягивать шею, заглядывая вдаль и пытаясь нарисовать в своем воображении то место, где ее мать чуть не рассталась с жизнью, а потом все кончится. Наутро мы отправимся в Лондон. На что еще тут можно надеяться: на чудодейственный поцелуй, исцеляющий все раны детства?
— Вы сходите или как?
Мы вздрогнули и повернулись к началу салона. Автобус встал, по-видимому, где придется, не доехав до крайних потрепанных домов на противоположной морю стороне дороги ярдов пятидесяти.
— Прошу прощения? — переспросил я.
— Автобус останавливается здесь.
Я посмотрел на Сьюзан, и мы расхохотались.
— Что, неужели и ста ярдов до деревни не проедете?
— Здесь останавливаюсь, — повторил шофер. — Решайте.
Не скрывая своего раздражения, мы вылезли из автобуса на обочину. Двери еще не успели закрыться, а водитель уже подал машину назад. Развернувшись в три приема, причем на большей скорости, чем та, с которой он сюда ехал, он помчался прочь от деревни.
— Удивительный человек, — сказала Сьюзан.
— Скорее, удивительная сволочь. — Повернувшись, я заглянул за низкую каменную стену, у которой нас высадили. Каменный спуск, довольно ветхий, вел вниз, к узкой полосе галечного пляжа, о который довольно сильно билась небольшая волна. — И что теперь?
Оттуда, где мы стояли, берег поворачивал влево, так что деревня открылась перед нами во всей красе. Вся набережная состояла из таких же лачуг, как те, до которых мы не доехали, а где-то посредине был виден разрыв — там, наверное, была площадь. Остальные жилища образовывали две улицы позади набережной, причем задние лепились к почти отвесным утесам, отстоявшим от берега на пару сотен ярдов. Над всей деревней витал дух медленного распада, забвения и запустения. Те немногие машины, которые стояли на улицах, были старыми и побитыми, а тонкие струйки дыма, сочившиеся из пары каминных труб в разных концах деревни, лишь усиливали общее впечатление заброшенности. Сьюзен, похоже, уже жалела о том, что мы туда приехали.
— Я так виновата. Нам не следовало сюда приезжать.
— Конечно, следовало. На нашем автоответчике уже, поди, живого места не осталось от сообщений, и я лично рад, что слушает их он, а не мы.
— Но здесь так уныло. — Она была права. Именно уныло, а вовсе не спокойно. Спокойно может быть где угодно. Само слово «спокойствие» означает просто отсутствие шума. Доутон был другим. Даже присутствие шума не сделало бы его живее.
— Доутон — унылое место, — сказал я, и она хихикнула. — Пошли. Поищем отвратительную гостиницу, где ни в одном номере нет телевизора, не говоря уже о чайнике или кофеварке.
Она схватила мою руку, поцеловала меня в нос, и мы пошли. Не пройдя и ярда, мы увидели на тротуаре еще одну свастику — полузасыпанная песком, она была нарисована, очевидно, гораздо раньше первой. И тоже неправильно. Озадаченный, я покачал головой, и, переступив через нее, мы пошли дальше, к домам.
— Думаю, можно попробовать зайти в этот.
— Как, по-твоему?
— На вид ничем не лучше того.
— Нет, не лучше.
Мы стояли на углу площади в Доутоне, перед входом во второй деревенский паб. Первый мы уже забраковали по дороге из гостиницы. Конечно, мы не ожидали найти там музыкальный автомат с сиди-дисками и жареный камамбер, но понадеялись, что найдем получше. однако теперь у нас возникли сомнения.
Сьюзан склонилась вперед и заглянула в витрину.
— Можем пойти прямиком в ресторан, — предложил я.
— Если он тут есть.
В конце концов, мы немного нервно решили пропустить сначала по рюмочке в пабе. По крайней мере, владелец хоть подскажет, где тут городской ресторан. Сьюзан толкнула тяжелую деревянную дверь, и я последовал за ней.
Паб состоял из одной комнаты с голыми стенами. Несмотря на холод, в камине не горел огонь, а старое, покрытое пятнами дерево, преобладавшее в отделке помещения, не добавляло атмосфере тепла. Вокруг похожих на каменные плиты столов стояли многочисленные стулья с потрепанными подушками на сиденьях. Пол был дощатый, на истертых половицах лежали кое-где линялые половики. Ни в самой комнате, ни за стойкой не было ни души.
Неуверенно переглянувшись, мы направились к стойке, и я заглянул за нее. Пространство за ней оказалось длинным и узким, как коридор, который уходил за пределы той комнаты, где мы были. Вытянув шею, я разглядел, что за стеной есть еще комната. Там мог располагаться другой бар, но было темно, и ни пивных кранов, ни стойки для стаканов я не заметил. Я сказал об этом Сьюзан, и мы оба нахмурились. В другом конце бара была дверь, закрытая. Я подумал и крикнул:
— Эй!
Крикнул я не то чтобы громко — гробовая тишина заведения подействовала на меня несколько устрашающе, — но все-таки мой голос прозвучал довольно резко. Мы оба поежились и стали ждать, что дверь в конце коридора вот-вот с грохотом распахнется. Ничего подобного не случилось, и я снова повторил свое «алло», на этот раз чуть громче.
Тихий звук, возможно, отклик, вроде бы раздался из-за двери. Я говорю «вроде бы», потому что звук был ну очень тихим и неожиданно далеким. Не желая больше орать — вдруг нас и так услышали — мы пожали плечами и взгромоздились на потертые табуреты у стойки.
Ситуация до странности напоминала ту, в которую мы попали, войдя в гостиницу, где нам предстояло ночевать. Не прошли мы и десяти домов от окраины деревни, где нас бесцеремонно высадил водитель автобуса, как вдруг на фасаде одного из них заметили бесцеремонно приколоченную гвоздями доску, на которой было написано, что в доме сдаются на ночь комнаты. Мы вошли и несколько минут топтались у стойки, пока из комнаты за ней не приковыляла к нам на помощь какая-то старуха.
Комната, в которую нас провели, оказалась маленькой, неприятной и окнами не на море. А потолок в ней был такой низкий, что, прежде чем войти, поневоле хотелось надеть сначала каску. Поскольку гостиница показалась нам совершенно пустой, мы попросили женщину дать нам другую комнату, с видом на море, но та только покачала головой. Сьюзан с ее пристрастием торговаться, начала рассуждать вслух о том, не сможет ли пара лишних фунтов обеспечить нам желаемый вид. Но женщина опять покачала головой и сказала, что все номера «заказаны».
Возможную причину отказа я обнаружил позже, когда сидел внизу в общей гостиной, и ждал, пока Сьюзан переоденется. Комната была неопрятной и темной, несмотря на большое окно, так что по доброй воле я бы там и минуты лишней не провел. А уж мысль о том, чтобы использовать эту комнату для отдыха, казалась мне смехотворной. Набивка в креслах была комковатая, сами они были какие-то неопрятные и до того чудные, что их, казалось, делали совершенно не для людей, а из окна были видны только угрюмое серое море и облака. Я сидел там только потому, что наша крохотная комнатенка уже надоела мне до смерти, и еще потому, что надеялся разжиться информацией о том, где в этом городишке можно поесть.
Поначалу я ничего не нашел, и это показалось мне странным. Обычно гостиницы мелких приморских городков кишат всякого рода рекламными буклетами, которые владельцы разбрасывают где ни попадя в надежде, что описание какой-нибудь занудной достопримечательности милях в тридцати от города побудит неосторожного туриста остаться еще на одну ночь. однако хозяева нашего ночлега явно желали, чтобы постояльцы судили об их заведении лишь на основании его собственных достоинств, либо им было наплевать на все. Тщательно обыскав все горизонтальные поверхности, я даже визитки завалящей не нашел. Я без всякого энтузиазма подумывал, не отправиться ли мне на поиски старой карги, чтобы спросить у нее совета, как вдруг увидел кое-что на подоконнике. Это был буклетик, отпечатанный на ксероксе и скрепленный степлером, с надписью на обложке «Фестиваль в Доутоне». И дата — 30 октября — то есть завтра.
Редакторская статья с общей информацией о фестивале отсутствовала, сказано было только, что праздник начнется в три часа пополудни. По всей видимости, неведомая увеселительная программа заканчивалась поздно вечером, отсюда и убожество нашего ночлега. Комнаты получше, должно быть, заказали на две ночи вперед участники этого события, наверняка самого унылого на всем западном побережье.
Ничего интересного в этом буклете, напечатанном на машинке до того неаккуратно, что местами текст вообще не походил на английский, я не нашел. Большую часть и без того немногочисленных страниц занимала реклама каких-то фирм, занимающихся непонятно чем. Ни одного упоминания о ресторане тоже не было. Центральный разворот был целиком отведен под жуткого качества фотографии местных знаменитостей, среди которых оказалась, хотите верьте, хотите нет, и некая мисс Доутон. Ее фото особенно сильно пострадало от многократных копирований, так что изображение на нем было почти неразличимо. Ее фигура сливалась с фоном, отчего она казалась довольно толстой, а бледное пятно лица вытянулось так сильно, что выглядело почти уродливым.
Я уже хотел было крикнуть снова, на этот раз громче, когда дверь в конце бара как будто затрепетала. Сьюзан вздрогнула, а я, приготовившись, встал.
Дверь не отворилась. Вместо этого мы оба услышали далекий звук шагов по мокрому тротуару. Во всяком случае, было так похоже, что я даже обернулся к входной двери, ожидая, что ручка сейчас повернется и в паб войдет кто-нибудь из местных. Но этого не случилось, и я продолжил наблюдать за другой дверью. Звук не стихал, медленно приближаясь. Теперь шаги казались гулкими, словно им вторило эхо. Сьюзан и я снова переглянулись, слегка нахмурившись.
Шаги замерли по ту сторону двери, настала долгая пауза. Я уже начал сомневаться, не стоило ли нам войти в первый бар, когда дверь наконец распахнулась, и за стойку бара шагнул человек. Не бросив на нас даже взгляда, он тщательно закрыл за собой дверь и обратил все свое внимание на древний кассовый аппарат. Открыв поворотом рычажка кассу, он начал бесцельно перебирать мелочь внутри.
Думаю, мы оба считали, что через минуту-другую он это прекратит, хотя он не подал никаких признаков того, что заметил нас. Он и не прекратил, тогда Сьюзан пихнула меня в бок, и я кашлянул слегка. Мужчина тут же стремительно повернулся к нам, чем совершенно меня ошарашил, и замер, приподняв брови. Собравшись с духом, я улыбнулся ему, — надеюсь, улыбка получилась дружелюбной, а не нервической.
— Добрый вечер, — сказал я. Человек за стойкой не шелохнулся. Так и замер вполоборота, не вынимая пальцев из кассы и не опуская бровей. Даже не моргал. Я заметил, что глаза у него были немного выпученные, а кожа за ушами шелушилась так, что казалась чешуйчатой. Его короткие черные волосы были уложены по довоенной моде и блестели, густо намазанные бриолином или чем-то в этом роде. Прямо привет из прошлого. Или откуда он там взялся.
Прошло добрых десять секунд, а он все молчал, и я попробовал снова:
— Можно нам лагер на двоих, пожалуйста?
Едва я заговорил, мужчина снова повернулся к кассе. Я кончил, он помолчал и наконец заговорил:
— Нет.
— А, — ответил я. Вообще-то это был не ответ, а моя реакция на следующую фразу бармена, которую я ожидал.
— Пива нет.
Я моргнул.
— Совсем?
Ничего не добавив к своему последнему заявлению, он закрыл кассу и стал переставлять крохотные стаканчики с одной полки на другую, по-прежнему стоя к нам спиной. Стаканчики имели дюйма три в высоту и очень странную форму, и я, хоть убей, не понимал, что из них можно было пить и зачем их надо было двигать с места на место.
— Тогда, может быть, джин, — услышал я голос Сьюзан, довольно ровный, хотя и несколько напряженный, — с тоником? — Обычно она просила добавить туда лимон, но тут, думаю, поняла, что не стоит перегибать палку.
Ей он вообще не ответил. Когда все маленькие стаканчики были передвинуты, мужчина снова открыл кассу. Несмотря на все возрастающее чувство неловкости, я начинал понемногу раздражаться и, глянув на Сьюзан, покачал головой. Она смотрела на меня без улыбки, ее лицо немного вытянулось. Я снова перевел взгляд на бармена и, кое-что заметив, даже подался вперед, чтобы разглядеть получше.
Волосы у него были не набриолиненные. Они были мокрые. Крошечные капли кое-где свисали с кончиков волос, а воротничок рубашки совсем промок. Немного раньше шел дождь, но совсем небольшой, так, морось. Мы прошли под ним почти весь путь от нашей гостиницы до паба и остались почти сухими. Так почему же он такой мокрый? И зачем он вообще выходил на улицу? Разве ему не положено смотреть за своими — на удивление свободными от пива — кранами?
Возможно, он просто помыл голову, хотя это тоже маловероятно. Не этот человек, и не в такое время суток. И уж конечно, в таком случае он вытер бы их насухо, чтобы капли не стекали ему за воротник и не мочили рубашку. Вытянув еще чуть-чуть шею, я заметил, что туфли у него тоже мокрые, отсюда и те странные шаги, которые мы слышали. Откуда же он явился? И почему у него мокрые волосы?
Внезапно мужчина захлопнул кассу и сделал шаг ко мне, оказавшись прямо у стойки. Ошеломленный, я продолжал разглядывать его, а он лишь провел по мне взглядом так, словно я был куском линялых обоев.
— Есть у вас хоть что-нибудь выпить? — спросил наконец я. Он слегка нахмурился, потом его лицо опять утратило всякое выражение.
— И где здесь место, в котором можно поесть? — вставила Сьюзан. Голос у нее был почти сердитый, а это значило, что она не на шутку напугана.
Человек посмотрел на меня еще минуту и поднял правую руку. Я слегка моргнул, но оказалось, что он просто показывает. Вытянув руку и не сводя с меня глаз, он показывал в противоположном направлении, на дверь. То есть, насколько я мог понять, в направлении места, где продавали еду.
— Спасибо, — отозвался я. — Спасибо большое. — Сьюзан уже соскользнула со своего табурета и шла к двери. Догоняя ее, я все время чувствовал щекотание в затылке, как будто ждал, что в него вот-вот что-нибудь врежется. Но все обошлось, Сьюзан открыла дверь и шагнула наружу Я вышел за ней и обернулся, чтобы закрыть дверь. Хозяин заведения так и стоял с поднятой рукой, лицом к нам, следя глазами за Сьюзан. То ли свет упал на него по-другому, то ли вел он себя слишком уж странно, но мне вдруг показалось, будто в его лице промелькнуло что-то новое, чего я не заметил раньше. Но что именно, я не понял.
Первым, на что я обратил внимание, шагнув на тротуар, был дождь: он пошел сильнее, и его косые струи были особенно хорошо видны под редкими тусклыми фонарями. Вторым была Сьюзан, которая застыла в неловкой позе, всем телом к улице, а лицом и плечами развернувшись ко мне. Она смотрела вверх, слегка приоткрыв рот.
— Что? — спросил я немного резко. Я не был зол, скорее, напуган. Она молчала. Я встал рядом с ней и тоже обернулся.
Я никогда не обращаю внимания на названия пабов. Обычно я хожу в те места, которые знаю, и как они называются, мне безразлично. А если мне случается зайти в новый паб, тогда я просто… ну, просто не замечаю его названия. Да и вывески вечно так высоко, и нет в них ничего интересного. Короче, когда мы входили в паб, я не видел, как он называется. Зато увидел теперь.
Вывеска была старая и побитая, деревянная окантовка вся в темных пятнах. Рваная, плохо различимая картинка изображала неуклюже нарисованный корабль, который тонул под хлещущими волнами. Под ним было написано название. Паб назывался «Олдвинкль».
В десять мы отодвинули тарелки, закурили сигареты и вообще почувствовали себя лучше. Руководствуясь только, мягко говоря, немногословными указаниями хозяина паба, мы еще побродили немного по набережной, кутаясь в пальто и не обмениваясь ни словом. Набережная вот-вот должна была кончиться, и мы уже подумывали повернуть назад, как вдруг увидели домик, в котором горел свет. Окно в доме явно было расширено и занимало почти всю стену, так что сквозь него мы видели накрытые столы. Они были свободны.
Мы еще постояли снаружи, раздумывая, хватит ли у нас сил испытать новую версию доутонского гостеприимства, как вдруг в глубине комнаты показался молодой человек. На нем была аккуратная форма официанта, и, по крайней мере, издалека мы не заметили в его поведении ничего такого, что внушило бы нам тревогу. Напротив, даже глядя на него сквозь стекло, мы обратили внимание, что его манеры выгодно отличают его от всех, кого мы встретили в Доутоне до сих пор, и решились отбросить сомнения и войти.
Официант сердечно приветствовал нас и усадил за стол, и напряжение, которое, как я запоздало почувствовал, росло в нас целый день, стало понемногу спадать. Молодой человек, как выяснилось, сам был и хозяином заведения, и поваром, а жил за городом. Он сам сказал нам это, когда мы в самом начале ужина заметили, что он совсем не похож на других местных обитателей, встреченных нами за день. Скоро подоспело главное блюдо, и он удалился в кухню, оставив нас с тарелками наедине.
За едой мы довольно много пили. Еще садясь за стол, мы знали, что так будет, и сразу, не теряя времени, заказали две бутылки вина. На улице мы почти все время молчали, не потому, что нам нечего было друг другу сказать, а потому, что сказать хотелось слишком многое. Сьюзан к тому же не глядела на море, хотя раз или два мне казалось, что она вот-вот обернется.
— Почему они так назвали паб?
Сьюзан все еще слегка трясло, когда она заговорила. Не сильно, должно было случиться что-нибудь действительно из ряда вон, чтобы довести ее до такого состояния. Но руки у нее обычно не дрожат, а тогда я видел, как вилка ходила ходуном у нее в руке, пока она ждала моего ответа. однако у меня было время подумать, и я выдал ей версию, которая, как я надеялся, звучала довольно-таки разумно:
— Наверное, это потому, что ничего интереснее в этих краях отродясь не случалось.
Сьюзан поглядела на меня и решительно помотала головой, отправляя в рот следующий кусок вполне сносной баранины. Вообще-то мы собирались заказать рыбу, решив, что здесь, как и во всяком другом приморском городе, рыба должна быть в изобилии, и были крайне удивлены, не обнаружив в меню ни одного рыбного блюда. Я задал на этот счет вопрос официанту, но он только смутно улыбнулся и покачал головой.
— Нет, — сказала она наконец. — Дело не в этом.
Я открыл было рот, чтобы настоять на своем, но, подумав, закрыл его снова. Мне и самому в это не верилось. Может, из-за поведения хозяина паба, а может, из-за атмосферы в городе в целом. То ли цвет неба, то ли угол, под которым падал на землю дождь, но что-то мешало мне поверить, будто название паба — просто воспоминание. В самой картине, в ее стиле или цветовой гамме было что-то странное, путано-необъяснимое, похожее на намек. Да и вообще, назвать паб в честь корабля, затонувшего при довольно сомнительных обстоятельствах, и написать это название на вывеске-картине, как будто предназначенной для прославления этого события, — это уже не просто милая эксцентрическая выходка.
Но мы прибыли в город не ради подобных рассуждений, и я видел свой прямой долг в том, чтобы ограждать от них Сьюзан. В истории с названием паба было, конечно, кое-что непонятное, но это вовсе не значило, что местные жители сознательно причинили вред «Олдвинклю» тридцать с лишним лет назад. Ведь это же просто бессмысленно: ну какой им мог быть от этого прок? одним словом, мне вовсе не хотелось, чтобы этот уикенд укрепил Сьюзан в ее подозрениях. Рассказы матери и так на всю жизнь научили ее недоверию к людям. Мы и приехали сюда как раз для того, чтобы это недоверие разрушить, а не добавлять ему оснований.
Поэтому я перевел разговор с вывески паба на его хозяина. Это была благодатная тема, и мы не без сарказма смаковали ее до тех пор, пока не оказались по ту сторону десерта, оба изрядно навеселе и с заплетающимися языками. Поэтому, когда появился официант с нашим кофе, я надеялся, что Сьюзан оставила черные мысли позади.
Я ошибся. Едва он остановился возле нашего столика, она обернулась к нему.
— А что вы знаете об «Олдвинкле»? — спросила она с вызовом. Молочник в руке официанта застыл на мгновение в воздухе, но тут же опустился на скатерть. А может, и нет. Может, мне все только показалось.
— Это паб, — ответил официант. Сьюзан сделала еще попытку, но ничего больше не добилась. Официант, как он сказал нам сразу, жил за городом и в Доутон приезжал только на работу. Он сел за соседний столик, пока мы приканчивали третью бутылку вина, и мы немного поболтали. Бизнес хиреет, сообщил он нам, еще немного, и мы не застали бы его здесь. Если и дальше так пойдет, то через неделю-другую придется закрываться. Местные жители просто не ходят в рестораны, вот и сегодня вечером мы были его единственными клиентами.
Мы поинтересовались, чем же заняты местные по вечерам. Он не знал. Пока мы говорили, я ощутил в нем какую-то скованность, словно он предпочел бы обсуждать все, что угодно, кроме этого городка и привычек его обитателей. А может, это я сам уже превращался в параноика. До меня начало потихоньку доходить, что скоро нам придется покинуть этот райский уголок и вернуться в свою комнату. Эта мысль отнюдь не наполняла меня восторгом.
В конце концов мы расплатились, пожелали хозяину спокойной ночи и вышли на набережную. Первое, что меня поразило, это ощущение того, как сильно я набрался. У меня вообще есть привычка пить любой напиток, как пиво, то есть в тех же количествах. Для вина такой подход не годится. Наверное, я и тогда усидел один без малого две бутылки, и, стоя на безлюдной, продуваемой насквозь набережной, почувствовал себя соответственно.
Сьюзан тоже не была свежа, как роза, и мы, дружно пошатываясь, шагнули с тротуара на дорогу, чтобы перейти на ту сторону. Рука Сьюзан скользнула под мое пальто и обхватила меня за спину, пока мы, не говоря ни слова, вскарабкивались на побитый тротуар по другую сторону улицы.
Было уже поздно, но бледная луна давала достаточно света, чтобы рассмотреть открывшийся перед нами пейзаж. Позади невысокого ограждения уходил к пляжу цементный потрескавшийся склон. Пляж представлял собой равнину из грязи с лужицами стоячей воды и тянулся по крайней мере на сто ярдов, пока не достигал моря, тихого и сланцево-серого в этот час. Издалека был слышен негромкий шорох волн, как будто две ладони медленно терлись друг о друга.
— Низшая точка отлива, — проницательно заметил я, правда, прозвучало это как «ништячок слива». Открыв глаза пошире, я проморгался и принялся шарить в кармане в поисках сигареты.
— Мн, — ответила Сьюзан не глядя. Она смотрела куда-то в ограждение перед нами, по какой-то причине не позволяя себе поднять взгляд выше. Я предложил ей сигарету, но она покачала головой, что было для нее необычно. Положив ладонь на холодный камень стены для опоры, я снова стал смотреть на море.
В детстве мы с родителями часто ездили в Сан-Августин. Разумеется, мы останавливались не в нем самом, а дальше, между Кресент Бич и Дайтона Бич, и, честно говоря, на приличном расстоянии от обоих. Помню, как мальчишкой лет пяти-шести я стоял на девственном пляже и медленно поворачивался кругом, чтобы посмотреть на море с разных точек, а еще помню, как думал, что нельзя стоять спокойно, когда видишь море. Нет такого места, в котором можно остановиться и сказать себе: «Да, вот это тот самый вид», потому что с другого места море открывается по-другому.
В Доутоне все было иначе. Море отовсюду выглядело одинаково. Может, из-за дуги, которую описывал берег, а может, по другой причине. Взгляд все время тянуло вперед, как будто не было иного способа увидеть это пространство, как будто где-то в нем скрывалось то, на что и следовало смотреть.
Внезапно Сьюзан убрала руку и сделала шаг вперед. Не глядя на меня, она целенаправленно положила обе ладони на парапет и стала перебрасывать через него ногу.
— Что ты делаешь? — спросил я, подавляя икоту.
— Хочу увидеть море.
— Но, — начал было я и тут же устало полез за ней. Очевидно, для Сьюзан пришла пора вглядываться в море. И лучшее, что я мог сделать, это пойти за ней, чтобы быть рядом, если ей захочется поговорить.
Бетонный скат оказался крутым и довольно скользким, так что Сьюзан едва не упала, спускаясь вниз. Я подхватил ее за плечо, и она удержала равновесие без единого слова благодарности в ответ. С тех пор как мы вышли из ресторана, она вообще все время молчала. А когда я спросил ее, куда она идет, ответила мне чужим далеким голосом, как будто ее злило, что приходится отчитываться в своих действиях. Я решил не обращать внимания.
Когда мы добрались до конца спуска, я остановился, слегка покачиваясь. Моргая, точно сова, оглядел вонючую грязь перед нами. Подумал, что здесь нашей экспедиции, видно, и конец. Но Сьюзан была настроена иначе. Ступив прямо в грязь, она зашагала вперед со всей решительностью, которую допускали вязкая почва и ее опьянение. Я смотрел ей вслед и почему-то чувствовал себя брошенным. Казалось, она не в себе, и это пугало меня, пугало то, что она может меня оставить. Морщась от отвращения, я попробовал ногой жидкую грязь и заспешил за ней, как только мог.
Шли мы долго. Грязь лежала волнами. Ярдов двадцать было довольно сухо, и можно было идти, не проваливаясь, потом все внезапно менялось, грязь темнела, под ногами начинало хлюпать, пока не возникало стойкое ощущение, будто шлепаешь, извините, по дерьму. В первый раз я старался ступать, где посуше, прыгал с одного пятачка на другой в надежде спасти туфли, потом плюнул и зашагал напролом. Только так я мог не терять из виду Сьюзан, которая шла прямо к морю.
В какой-то момент я оглянулся и увидел, как далеко мы зашли. Стоя на набережной, мне казалось, что до моря ярдов сто или около того, но оно было значительно дальше. Я не видел ни освещенных окон домов на берегу, ни уличных фонарей. На одно ужасное мгновение я испугался, подумав, что что-то случилось и все выключили свет специально, чтобы мы не нашли дорогу назад. Я повернулся к Сьюзен и крикнул, но она была далеко и не слышала. Бросив еще один быстрый взгляд в сторону берега, я побежал догонять ее.
Она продолжала идти, но уже с высоко поднятым подбородком, угловато двигая руками и ногами, как на ходулях. Поравнявшись с ней, я увидел, что она плачет.
— Сьюзан, — сказал я. — Стой. — Она прошла еще несколько ярдов, но ее силы иссякали, и она остановилась. Я взял ее руками за плечи, она еще немного посопротивлялась, но скоро позволила мне ее обнять. Я стоял, зарывшись лицом в ее мокрые волосы, и со всех сторон нас окружала грязь.
— Ну, что ты? — спросил я наконец. Она шмыгнула носом.
— Я хочу видеть море.
Я поднял голову и посмотрел вперед. До моря было не ближе, чем когда мы стояли на набережной.
— Отлив, наверное, еще не кончился, — сказал я. Не знаю, верил ли я сам в это. Сьюзен, разумеется, не поверила.
— Оно не пускает меня, — пробормотала она едва понятно, — а почему, я не знаю.
Я не знал, что ей ответить, и потому продолжал смотреть на море. Интересно, думал я, как далеко от берега кончается мелководье и где те скалы, у которых и по сей день должен лежать «Олдвинкль».
Наконец мы повернули и пошли назад, моя рука сжимала плечи Сьюзен, и она не сопротивлялась. Казалось, она очень устала. Я по-прежнему чувствовал себя пьяным, и у меня заболевала голова. Дойдя до ската, мы взобрались на него до половины и присели покурить. Мои ботинки, запоздало заметил я, были безнадежно испорчены коркой липучей грязи толщиной в сантиметр. Я снял их и поставил рядом.
— Уикенд получился не такой, как я думал, — сказал я наконец.
— Да. — Судя по тону Сьюзен, нельзя было сказать, хорошо это для нее или плохо.
Некоторое время мы вместе молча смотрели на воду. Теперь, когда мы вернулись к началу, до нее опять казалось ярдов сто, ну максимум двести. Но она не могла передвинуться. Просто это мы прошли не так много, как нам казалось, что странно, ведь мы шагали целую вечность.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.
— Он где-то там, — ответила она. Я кивнул. Конечно, это не был прямой ответ на мой вопрос, хотя, если подумать, в каком-то смысле был.
— А что ты хотела увидеть, море? — отважился на следующий вопрос я.
— Не знаю, — сказала она и уронила голову.
Немного погодя мы встали. Ботинки я решил не забирать. Они никогда мне особенно не нравились, да и в их нынешнем состоянии проще было оставить их здесь, чем придумать, как довезти их до Лондона и там отчистить. В другое время и в другом настроении этот поступок мог показаться мне своего рода жестом эксцентрическим и легкомысленным. Но тогда я был только смущен и опечален, а еще чувствовал себя незащищенным и уязвимым на том берегу.
На обратном пути по набережной Сьюзан слегка оттаяла, оживленная ручейком моих неуклюжих шуток. Скоро я ощутил прикосновение ее холодных пальцев к моей ладони, сжал их и постарался согреть. Деревня, береговым краем которой мы шли, казалось, полностью вымерла в тот вечер. Улицы были тихи, нигде в окнах не горел свет. Казалось, мы идем мимо фотографии города-призрака.
Пока мы не добрались до нашей гостиницы. Уже издалека мы увидели, что там, похоже, горят все лампы, какие только есть, хотя и не очень ярко, а по мере нашего приближения до нас стали то и дело долетать хлопки автомобильных дверец. Не дойдя до места ярдов пятидесяти, мы остановились.
Улица перед домом, пустынная в момент нашего прибытия, теперь была заставлена машинами в два ряда. Свет действительно горел, причем на всех трех этажах. А тусклым он казался, потому что во всех окнах были спущены шторы. Другие гости, судя по всему, прибыли.
Пока мы стояли и смотрели, кто-то прошел в одном из верхних окон. Из-за угла, под которым падал на него или на нее свет, упавшая на штору тень показалась мне уродливой, и я, сам не знаю почему, вздрогнул. Тихонько, про себя, я пожалел, что мы не находимся где-нибудь подальше от этого места. Например, в Лондоне.
Стоя на ступеньках, я шарил в поисках ключа, когда дверь вдруг распахнулась. Теплый желтый свет полился на нас из холла, и мы со Сьюзен, жмурясь, увидели, что перед нами стоит хозяйка. Моя первая полупьяная мысль была о том, что мы, наверное, сами того не зная, нарушили какой-нибудь местный комендантский час, и леди сейчас разбранит нас за позднее возвращение.
Ничего подобного. Манеры старой карги удивительно похорошели, встретив нас теплым дружеским щебетанием, она ввела нас в холл. Оттуда, не успели мы перевести дух, затащила в гостиную, хотя мы вовсе не собирались туда идти. Сьюзан вошла в комнату первой и оглянулась на меня. Я выпученными глазами показал, что ничего не понимаю. Сьюзан пожала плечами, и мы оба, похоже, пришли к решению, что лучше не сопротивляться и потерпеть. Старуха хлопотливо подогнала нас к двум стульям посреди комнаты и предложила чаю. Моим первым побуждением было отказаться — к тому времени я уже порядком раскис, — но, вспомнив, что в нашей комнате нет даже чайника, согласился. Женщина от восторга даже в ладоши захлопала, и я снова поймал на себе брошенный искоса взгляд Сьюзан. Но мне нечего было ей сказать. Во всем происходящем я не видел ровно никакого смысла, о чем и сообщил Сьюзаи, как только мы остались одни. Еще я заметил ей, что в облике хозяйки появилось что-то яркое и странное. Она выглядела иначе.
— Она накрасилась, — сказала Сьюзан. — А платье ты видел?
Платье, сшитое из какого-то темного зеленого материала, было совсем не в моем вкусе, да и макияж накладывался явно впопыхах, но было видно, что пожилая дама старалась. Причиной такой трансформации стали, судя по всему, новые гости, кто бы они ни были. Мы сидели и оглядывались по сторонам, чувствуя себя слегка не в своей тарелке. Вдруг на столе поблизости я кое-что заметил.
Рядом с большой стеклянной пепельницей лежал буклет Доутонского фестиваля. Переведя взгляд на подоконник, я увидел, что тот, который я просматривал раньше, все еще там. От нечего делать я взял буклет и показал его Сьюзан. Вторичное знакомство с буклетом не дало нам никакого представления о том, как же все-таки будет происходить праздник. Добравшись до центрального разворота, я толкнул Сьюзан локтем в бок, предвкушая, как покажу ей местную диковину — доутонский конкурс красоты. Но вдруг замер с устремленным на фотографию пальцем.
Внезапно я понял, что так поразило меня в наружности хозяина паба, какую деталь я тогда не смог себе объяснить. Форма его головы, соотношение ширины черепа с его глубиной, строение костей и расположение ушей напомнили мне тогда испорченную фотографию «мисс Доутон». Я не мог поверить, что это ее настоящее лицо, а не результат некачественного воспроизведения фотографии, когда объект сливается с фоном, и все же сходство между ними было.
— Наверное, это его дочь.
Я, вздрогнув, обернулся на голос Сьюзан.
— Это просто такая фотография, — сказал я. — Не может же она на самом деле так выглядеть. — Сьюзан решительно покачала головой.
— Это его дочь.
Дверь медленно отворилась, и я торопливо отшвырнул буклет, делая вид, будто не смотрел его только что. Не знаю, почему: тогда это показалось мне хорошей идеей. Но она не сработала.
— Вы ведь останетесь на наш фестиваль? — проквакала старая карга, ставя перед нами две чашки кирпично-красного чая. Ее замечание было адресовано к Сьюзан, которая ответила, что нет. Наш план, который мы обсудили еще в ресторане, состоял в том, чтобы встать наутро пораньше и убраться ко всем чертям в Лондон. Мне не хотелось расспрашивать ее о том, в чем, собственно, будет заключаться праздник, ведь тогда мне пришлось бы тщательно проговаривать каждое слово, чтобы не показать, как я напился. В тех редких случаях, когда Сьюзан раскрывала рот, я чувствовал, что речь дается ей с таким же трудом.
Пока мы сидели, прихлебывая чай и слушая щебетание хозяйки, я ощутил в себе странное сочетание легкости и неловкости. Если фестиваль и в самом деле стоит посмотреть, то почему она сама нам о нем не расскажет? И еще, показалось мне, или она в самом деле время от времени наклоняла голову к плечу, точно прислушиваясь к чему-то?
Через несколько минут ответ на второй вопрос был найден. Мы услышали, как открылась и после долгой паузы снова закрылась входная дверь. Ни на миг не прекращая сухой и неинформативной болтовни, старая перечница боком подошла к двери гостиной, но не вышла, а толчком закрыла ее. Мы со Сьюзан наблюдали за ней, недоумевая, что она затеяла. Возможно, мне так показалось от усталости, но ее болтовня на миг потеряла связность, как будто ее внимание было поглощено чем-то другим. Пару минут спустя она словно пришла в себя и снова открыла дверь. Затем, ни с того ни с сего, пожелала нам доброй ночи и вышла.
Выкрутасы хозяйки гостиницы, пришедшиеся на самый конец дня, который тянулся целую вечность, рассмешили нас: не потому, что были на самом деле смешны, а потому, что их неуловимую странность хотелось прикрыть каким-нибудь звуком. Вообще-то нам было не до смеха, когда мы, с трудом вытащив себя из дьявольски неудобных кресел, пошатываясь, побрели наверх.
По лестнице я шел особенно тихо, ведь на мне не было ботинок. Странно, что старуха этого не заметила или, по крайней мере, ничего не сказала.
Следующий час сохранился в моей памяти в виде путаных фрагментов. Я очень об этом жалею, ведь где-то там может быть ключ к тому, что случилось позже. Не знаю. Вот что я помню.
Мы шли наверх, в нашу комнату, мимо дверей, под которыми виднелись яркие полоски света и за которыми, кажется, шептались о чем-то голоса. Пока мы петляли по коридору, мне подумалось, что сквозь потолок начинает проникать дым. Разумеется, никакого дыма не было. Просто я не очень хорошо видел. Внезапно я почувствовал себя очень пьяным: таким пьяным я не был весь вечер. Сьюзан, опережавшая меня всего на шаг или два, казалась очень далеко, а сам путь по короткому, в общем-то, коридору занял невозможное количество времени. Внезапное шипение из-за двери, мимо которой я проходил, заставило меня шарахнуться на противоположную сторону коридора, где я врезался в другую дверь. Кажется, мой шум заставил утихнуть какой-то звук, хотя что это был за звук, я не помню. Пока я, положив голову на дверь нашего номера, пытался вспомнить, как пользоваться ключом, мое дыхание внезапно участилось, а плечи бессильно обмякли. Туман снова застлал мою голову, и я, с большим трудом повернувшись к Сьюзан, которая покачивалась рядом со мной, спросил у нее, как она себя чувствует. Вместо ответа она вдруг прижала ладони ко рту и поковыляла к туалету.
Я подался было за ней, но, сообразив или решив, что помощи от меня будет мало, ввалился в нашу комнату. Выключатель меня не заинтересовал, то ли из-за слабого лунного света, который сочился внутрь, то ли потому, что я все равно не смог бы его найти. С вялой жестокостью вырвавшись из объятий пальто, я плюхнулся на кровать. Начал расстегивать рубашку, но тут же бросил. Это было мне не по силам.
Пока я сидел там, сложившись пополам, я понял, что мне стало еще хуже. Почему и в чем вообще проблема, было непонятно. Напоминало случай, когда я отравился подозрительной пиццей из морепродуктов. Через пару часов после еды я почувствовал себя… ну, в общем, странно, даже затрудняюсь сказать, как именно. Мне было не то чтобы плохо, просто я как бы отключился от всего, и все стало чужим. Вот и теперь у меня было похожее ощущение, точно я выпил все вино в мире и закусил его кислотой. Комнату заполнили темные клинья цвета, не имевшие отношения к вещам и размерам, и, если бы меня попросили их описать, я не знал бы, с чего начать.
Вдруг я вспомнил, что Сьюзан блюет в туалете, вскинул голову, размышляя, не отправиться ли ей на помощь, и тут же выключился.
Кожа Сьюзан была теплой и немного потной. Мы перекатились, и я почувствовал, что оказался в ней, хотя как, понятия не имею. Помню ее подбородок сбоку, помню одну ее руку и волосы, падающие мне на лицо: но совсем не помню глаз.
Помню, как в какой-то миг почувствовал на своей щеке что-то мокрое, как будто она заплакала снова, но лучше всего я помню жару, темноту и ощущение своего полного отсутствия.
Первое, что я сделал, проснувшись, — тихонько застонал. Я лежал на боку, лицом к окну, и слабый луч солнца шарил по моей голове. Ощущение было такое, словно из меня вынули мозг, поскребли его наждачной бумагой и вставили назад, — свет нужен был меньше всего. Очень хотелось повернуться к нему спиной, но совершенно не было сил. Поэтому я стонал.
Через несколько минут я медленно перекатился на спину и тут же заметил, что Сьюзан рядом нет. Мне смутно помнилось, что она все же пришла в постель вчера ночью, поэтому я решил, что она, наверное, встала первой и пошла в душ. Снова перекатившись на бок, я с усилием потянулся к столику у кровати. Моих сигарет там не оказалось, что было странно. Ложась спать, я всегда выкуриваю на ночь сигарету. Видимо, прошлый вечер стал исключением.
Внезапно проснувшись, я рывком сел. Что я делал перед сном вчера вечером? Я не мог вспомнить. Мое пальто кучей лежало на полу, и в моей памяти всплыл тот момент, когда я высвобождался из него. Протянув руку, я нашарил в кармане сигареты и зажигалку и рассеянно закурил. Болезненно щурясь, я оглядывал комнату и заметил кое-что странное.
Пакет с банными принадлежностями Сьюзан лежал на стуле у окна.
Оглядываясь назад, я понимаю, что с того самого момента знал — что-то случилось. В ускоренном режиме перематывая пленку памяти, я все поставил на свои места, но понял именно в тот миг.
Пакет Сьюзан был здесь, в комнате. Она не взяла его с собой, но почему? Может, она пошла в душ не мыться, а потому, что ее опять тошнило? Я встал с кровати и, преодолевая грохот отбойных молотков в голове, принялся вставлять себя в какую-то одежду, что оказалось ничуть не легче, чем продеть в игольное ушко шерстяную нитку. Выходя из комнаты, я захватил с собой ее пакет, на всякий случай.
В душевой никого не было. Шкафчики были заброшены, в ванной и душевых кабинах было пусто. Не просто пусто, а холодно, тихо и сухо. Я торопливо вернулся в комнату, причем в голове у меня значительно прояснилось. Так прояснилось, что даже странно: обычно у моего организма уходит не меньше часа на то, чтобы справиться с похмельем. Руки в боки, я оглядел комнату, пытаясь представить, куда она могла подеваться. Потом я заметил, что на окно упала тень облака, и поспешил к столу, где лежали мои часы, чтобы посмотреть время.
Без двадцати четыре.
В первую минуту меня охватила такая паника, как будто я проспал главную встречу в жизни. А то и хуже: как будто она только начиналась, в эту самую минуту, но на другом конце города. Пока я метался по комнате, натягивая верхнюю одежду, страх немного развеялся. Обычно по утрам я принимаю ванну, не люблю показываться на люди, пока не помоюсь: поэтому я и говорю, что знал уже тогда — что-то пошло не так. Может быть, вчера вечером случилось то, о чем я забыл, но именно это подавленное воспоминание и подсказывало мне теперь, что не все в порядке. А вовсе не ванна.
Пять минут ушло на поиски ключа, брошенного мной вчера где попало, после чего я запер комнату и заспешил в конец коридора. По пути я заглянул в душевую, но там все было без изменений. Проходя мимо какой-то двери, я внутренне съежился, словно ожидая услышать какой-то звук, но его не было. Не знаю даже, чего я, собственно, ждал.
Нижний этаж гостиницы был также пуст. Я заглянул в помещение, которое служило здесь комнатой для завтрака, хотя в такой час завтрак уже, конечно, не подают. Постоял у стойки портье и даже позвонил в колокольчик, но никто не появился. Даже сбегал зачем-то наверх, проверил свою комнату и робко постучал в соседние двери. Ответа не было.
Снова спустившись вниз, я забрел в гостиную, не зная, что делать. Мое беспокойство все росло, переходя в настоящий страх, хотя никаких причин для этого не было. Сьюзан не могла просто взять и бросить меня. Наверняка она в городе со всеми остальными. В конце концов, сегодня же праздник. Может, она просто решила взглянуть. Может, она еще вчера мне об этом сказала, а я был в таком раздрае, что ничего не понял.
Чашки, из которых мы пили вчера вечером чай, все еще стояли на столе, рядом с фестивальным буклетом. Сдвинув брови, я шагнул к ним. Гостиничные хозяйки обычно бывают одержимы чистотой. И, кстати, куда она запропастилась? Уж не бросила ли свою гостиницу ради вшивого праздника города?
Бросив взгляд на чашки, я вдруг почувствовал, как у меня сводит желудок, что было странно. Очень похоже на тошноту, которую я испытываю всякий раз, увидев витрину одной известной сети пиццерий и людей внутри, поливающих еду у себя в тарелках густым красным соусом. И немудрено: если вам случалось видеть, как тот же самый соус тек у вас из носа, пока вы корчились над толчком в уборной в поздние часы ночи, вряд ли в будущем вы будете испытывать к нему теплые чувства. Разум тут ни при чем: это реагирует бессловесное тело, предостерегая вас единственным доступным ему способом.
Ощущение тошноты. Почему его вызывает вид чашки чая?
Подойдя ближе к столу, я заглянул в чашки. В одной кое-что осталось: и не удивительно, ведь Сьюзан никогда не допивает свой чай до конца. Моя чашка была пуста. На ее донышке что-то слабо поблескивало, как будто керамика была не гладкой, а чуть шероховатой, и в этих твердых пупырышках преломлялся свет. Чувствуя себя так, словно меня безо всякого предупреждения ударили в живот, я встал на колени, чтобы лучше рассмотреть.
Вчера вечером я пил чай без сахара. Как всегда. Эту привычку я завел три года тому назад и потерял с тех пор в весе полстоуна, а я достаточно тщеславен, чтобы желать поддерживать такую форму и впредь. И все же на дне чашки определенно что-то было. Я взял другую чашку и слегка наклонил. Лужица чая отъехала и обнажила точно такой же след на дне. Он был не так заметен, как в моей чашке, но все же присутствовал.
Нам что-то подмешали в чай.
Тут я вскинул голову и посмотрел на дверь, уверенный, что она шелохнулась. На вид все было по-прежнему, но я предпочел встать. Встав, я выбежал прочь из дома.
Торопливо шагая вдоль набережной по направлению к площади, я пытался найти какой-то смысл в том, что я узнал. До некоторой степени все сходилось. Прошлой ночью, поднимаясь наверх, я чувствовал себя странно, так странно, как еще никогда из-за алкоголя. Потом я жутко проспал, что вполне понятно, а когда проснулся, то похмелье прошло совсем не так, как обычно.
Подходя к площади, я немного притормозил. Я вдруг понял, что ожидал увидеть здесь множество людей, празднующих свой запоздалый ночной фестиваль. Никого не было. Закуток площади был так же пуст, как и вчера.
С другой стороны, Сьюзан встала рано. Что тоже понятно: ведь ее стошнило сразу после того, как мы выпили чай. Значит, ей в кровь попало меньше этой гадости, и она легче отделалась. Логично. Замечательно.
Но меня беспокоили два других факта, которые не желали ни с чем сходиться, как я их ни крутил.
Во-первых и в-главных, зачем кому-то понадобилось подсыпать что-то нам в чай? Мы же не в кино, не в детективе по роману Агаты Кристи: здесь обычная английская деревушка на берегу моря. Кому понадобилось травить нас и для чего? Второй вопрос, не столь отчетливо сформулированный, беспокоил меня даже сильнее. У Сьюзан было железное здоровье, и она отлично держала выпивку. По правде говоря, она пила, как рыба. Так почему вчера ее стошнило, хотя после того, как мы пили, прошло много времени, а меня нет?
Возможно, так было задумано. Возможно, отрава, которую нам подсыпали, по-разному влияет на разных людей.
Площадь была пустынна. Некоторое время я стоял неподвижно, соображая, что делать. Ни флагов, ни плакатов, никаких указаний на то, что в городе происходит праздник. Медленно поворачиваясь вокруг себя, я почувствовал, как волоски на моей шее встают дыбом. Противоестественно тихо было на этой гнилой, разваливающейся площади, ненормально пусто и безмолвно. И дело не в том, что там никого не было. Дело в том, что там было как в Сумеречной Зоне.
Я пересек площадь по направлению к «Олдвинклю» и стал заглядывать в паб через окно. Внутри было пусто, свет выключен, но я все же толкнул на всякий случай дверь. Она оказалась не заперта. Я вошел, остановился у бара и крикнул, но никто не появился. Что-то происходило в пабе после того, как мы побывали здесь вчера вечером. одни стулья сдвинули к стенам, на их место поставили другие. Такие же, как в гостинице: страшные и исковерканные. однако тем, кто на них сидел, судя по всему, повезло с выпивкой: по одному из столов были разбросаны маленькие стаканчики. Рядом лежал фестивальный буклет, и я в раздражении смахнул его в сторону. Он шлепнулся на пол и раскрылся, отчего стали видны смешные опечатки. «Рълиех йа фхтагн!», к примеру. Что это за чертовщина такая?
От злости в голове у меня немного прояснилось. Фестиваль должен был начаться в три часа ночи. Это я знал. Зато я не знал другого: где он начинался. Что, если празднование заключается в том, что по городу проходит процессия, которая стартует на одном краю города и держит путь, к примеру, на площадь? Может, я слишком рано пришел. От беспокойства за Сьюзан я переминался с ноги на ногу, мне казалось, что любая попытка стоит того, чтобы на нее решиться. Если фестиваль не идет ко мне, что ж, придется мне самому пойти ему навстречу.
Я выскочил из паба, сильно хлопнув дверью, и бросился на противоположный конец площади. Оттуда свернул на какую-то улицу и помчался мимо еще более ветхих домов, по пути заглядывая в боковые проулки. Когда в конце улицы замаячил утес, я перебежал на соседнюю улицу и понесся по ней в другую сторону. Потом еще раз. И еще.
Но моего внезапно возникшего куража не хватило на то, чтобы обследовать все улицы. Я чувствовал себя как в кошмарном сне, где страх того, что кроется за следующим углом, оказывается, в конечном счете, страхом пустоты. Никто не чесал языками у калиток. Никто не развешивал белье. Ни на одной из улиц или мощеных переулков мне не попалась стайка беззаботно бегающих ребятишек. Короче говоря, никого не было и ничего не происходило. Кругом стояли грязные дома с заколоченными, судя по всему, верхними окнами. Я был в городе-призраке.
И вдруг я что-то нашел. По крайней мере, мне так показалось.
К тому времени я уже не бежал, все-таки пятнадцатилетний стаж курильщика сказывался. А если честно, то я стоял на углу одной из улиц, руки на коленях, и заходился в отчаянном кашле. Когда приступ прошел, я поднял голову и вроде бы что-то услышал. Свирель.
Рывком выпрямившись, я завертел головой, пытаясь определить, откуда идет звук. Решив, что он, похоже, доносится сзади, оттуда, где я только что был, может быть, с параллельной улицы, я повернулся и зарысил туда. Ничего там не услышав, я заглянул в ближайший переулок. Звук был там, немного громче, и еще другой: нечто вроде удаленного разговора. Бросив опасливый взгляд вверх, на темнеющее небо, я ринулся вперед.
Осторожно завернул за угол. И никого не увидел, но понял, что еще недавно здесь кто-то был. Я с ними разминулся. Добежал до следующего угла и прислушался, вычисляя, в какую сторону направилась процессия. Выбрал левую и скоро снова услышал звуки, на этот раз более громкие: кто-то как будто играл на трубе, бубнили странные голоса. Заслышав их, я на мгновение замер, и еще один отрывок прошлого вечера вдруг всплыл у меня в памяти. Уж не этот ли отвратительный клекот, как будто кто-то полощет горло, слышал я вчера из-за одной двери на своем этаже?
Вдруг звуки пошли совсем с другой стороны, и я стремительно развернулся, чтобы не упустить их. И тут, по чистой случайности глянув поверх палисада одного из пустующих домов, я увидел кое-что в просвет между ним и его соседом. Три палки, на расстоянии примерно фута друг от друга, двигались в противоположную от меня сторону. При этом они покачивались, как бы ныряя на волнах, и у меня возникла ассоциация. Это были не просто палки. Конечно, я не был вполне уверен, ведь уже темнело. Но, на мой взгляд, это могли быть маленькие мачты.
Я и не думал, что смогу бежать еще быстрее, подозревал, что мои легкие забастуют или просто лопнут от натуги. Но тут я вдруг разогнался и со спринтерской скоростью одолел подъем по горбатой улице, так что меня даже занесло на скользком повороте. Улица снова оказалась пуста, но на этот раз я был уверен, что видел, как мелькнула чья-то лодыжка, сворачивая за другой угол, и бросился вдогонку.
Не знаю, что заставило меня повернуть голову в сторону последнего дома. Уверен, что это вышло случайно, просто голове надо было что-нибудь делать, пока тело бежало. Притормаживая перед поворотом, я скользнул глазами по грязному стеклу в окне гостиной и увидел — или мне показалось, что я увидел, — такое, от чего со страху потерял равновесие и упал. Похоже, падал я долго, и вот что, по настоятельным уверениям моей памяти, я в это время видел.
Лицо, почти неразличимое в темноте комнаты за стеклом. Лицо, которое начиналось как нечто иное, неузнаваемое и чужое, в мгновение ока дернулось и заменилось на человеческое, как один слайд заменяет другой. На меня смотрело нормальное лицо, такое, как у хозяина паба или у мисс Доутон. Или, вспомнил я в тот миг, как у старой карги из гостиницы, особенно когда мы вернулись вчера вечером. И не из-за макияжа, вовсе нет. Думаю, не будь я так пьян, я бы еще тогда это понял. Макияж был нанесен с целью спрятать кое-что другое.
И еще кое-что было в том лице особенное. Оно неуловимо напоминало мою мать.
Все это пронеслось у меня в голове, пока я падал, и вылетело из нее, когда я крепко приложился лбом о бордюр. Я здорово ободрал и, кажется, даже подвернул колено, но тут же вскочил и, пятясь, поспешил прочь от того дома. Там не на что было смотреть. Окно пустовало. Может, так оно и было всегда. Но я все же повернулся и побежал.
Пошел дождь, сначала мелкий, потом настоящий ливень. Я все шлепал по улицам, гоняясь за призраками звуков, которые то и дело оказывались просто шумом льющейся воды. Кровь текла из разбитой головы по лицу и, смешиваясь с дождем, затекала за ворот рубашки. Когда мне казалось, что я что-то слышу, я поворачивался кругом, но слишком медленно. Мысли путались. Но не так, как прошлой ночью. Просто мне было ужасно, невыносимо страшно.
В конце концов, я сдался и захромал через паутину улиц назад, к площади. Странно, что меня не осенило раньше, ведь я уже думал об этом. Надо было ждать процессию там, куда она должна прийти. Теперь-то я рад, что не додумался до этого сразу, но тогда я ковылял, вяло проклиная себя за глупость.
Ничего не изменилось. Площадь осталась все такой же пустынной. Но они были здесь. На это указывала сама атмосфера, чувство недавно опустевшего пространства. Кроме того, на обочинах лежали обрывки бумаги, которых не было раньше. Присев на корточки, я подобрал пару размокших клочков. Они оказались из буклета, как и следовало ожидать. «Йогсого», — гласил один фрагмент, «…тхулу мвъелех йа…» — вторил ему другой. Поздно, слишком поздно я понял, что во всем этом есть какой-то смысл, что тут не просто местное искажение или ошибка близорукой машинистки. Не думаю, что меня можно в этом винить. В конце концов, все, чего я хотел, это выбраться на уикенд из Лондона. Ничего подобного я не ожидал.
Подняв голову, я вгляделся в струи косого дождя и кое-что заметил. Оттуда, где я стоял, дверь в паб казалась приоткрытой. Я встал и направился к ней, то и дело бросая затравленные взгляды по сторонам, в темные углы площади.
Свет внутри не горел, но дверь действительно была открыта. Хозяин паба бросил свое заведение. Хозяйка гостиницы — свое. Неужели они такие доверчивые или им просто наплевать? Непроизвольно зажмурившись, точно в ожидании удара, я осторожно толкнул дверь. Из комнаты не донеслось ни звука, а когда я осторожно просунул голову внутрь, то увидел, что она пуста. Я вошел. В комнате все было по-прежнему, везде, кроме бара. Откидная доска, преграждавшая вход за прилавок, была поднята, и дверь позади стойки распахнута настежь. Подойдя поближе, я пожалел, что не могу призвать на помощь Бога или религию, и шагнул за стойку.
Первое, что я сделал, это зашел в комнату, соседнюю с баром, ту, куда едва можно было заглянуть, перегнувшись через стойку. Но ничего, кроме стульев все той же странной формы, я там не увидел. Тогда я повернулся и заглянул за другую дверь. Стены за ней были обшиты деревянными панелями, но узкий коридорчик, частью которого был этот проход, обрывался почти сразу. Перешагнув порог, я поглядел влево. Каменные ступени уходили вниз, в темноту. Я пошарил в поисках фонаря, но ничего не нашел. Впрочем, даже окажись он там, сомневаюсь, чтобы у меня хватило смелости им воспользоваться.
Поразмыслив с минуту, я все же пошел вниз. Думал я о том, не сбегать ли в гостиницу, проверить, пришла Сьюзан или нет. Вдруг фестиваль кончился, и она сидит теперь в гостиной и нетерпеливо ждет, где же я.
Не знаю, почему я тогда не поверил, что так оно и есть. Но я не поверил и зашагал вниз.
Ступеней оказалось много, и они уходили все ниже и ни же. Почти с самого начала кругом стояла непроницаемая тьма, и я шел, держась обеими руками за стены. Голова у меня все еще болела, кажется, даже сильнее, чем раньше. Когда я закрывал глаза, мне казалось, будто в виске у меня зажигается маленький огонек, так что я держал их открытыми, хотя идти от этого было не легче.
Наконец я уткнулся в стену и повернул налево. Пройдя еще немного по какому-то наклонному коридору, я обнаружил, что вижу впереди светлое пятно и слышу отдаленный шум волн. И не только.
Я снова различил звуки дудок и бросился вперед.
Ну конечно, думал я, пыхтя и задыхаясь, конечно, процессия движется к пляжу. И конечно, наверное, они пойдут туда через паб «Олдвинкль», названный так в память о счастливом случае, который помог кому-то выбраться наверх. Сьюзан была права. Название было не простым напоминанием о минувшем. Оно имело особое значение для этой деревни, наряду с самой катастрофой, Рълиехом и всем остальным. Смысл его был ужасен, оно ознаменовывало чудовищный шанс, которым не преминули воспользоваться. Чем ближе я подходил к концу тоннеля, тем громче становился звук дудок, и, выйдя наконец наружу, я их увидел.
Они шли парами, медленно, в причудливом ритме. Посредине процессии, поддерживаемая множеством рук, колыхалась модель парохода. Скоро можно будет взглянуть, может ли она плавать, ведь процессия несла ее прямиком к воде.
Пока я стоял столбом и смотрел, передняя пара процессии шагнула прямо в мелкую волну. Они сделали это уверенно, без всякого страха, и мне показалось, что я наконец все понял. Очертя голову я бросился вперед, выкрикивая имя Сьюзан. Колонна была далеко впереди, ярдах в двухстах, отделенная от меня жидкой грязью, но я заорал так громко, что одна фигурка в задних рядах, кажется, обернулась. Уже совсем стемнело, и я не мог точно сказать, обернулась она или нет. Но думаю, что обернулась и посмотрела.
Я перешел на бег и одолел ярдов, может быть, пять, как вдруг что-то врезалось в мою голову сбоку. В глазах у меня потемнело, но я, как мне кажется, еще успел увидеть одного, который подкарауливал меня, отстав от процессии, — он нагнулся надо мной, чтобы проверить, отрубился ли я, а потом, подволакивая конечности, поспешил за остальными.
Я вернулся в Лондон через два дня, и все еще нахожусь здесь. Пока. Вещи Сьюзан лежат в коробках под лестницей. Натыкаться на них на каждом шагу было невыносимо, но и избавиться от них я тоже не могу. По крайней мере, пока не пойму, что делать дальше.
Когда я пришел в себя после того, как пролежал носом в грязь около трех часов, пляж был пуст. Сначала я брел к воде, видимо, под влиянием программы, которую мозг наметил себе еще до удара, но постепенно одумался и повернул в другую сторону. Плача, я поднялся на бетонный склон, позвонил в полицию из телефона-автомата, а потом лег рядом с ним на землю и отключился. Позже меня отвезли в больницу, где насчитали целых две контузии. Но еще до этого я побывал в полиции, где рассказал все, что знаю. Видно, я долго распространялся насчет приморского города, где не едят рыбу, объяснял значение перевернутой свастики, рассказывал о чудовищных жителях, которые могут принимать вид людей и скрывать свою истинную природу.
Наконец полицейским пришлось послать туда вооруженный отряд. У них не было выбора. Пустая деревня, где дома брошены со всеми пожитками, а двери открыты, — это уже за пределами возможностей местного отделения. Городские полицейские не очень заинтересовались моим бредом, и не удивительно. Но еще до их прибытия один из местных, пожилой сержант, всю жизнь проживший в соседней деревне, слушал меня очень внимательно.
Наверное, это был он. По крайней мере, на следующий день, пока я, трясясь от холода, сидел в гостиной брошенного пансиона, я увидел в окно полицейских ныряльщиков, которые шли к морю. Об этом никто не знает и не узнает никогда. Эта история не попала в прессу, и есть силы, которые позаботятся о том, чтобы этого не случилось никогда. А я никому не скажу. Лучше никому не знать. Единственный вопрос, на который я пока не нашел ответа, состоит в том, что делать мне самому, как жить, если я не смогу забыть достаточно. Время покажет.
Мои ботинки я все же привез в Лондон, и в этом было кое-что символическое. Полиция нашла их на набережной, а я опознал как свои. В носке одного из них я обнаружил записку. «До свиданья, дорогой», было написано в ней.
То, что она ушла с ними, я и так понял, и рад, что она освободилась от страха перед морем. Хотя, быть может, это был вовсе не страх, а отказ признать что-то другое. Вспоминая последний час, который мы провели вместе, я думаю о том, что это было на моей щеке — ее слезы или ее мокрые волосы. Потому что ныряльщики обнаружили кое-что там, недалеко от берега — то, о чем никто никогда не узнает. Час спустя к ним прибыла подмога, пляж буквально кишел ими, а они все ныряли и возвращались, ныряли и возвращались, снова и снова.
Они нашли «Олдвинкль», и не пустой. Внутри оказались триста десять человеческих скелетов. По украшениям и остаткам паспорта один из них был опознан как Джеральдин Стенбери.
Брайан Ламли
Колокол Дагона
Просто удивительно, как иногда обрывки информации — фрагменты не связанных, казалось бы, фактов, смутных фантазий и полуосознанных прозрений, частички местных легенд и древних мифов — сойдутся вдруг вместе, разрастутся и станут единым целым, которое по своему значению превысит обычную сумму частей — как в пазле. Собственно, это даже не удивительно, а… странно.
Водоросли, вынесенные на берег приливом, отложения зыбкой стихии; полустертая фигура, мельком увиденная на древней, сменившей немало рук монете, которая лежит теперь в стеклянной витрине музея; бабьи сказки о привидениях, жутких ночах и одиноком похоронном колоколе, который звонит якобы под водой перед приливом; причудливые россказни собирателей морского угля, неторопливо тянущих эль по пабам северо-востока, сквозь пожелтевшие от дыма круглые окна которых всегда если не виден, то хотя бы слышен океанский прибой. И так далее, в том же духе, без всякой видимой связи.
Давным-давно я дал себе зарок никогда не рассказывать и даже не вспоминать о Дэвиде Паркере и о событиях той ночи в Кеттлторп Фарм (историю столь гротескную, что в нее трудно поверить); но теперь, столько лет спустя… короче, мое обещание можно отправить в отставку. С другой стороны, в том, что я имею сообщить, уже заложено некое предупреждение, а посему, хотя меня, скорее всего, не примут всерьез, мне все равно стоит взяться за перо и бумагу.
Мое имя Уильям Траффорд (Билл), что само по себе и неважно, но я был другом Дэвида Паркера еще в школе — мы вместе учились в средней общеобразовательной в шахтерском поселке у моря, откуда он поступил в колледж, — и именно я наряду с ним оказался потом посвященным в страшный секрет Кеттлторпа.
Вообще-то я знал Дэвида хорошо: сын шахтера, он выделялся из своей среды непривычной мягкостью, отсутствием шероховатости, свойственной как душам, так и речи обитателей северного шахтерского края. Я говорю это отнюдь не с целью принизить северян вообще (в конце концов, я и сам стал одним из них!), более того, их я считаю солью земли; однако сущность их труда и та печать, которую он наложил на окружающий пейзаж, приучили их жить обособленно, кланово. А Дэвид Паркер по природе своей не принадлежал к их клану, вот и все; как, впрочем, и я в то время.
Мои родители родились и выросли в Йоркшире, а в Харден в графстве Дарем переехали только тогда, когда мой отец купил там мелочную лавку. Из этого возникла наша дружба: мы стали друзьями не столько по причине прямой совместимости, сколько потому, что оба чувствовали себя аутсайдерами. Дружба, длившаяся пять лет с тех пор, когда нам обоим было по восемь, и продолжившаяся двенадцать лет спустя, когда Дэвид закончил свою учебу в Лондоне. Это случилось в 1951 году.
Между тем протекли годы…
Мой отец скончался, мать была практически прикована к постели, а я расширил семейный бизнес, приобретя еще два магазина в Хартлпуле, во главе которых поставил надежных и трудолюбивых управляющих, а также вложил деньги в другие предприятия, небольшие, но быстро растущие и не связанные с торговлей газетами и журналами в местных шахтерских поселках. Таким образом, вся моя жизнь была посвящена работе, правда, руководящей, а это совсем не то, что самому гнуть спину. Свободное время я с радостью проводил в компании старого друга, конечно, в тех случаях, когда и он не был занят.
Он тоже преуспевал, а в будущем преуспел еще больше. Диплом у него был в области архитектуры и дизайна, вернувшись, он через каких-то два года занялся дизайном садов и интерьеров, открыл свое прибыльное дело и приобрел завидную репутацию.
Одним словом, война пошла нам на пользу. Слишком молодые для призыва, мы делали деньги, пока весь мир воевал; позднее, пока мир зализывал раны и озирался в поисках нужного направления, мы уже легли на нужный курс и оседлали волну. Торгаши, скажете вы? Вовсе нет, ведь мы были еще в коротких штанишках, когда война началась, и едва выросли из них, когда она кончилась.
Но теперь, восемь лет спустя…
Мы были или считали себя современными людьми в преимущественно неискушенном обществе — иными словами, составляли не самую распространенную его группу — и нас опять потянуло друг к другу. При всем при том компаньонами мы были странными. По крайней мере, внешне, поверхностно. То есть характеры, побуждения и амбиции у нас были сходные, но физически мы были полной противоположностью друг другу. Дэвид был темноволос, красив, хорошо сложен; я был коренаст, рыж и светлокож, если не сказать, бледен. Цвет лица у меня был не то чтобы нездоровый, но по сравнению с Дэвидом таким несомненно казался!
В день, о котором идет речь, а именно в день возникновения первого ни с чем не связанного отрывка информации, — то есть в одну из пятниц сентября 1953 года, незадолго до праздника Вознесения, который народ в этих местах зовет Рудмасом, а то и более старым именем, — мы встретились в баре у моря, на самом мысу старого Хартлпула. Обычно во время таких встреч мы старались не говорить о делах, но в иных случаях они будто сами лезли в разговор. Как в тот раз.
Войдя в бар, я не заметил Джеки Фостера, стоявшего у стойки, но он меня, разумеется, видел. Фостер был бригадиром в артели углесборщиков, которые грузовиками возили уголь с берега моря, а я был ее совладельцем, и он знал, что в такое время дня ему полагается не торчать в баре, а быть на работе. Возможно, он почел за лучшее подойти и объяснить свое присутствие, на случай, если я его все же видел, что он и сделал одним только словом.
— Келп? — переспросил Дэвид озадаченно; пришлось мне объяснить.
— Водоросли, — сказал я. — После каждого большого шторма их кучами выбрасывает на берег. Правда, — тут я посмотрел на Фостера в упор, — я никогда раньше не слышал, чтобы они мешали сборщикам угля.
Тот смущенно помялся, стянул с головы кепку, поскреб в затылке:
— Да нет, раз или два было, только еще до вас. Облепит все камни, а у машин колеса буксуют. Чертовщина такая, не приведи господи! И вонь, спасу нет. Все пляжи отсюда до Сандерленда покрыты им на фут в глубину!
— Келп, — задумчиво повторил Дэвид. — Это не те водоросли, которые люди раньше собирали на суп?
Фостер наморщил нос.
— Голодный человек съест все, что угодно, мистер Паркер, но на это дерьмо даже он не позарится. Мы называем его глубинным келпом. Он всегда всплывает в такое время года — перед Вознесением или около этого — и лежит на берегу с неделю, пока его не смоет приливом или он не сгниет сам по себе.
Дэвид смотрел на него с интересом, и Фостер продолжал:
— Забавная штука. Я хочу сказать, ни в какой книге про водоросли вы его не найдете — по крайней мере, в тех, какие я читал. Мальчишкой я был помешан на природе и всяком таком. Собирал птичьи яйца, отпечатки спор мухоморов да поганок, сушил в книгах цветы, листья — ерундой занимался, в общем, — но ни разу ни в одной книге не видал и упоминания о глубинном келпе. — Он снова повернулся ко мне. — Короче, босс, добра этого на пляже столько, что грузовикам там делать нечего. Пройти-то они пройдут, только угля под келпом все равно не видно. Так что я послал их под Ситон Кэрью. Говорят, там берег почти чистый. Угля, правда, тоже маловато, но лучше, чем ничего.
Мы с другом уже заканчивали обедать. Когда Фостер повернулся, чтобы уйти, я предложил Дэвиду:
— Давай допьем, перелезем через старую стену у моря и посмотрим.
— Ладно! — тут же согласился Дэвид. — Любопытно взглянуть, что это такое.
Фостер, услышав, обернулся и озабоченно покачал головой:
— Дело ваше, начальники, — сказал он, — но вам там не понравится. Вонь стоит такая! Жуть! Иные ребятишки играют на берегу днями напролет, а сейчас и их нет. Одни чертовы водоросли лежат там и протухают!
Как бы там ни было, мы пошли на берег посмотреть на все своими глазами, и если я хоть чуточку сомневался в словах Фостера, то был не прав. Водоросли действительно были ужасны, и они действительно воняли. Мне доводилось видеть их раньше, и всегда примерно в одно и то же время года, но никогда в таком количестве. Но прошлой ночью на море был небольшой шторм, возможно, это все объясняло. По крайней мере, для меня. Ум Дэвида оказался более пытливым.
— Глубинный келп, — произнес он, стоя на облепленных водорослями камнях, а его длинные волосы трепал солоноватый вонючий ветер с моря. — Ничего не понимаю.
— Чего ты не понимаешь?
— Ну, если все эти водоросли поднимаются с глубины — с настоящей, большой глубины, — то какой нужен ураган, чтобы закидать ими весь берег? Ведь их тут тонны. Да еще отсюда до самого Сандерленда? Это же двадцать миль?
Я пожал плечами.
— Скоро все очистится, как и сказал Фостер. День-другой, и все. И он прав: эта дрянь действительно лежит так густо, что угля под ней не видать.
— А что за уголь? — Его ум уже стремился к новым знаниям. — Я хочу сказать, откуда он появляется?
— Оттуда же, откуда и водоросли, — сказал я, — большей частью. Пошли посмотрим. — Я нашел полоску относительно чистого песка между завалами келпа. Там я отыскал два обкатанных морем камня, каждый с кулак размером. Постучав ими друг об друга, я отколол от них несколько фрагментов. Один оказался внутри серовато-коричневым и плотным; другой — черным, блестящим, слоистым — чистый каменный уголь.
— Ни за что не заметил бы разницы, — признал Дэвид.
— Да и я тоже! — признался я. — Но собиратели угля ошибаются редко. Они говорят, здесь подводные залежи, — я кивнул в сторону открытого моря. — Вполне возможно, так оно и есть, ведь графство битком набито углем. Но, по-моему, море просто вымывает здешний уголь из шахтовых отвалов, где скапливается порода, не прошедшая через грохот. Уголь легкий, его выбрасывает на берег. Камни тяжелее, они скатываются вниз, на дно.
— Тогда тем более жаль, — сказал Дэвид. — Что уголь нельзя собрать, я имею в виду…
— А?
— Ну конечно. Если здесь, на дне, и впрямь открытый пласт, то уголь наверняка попадает на берег вместе с келпом. Кто знает, может, под этими завалами тонны угля, только бери лопату да греби!
Я нахмурился и ответил:
— Может быть, ты и прав… — Но тут же пожал плечами: — Ну и ладно. Водоросли сгниют, а уголь-то останется. — И я подмигнул Дэвиду. — Уголь ведь не портится, ты знаешь?
Но он уже не слушал, а, опустившись на корточки, поднимал обеими руками омерзительное растение. Оно было тяжелым, с белесым, как кожа прокаженного, стеблем и темно-зелеными листьями. Больше всего оно напоминало какой-то странный гибрид растительной и животной плоти. Повсюду валялись пузыри, некоторые величиной с большой палец взрослого человека. Дэвид поднял один, раздавил, скорчил гримасу и встал на ноги.
— Господи! — воскликнул он, зажимая пальцами нос. — Ох, господи!
Я посмеялся, и мы пошли назад, к перелазу через старую морскую стену.
Вот и все, что было: просто инцидент, фрагмент, ни с чем особо не связанный. Происшествие, лишенное всякого интереса. Каприз природы, из тех, которые происходят периодически, ни на что серьезно не влияя. На первый взгляд…
Мне кажется, после глубинного келпа прошло совсем немного времени, когда Дэвид затеял жениться. Я, разумеется, знал, что у него есть девушка — Джун Андерсон, дочка стряпчего из Сандерленда, где, между прочим, живут самые красивые девушки графства, — Дэвид даже познакомил меня с ней, и она показалась мне очаровательной; но я и не подозревал, как далеко зашло у них дело.
Как я сказал, времени прошло совсем немного, и действительно, оглядываясь назад, я припоминаю, что это было буквально следующим летом. Может быть, они приняли решение как-то вдруг, почему мне и показалось, что все случилось очень быстро. Их планы, вероятно, оформились благодаря любопытной случайности: внезапно освободилась ферма Кеттлторпов, обширный участок земли на краю болота Кеттлторп.
Собственно, это была уже не ферма, а настоящий обломок старины: большой каменный дом и прилегавшие к нему постройки отчаянно нуждались в ремонте; но для Дэвида этот дом имел магическое очарование, и я понимал, что пройдет совсем немного лет, и Дэвид с его опытом превратит ферму в современное и удобное жилье большой ценности. А продавали его удивительно дешево, кстати.
И еще, насчет прежнего арендатора: тут крылось кое-что любопытное. И это приводит меня ко второму звену в моей внешне разрозненной цепи бессвязных событий и происшествий.
Старый Джейсон Карпентер не пользовался особой любовью в округе, точнее, его тут терпеть не могли. Седобородый молчун, угрюмый и необщительный, с глазами серыми, как волны вечно неспокойного Северного моря, одинаково хмуро взиравший и на зверей, и на людей, он жил на Кеттлторп Фарм без малого лет тридцать. За все это время он не обзавелся не то что женой, но даже слугой или служанкой, и ни одна живая душа не переступила порога его обиталища по его приглашению. Страх перед дробовиком Джейсона и его псом заставлял людей держаться подальше от его владений, и даже посыльные, когда им случалось доставлять покупки в те края, глядели в оба.
Зато Карпентер любил выпить пива и запить его ромом, а потому дважды в неделю сам являлся в Траст Отель в Хардене. Там он, бывало, садился в курительной и сидел, потягивая свою выпивку, а его пес Боунз лежал под столом между ног хозяина и не спал. Люди слегка побаивались Боунза, но не так, как сам пес боялся хозяина.
И вот Джейсона Карпентера не стало. Обратите внимание, я не говорю, что он умер, я говорю, что его просто не стало, он исчез. Однако свидетельств тому, что он жив, не нашлось — по крайней мере, в то время. А было все вот как.
Несколько месяцев подряд разные торговцы сообщали, что Джейсона в Кеттлторпе нет, и столько же пустовало его любимое кресло в курительной отеля Траст, почему местная полиция отправила своих представителей на его ферму, где они вышибли дверь, чтобы попасть в дом. Старого отшельника не было найдено и следа, зато полицейские обнаружили в доме кое-какие документы — в основном завещательного характера, — которые, похоже, хранились там как раз в ожидании подобного случая.
В этих документах отшельник настаивал, что в случае «истечения срока его проживания» дом, окружающие его постройки и землю надлежит «предоставить самим себе, чтобы они вернулись в грязь и гниль, из которых произошли»; однако впоследствии обнаружилось, что Карпентер был в долгах как в шелках, и, чтобы расплатиться с ними, ферма была выставлена на продажу. Вообще-то дому угрожали судебные приставы.
Разумеется, продажа потребовала времени, за которое старый дом и прилегающие к нему постройки обшарили от подвалов до крыш, и не один раз, по вполне понятным причинам. Безрезультатно.
Джейсон Карпентер исчез. Никто не знал, есть ли у него родственники; оказалось, что о нем вообще никто ничего не знал; впечатление было такое, словно его никогда и не существовало в наших местах. Большинству местных обитателей такая эпитафия пришлась по душе.
И еще одно: похоже, что «истечение срока его обитания» состоялось как раз во время глубинного келпа, в канун Рудмаса…
А теперь о свадьбе Дэвида Паркера и Джун Андерсон в католической церкви города Харден, событии столь блестящем, что даже окружающий унылый пейзаж из труб, изрыгающих угольный дым, и градирен, казалось, не должен был испортить торжественность момента и омрачить праздник. И все же на крутых, заполненных народом улицах вблизи церкви я уловил ноту диссонанса. Всего одну, но и той было более чем достаточно.
В тот самый миг, когда молодые вышли из церкви и направились к машине, а ликующая толпа окружила их, обсыпая конфетти, прямо у меня над ухом — как специально для меня предназначенные — прозвучали слова какой-то бабки в чепце и переднике, которая вылезла на улицу из своего прокопченного дома-террасы, где обитали шахтеры, чтобы покачать головой и каркнуть:
— Ага, а теперь, значится, он повезет свою красотку в Кеттлторп? В колокола-то отзвонили, а про другой колокол, видать, забыли? С тех пор, как старый Джейсон поселился в том доме, колокол брякнул всего-то раз или два, зато теперь, сказывают, трезвонит каждую ночь, когда темно и на море качка.
Все это я слышал абсолютно отчетливо, когда пришел взглянуть на свадьбу.
Вообще-то мне полагалось принимать более активное участие в свадебных торжествах, но я заранее знал, что буду сильно занят, и лишь ценой больших усилий смог выкроить время, чтобы прийти и взглянуть на молодых. Услышав гортанное бормотание старухи, я обернулся и даже успел ее заметить, но тут городские мальчишки бросились ловить пенни, трех- и шестипенсовики, которые полетели в толпу, едва отъехала машина молодоженов, и старуха скрылась из виду.
К тому времени грозовые тучи закрыли небо, и по команде отдаленной зарницы, точно по мановению дирижерской палочки, на собравшихся хлынул дождь. На этом все и кончилось. Толпа тут же рассосалась, а я бросился искать укрытие.
И все же… хотелось бы мне знать, что та старуха имела в виду…
— Привидения? — эхом повторил я за Дэвидом.
Мы случайно встретились в библиотеке в Хартлпуле недели через три после свадьбы. Я всегда любил почитать, а детективы, особенно кровавые, просто, что называется, глотал, вот и теперь выходил из библиотеки с охапкой чтива, когда мне навстречу попался Дэвид.
— Привидения, представь себе! — повторил он насмешливо и в то же время возбужденно. — На старой ферме водятся привидения!
Тревога, которую пробудили было во мне его слова, мигом улеглась при виде его широкой улыбки и бодрого выражения лица. Какие бы призраки ни водились на его ферме, он их, видимо, не боялся. А может, он просто решил надо мной немного подшутить? Я ответил ему с ухмылкой:
— Не хотел бы я быть духом в твоем доме. По крайней мере, в последние тридцать лет. Пока там водился старый Карпентер. А то бы он меня достал!
— Старый Джейсон Карпентер, — напомнил он мне, улыбаясь уже не столь ослепительно, — как ты знаешь, исчез.
— А! — ответил я, как дурак. — Разумеется. — И тут же поспешно добавил: — Но что у тебя там за привидения?
— Старая деревенская легенда, — пожал плечами он. — Мне рассказал ее отец Николлс, который нас обвенчал. Сам он услышал ее от священника, который служил до него, тот — от другого, и так далее. Столетиями из уст в уста, так сказать. Я бы не знал, не останови он меня как-то с вопросом, как у нас дела на ферме. Не видели ли мы чего-нибудь странного? Больше он ничего говорить не хотел, но я настаивал.
— И что же?
— В общем, похоже, что ее первые хозяева были рыбами.
— Как — рыбами?
— Буквально! То есть они походили на рыб. Или на лягушек? Толстые губы, широкие рты, чешуйчатая кожа, выпученные глаза — все как положено. Как выразился отец Николлс, «ихтическая внешность».
— Погоди-ка, — сказал я, видя, что его возбуждение вновь нарастает. — Прежде всего, кого ты называешь «первыми владельцами»? Тех, кто построил ферму?
— Ну конечно, нет! — он усмехнулся; потом взял меня за локоть, ввел в библиотеку и подвел к столу. Мы сели. — Никто не знает, кто и когда построил эту ферму, памяти о них не осталось. Если какие-нибудь записи об этом и существовали, то они давно утрачены. Господи, да этот дом легко может восходить к римским временам! Вполне может оказаться, что его построили в одно время с Валом — а может быть, и раньше. По крайней мере, в последние четыреста пятьдесят лет он регулярно присутствует на всех местных картах. Так что я говорю не о строителях, а о той первой семье, чье имя появляется в архивах. Около двухсот с лишним лет назад.
— И они, эти люди, — тут я невольно нахмурился, — странно выглядели?
— Точно! И не только выглядели. Дело, наверное, было в каких-нибудь рецессивных генах, результате частых внутрисемейных браков. Короче, местные их чурались — хотя «местных» в те дни, как ты понимаешь, было раз-два и обчелся. Тогда ведь ближе Хартлпула, Сандерленда, Дарема и Сигем Харбора ни города, ни деревни не было. Ну, разве что хутора какие — я не проверял. Короче, местность была дикая! И такой она оставалась до тех пор, пока не начали строить дороги. Потом уже появилась железная дорога, чтобы возить уголь с шахт, и так далее.
Я кивнул, чувствуя, как меня заражает энтузиазм Дэвида, как подхватывает меня его волна.
— И что же, те люди на ферме жили там из поколения в поколение?
— Не совсем, — ответил он. — Судя по всему, лет около ста пятидесяти тому назад в их обитании на ферме случилось зияние, пропуск; позднее, где-то во времена Гражданской войны в Америке, из Инсмута в Штатах приехала одна семья и купила ферму. Выглядели они точно так же, как и прежние обитатели; возможно даже, были с ними в родстве и вернулись в дом своих предков. Жили они фермой да тем, что давало море. Трудолюбивые, видно, были, но замкнутые и нелюдимые. Фамилия их была Уэйт. К тому времени легенда о привидениях уже крепко устоялась в местном фольклоре. Судя по всему, их было двое.
— Да?
Он кивнул.
— Одно — огромная фигура, встающая, словно столб дыма, из туманов кеттлторпских болот, ее видели путешественники, направляясь в каретах по старой дороге, и рыбаки, возвращавшиеся в Харден по тропе среди скал. И вот что интересно: если поглядеть на карту местности, как это сделал я, становится заметно, что ферма лежит в низине между старой дорогой и утесами. А значит, все, увиденное с одного из этих двух наблюдательных пунктов, может исходить из самой фермы!
Рассказ Дэвида опять начал вызывать у меня беспокойство. Конечно, дело было не в словах, которые он произносил, а в той увлеченности, с которой он это делал.
— Похоже, ты досконально изучил вопрос, — заметил я. — Есть какая-то особая причина?
— Только моя ненасытная тяга к знанию, — ухмыльнулся он. — Ты же знаешь, для меня нет большей радости, чем идти по новому следу, а уж когда добыча настигнута и загнана в угол, то счастливее меня нет никого на свете. И потом, я, как-никак, живу на этой ферме! В общем, возвращаясь к гигантской призрачной фигуре: согласно легендам, это был полурыба-получеловек!
— Вроде русалки?
— Да. А теперь, — с видом победителя он извлек откуда-то сложенный в несколько раз листок пергамента из тех, которые подкладывают под копирку, и развернул его на столе, — та-ра! Что ты скажешь об этом?
Отпечаток занимал около девяти квадратных дюймов; изображение, как я и предполагал, перенесли на бумагу с медной или латунной пластины при помощи копирки. На рисунке была видна в основном антропоморфная фигура мужчины, который сидел на каменном стуле или высеченном в скале троне, а нижнюю часть его тела скрывал занавес из водорослей, поразительно похожих на наш глубинный келп. У существа были большие, слегка навыкате глаза; покатый лоб; на коже слоилась чешуя, как у рыб, а пальцы единственной видимой руки, сжимавшие короткий трезубец, были соединены перепонками. Размытое изображение на заднем плане сильно напоминало обломки какой-то циклопической субмарины.
— Нептун, — сказал я. — Или какой-нибудь другой морской бог. Где ты его взял?
— Скопировал, — сказал он, аккуратно сворачивая рисунок и убирая его в карман. — Пластинка с его изображением висит на притолоке двери одного из надворных строений в Кеттлторпе. — И тут он нахмурился, впервые за все время нашего разговора. — Странные люди, странный символ…
Мгновение он глядел на меня так странно, что у меня похолодела кровь в жилах, но тут его заразительная улыбка вернулась, и он сказал:
— И ужасно странная история, а?
Мы вместе вышли из библиотеки, и я проводил его до машины.
— И все-таки, что тебе за дело до этой истории? — спросил я. — Что-то я не припоминаю, чтобы ты когда-нибудь интересовался фольклором.
Он ответил мне странным, почти уклончивым взглядом.
— Ты, значит, не веришь, что все дело только в моем беспокойном складе ума? — И тут же снова улыбнулся, весело и заразительно, как всегда.
Сев в машину, он опустил стекло и высунул голову.
— Мы скоро тебя увидим? Не пора ли тебе нанести нам визит?
— Это что, приглашение?
Он завел мотор.
— Разумеется — в любое время.
— Тогда скоро, — пообещал я.
— Надо еще скорее! — сказал он.
И тут я вспомнил его слова.
— Дэвид, ты говорил про двух призраков. Какой второй?
— Что? — он рассеянно нахмурился, поднимая стекло. И вдруг перестал крутить ручку. — А, ты вот о чем. Колокол…
— Колокол? — повторил я за ним, чувствуя, как по моей спине бегут мурашки. — Какой колокол?
— Призрачный! — крикнул он, отъезжая. — Какой еще? Он звонит под землей или под водой, обычно в туман или когда на море качка. Я все жду, прислушиваюсь, но…
— Безуспешно? — машинально закончил я за него, не узнавая собственного голоса.
— Пока да.
И когда он, улыбнувшись и взмахнув на прощание рукой, поехал от меня вниз по улице, я, вопреки всякой логике и здравому смыслу, вспомнил слова старухи, слышанные возле церкви: «А про другой колокол забыли?»
Действительно, про другой-то колокол забыли…
На полпути назад в Харден меня осенило: я забыл выбрать себе книгу. Моя голова была по-прежнему занята открытиями Дэвида Паркера: но то, что вызывало у него энтузиазм, для меня было причиной неприятного беспокойства.
Однако, вернувшись в Харден, к своему дому на холме в южном конце деревни, я вспомнил, где я раньше мог видеть рисунок, подобный тому, который показал мне сегодня Дэвид. Ну конечно, в старинной, двухтомной семейной Библии с картинками; я уже много лет не перелистывал ее страниц, и она стояла в моем книжном шкафу как украшение.
Иллюстрация, о которой я говорю, находится в книге Судей, стих 13, среди множества мелких изображений: это контур рыбоподобного бога на филистимлянской монете или медальоне. Дагон, чей храм в Газе разрушил Самсон.
Дагон…
Моя память, пробудившись, вдруг подсказала мне, где еще я мог видеть изображение того же самого бога. В Сандерленде есть замечательный музей, и мой отец часто водил меня туда в детстве. В музейной коллекции монет и медалей я видел…
— Дагона? — с любопытством повторил куратор музея мой запрос. — Нет, к сожалению, у нас почти нет предметов филистимлян; монет точно нет. Может, это было что-то более позднее. Могу я перезвонить вам чуть позже?
— Пожалуйста, и простите меня за то, что отнимаю у вас время.
— Ну, что вы, для меня это удовольствие. А иначе зачем мы здесь?
Десять минут спустя он позвонил:
— Как я и предполагал, мистер Траффорд. У нас действительно есть та монета, которую вы помните, но она финикийская, а не филистимлянская. Финикийцы унаследовали культ Дагона от филистимлян, только называли его Оаннес. Такое часто бывало в истории. Самыми крупными ворами чужих богов были римляне. Иногда они заимствовали открыто — так Зевс стал Юпитером, — но в иных случаях, когда божество было особенно мрачным или зловещим, как в Сумманусе, поклонение становилось тайным. Большими любителями тайных культов были эти римляне. Вы бы удивились, узнав, какое количество тайных обществ и культов дожили до наших дней, пройдя через Рим. Но… что это я… опять читаю лекцию!
— Не извиняйтесь, — перебил я его, — все это действительно очень интересно. И спасибо вам еще раз за то, что потратили на меня время.
— Это все? Вам больше не нужна моя помощь?
— Это все. Я вам очень благодарен.
И это действительно, похоже, было все…
Две недели спустя я поехал в гости к Дэвиду и его жене. У старого Джейсона Карпентера не было телефона, а Дэвид все еще тянул с установкой, так что мне пришлось свалиться на них как снег на голову.
Кеттлторп лежит к северу от Хардена, между современным шоссе и морем, и с дороги, которая, отходя от шоссе, ныряла вниз и петляла до самой фермы, открывался восхитительный вид на весь дол. Голубое небо, чайки, с криками кружащие над далеким вспаханным полем, изгороди, грузные от жимолости в цвету, гудящие пчелами, и сладковатый запах гнили от ручейков и прудов, спрятавшихся в тени орешин, — чем не идиллия. Какие уж тут страшные истории с привидениями!
И вот впереди встала каменная ограда фермы — настоящая крепостная стена, феодальному замку впору, — за которой скрывались все постройки, включая жилой дом. Железные ворота стояли настежь, название «Кеттлторп» было написано на них коваными буквами. Внутри… уже наступила пора перемен.
Стена и заключенные в ее пределах три с половиной — четыре акра земли были, в сущности, основной частью владения Кеттлторп. По дороге мне попадались на глаза ржавые таблички с надписями «Частная собственность» и «Нарушители границ будут наказаны через суд» — это старый Джейсон помечал внешние границы своей земли — но сердце фермы было тут.
На территории фермы расположение и взаимное соотношение ее строений казалось не случайным, а геометрически выверенным. Постройки образовывали подкову с жилым домом в центре; рожки подковы были повернуты к морю, невидимому с фермы, отделенному от нее примерно милей пути через подъем, покрытый густым дубовым лесом. Все постройки были из местного камня, легко узнаваемого благодаря своей шероховатой, кремнисто-серой поверхности. Я не геолог и не знаю его названия, зато знаю, что этот камень много лет добывали в местных каменоломнях или открытым способом там, где он выходил на поверхность. Однако от ближайшего такого выхода до Кеттлторпа было много миль; а значит, строительство фермы было в свое время настоящим подвигом Геркулеса.
Поймав себя на этой мысли, я вспомнил слова куратора музея из Сандерленда и невольно улыбнулся. Ну, может, греки тут ни при чем, ведь ферма возникла немного позднее. Одна беда, среди римлян, похоже, не было особых силачей!
Подъехав к дому и остановив автомобиль у каменных колонн портика, я, кажется, начал понимать, как у Дэвида сложилось представление о почтенном возрасте его жилища. Разомлевший под летним солнцем дом благоухал прожитыми веками; его стены были массивны, структура выдавала римское влияние. В особенности крыша: широкая, с низким коньком, она производила впечатление долговечности и мощи.
А внешняя каменная стена и подковообразная планировка вполне могут быть наследием какого-нибудь римского храма. Да, это был именно храм, могучий, он колебался и плыл перед моими глазами, пока я не сообразил, что это струйка дыма и тепла, проникшая сюда из сада, где жгли небольшой костер, производит эффект марева. Храм — да! — но какому же странному древнему богу он посвящен?
Проследить истоки этой идеи совсем не трудно: моя голова все еще была полна историческими изысканиями Дэвида; и хотя я не хотел снова поднимать эту тему, мне все же было интересно, насколько он продвинулся.
Может статься, он уже накопал достаточно для удовлетворения своего любопытства. Возможно, но я в это мало верил. Нет, мой друг из тех, кто ради знаний полезет за самим дьяволом в ад.
— Эй, привет! — Он подошел сзади и хлопнул меня по спине как раз в тот момент, когда я, выйдя из своего старенького «Морриса», запирал дверцу, так что я даже вздрогнул. Я вздрогнул… голова закружилась…
…Он так внезапно появился в тени портика… я его не заметил… мои глаза… жара, палящее солнце, гудение пчел…
— Билл! — встревоженный голос Дэвида долетел до меня как будто за сотню миль. — Что, черт возьми…?
— Что-то у меня голова слегка закружилась, — услышал я свой голос, когда прислонился к машине, чтобы не упасть, а мир завертелся вокруг меня.
— Слегка? Да на тебе лица нет! Все это чертово солнце! Куда такая жара годится? А тут еще дым от костра. Да и ехал ты, могу поспорить, с закрытыми окнами. Ладно, давай-ка доставим тебя в дом.
Буквально повиснув на его широком плече, я с удовольствием позволил ему отвести меня, спотыкающегося, в помещение.
— Солнце палит, — бормотал он то ли мне, то ли самому себе. — Жимолость воняет. Не аромат, а прямо миазмы какие-то. Тошнит, пока не привыкнешь. У Джун те же проблемы.
— Миазмы? — я дал себе упасть на стул в тенистой и прохладной оконной нише.
Он кивнул, фокусируясь передо мной по мере того, как я быстро приходил в себя после приступа — не знаю чего.
— Вот именно, такой туман из пыльцы, невидимый, восходящие потоки теплого воздуха разносят его повсюду, а пыльца липкая и сладкая. Тут и лошадь задыхаться начнет!
— Неужели только в этом все дело? Боже мой! — я уж думал, упаду в обморок.
— Знаю, знаю. Джун уже неделю мучается. В полдень просто падает. Ей даже в доме душновато. Сил нет ни на что. Вот и сейчас у себя, наверху, лежит.
В тот же миг, точно откликаясь на призыв своего имени, Джун крикнула сверху:
— Дэвид, это Билл? Я сейчас же спущусь.
— Не стоит беспокоиться, — ответил я слегка дрожащим голосом. — Тем более, если вы плохо себя чувствуете.
— Со мной все в порядке! — настаивал голос. — Просто я немного устала, вот и все.
Я уже пришел в себя и, с благодарностью приняв стакан виски с содовой, прогонял ощущение сухости из спекшегося горла и рта.
— Ну, вот, — сказал Дэвид, точно прочитав мои мысли. — Теперь ты больше похож на себя.
— В первый раз со мной такое, — ответил я ему. — Наверное, твоя «миазматическая» теория верна. Но, как бы там ни было, через минуту я опять буду на ногах. — Говоря, я обводил глазами помещение, которое, по всей вероятности, являлось главной жилой комнатой фермы.
Большая комната, почти целиком обшитая дубовыми панелями, но лишенная старинной мебели, имела аскетический вид. Мне вспомнился костер, языки бледного пламени, торчащие из него ножки изъеденного червями стула…
Одна стена была каменная, отполированная веками, она производила тот самый эффект, которого принято добиваться в современных жилищах и который здесь был абсолютно естественным и ни в коем случае не намеренным. В целом очаровательная комната. Черные от времени балки едва заметно прогнулись в середине потолка, который они пересекали от стены к стене.
— Построено на совесть, — сказал Дэвид. — Три сотни лет этим балкам, по меньшей мере, а стенам, — он пожал плечами, — даже не знаю, сколько, пока. Это одна из пяти нижних комнат, все примерно одного размера. Я их уже расчистил, сжег почти всю старую мебель, но пару-тройку предметов сохранил — их стоит реставрировать. Они в основном в кабинете старого Карпентера. А эта комната прекрасна — будет прекрасной. Когда я с ней закончу Сейчас тут, конечно, мрачновато из-за окон. Боюсь, что старые рамы с частым переплетом придется убрать. Это место нужно открыть.
— Вот именно, — поддакнул я, чувствуя, что он то ли раздражен, то ли напряжен, почти встревожен.
— Ну, — спросил он, — как ты? Хочу показать тебе пластинку, с которой я скопировал тот рисунок.
— Изображение Дагона, — ляпнул я и тут же прикусил язык, но поздно.
Он поднял на меня глаза, посмотрел пристально и медленно улыбнулся.
— Значит, ты тоже наводил справки? Да, Дагон — или Нептун, как называли его римляне. Пошли посмотрим. — Выходя из дому, он громко крикнул: — Джун, мы в загон. Скоро вернемся.
— Загон? — Вместе мы дошли до выхода из подковы. — Ты же говорил, табличка на притолоке?
— Так и есть, над дверью, но дом, в который она ведет, без крыши, вот я и зову его загоном. Видишь? — и он показал рукой. Подкова завершалась небольшими строениями из грубого камня, абсолютно идентичными, за исключением одной детали, на которую указал Дэвид: у того, что слева, не было крыши.
— Может быть, она рухнула? — предположил я, когда мы приближались к строению.
Дэвид покачал головой.
— Нет, сказал он, — ее никогда не было. Посмотри на верхний край стены. Он ровный. Никаких углублений, где могли бы лежать несущие балки. Сравни его с другим зданием, напротив, и увидишь. Для чего оно строилось, не знаю, но старина Карпентер хранил тут всякий мусор: мешки с ржавыми гвоздями, сломанные инструменты, всякую всячину. Ах, да — и еще дрова для растопки, под брезентом.
Прислонившись к стене и просунув голову в дверной проем без двери, я заглянул внутрь. Теневая сторона стены была холодная на ощупь. Солнечные лучи, падая внутрь через западную стену, наполняли все внутреннее пространство пылинками, которые бесцельно плавали в застоявшемся воздухе, точно колонии микробов. Пахло ржавчиной, гнилью, мелкими мертвыми зверушками и… морем? Нет, показалось, просто мимолетная фантазия.
Я прикрыл глаза от лучей и пляшущих в нем пылинок. Из полопавшихся мешков вывалились на каменные плиты пола ржавые болты и гвозди; у стены грудой скелетов громоздился проржавевший фермерский инвентарь; за ним толстые деревянные брусья торчали из-под заплесневевшего брезента. Почти у самых моих ног черви пожирали трупик не то крысы, не то белки.
Я моргнул, полуослепленный, вздрогнул — не столько при виде трупика, сколько от чувства внезапно наступившего холода в душе, и втянул голову.
— Вот она, — сказал Дэвид, и его бесстрастный тон вернул меня к реальности. — Пластинка.
Над нашими головами, как раз посредине притолоки, была табличка с оригиналом того изображения, которое скопировал Дэвид. Я бросил на нее взгляд, невольно реагируя на приглашение Дэвида посмотреть, и отвернулся. Он разочарованно нахмурился.
— Тебе не интересно?
— Мне… тревожно, — выдавил я наконец. — Может, вернемся в дом? Джун, наверное, уже встала и ждет нас.
Он пожал плечами и зашагал назад, по той же залитой солнцем и заросшей сорняками дорожке в окружении корявых плодовых деревьев и пыльных, затянутых паутиной кустов, по которой мы пришли.
— Я думал, тебе будет интересно, — сказал он. И добавил: — В каком смысле тревожно?
Я покачал головой, не зная, что ответить.
— Может, все дело во мне, — промямлил я наконец. — Видно, сегодня не мой день. Сил не хватает.
— На что сил не хватает? — резко переспросил он и тут же пожал плечами, не дав мне ответить. — Впрочем, как хочешь. — Но после этого он отдалился от меня и замолчал. Вообще-то он не был обидчив, но я достаточно хорошо его знал и понял: я задел его больное место, о существовании которого даже не подозревал, и решил не затягивать свой визит.
До отъезда я еще успел повидаться с Джун, хотя радости мне это не добавило. Она похудела, побледнела, на лице залегли морщинки, никакого румянца, естественного для новобрачной или любой здоровой молодой женщины летом. Ее веки покраснели, природная синева глаз как будто разжижилась; кожа пересохла, точно утратила влагу; даже ее волосы, глянцево-черные и упругие в те разы, когда я видел ее раньше, теперь утратили блеск и безжизненно повисли.
Конечно, все дело могло быть в том, что я застал ее в неудачное время. Как я узнал позднее, неожиданно скончался ее отец, и это ее, несомненно, угнетало. К тому же она трудилась наравне с Дэвидом, приводя старый дом в порядок. А может, дело было в «миазмах», о которых говорил ее муж, — они могли вызывать у нее аллергию.
Могли…
Но почему все это — озабоченность Дэвида, его (или моя?) одержимость событиями и предметами далекого прошлого; старинные местные легенды о призраках и гигантских фигурах из тумана; загадочное недомогание Джун — вызывало во мне такую тревогу за них, которую не объяснишь обычной дружбой, я не знал и объяснить не мог. В тот миг я чувствовал лишь одно: где-то далеко огромное тяжкое колесо тронулось с места и катится вниз, набирая обороты, а мой друг и его жена стоят на его пути, даже не подозревая об этом…
Теплыми ленивыми волнами прокатило лето; пришла осень, деревья бесстыдно и бездумно разделись донага (хотя, казалось бы, почему бы им не сохранить листву, зимой все теплее); мой бизнес то и дело подкидывал мне разные проблемы, так что я работал не поднимая головы и совершенно не имел времени на раздумья о странностях последних двенадцати месяцев. Время от времени я видел в деревне Дэвида, в основном издали; видел и Джун, но гораздо реже. Он был почти всегда изможден, — ну, если не изможден, то замучен, взволнован, взвинчен, загнан, — а она… от нее, можно сказать, вообще ничего не осталось. Бледная, худая как спичка, с красными (как я подозревал) глазами за стеклами темных очков. Супружеская жизнь? Или другие заботы? Не мое дело.
А потом снова наступило время глубинного келпа, и тогда Дэвид сделал свои дела моими.
Здесь я должен обратиться к читателю с просьбой сохранять терпение. Последующая часть моего рассказа наверняка покажется ему написанной второпях, непродуманной, плохо организованной. Но именно так запомнились мне те события: смутные, нереальные, перемежающиеся бессвязными диалогами. Все произошло очень быстро: вот и я не вижу причин затягивать…
Дэвид громко постучал в мою дверь, когда с черного неба лили потоки дождя, а ветер хлестал и дико раскачивал деревья; я открыл и увидел его, в рубашке с короткими рукавами, исхудавшего, с отсутствующим взглядом. Несколько порций бренди и энергичное растирание махровым полотенцем вернули ему подобие нормального вида, но к тому моменту он уже устыдился своего поведения и не горел желанием его объяснить. Однако я не был готов отпустить его так просто. Я решил, что время откровенного разговора пришло; пора наконец выяснить, что происходит с моим другом, и принять меры, пока еще есть время.
— Время? — Он уставился на меня из-под копны встрепанных волос, на его плечах белело полотенце, а мокрая рубаха сушилась на стуле у открытого огня. — Есть ли еще время? Будь я проклят, если знаю… — И он покачал головой.
— Ну, так расскажи мне обо всем, — сердито настаивал я. — Хотя бы попробуй. Начни с чего-нибудь. Ты ведь зачем-то пришел ко мне. Все дело в вас с Джун? Ваш брак оказался ошибкой? Или причина в доме, в этой старой ферме?
— Отстань, Билл! — фыркнул он. — Ты и так все знаешь. Ну, если не все, то кое-что. Ты же сам все почувствовал. Причина в доме, ты говоришь? — Уголки его рта поползли вниз, лицо приняло угрюмое выражение. — Да, в доме, именно в нем. В том, чем он был, и чем, возможно, не перестал быть даже сейчас…
— Продолжай, — подтолкнул я его, и он рассказал мне следующее:
— Я пришел, чтобы попросить тебя поехать со мной обратно. Еще одну ночь один я в этом доме не выдержу.
— Один? А Джун разве не с тобой?
Взглянув на меня, он изобразил лицом подобие прежней улыбки.
— Со мной и не со мной, — сказал он. — Ну да, да, она в доме, но я все равно один. Она не виновата, бедненькая. Это всё ферма чертова!
— Рассказывай, — снова подтолкнул я его.
Он вздохнул, прикусил губу. И через секунду продолжил:
— По-моему, — сказал он, — по-моему, это был храм. И не думаю, что римляне были его первыми строителями. Ты, конечно, слышал, что на некоторых камнях Стоунхенджа нашли финикийские символы? И вот вопрос: что еще привезли с собой древние мореплаватели в старую добрую Англию?
Кому поклонялись наши предки в доисторическое время? Матери-земле, солнцу, дождю — и морю? Мы ведь на острове, Билл! Мы со всех сторон окружены морем! И оно было щедрым! Оно и теперь не оскудело, но тогда! Так не естественно ли было для нас обожествлять море — и все его дары?
— Его щедрость? — переспросил я.
— Да, но не только. Ктулху, Писка, Кракен, Дагон, Оаннес, Нептун. Зови их — его — как хочешь. Но ему поклонялись в Кеттлторпе, и он этого не забыл. Да, и по-моему, он приходит, он еще приходит туда в определенное время, он ищет поклонения, которое знал в те годы, и может быть, еще…
— Да?
Он быстро отвел взгляд.
— Я сделал кое-какие… открытия.
Я ждал.
— Я все выяснил — да, да, и… — Его глаза сверкнули в отблесках огня, но тут же погасли.
— И?
— Черт побери! — набросился он на меня, и полотенце соскользнуло с его плеч. Он проворно подхватил его и прикрылся, но я успел заметить, как страшно он исхудал за прошедшие месяцы. — Черт возьми, — повторил он снова, уже без ожесточения. — Тебе обязательно повторять за мной каждое слово? Видит Бог, я и сам достаточно часто повторяюсь! Я все прокручиваю и прокручиваю в голове одно и то же… Снова и снова…
Я молча ждал. Придет время, он сам все скажет.
И он продолжил.
— Я кое-что узнал и кое-что… слышал. — Он перевел взгляд с пламени камина на мое лицо, сосредоточился на нем, провел дрожащей рукой по подсыхающим волосам. В них, когда-то черных как смоль, мелькнули седые нити — или мне показалось? — Я слышал колокол!
— Значит, тебе пора убираться оттуда! — ответил я немедленно. — Уходи сам и забирай Джун!
— Да знаю я, знаю! — ответил он с выражением муки на лице. И схватил меня за руку. — Но я еще не кончил. Я еще не все узнал. Оно манит меня, понимаешь. Я должен знать все…
— Что знать? — Пришла моя очередь вспылить. — Что тебе еще надо знать, дурак ты эдакий? Разве мало того, что это место — зло? Это-то ты знаешь. И все же продолжаешь там торчать. Делай оттуда ноги, вот мой совет. Делай ноги, и чем быстрее, тем лучше!
— Нет! — буквально завопил он. — Я еще не кончил. Этому надо положить конец. Это место надо очистить. — И он снова уставился в огонь.
— Значит, ты признаешь, что там — зло?
— Разумеется. Я это знаю. Но уйти, все бросить? Я не могу, и Джун…
— Что?
— Она не захочет! — Подавив всхлип, он поднял на меня растерянные, полные слез глаза. — Этот дом, он как… как магнит! В нем есть genius loci. Он — место сосредоточения один Бог ведает каких сил. Злых? О, да! Зло обитает там веками. Но я купил этот дом, и я его очищу — я покончу со злом, каким бы оно ни было.
— Слушай, — начал уговаривать его я, — давай поедем туда сейчас, вместе. Заберем Джун, привезем ее сюда на ночь. Сам-то ты как сюда попал? Уж не пешком, я надеюсь?
— Нет, нет, — он помотал головой. — Машина сломалась на подъеме к твоему дому. Наверное, дождь попал под капот. Завтра я ее заберу. — Он встал и вдруг испугался, страх наполнил его глаза. — Я слишком задержался. Билл, отвезешь меня назад? Джун там — одна! Она спала, когда я уходил. А я по дороге расскажу тебе подробности…
Заставив его выпить еще бренди, я накинул ему на плечи пальто и повел к своей машине. Через несколько минут мы уже спускались с холма в Харден, и он рассказывал мне обо всем, что произошло с ним за последнее время. По моим воспоминаниям, говорил он следующее:
— С того дня, как ты был у нас, я все время работал. Много работал, по-настоящему. Не над тем, о чем ты думаешь — по крайней мере, не только. Я привел в порядок всю территорию внутри стен, даже сделал предварительную прикидку парка. И в доме: старые окна выбросил, новые вставил. Много света. И все равно внутри пахло плесенью. К концу лета я начал жечь дрова старого Карпентера, сушить дом, избавлять его от запаха тысячелетий — запаха, который всегда особенно густел ночью. И еще красил, да, много свежей краски. В основном белой, сверкающей и новой. Джун заметно повеселела; ты ведь обратил внимание на то, какой подавленной она была? Да, так вот, она, кажется, пошла на поправку. Я думал, что мне удастся изгнать «миазмы». Ха! — усмехнулся он коротко и горько. — Я называл их «летними миазмами». Слепец, слепец!
— Продолжай, — напомнил я ему, осторожно ведя машину по мокрой от дождя улице.
Постепенно, освобождая место под мебель и все такое, я добрался до старых полок и книг в кабинете Карпентера. И все бы ничего, но… я заглянул в эти книги. Это была ошибка. Надо было просто сжечь их все разом, вместе с прогнившими стульями и лохмотьями старого ковра. С другой стороны, я рад, что поступил иначе. — Я чувствовал, как Дэвид пристально смотрит на меня в темноте машины, буквально обжигая меня взглядом. — Знание, сокрытое в этих томах, Билл. Темные секреты, проклятые тайны. Тебе, как никому другому, известно, до чего я падок на все таинственное. Мышеловка захлопнулась; работа остановилась; мне надо было знать! Ничего не имело больше значения, кроме рукописей и книг: «итНегее Сикеп» и Гидрофинеи. Трактат Дурфена о подводной цивилизации и «Повесть Иогансена» 1925 года. Целая куча заметок, якобы из правительственного архива США, от двадцать восьмого года, когда федералы устроили рейд на Инсмут, увядающий, изъеденный ужасами городок на побережье Новой Англии; а также куски и обрывки из мифологий разных народов, все до одного имеющие отношение к почитанию великого морского бога.
— Инсмут? — насторожился я. Мне уже приходилось слышать это название. — Не то ли это место, откуда…?
— …Место, откуда происходили Уайты, которые приехали сюда и поселились на Кеттлторп Фарм в годы Гражданской войны? Вот именно, — он утвердительно кивнул и уставился вперед, в черную от дождя ночь. — И старый Карпентер, который прожил в доме тридцать лет, тоже был из Инсмута!
— Их родич?
— Нет, совсем нет. Наоборот. Он жил на ферме по той же причине, по которой живу там я — теперь. Да, странный он был, нелюдимый, — а кто был бы иным на его месте? Я прочел его дневники и понял. Не все, конечно, он даже на письме был сдержан, многого не договаривал. Да и зачем? Писал-то он для себя, как подспорье памяти. Для других они не предназначались, но я многое сумел разглядеть. Остальное нашел в правительственных архивах.
Инсмут процветал во времена клиперов и старых торговых путей. Капитаны и матросы с этих судов привозили жен из Полинезии — а с ними их странные ритуалы и богов. В жилах островитянок текла дурная кровь, и она быстро распространилась. С годами зараза охватила весь город. Целые семьи несли отпечаток вырождения. Это были недолюди, амфибии, больше приспособленные к жизни под водой, чем на суше. Русалки, да! Тритоны, поклонявшиеся Дагону в глубинах морей: «Жители Глубин», как называл их Карпентер. А потом грянул федеральный рейд 1928-го. Слишком поздно для старины Карпентера.
Он держал магазин в Инсмуте, довольно далеко от пользовавшихся дурной славой улиц с заколоченными домами и церквей, где худшие из них устраивали свои логова, встречались и отправляли свои ритуалы. Его жена давно скончалась от какой-то изнурительной болезни, но успела родить ему дочь, которая была жива и училась в Аркхэме. Незадолго до рейда она вернулась домой, совсем молоденькая, почти девочка. И ее — не знаю, как сказать, — завлекли. Именно это слово все время крутится у меня в голове. Мне оно все объясняет.
Одним словом, Жители Глубин взяли ее и отдали какой-то твари, которую они вызвали из моря. Она исчезла. То ли умерла, то ли что похуже. Они бы и Карпентера убили, ведь он слишком много знал о них и жаждал мести, но федеральный рейд положил конец всем личным счетам и погасил все вендетты. А заодно и самому Инсмуту. От города буквально камня на камне не оставили. Огромные пустыри, усыпанные щебнем. Даже риф в паре миль от берега, и тот глубинными бомбами взорвали…
В общем, когда все стихло, Карпентер еще был в Инсмуте, вернее, среди его развалин. Приводил в порядок дела, наверное, а заодно хотел лично убедиться в том, что злу конец. Так он и понял, что с ним не кончено, наоборот, оно расползается, как чудовищная сыпь. Подозревая, что выжившие в рейде нашли убежище в старых твердынях за морем, он и приехал сюда.
— Сюда? — Рассказ Дэвида начинал обретать связность и смысл. — Но почему именно сюда?
— Как почему? Ты что, не слушал? Он что-то знал про Кеттлторп и приехал, чтобы не дать инсмутскому злу расцвести здесь. А может, он знал, что оно уже здесь, затаилось, как рак, готовый в любую минуту выпустить метастазы. Может быть, он явился, чтобы предотвратить его распространение. Что ж, последние тридцать лет ему это удавалось, но теперь…
— Да?
— Теперь его нет, а домом владею я. И потому именно я должен проследить за тем, чтобы его дело не пропало!
— Но что именно он делал? — спросил я. — И какой ценой? Его нет, говоришь ты. Да, старый Карпентер исчез. Но куда? И чего все это будет стоить тебе, Дэвид? И, что еще важнее, чем за это заплатит Джун?
Мои слова наконец пробудили в нем какую-то подавленную мысль, которую он прятал от себя, боясь признаться себе в ее существовании. Это было видно по тому, как он внезапно вздрогнул и выпрямился на сиденье.
— Джун? Но…
— Какие тут могут быть «но»? Посмотри на себя! А еще лучше, приглядись как следует к своей жене. Вы плохо кончите, и ты, и она. Все началось в тот день, как вы купили эту ферму. Наверное, ты прав и насчет дома, и насчет старого Карпентера, и насчет всего, о чем ты мне говорил, — но теперь тебе придется забыть об этом. Продай Кеттлторп, вот тебе мой совет — а еще лучше, сровняй его с землей! Но что бы ты ни решил…
— Смотри! — он снова вздрогнул и с неожиданной силой сжал мою руку выше запястья.
Я посмотрел, ударил по тормозам, и машину со скрежетом занесло на блестящей лужами дороге. К тому времени поворот с шоссе на ферму остался позади. Дождь перестал, и воздух был недвижим, как саван. Также походил на гробовые пелены и молочно-белый туман, покрывавший дол и мощную каменную ограду фермы на целый фут. В жидком свете луны сцена производила жуткое впечатление — но куда страшнее было видение, которое прямо у нас на глазах вставало над фермой, как призрак, предвещающий смерть.
Да, то был силуэт, — огромный, он реял над фермой, как парус из тумана. То был силуэт чудовищного морского существа — древнего, как само Зло, Дагона!
Надо было встряхнуть Дэвида и ехать дальше; вот именно, надо было направить автомобиль прямо к ферме и тому, что ждало впереди; но вид фигуры, которая росла над домом, точно гриб, уплотняясь в сыром воздухе долины, парализовал нас. И, сидя в машине, двигатель которой тихо урчал на малых оборотах, мы разом вздрогнули — где-то глухо ударил проклятый, надтреснутый колокол. При других обстоятельствах его голос мог показаться исполненным тоски и печали, но тогда мы не слышали в нем ничего, кроме угрозы, прошедшей через вечность.
— Колокол! — болезненная хватка Дэвида привела меня в чувство.
— Слышу, — сказал я, сменил передачу и одним духом пролетел последние четверть мили дороги, которые отделяли нас от фермы. Тогда казалось, что время застыло, но вот железные створки ворот остались позади, и наш автомобиль был уже у дома, где, поворачивая, затормозил у крыльца. Дом сиял огнями, но Джун…
Пока Дэвид, как оглашенный, метался по комнатам, ища ее внизу и наверху, выкрикивая ее имя, я беспомощно рядом с машиной с трепетом слушал удары колокола: мне казалось, что его глухой похоронный зов идет прямо из-под земли у меня под ногами. Слушая, я наблюдал, как фигура из пара зазмеилась, съежилась и, послав в мою сторону последний, полный ненависти, взгляд выпученных туманных глаз, витками опустилась к земле и исчезла — в доме без крыши у выхода из подковы!
Дэвид, который с перекошенным лицом вывалился из дома, лопоча что-то несусветное, еще успел это застать.
— Там! — закричал он, показывая на увязшую в тумане пустую скорлупу дома. — Оно там. И она наверняка там же. Я не знал, что она знает… наверное, она следила за мной. Билл, — он опять схватил меня за руку, — ты меня не бросишь? Бога ради, скажи, что ты меня не бросишь! — Я только и мог, что кивнуть головой.
С бьющимися сердцами мы подошли к сооружению, казавшемуся призрачным от клубившегося в нем вонючего тумана, — и тут же отпрянули, когда из дверного проема с Дэгоном на притолоке нам навстречу качнулась какая-то фигура и тут же без чувств рухнула в объятия Дэвида. Конечно, это была Джун — но разве это возможно? Как это могла быть Джун?
Это была не та Джун, которую я знал когда-то, а ее жалкая тень…
Она отощала, волосы свалялись, как пакля, сухая кожа буквально обтягивала череп, лицо… стало другим. Странно, но Дэвида как будто не взволновало то, что он увидел при жидком свете луны; его тревога усилилась, когда мы перенесли его жену в дом. Ибо там стало ясно, что кроме очевидных — по крайней мере, для меня, — изменений в ее облике, о которых ее муж пока не обмолвился ни словом, с ней произошло кое-что похуже: на нее напали и обошлись с ней крайне грубо и жестоко.
Помню, я вез их в приемный покой больницы в Хартлпуле, прислушиваясь к бормотанию Дэвида, который обнимал ее на заднем сиденье машины. Она была без сознания, и Дэвид, можно сказать, тоже (он наверняка не отдавал себе отчета в том, как причитал и плакал над ней всю ту кошмарную дорогу), зато мой мозг работал сверхурочно, пока я вслушивался в его голос, воркующий и несчастный:
— Наверное, она следила за мной, бедняжка, и видела, как я туда хожу! В первый раз я пошел туда за дровами — когда сжег всю мебель старика Джейсона — но потом под щепками и кусками коры я обнаружил жернов, лежавший на камне. Старик положил его туда, чтобы прижимать камень. И, клянусь Богом, он свою работу выполнил! Фунтов двести сорок его вес, не меньше. Стоя на узких, склизких ступенях под ним, его никак не сдвинешь. Но я принес рычаг — да, да! — сдвинул жернов и спустился вниз. Вниз по древним ступеням — глубже, глубже и глубже. А там, внизу — лабиринт! Вся земля изрыта, похоже на соты!..
…Для чего они, эти норы? Какой цели они должны были служить? И кто их вырыл? У меня не было ответа на этот вопрос, но на всякий случай я скрыл их от нее — или думал, что скрыл. Не знаю почему, но инстинкт подсказал мне тогда молчать о… об этом месте внизу. Клянусь Богом, я собирался запечатать этот колодец навсегда, залить его — его пасть — цементом. И так бы я и поступил, клянусь, но лишь после того, как исследовал бы тоннели полностью. Но этот жернов, Джун, тяжеленный жернов. Как же ты смогла сдвинуть его одна? Или тебе помогли?
Я всего раз или два спускался туда сам и ни разу не заходил далеко. И всегда у меня было чувство, что я не один во тьме, что какие-то твари, притаившись в дальних углах темных нор, следят за мной, пока я крадучись иду мимо. И этот склизкий, никогда не видевший солнца ручей, который булькает по душным теснинам к морю. Ручей, который разбухает и опадает с каждым приливом и отливом. И келп, разбухший, скользкий. О, Господи! Помоги мне!..
…И так далее. Но, пока мы ехали до больницы, Дэвид более или менее взял себя в руки. Мало того, он вытянул из меня обещание, что я не буду мешать — и даже помогу ему — сделать все по-своему. У него был план, простой и безупречный, как поставить финальную точку во всем этом деле. Конечно, он имел смысл лишь в том случае, если его страхи перед Кеттлторпом и нижележащим пространством, которое он обозначал как «то место внизу», были хоть в малейшей степени обоснованы.
Что до того, почему я с такой легкостью пошел ему навстречу, почему оставил невысказанными все свои возражения и протесты по этому поводу, — очень просто, ведь я своими глазами видел уродливый призрак из тумана и своими ушами слышал нечестивый голос колокола, погребенного в земле. И, каким бы фантастическим ни казалось все это, я был убежден, что ферма Кеттлторп — вместилище ужаса и зла, равного которому Британские острова не знали за всю свою историю…
Мы провели в больнице ночь, где дали одинаковые фальшивые показания полиции (нашего воображения хватило лишь на сказку о некоем грабителе, которого мы якобы видели, когда он под покровом тумана проник в долину, где стоит ферма), а все остальное время сидели в комнате для посетителей, пили кофе и тихо переговаривались между собой. Именно тихо, потому что Дэвидом овладела усталость как тела, так и ума; присутствие при медицинском осмотре жены, обусловленном ее состоянием и нашими показаниями, только ухудшило его самочувствие.
Что до Джун, то она, к счастью, не выходила из травматического шока всю ночь и большую часть утра. Наконец часов в десять нам объявили, что ее состояние, хотя и нестабильное, перестало быть критическим; и тогда, поскольку было совершенно ясно, что мы ничем больше не можем помочь, я повез Дэвида домой, в Харден.
Я постелил ему в гостевой комнате и сам пошел спать — час или два отдыха, больше я ни о чем не мечтал тогда; однако часа в четыре пополудни меня пробудил от тревожного сна его голос: он настойчиво и беспокойно беседовал с кем-то по телефону Когда я спустился, он положил трубку и повернул ко мне осунувшееся лицо с красными глазами и черной щетиной.
— Состояние стабилизировалось, — сказал он и добавил: — Слава Богу! Но она все еще в шоке, не может прийти в себя. Слишком глубокое потрясение. По крайней мере, так они мне сказали. Говорят, что так может продолжаться несколько недель… а может, дольше.
— Что ты будешь делать? — спросил я. — Можешь, конечно, пожить у меня, я буду только рад…
— Пожить у тебя? — перебил он. — Конечно, с удовольствием, но только после.
Я кивнул, прикусив губу.
— Ясно. Ты решил сначала сделать дело. Очень хорошо, но, знаешь, еще не поздно заявить в полицию. Пусть бы они этим занимались.
Он засмеялся отрывисто, как залаял.
— Ты что, правда думаешь, что я смогу объяснить все какому-нибудь хартлпулскому бобби, эдакому среднестатистическому сукину сыну? Да если бы я даже привел их туда и показал им это… это место внизу, что бы они, по-твоему, стали делать? Может, мне еще и планом своим с ними поделиться? Рассказать про динамит местным властям, представителям закона! Воображаю! Даже если они не нарядят меня сразу в смирительную рубашку, все равно вечность пройдет, пока они хоть что-нибудь начнут делать. А тем временем те, кто живет под фермой — а мы знаем, Билл, что там кто-то есть! — преспокойно освоят новые пастбища!
Ответа у меня не нашлось, и он продолжал более спокойным, сдержанным тоном:
— Знаешь, чем занимался старый Карпентер? Я тебе расскажу: в нужное время года, когда звонил колокол, он спускался под землю с ружьем и вышибал дух из всякой твари, какую ему случалось встретить там, внизу! Так он расплачивался за то, что сделали с ним и его семьей в Инсмуте. Скажешь, он был безумцем, который сам не знал, что писал в своих дневниках? И ошибешься, Билл, ведь мы с тобой сами видели. И слышали тоже — слышали, как колокол Дагона звонит в ночи, призывая древнее зло из моря.
У старика была одна-единственная причина жить здесь, и этой причиной была месть! Угрюмый? Нелюдимый? Еще бы! Он жил, чтобы убивать — убивать их! Этих тритонов, жителей глубин, страшных земноводных выблядков вековечного зла, нечеловеческой похоти и черных чужих кошмаров. А теперь пришла моя очередь завершить то, что он начал, только я справлюсь с этим куда скорее! Будет по-моему или никак. — И он смерил меня таким пронзительным, твердым и ясным взглядом, какой мне редко встречалось видеть у него и раньше. — Ты со мной?
— Сначала, — сказал я, — ты должен мне кое-что объяснить. Насчет Джун. Она… у нее такой вид… я о том, что…
— Я понимаю, о чем ты, — ответил он, и его голос едва заметно дрогнул, побеждая самоконтроль. — Именно потому все это так важно для меня. Если бы мне еще нужны были доказательства касательно природы этого места, подтверждения того, о чем я и сам догадался, то теперь можно было бы считать, что я их получил. Я ведь говорил тебе, что она не захочет уйти с фермы, так? А ты знаешь, что именно ей пришла в голову мысль купить Кеттлторп?
— Думаешь, ее… соблазнили?
— О, да, именно так я и думаю, — но чем? Ее собственной кровью, Билл! Она ничего не знала, даже не подозревала. В отличие от ее предков. Ее прадед прибыл сюда из Америки, из Новой Англии. Дальше в ее родословную я не заглядывал, да и нужды нет. Но теперь ты понимаешь, почему именно я должен свести с ними счеты?
Я мог только кивнуть.
— И ты мне поможешь?
— Должно быть, я спятил, — ответил я, кивая, — в лучшем случае, помешался… но, по-моему, я уже и так в деле. Да, я пойду с тобой.
— Сейчас?
— Сегодня? В такое время? Вот это уже форменное безумие! Не успеешь оглянуться, как стемнеет, и тогда…
— Стемнеет, подумаешь! — перебил он меня. — Да какая разница? Там и так всегда темно, Билл! Надо взять с собой электрические фонари, чем больше, тем лучше. У меня на ферме есть два. А у тебя?
— У меня есть хороший мощный фонарь в машине, — сказал я. — И батарейки к нему.
— Отлично! И ружья возьми — могут пригодиться. На этот раз мы не на прогулку идем, Билл.
— А где ты возьмешь динамит? — спросил я в робкой надежде на то, что, может быть, второпях он упустил этот пункт.
Он улыбнулся — не как раньше, а просто зловеще изогнул губы — и ответил:
— Он у меня уже есть. Я запасся им две недели назад, когда нашел камень и в первый раз спустился под него. Мои рабочие используют динамит во время больших ландшафтных работ. Крупные валуны и старые пни проще взрывать, чем тратить время и силы на их выкапывание. Да и дешевле обходится. На ферме довольно динамита, чтобы поднять на воздух половину Хардена!
Я был на стороне Дэвида, и он это знал.
— Сейчас, Билл, сейчас! — повторил он. Потом, после минутного молчания, пожал плечами. — Но… если трусишь…
— Я же сказал, что пойду, — ответил я ему, — значит, пойду. Не ты один любишь тайны, даже такие ужасные, как эта. Теперь, когда я знаю о существовании этого места, мне не терпится его увидеть. Конечно, страшновато, но…
Он кивнул.
— Тогда это твой последний шанс, потому что завтра там не на что будет смотреть, будь уверен!
Не прошло и часа, как мы были готовы. Фонари, ружья, динамит и запальный шнур — все, что нам понадобится — все было у нас в руках. А когда мы шли от дома в Кеттлторпе садовыми тропами к загону без крыши, вокруг нас уже поднимался и наползал туман. Здесь и сейчас я могу признаться, что, если бы в тот миг Дэвид еще раз предложил мне выбор, уйти или остаться, я, может быть, бросил бы его одного.
Но он не предложил, и мы прошли под притолокой с чеканной пластиной, нашли камень, о котором рассказывал Дэвид, и при помощи рычага начали поднимать его с места. Пока мы работали, мой друг показал мне на древний массивный жернов, лежавший поблизости.
— Вот чем припечатал его старина Джейсон Карпентер. И как, по-твоему, могла Джун сдвинуть его в одиночку? Да никогда в жизни! Ей помогли — наверняка помогли — снизу!
В этот миг каменная плита шелохнулась, приподнялась, качнулась и, повинуясь нашей настойчивости, со грохотом съехала набок. Не знаю, чего я ждал, но струя сырого, затхлого воздуха, вырвавшаяся снизу, застала меня врасплох. Она ударила мне в лицо, словно невидимый ядовитый гейзер, и в ней были спрессованы вонь времени и океана, сырости и тьмы и каких-то чуждых существ. Несмотря на неожиданность, я сразу его узнал: тот же гнилостный запашок я впервые почувствовал летом, Дэвид тогда еще наивно называл его «миазмами».
Так, значит, отсюда вставал туманный призрак темных ночей, огромный фантом, составленный из частиц воды и смрада земных внутренностей? Видимо, да, хотя это совершенно не объясняло той формы, которую принимал призрак…
Немного погодя сила воздушной струи и концентрация газов в ней ослабели, из колодца потянул холодный соленый сквозняк. К нему примешивались и другие запахи, но, при всей своей чужеродной мерзости, они уже не казались непереносимыми.
У каждого из нас с плеча свисал наполовину полный походный мешок, и эти мешки заставляли нас клониться набок при ходьбе.
— Осторожно! — предупредил меня Дэвид, начиная спуск. — Ступеньки крутые и скользкие, как черти! — И он не преувеличил.
Лестница была узкой, спиральной, она почти перпендикулярно шла вниз, заполняя собой колодец, который имел такой вид, словно его просверлили в местной породе огромным сверлом. Ее ступеньки были узкими, высокими и скользкими от селитры и какой-то влаги, липкой, как пот. Лучи наших фонарей, вспарывая тьму, черную, как ночь, уходили вниз, все дальше и дальше.
Не знаю, на какую глубину мы спустились; стенки каменного горла на всем протяжении были одинаковы, что затрудняло прикидку расстояния. Хотя, помню, кое-где на них были вырезаны буквы, ритуальные по виду. Кое-какие из них явно были римские, но лишь самые новые! Другие, угловатые и грубые, похожие на иероглифы — варварски простые по стилю — наверняка предшествовали вторжению римлян в Британию.
Так мы добрались до дна колодца, где Дэвид ненадолго задержался, чтобы положить несколько шашек динамита в темную нишу. Он стал прилаживать к ним запал и, работая, говорил со мной шепотом, который шепелявым эхо уходил куда-то в глубину и возвращался к нам в качестве замирающих шорохов и шелеста.
— Сюда самый длинный шнур. Подожжем его на обратном пути. И еще штук пять таких же, прежде чем дойдем до конца. Надеюсь, этого хватит. Господи, я ведь даже не знаю размеров этого места! Здесь я был и заходил немного дальше, но ты представляешь, каково здесь одному…
Я в самом деле представлял и содрогнулся при одной мысли.
Дэвид работал, а я охранял его с ружьем наготове: курок взведен, ствол смотрит в устье черного тоннеля, ведущего бог знает куда. Стены этой горизонтальной шахты были повернуты верхними краями внутрь, образуя потолок, такой низкий, что, когда мы двинулись вперед, нам пришлось пригнуться. Было совершенно очевидно, что тоннель — не просто каприз природы; нет, он был слишком правильным, к тому же на стенах повсюду виднелись следы от орудий, которыми рубили камень. Еще одна вещь обратила на себя наше внимание: тоннель был прорыт в той самой породе, из которой в темные давние времена, не оставившие по себе памяти ни в мифах, ни в легендах, была выстроена — в каком, интересно, виде? — ферма Кеттлторп.
Пока я шел за другом, какой-то дальний уголок моего мозга работал, фиксируя впечатления, что, однако, ни в малейшей степени не уменьшало чудовищного давления предчувствий, которые ложились на меня почти физически ощутимым грузом. Но я все же шел за ним по пятам, и немного погодя он уже показывал мне свежие царапины на стенах — он сделал их во время своего предыдущего визита, чтобы не заблудиться.
— Необходимость, — прошептал он, — как раз здесь тоннели начинают ветвиться, превращаются в лабиринт. Настоящий лабиринт, иначе не скажешь! Врагу не пожелаешь в таком заблудиться…
Мое воображение и без того разыгралось, так что я пошел вплотную к другу, едва не наступая ему на пятки, и начал рисовать собственные знаки на стене. И в самом деле, не прошли мы и пятидесяти шагов, как стало ясно, что Дэвид нисколько не преувеличил, назвав это место лабиринтом. Боковые тоннели, число которых стремительно росло, входили в нашу шахту со всех сторон и под любыми углами; скоро мы оказались в помещении вроде галереи, где встречались многие из этих ходов.
Галерея была, в сущности, пещерой огромных размеров с выпуклым куполообразным потолком высотой, может быть, футов тридцать. Ее стены походили на соты, так они были изрыты устьями тоннелей, многие из которых обрывались круто вниз, уходя на еще большую глубину, в невообразимый мрак. Там я впервые услышал ленивое бульканье невидимого потока, о котором Дэвид сказал:
— Это ручей. Ты его скоро увидишь.
В расщелине подальше от глаз он заложил еще один заряд и сделал мне знак следовать за ним. Мы свернули в тоннель с самым высоким потолком и, пройдя по нему футов семьдесят пять — сто, оказались на каменном уступе, вдоль которого тек медлительный, жирно блестящий черный ручей. Мы шли против течения, футах в двадцати от поверхности; однако все каменное ложе ручья, вплоть до самого края нашего уступа, покрывала черно-зеленая слизь и отложения. Дэвид объяснил кажущееся несоответствие.
— Ручей зависит от прилива, — сказал он. — Море сейчас в самой низкой точке. Начинает прибывать. Я видел этот ручей футов на пятнадцать глубже, чем сейчас, но это будет не скоро, через несколько часов. — Тут он ухватил меня за руку так, что я вздрогнул. — Келп! Взгляни на келп…
По все еще медленной, как будто вязкой воде плыли, крутясь и извиваясь, длинные веревки стеблей, их пузыри взблескивали в свете наших фонарей.
— Дэвид, — я почувствовал, как у меня дрожит голос, — по-моему…
— Пошли, — ответил он и зашагал дальше. — Я знаю, что ты хочешь сказать, но нам еще рано возвращаться. Пока. — Тут он умолк и повернулся ко мне, сверля меня горящими в темноте глазами. — А может, ты пойдешь назад один, если хочешь?..
— Дэвид, — зашипел я, — брось свои поганые шуточки…
— Да побойся Бога, парень! — перебил он меня. — Ты что, думаешь, тебе одному страшно?
Как ни странно, его слова меня ободрили, мы быстро зашагали дальше и скоро пришли во вторую галерею. Немного не доходя до нее, подземный ручей повернул в сторону, так что до нас доносилась лишь его вонь и отдаленное клокотание. И снова Дэвид заложил заряд, действуя с такой нервозной поспешностью, точно вдобавок к собственному страху, в котором он недавно признался, он подхватил еще и мою плохо скрываемую панику.
— Дальше этого места я не ходил, — сказал он мне, слова вылетели из его рта серией отрывистых выдохов, как будто он задыхался. — Там неизвестная территория. По моим прикидкам, мы сейчас в четверти мили от входа. — Лучом своего фонаря он обвел стены, отчего тени тысячелетних сталактитов заплясали и запрыгали по ним. — Вон большой тоннель. Пошли в него.
Теперь мы оба останавливались через каждые три-четыре шага и делали свежие отметины на стенах, особенно там, где новый тоннель вливался в нашу шахту, чтобы не заблудиться на обратном пути. А еще я чувствовал, что страх вот-вот окончательно возьмет надо мной верх.
Я вздрагивал от каждого движения друга; то и дело я замирал, чтобы послушать, и мое сердце колотилось, как бешеное, в тишине окружавшей нас ночи. Да полно, такой ли уж тихой она была? Мне показалось или я что-то слышал? Тихий плеск, а затем мягкое шлеп, шлеп крадущихся шагов в темноте?
Вообразите себе следующее.
Мы были в огромной подземной ловушке. Вырытой многие века тому назад… кем? И чем? И кто или что водилось тут до сих пор, среди жутких и смрадных каменных пещер, на берегах гнилого, похожего на помойку ручья?
Шлеп, шлеп, шлеп…
На этот раз мне точно не показалось.
— Дэвид, — прошелестел я, как камыш на ветру. — Ради бога…
— Шшш, — еле слышно прошептал он в ответ. — Я слышал, и они тоже могут услышать! Дай мне только заложить последний динамит — придется сделать одну большую кучу — и мы повернем назад. — Пошарив лучом фонаря по стенам, он не нашел укромного места для закладки. — За следующим поворотом, — сказал он. — Там наверняка будет какая-нибудь ниша. Не хочу, чтобы взрывчатку нашли прежде, чем она сделает свое дело.
Мы обогнули выступ и…
Свет, фосфоресцирующий свет, как будто от множества гнилушек, залил все кругом, сделав наши фонари почти ненужными. Мы видели, и мы начинали понимать.
Дом без крыши наверху — тот, что мы называли загоном — был лишь дверью. А здесь, в глубине, было истинное место поклонения, настоящий подземный храм Дагона. Мы поняли это сразу, едва увидели огромный, свисавший с потолка колокол в отложениях селитры, — колокол и ржавую железную цепь, служившую ему веревкой, такую длинную, что ее последние звенья едва не касались поверхности воды в середине черного, покрытого тяжелой рябью озера отбросов и гниющих водорослей в центре пещеры…
Несмотря на ужасы, которые следовали за нами по пятам, нас как магнитом тянула к себе эта фантастическая последняя галерея. Не меньше ста футов в диаметре, она представляла собой неправильную окружность со сводом в виде купола и многочисленными горизонтальными выступами на стенах, своего рода природный амфитеатр. С потолка, как и в предыдущей галерее, свисали сталактиты, сталагмиты обломками зубов торчали из кишащего водорослями озера, свидетельствуя о том, что когда-то в далеком прошлом нашей планеты эта пещера располагалась высоко над уровнем моря.
Что до происхождения самого озера, то было ясно, что вода в нем могла быть только морская. На это указывало присутствие глубинного келпа. И, словно для того, чтобы подтвердить это наблюдение и сделать его состоятельным, широкая полоса воды соединяла озеро с дальней стеной пещеры, исчезая там йод каменной перемычкой в направлении, которое, как подсказывало мне мое пространственное чутье, вело к морю. Рябь или мелкие волны, тревожившие поверхность озера, наверняка были результатом притока воды из этого источника и, вне всякого сомнения, указывали на приближение прилива.
Со светом тоже все было ясно: то же свечение, которое наблюдается при гниении или разложении органических останков и присуще определенным грибам, окрашивало пространство пещеры в нездоровые цвета, придавая ей сходство с внутренностями субмарины. Так что даже не будь у нас фонарей, большой колокол в центре потолка все равно был бы ясно виден.
Но колокол… кто мог сказать, откуда он взялся? Не я. И не Дэвид. Это определенно был тот самый колокол, чей погребальный звон проникал даже на поверхность, но вот его происхождение…
Тут Дэвид в присущей ему странной манере, словно прочитав мои мысли, сказал:
— Ну, так больше он не будет звонить, — по крайней мере, когда все это взорвется! — И я увидел, что он пристроил свой полный динамита рюкзак подальше от глаз, под низким неглубоким выступом в стене, и уже прилаживал к нему щедрый кусок запального шнура. Покончив с этим, он бросил на меня взгляд, чиркнул спичкой и поднес ее к концу шнура, отчего по нему, шипя и фыркая, побежал маленький огонек, после чего Дэвид спрятал и шнур.
— Вот так, — пробормотал он, — а теперь мы можем… — Но тут он умолк, и я понял почему.
Какой-то голос сказал — или квакнул? — что-то невдалеке, и до нас донеслось эхо. И пока мы, напрягая слух, силились разобрать что-нибудь за медленным журчанием заглушённой водорослями воды, до нас долетело эхо все тех же дьявольски скрытных, крадущихся шагов, мягкое шлеп-шлеп безымянных ног по скользким от слизи камням…
Тут паника охватила нас снова, еще усиленная тем, что вода в озере зажурчала громче, и это не могло быть результатом лишь деятельности прилива. Быть может, в тот самый миг что-то еще, кроме соли и водорослей, приближалось к нам по руслу этого сумрачного и таинственного потока.
Мои руки и ноги дрожали, да и Дэвид был не в лучшем состоянии, когда мы, забыв об осторожности, развернулись и буквально бегом бросились назад, руководствуясь отметинами, которые мы оставляли на стенах подземного лабиринта по пути сюда. За нашими спинами медленно, но верно тлел спрятанный в складках камня фитиль, пламя близилось к мощному заряду динамита; а в глубине озера шевелилось некое предполагаемое существо, появление которого — мы были в этом уверены — не сулило нам ничего хорошего. В то время как впереди… кто мог знать?
Очевидно было одно: наше присутствие наконец потревожило кого-то — или что-то, — и эти кто-то — или что-то — производили теперь шумы, которые не могло заглушить ни наше прерывистое дыхание, ни стук наших сердец, ни даже топот наших ног, уносивших нас в глубину черных тоннелей. Я говорю «шумы» потому, что ни один нормальный человек из верхнего мира, где воздух свеж и небо лазурно, не решился бы назвать речью эти спорадические взрывы гортанного кваканья и вопросительного клокотанья, исходящие будто из переполненных мокротой горл; никому и в голову бы не пришло, что эти скользящие, шипящие, шлепающие звуки можно как-то связать с человеческим передвижением. Хотя, быть может, что-то отдаленно человеческое в них и было, но многочисленные гибридные браки настолько сильно разбавили это начало, что человеку уже трудно было признать его своим. А ведь мы еще не видели этих Жителей Глубин — или Тритонов, как называл их Дэвид, — по крайней мере, пока!
Но, когда мы добежали до центральной галереи, где остановились перевести дух, и Дэвид снова чиркнул спичкой, чтобы поджечь вторую закладку динамита, это простое действие, которого мы, к счастью, не совершили раньше, привело к такому результату, которого я не забуду до конца моих дней.
Сначала страшно загрохотал большой колокол, удары которого, разносясь по адским коридорам, буквально оглушали, а потом… но я забегаю вперед.
Одновременно с ударами колокола где-то совсем недалеко от нас снова заквакали и забормотали голоса; Дэвид схватил меня за руку и буквально втащил в какой-то боковой тоннель, под углом примыкавший к галерее. Этот поступок был продиктован не только тем, что звуки близились, но и тем, что они раздавались из того самого коридора, куда нам предстояло свернуть! Но, словно по безумной прихоти богов судьбы, наш временный приют оказался — по-своему — настолько же страшным, насколько и то место, которое мы только что вынуждены были покинуть.
Ответвление, в которое мы свернули, оказалась не коридором, а пещерой в форме буквы Ь, за первым и единственным поворотом которой нашим глазам открылась ужасная тайна. Мы инстинктивно отпрянули, сделав открытие столь же страшное, сколь и неожиданное, и я без слов взмолился Богу — если есть во вселенной какой-нибудь разумный, добрый Бог, — чтобы Он послал мне сил не сломаться и выдержать испытание безумным страхом.
В пещере, на том самом месте, где его одолели, лежал растерзанный труп Джейсона Карпентера. Это мог быть только он: у его ног лежало не менее изуродованное тело его пса, Боунза. Пол пещеры вокруг него буквально устилали стреляные гильзы; его рука, наполовину сгнившая, наполовину усохшая, как у мумии, сжимала ружье, которое не смогло уберечь его жизнь.
Но дрался он до последнего — о, как он дрался! И сам Джейсон, и его пес…
Ибо не только для их трупов эта пещера стала могилой. Нет, сбоку от них лежала груда квазичеловеческих обломков — описывать которые у меня нет сил. Не буду даже пытаться, скажу лишь, что это и были те самые чудища из истории о гибельном городе Инсмуте, которую поведал мне Дэвид. Но если эти твари были отвратительны в смерти, то при жизни они оказались намного хуже. Однако это нам еще предстояло испытать…
Итак, неохотно погасив наши фонари, мы вынужденно скорчились в вонючей тьме рядом с трупами человека, собаки и существ из ночных кошмаров и стали ждать. При этом мы не могли забыть и о медленно тлеющих запальных шнурах, о времени, которого оставалось все меньше. Но наконец голос колокола стих, замерло вдали его эхо, Жители Глубин, повинуясь призыву, толпой прошли мимо нашего убежища, мы перестали слышать их звуки, и только тогда мы осмелились показаться наружу.
Включив фонари и пригнувшись, мы выбежали из пещеры в галерею — и тут же столкнулись лицом к лицу с кошмаром! Орава шлепающих и квакающих тварей прошла мимо, но одного из своих оставила сторожить — и этот одинокий страж, стоя посреди галереи, удивленно вытаращил на нас свои выпученные жабьи глаза, едва мы показались из-за поворота.
Миг, и эта ходячая непристойность — этот лягушкорыбочеловек — вскинул на уровень лица свои перепончатые лапы, издал смешанный с шипением и кваканьем крик ярости, а может быть, и страха и бросился на нас…
…Весь подавшись вперед, бешено шлепая ногами и размахивая руками, он ринулся на нас, но заряд из обоих стволов моего ружья встретил его на полдороге, а я все жал и жал на курок пальцем, хотя лицо и грудь монстра разорвало на кровавые ошметки, а его тело, перекувыркнувшись в воздухе, отлетело к противоположной стене галереи.
Потом я услышал крик Дэвида, он орал прямо мне в ухо, тряс, тянул меня за собой, а потом… потом был хаос, безумие, паническое бегство и страх.
Кажется, я перезаряжал ружье — и не раз, — смутно помню, как стрелял из него после; по-моему, Дэвид тоже стрелял, может, даже лучше, чем я. Впрочем, по нашим целям нельзя было промахнуться. Нас окружали когтистые лапы, похотливые, полные ненависти глаза; смрад чужого дыхания обжигал нам лица, мы поскальзывались в кровавой слизи, спотыкались о груды упавших тел; но кваканье, шлепки и шипение не утихали, а наоборот, делались громче по мере того, как детища древнего океана все шли и шли в пещеру.
И вдруг… титанический взрыв потряс стены пещеры, их дрожь еще не улеглась, когда до нашего слуха донесся другой, еще более зловещий грохот… Пыль и мелкие камни дождем хлынули с потолка, боковой тоннель, мимо которого мы бежали, обрушился прямо у нас на глазах… но мы уже были у нижних ступеней винтовой лестницы, скрывавшейся в наклонной, похожей на высосанную кость шахте, которая вела наверх.
Тут мои воспоминания становятся отчетливыми, даже слишком, — словно ощущение близкого спасения обострило чувства, онемевшие от страха, — я вижу Дэвида, он поджигает последний запальный шнур, а я стою рядом с ним, стреляю и заряжаю, стреляю и заряжаю. Пахнет серой и порохом, лучи наших фонарей шарят в густой пыли, из которой на нас то и дело выскакивают все новые и новые ненавистные твари. Ружье в моих руках раскалено, его заело, оно перестало открываться.
Дэвид встает на мое место и, без разбору паля в кошмарное мяукающее месиво, пронзительным срывающимся голосом кричит мне, чтобы я поднимался, поднимался и убирался ко всем чертям из этого ада. Сверху мне видно, как пульсирующая масса, из которой то и дело высовываются когтистые лапы, наваливается и погребает его под собой; лягушачьи глаза поворачиваются ко мне… широкие рты растягиваются в хищной, кровожадной улыбке, блестят клыки… миг, и они, шлепая и хлюпая, бросаются к ступеням, за мной!
И вот… вот я наверху, под луной, в белом тумане. С силой, рожденной безумием, я ставлю на место каменную плиту и придавливаю ее жерновом. Ведь Дэвида больше нет, и раздумывать над его судьбой не имеет смысла. Он погиб, я видел его смерть своими глазами, но, по крайней мере, он сделал то, что хотел. Я окончательно убеждаюсь в этом, когда земля под моими ногами содрогается от взрыва: это динамит довершает свою работу.
Вслед за тем я, шатаясь, выхожу из дома без крыши и падаю на садовой дорожке, между корявыми плодовыми деревцами и неестественно блестящей живой изгородью из кустов, мокрых насквозь от тумана. Я лежу и чувствую, как меня трясет, как дрожит подо мной земля и рушится вековая каменная кладка, изъеденная временем.
И уже в самом конце, соскальзывая в милосердное забытье, я вижу то, что позволит мне потом очнуться в здравом уме и твердой памяти. Вот что это было: огромная масса тумана покидает долину, распадаясь на отдельные кольца, они истончаются и тают, превращая фигуру разъяренного бога морей в редкую и бесформенную дымку.
Ибо я знаю, что, хотя сам Дагон продолжает жить — как он «жил» с незапамятных времен, — места его поклонения, которым веками служила ферма Кеттлторп, больше нет.
Вот и вся моя история, история фермы Кеттлторп, которую на рассвете я нашел в руинах. Ни одного целого здания, да что там, камня на камне не осталось в долине, когда я оттуда уходил, а что там теперь, не знаю, ведь я туда больше не возвращался и никого не расспрашивал. В официальных источниках, разумеется, сказано, что в ту ночь «произошло значительное оползание грунта», то самое движение и опускание земляных пластов, которого страшатся жители шахтовых городов по всему миру; и, несмотря на то, что шторма как такового в ту ночь не было, береговые скалы на большой протяженности осели на прибрежный песок или обрушились прямо в воду.
Что еще сказать? В тот год было очень мало глубинного келпа, и с тех пор он все продолжает сходить на нет. Правда, я знаю об этом лишь по слухам, ведь я переехал в глубь острова, туда, откуда даже случайно не увидишь море и не услышишь его шум.
Насчет Джун: он умерла восемью месяцами позже, рожая недоношенного ребенка. Перед смертью она стала до странности походить на рыбу, но ей это было уже все равно, ведь, выйдя из состояния шока, она утратила разум и до самого конца оставалась беззаботным ребенком. Врачи говорят, что она не страдала, и за это я благодарю Всевышнего.
По словам врачей, хорошо и то, что вместе с ней умерло ее дитя…
Нил Гейман
Просто опять конец света
Со Стивом Джонсом я дружу пятнадцать лет. Мы даже составили вместе книжку гадких стишков для детей. А это означает, что ему позволено мне звонить и говорить что-то вроде: «Я готовлю сборник рассказов, действие которых происходит в вымышленном Г. Ф. Лавкрафтом городе Инсмут. Напиши мне что-нибудь».
Этот рассказ собирался с миру по ниточке. одной такой «ниточкой» была книга ныне покойного Роджера Желязны «Ночь в тоскливом октябре», в которой он искусно и с юмором обыграл различных избитых персонажей хоррора и фэнтези. Роджер подарил мне свою книгу за несколько месяцев до того, как я сел писать этот рассказ, и я прочел ее с огромным наслаждением. Приблизительно в это же время я читал описание суда над французским волком-оборотнем, состоявшегося триста лет назад. Читая показания одного свидетеля, я вдруг сообразил, что отчет об этом суде подтолкнул Саки на написание чудесного рассказа «Габриэль Эрнест», а также Джеймса Брэнча Кейблла — на новеллу «Белый балахон», но Саки и Кейблл были слишком хорошо воспитаны, чтобы использовать мотив выблевывания пальцев, ключевую улику на суде. А это означало, что теперь дело за мной.
Первоначально имя человека-волка, который встретил Эбботта и Костелло, было Ларри Талъбот…
Плохой день: я проснулся голым в собственной постели, но со сведенным желудком и чувствуя себя довольно скверно. Что-то в свете, напряженном и с металлическим оттенком, как цвет мигрени, подсказывало, что уже за полдень. В комнате стоял ледяной холод — буквально: на оконных стеклах изнутри образовалась тонкая корочка льда. Простыни на кровати вокруг меня были располосованы, в складках пряталась звериная шерсть. От ости чесалась кожа.
Я подумал, не остаться ли в кровати до конца следующей недели: после преображения я всегда чувствую усталость, но волна тошноты вынудила меня выпутаться из простыней и поспешно заковылять в крохотную ванную.
Когда я добрался до ее двери, меня снова прихватила колика. Вцепившись в косяк, я залился потом. Может, это простуда? Я так надеялся, что не подхватил грипп.
Колика ножом резала нутро. Голова кружилась. Я рухнул на пол и, прежде чем успел поднять голову настолько, чтобы найти унитаз, начал блевать.
Из меня извергалась вонючая желтая жижа, а с ней вышла собачья лапа (я бы предположил, доберманова, но, правду сказать, я в собаках не разбираюсь), немного резанной кубиками моркови и сладкой кукурузы, несколько кусков плохо пережеванного мяса, несколько пальцев. Это были довольно бледные маленькие пальчики, по всей видимости, ребенка.
Вот черт!
Колика немного отпустила, тошнота унялась. Я лежал на полу, изо рта и из носа у меня сочилась вонючая слюна, а на щеках высыхали слезы, какие текут, когда тебя тошнит.
Почувствовав себя немного лучше, я вынул лапу и пальцы из лужи блевотины и, выбросив их в унитаз, спустил воду.
Я открыл кран и, прополоскав рот солоноватой инсмутской водой, выплюнул ее в раковину. Насколько смог, подтер лужу половой тряпкой и туалетной бумагой. Затем открыл душ и стоял под ним, как зомби, пока по мне хлестала горячая вода. Я намылился с ног до головы, особенно волосы. Скудная пена посерела, очевидно, я был очень грязным. Волосы у меня свалялись от чего-то, на ощупь похожего на запекшуюся кровь, и я тер эту корку куском мыла, пока она не исчезла. Потом еще постоял под душем, пока вода не пошла ледяная.
Под дверью лежала записка от моей хозяйки. Там говорилось, что я задолжал квартплату за две недели. Там говорилось, что все ответы есть в «Откровении Иоанна Богослова». Там говорилось, что, вернувшись вчера под утро, я очень шумел и не буду ли я любезен впредь вести себя потише. Там говорилось, что, когда Древние поднимутся из океана, все отбросы земные, все неверующие, весь никчемный люд, все бездельники и бродяги будут сметены, и мир очистится льдом и холодной водой из пучины. Там говорилось, что, по ее разумению, мне следует напомнить, что, когда я тут поселился, она отвела мне в холодильнике полку и не буду ли я так любезен впредь держаться ее.
Смяв записку, я бросил ее на пол, где она осталась лежать среди картонок от «бигмаков», пустых коробок из-под пиццы и давно засохших кусков этих самых пицц.
Пора было идти на работу.
Я провел в Инсмуте две недели, и город мне не нравился. От него пахло рыбой. Это был мрачный, клаустрофобичный городишко: с востока болотные топи, с запада — скалы, между ними — гавань с несколькими гниющими рыбацкими судами. Живописным он не был даже на закате. И все равно в восьмидесятых сюда заявились яппи, напокупали колоритных рыбацких коттеджей с видом на гавань. Яппи уже несколько лет как уехали, и заброшенные коттеджи вдоль бухты ветшали.
Коренные жители Инсмута обитали в городке и за его чертой, в кэмпингах, заставленных отсыревшими трейлерами, которые никуда не поедут.
Я оделся, зашнуровал ботинки, надел пальто и вышел из комнаты. Хозяйка не показывалась. Это была приземистая пучеглазая женщина, которая говорила мало, зато оставляла мне пространные записки, подсовывая их под дверь или пришпиливая на видных местах. Дом она наводняла запахами варящихся морепродуктов. На кухонной плите вечно булькали огромные кастрюли со всякими тварями: у одних конечностей было слишком много, а у других не было вовсе.
В доме имелись и другие комнаты, но никто больше их не снимал. Ни один человек в здравом уме не приедет в Инсмут зимой.
За стенами дома пахло не лучше, но было холоднее, и мое дыхание облачком заклубилось в морском воздухе. Снег на улицах был хрустким и грязным, тучи предвещали, что он пойдет снова.
С залива дул холодный соленый вечер. Горестно кричали чайки. Чувствовал я себя отвратительно. И в конторе у меня тоже ледяной холод. На углу Марш-стрит и Фут-авеню располагался бар «Консервный нож», приземистое строение с темными оконцами, мимо которого за последнюю пару недель я проходил два десятка раз. Внутрь я никогда раньше не заглядывал, но сейчас мне отчаянно требовалось выпить, а кроме того, там может быть теплее. Я толкнул дверь.
В баре действительно было тепло. Потопав, чтобы стряхнуть с ботинок снег, я переступил порог. Внутри было почти пусто, пахло невычищенными пепельницами и пролитым пивом. У стойки играли в шахматы двое пожилых мужчин. Бармен читал потрепанный, переплетенный в зеленую с позолотой кожу томик стихов лорда Альфреда Теннисона.
— Привет. Как насчет «Джека Дэниэлса»? Неразбавленного?
— Конечно. Вы в городе недавно, — сказал он, кладя книгу лицом вниз на стойку и наливая мне выпить.
— Так заметно?
Улыбнувшись, он подвинул мне «Джек Дэниэлс». Стакан был грязный, на боку виднелся след сального большого пальца, и, пожав плечами, я залпом опрокинул его содержимое. Даже вкуса не почувствовал.
— Клин клином вышибаете?
— Можно и так сказать.
— Есть поверье, — сказал бармен, чья лисья рыжая челка была намертво забриолинена назад, — что ликантропам можно вернуть нормальный облик, поблагодарив их, когда они в обличье волка, или назвав по имени.
— Да? Что ж, спасибо.
Он без спросу налил мне еще. Он слегка напоминал Питера Лорра, но, впрочем, большинство жителей Инсмута, включая мою домохозяйку, немного напоминали Питера Лорра.
Я опрокинул «Джек Дэниэлс», на сей раз почувствовав, что он огнем прокатывается к желудку, — как ему и следовало.
— Так говорят. Я же не утверждаю, что в это верю.
— А во что вы верите?
— Надо сжечь пояс.
— Прошу прощения?
— У ликантропов есть пояса из человечьей кожи, которые им дают при первой трансформации их хозяева из пекла. Нужно сжечь пояс.
Тут один старый шахматист повернулся ко мне: глаза у него были огромные, слепые и выпученные.
— Если выпьешь дождевой воды из следа врага, сам на первое же полнолуние превратишься в волка, — сказал он. — Единственное средство — отловить оборотня, который оставил этот след, и отрезать ему голову ножом, выкованным из самородного серебра.
— Самородного, говорите? — Я улыбнулся.
Его морщинистый и лысый партнер покачал головой и издал короткий печальный скрип. Потом подвинул свою королеву и скрипнул снова.
Такие, как он, встречаются в Инсмуте на каждом шагу.
Я заплатил за выпивку и оставил на стойке доллар чаевых. Бармен, вернувшись к своей книге, не обратил на деньги внимания.
На улице падали мокрые снежинки, оседая у меня в волосах и на ресницах. Я ненавижу снег. Я ненавижу Новую Англию. Я ненавижу Инсмут: здесь не то место, где стоит быть одному, впрочем, если есть такое место, где хорошо быть одному, я пока еще его не нашел. Тем не менее дела удерживали меня здесь лун больше, чем хотелось бы даже думать. Дела — и еще кое-что. Я прошел несколько кварталов по Марш-стрит: как и большая часть Инсмута, она была неприглядно заставлена вперемежку домами в духе американской готики восемнадцатого века, ветхими особняками конца девятнадцатого и бетонными коробками конца двадцатого. Наконец впереди показалась заколоченная закусочная. Еще через несколько минут я поднялся по каменной лестнице возле ее крыльца и открыл ржавую железную дверь.
Через дорогу помещался винный магазин, на втором этаже держал свою практику хиромант. Кто-то нацарапал черным маркером на двери одно слово: «СДОХНИ». Как будто это так просто.
Деревянная лестница была голой, осыпающаяся штукатурка — в потеках. Моя контора из одной комнаты находилась наверху.
Я нигде не задерживался так надолго, чтобы дать себе труд увековечить свое имя на стекле в латунной рамке. Оно было написано печатными буквами от руки на куске оборванного картона, который я кнопкой пришпилил к двери.
ЛОРЕНС ТАЛЬБОТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Отперев дверь конторы, я вошел внутрь. При виде ее мне на ум неизменно приходили такие эпитеты, как «убогий», «неприглядный» и «жалкий», вот и сейчас я сдался, оставив попытки подыскать какой-нибудь иной. Контора у меня довольно невзрачная: письменный стол, кресло-вертушка, пустой каталожный шкаф; окно, из которого открывается замечательный вид на винный магазин и пустую приемную хироманта. Из закусочной снизу просачивается запах прогорклого кулинарного жира. Интересно, как давно заколотили этот «рай с курятиной», подумал я, воображая себе, как у меня под ногами по всем поверхностям маршируют армии черных тараканов.
— Таков внешний облик мира, о котором вы сейчас думаете, — произнес голос, настолько низкий, что у меня завибрировало нутро.
В углу конторы стояло старое кресло. Сквозь патину возраста и засаленности проступали остатки рисунка на обивке. Оно было цвета пыли.
Сидевший в нем толстяк, прикрыв глаза, продолжал:
— Мы смотрим на окружающее с недоумением, с беспокойством и опаской. Мы считаем себя адептами сокровенных литургий, одиночками, пойманными в ловушку миров, не нами замысленных. Истина много проще: во тьме под нами обитают существа, желающие нам зла.
Он откинул голову на спинку кресла, из уголка рта высунулся кончик языка.
— Вы читаете мои мысли?
Толстяк в кресле сделал медленный вдох, задребезжавший где-то у него в гортани. Он действительно был невероятно толстым, и его короткие пухлые пальцы походили на блеклые сосиски. одет он был в теплое старое пальто, некогда черное, но теперь неопределенно-серое. Снег у него на ботинках еще до конца не растаял.
— Возможно. Конец света — понятие странное. Мир всегда на грани, и его конец всегда удается предотвратить — благодаря любви, глупости или просто дурацкому везению… Ну да ладно. Теперь уже слишком поздно: Старшие Боги избрали свои орудия. Когда взойдет луна…
Из уголка его рта выступила и засочилась серебряной струйкой ему на воротник слюна. Что-то поспешно уползло с воротника в складки пальто.
— Да? И что же произойдет, когда взойдет луна?
Толстяк в кресле шевельнулся, открыл опухшие и красные глазки и несколько раз моргнул, просыпаясь.
— Мне приснилось, что у меня множество ртов, — сказал он, его новый голос показался дребезжащим и странно высоким для такой огромной туши. — Мне снилось, что каждый рот открывается и закрывается независимо от других. одни рты говорили, другие шептали, третьи ели, четвертые молча ждали.
Оглядевшись по сторонам, он отер с подбородка слюну и, недоуменно моргая, сел прямее в кресле.
— Вы кто?
— Тот, кто снимает эту контору, — объяснил я ему. Он вдруг громко рыгнул.
— Прошу прощения, — сказал он высоким с придыханием голосом и тяжело поднялся с кресла. Стоя, он оказался ниже меня ростом. Он смерил меня мутным взглядом. — Серебряные пули, — после минутной паузы объявил он. — Традиционное средство.
— Ага, — отозвался я. — Прямо на язык просится, вот почему я, наверное, о них не подумал. Ха, так и надавал бы себе по щекам. Честное слово.
— Потешаетесь над стариком, — констатировал он.
— Вовсе нет. Извините. А теперь прошу прощения. Кое-кому тут нужно работать.
Он, шаркая, удалился. Сев на вертящееся кресло за стол у окна, я через несколько минут проб и ошибок обнаружил, что, если крутиться на нем влево, сиденье падает с основания.
Поэтому я застыл и стал ждать, когда у меня на столе зазвонит пыльный черный телефон, а зимний день тем временем становился все более серым.
«Дзинь».
Мужской голос:
— Как насчет алюминиевой обшивки?
Я положил трубку.
Отопления в конторе не было. Интересно, сколько толстяк проспал в кресле?
Через двадцать минут телефон зазвонил снова. Плачущая женщина умоляла помочь ей найти пятилетнюю дочку, пропавшую вчера вечером, украденную из кроватки. Их собака тоже исчезла.
— Я пропавшими детьми не занимаюсь, — сказал я. — Мне очень жаль, слишком много дурных воспоминаний. — И с новым приступом тошноты положил трубку.
Сгущались сумерки, и впервые за все время, что я был в Инсмуте, через улицу загорелась неоновая вывеска. «МАДАМ ИЕЗЕКИИЛЬ, — сообщала она, — ТОЛКОВАНИЕ ТАРО И ХИРОМАНТИЯ».
Красный неон окрашивал падающий снег в цвет свежей крови.
Армагеддон предотвращают мелкие поступки. Так всегда было. Так всегда будет.
Телефон зазвонил в третий раз. Я узнал голос, это снова был тот мужчина с алюминиевой обшивкой.
— Знаете, — дружелюбно сказал он, — поскольку трансформация человека в волка в принципе невозможна, нам нужно искать другое решение. По всей видимости, лишение индивидуальности или еще какая-то разновидность проецирования. Травма головного мозга? Возможно. Псевдоневротичная шизофрения? Курам на смех. В некоторых случаях лечат гидрохлоридом тиоридазина внутривенно.
— Успешно?
Он хохотнул.
— Вот это по мне. У вас есть чувство юмора. Но, уверен, мы сможем вести дела.
— Я уже вам сказал. Мне не нужна алюминиевая обшивка.
— Наше дело много удивительнее и гораздо важнее. Вы в городе новичок, мистер Тальбот. Жаль было бы, скажем, повздорить.
— Говорите, что хотите, приятель. На мой взгляд, вы просто очередная проблема, которая требует решения.
— Мы кладем конец свету, мистер Тальбот. Глубокие поднимутся из своих океанских гробниц и пожрут луну, как спелую сливу.
— Тогда мне больше не придется тревожиться из-за полнолуний, правда?
— Не пытайтесь перебежать нам дорогу, — начал он, но я на него зарычал, и он умолк.
Снег за моим окном все падал и падал.
На противоположной стороне Марш-стрит, в окне прямо против моего, осиянная рубиновым светом неоновой вывески, стояла самая прекрасная женщина, какую я только видел, и смотрела на меня в упор. И манила меня одним пальцем.
Во второй раз за день оборвав разговор с продавцом алюминиевой обшивки, я спустился вниз и почти бегом пересек улицу, но прежде посмотрел в оба ее конца.
Ее шелковое одеяние струилось мягкими складками. Комната была освещена только свечами, и в ней воняло благовониями и маслом пачули.
Когда я вошел, женщина улыбнулась и поманила меня к столику у окна, где она раскладывала какой-то пасьянс на картах Таро. Когда я подошел ближе, одна изящная рука собрала карты, другая завернула их в шелковый шарф и осторожно опустила в деревянную шкатулку.
От запахов в комнате голова у меня загудела тупой болью. Тут я вспомнил, что сегодня еще ничего не ел, — вот от чего, наверное, головокружение. Я сел напротив нее, нас разделял только столик со свечами.
Она взяла мою руку в свои, всмотрелась в мою ладонь, мягко провела по ней указательным пальцем.
— Волосы? — недоуменно спросила она.
— Ну да. Я помногу бываю один. — Я улыбнулся, надеясь, что улыбка выйдет дружелюбная, но она все равно подняла бровь.
— Вот что я вижу, глядя на вас, — сказала мадам Иезекииль. — Я вижу глаз человека. А еще я вижу глаз волка. В человеческом я вижу честность, порядочность, невинность.
Я вижу хорошего человека, который всегда поступает по справедливости. А в волчьем я вижу рычание и стон, ночной вой и крики, я вижу чудовище, которое рыщет в темноте по окраинам города, брызжа кровавой слюной.
— Как можно увидеть рычание или стон?
Она улыбнулась:
— Это нетрудно. — Акцент у нее был не американский. Русский, может быть, или мальтийский, или даже египетский. — Мысленным взором мы видим многое.
Мадам Иезекииль закрыла зеленые глаза. У нее были удивительно длинные ресницы и бледная кожа, а волосы никогда не лежали спокойно — они мягко парили вокруг ее головы, точно покачивались на глубинных течениях.
— Есть традиционный способ, — сказала она. — Дурной облик можно смыть. Нужно встать в бегущей воде, в чистой родниковой воде и есть при этом лепестки белых роз.
— А потом?
— Облик тьмы смоется с тебя.
— Он вернется, — возразил я, — в следующее же полнолуние.
— А потому, — сказала мадам Иезекииль, — когда этот дурной облик смоется, нужно открыть вены в бегущей воде. Разумеется, будет немного саднить, но ручей унесет с собой кровь.
Она была облачена в шелка, в шарфы и шали сотни разных оттенков, и даже в приглушенном свете свечей каждый был живым и ярким.
Ее глаза открылись.
— А теперь Таро, — сказала она и развернула черный шелковый шарф, в котором держала свою колоду, а затем протянула ее мне, чтобы я перетасовал карты. Я раскинул их веером, перелистнул, перекрыл мостком.
— Медленнее, медленнее, — попросила она. — Позвольте им вас узнать. Позвольте им вас любить, как… как любила бы вас женщина.
Я подержал колоду, крепко сжав в руке, потом вернул ей.
Она перевернула первую карту. Она называлась «Вервольф», из тьмы на картинке на меня смотрели янтарные глаза, а ниже была красная с белым улыбка.
В ее зеленых глазах возникла растерянность. Они сделались изумрудными.
— Это карта не из моей колоды, — сказала она и перевернула следующую. — Что вы сделали с моими картами?
— Ничего, мэм. Просто их подержал. И все.
Перевернутая ею карта была «Глубокий». Зеленое существо на ней смутно походило на осьминога, и его рты — если это действительно были рты, а не щупальца — прямо у меня на глазах начали извиваться. Она накрыла эту карту следующей, потом еще одной и еще одной. Остальные карты оказались пустышками, просто клееным картоном.
— Вы подменили колоду? — Казалось, она вот-вот расплачется.
— Нет.
— Уходите, — велела она.
— Но…
— Уходите! — Она опустила глаза, точно пыталась убедить себя, что меня больше не существует.
В комнате все так же пахло благовониями и свечным воском, и я выглянул на улицу. В окне моей конторы вспыхнул и погас свет. Двое мужчин с фонарями бродили по ней в темноте. Они открыли пустой каталожный шкаф, огляделись по сторонам и заняли свои места: один в кресле, другой за дверью, чтобы ждать моего возвращения. Я про себя улыбнулся. Контора у меня холодная и негостеприимная, и если повезет, они прождут много часов, прежде чем наконец поймут, что сюда я уже не вернусь.
Вот так я оставил мадам Иезекииль переворачивать одну за другой свои карты, рассматривать их, точно от этого полные символов изображения вернутся, и, спустившись вниз, пошел по Марш-стрит к бару.
Теперь там не было ни души. Бармен курил сигарету, которую затушил, когда я вошел.
— А где любители шахмат?
— У них сегодня вечером великий праздник. Они собираются у залива. Нуте-ка. Вы «Джек Дэниэлс» пьете? Верно?
— Звучит заманчиво.
Он мне налил. Я узнал отпечаток большого пальца с прошлого раза, когда мне достался этот стакан. Я взял со стойки томик Теннисона.
— Хорошая книга?
Лысоволосый бармен забрал у меня книгу и, открыв, прочел:
Я допил, что еще оставалось в стакане.
— Ну и? Что вы хотели этим сказать?
Обойдя вокруг стойки, он поманил меня к окну.
— Видите? Вон там?
Он указал на скалы к западу от города. У меня на глазах на вершине скал зажегся костер, вспыхнул и загорелся медно-зеленым пламенем.
— Они собираются пробудить Глубоких, — сказал бармен. — Звезды, планеты, луна — все стало на нужные места. Время пришло. Суша потонет, моря поднимутся…
— Ибо мир должен быть очищен наводнениями и льдом, и будьте любезны впредь держаться своей полки в холодильнике, — пробормотал я.
— Прошу прощения?
— Ничего. Как быстрее всего туда добраться?
— Вверх по Марш-стрит. Потом налево за церковью Дагона, дойдете до Мэнаксет-вей, и все время прямо. — Сняв с крючка за дверью пальто, он его надел. — Пойдемте. Я вас провожу. Не хотелось бы пропустить представление.
— Вы уверены?
— Никто в городе пить сегодня не будет.
Мы вышли на улицу, и он запер за нами дверь бара.
На улице было студено, поземка гнала по мостовой снег, точно белый туман. С улицы я не мог бы уже сказать, сидит ли мадам Иезекииль в своем убежище под неоновой вывеской, ждут ли еще гости в моей конторе.
Пригнув головы от ветра, мы пошли к церкви Дэгона.
За шумом ветра я слышал, как бармен разговаривает сам с собой.
— Веялка с огромными лопастями, спящая зелень, — бормотал он.
Тут он замолк, и дальше мы шли в молчании, гонимый ветром снег кусал нас за лица.
«И, глотнув кислорода, сдохнет», — мысленно закончил я, но вслух ничего не сказал.
Через двадцать минут мы вышли из Инсмута. Мэнаксет-вей закончилась, превратившись в проселок, отчасти укрытый снегом и льдом, на котором мы оступались и оскальзывались, карабкаясь в темноте наверх.
Луна еще не поднялась, но уже начали проступать звезды. Их было так много! В ночном небе они высыпали, как бриллиантовая пыль и толченые сапфиры. Столько звезд видно только на морском берегу, в городе такого не увидишь.
На вершине утеса за костром маячили две фигуры: одна — приземистая и непомерно толстая, другая изящная. Сделав несколько шагов, бармен стал с ними рядом лицом ко мне.
— Узрите, — сказал он, — жертвенного волка. — В его голосе появилось что-то странно знакомое.
Я промолчал. В костре плясало зеленое пламя, озаряющее троицу снизу: классическая подсветка для привидений.
— Знаете, зачем я вас сюда привел? — спросил бармен, и я понял, почему его голос кажется мне знакомым: это был голос мужчины, пытавшегося продать мне алюминиевую обшивку.
— Чтобы остановить конец света?
Тут он надо мной рассмеялся.
Первый силуэт принадлежал толстяку, которого я застал спящим у себя в конторе.
— Но, если говорить эсхатологически… — пробормотал он голосом настолько низким, что задрожали бы стены. Глаза у него были закрыты. Он крепко спал.
Вторая фигура была закутана в темные шелка, и пахло от нее пачули. Она держала нож. И безмолвствовала.
— Сегодня ночью, — сказал бармен, — луна принадлежит Глубоким. Сегодня ночью звезды сложатся в конфигурации темных Древних времен. Сегодня ночью, если мы их позовем, они придут. Если сочтут нашу жертву стоящей. Если услышат наши призывы.
Тут над противоположным берегом залива выползла луна, огромная, янтарная и тяжелая, а с ней из океана далеко под нами поднялся хор низкого кваканья.
От лунного света на снегу и льду толку меньше, чем от дневного, но сойдет и он. К тому же с луной мое зрение обострялось: в холодных водах поднимались и опускались над поверхностью в медленном водном танце люди-амфибии. Лягушкоподобные мужчины и лягушкоподобные женщины. Мне показалось, я увидел среди них мою домохозяйку: она извивалась и квакала в бухточке вместе с остальными.
Для нового перевоплощения слишком рано, я еще не восстановил силы после прошлой ночи, но янтарная луна меня будоражила.
— Бедный человековолк, — прошептали шелка. — Все его мечты привели его к этому: к одинокой смерти на дальнем утесе.
— Я буду видеть сны, если захочу, — сказал я, — и моя смерть не ваше дело. — Но не был уверен, произнес ли это вслух.
В свете луны обостряются чувства: я все еще слышал рев океана, но теперь поверх него различал, как поднимается и разбивается каждая волна; я слышал, как плещутся лягушкоподобные; я слышал шепот утопленников на дне; я слышал скрип позеленевших остовов затонувших кораблей под толщей вод.
И обоняние тоже улучшается. Продавец алюминиевой обшивки был человеком, а вот в толстяке текла иная кровь.
Что до фигуры в шелках…
В облике человека я ощущал аромат ее духов. Сейчас же я обонял за ним нечто другое, не столь крепкое. Запах разложения, гниющего мяса и распадающейся плоти.
Заколыхались шелка — это она шагнула ко мне. В руке она держала нож.
— Мадам Иезекииль? — Голос у меня становился все более грубым и хриплым. Вскоре я вообще его лишусь. Я не понимал, что происходит, но луна поднималась все выше и выше, утрачивая янтарный цвет и наполняя мой разум белым сиянием.
— Мадам Иезекииль?
— Ты заслуживаешь смерти, — сказала она тихо и холодно. — Хотя бы за то, что сделал с моими картами. Колода была старая.
— Я никогда не умираю, — сказал я ей. — «И тому, чье сердце чисто, от молитв не много толка». Помните?
— Чушь, — ответила она. — Знаешь, какой самый древний способ положить конец проклятию оборотня?
— Нет.
Костер горел теперь ярче, светился зеленью подводного мира, зеленью медленно колышущихся водорослей, сиял зеленью изумрудов.
— Просто дождаться, когда он примет человеческий облик, но чтобы до следующего преображения оставался еще целый месяц, потом взять жертвенный нож и убить его. Вот и все.
Я повернулся, чтобы бежать, но оказавшийся вдруг позади меня бармен заломил мне за спину руки. В лунном свете нож сверкнул светлым серебром. Мадам Иезекииль улыбнулась.
Она чиркнула меня острием по горлу. Хлынула и потекла кровь. А потом все замедлилось и остановилось…
Гулкая боль за лобной костью, давление в крестце. Мутное преображение как рвак уак уау… из ночи надвигается красная пелена…
Привкус звезд растворяется в соли — пенной далекой соли…
Подушечки пальцев колют иголки, кожу хлещут языки пламени, глаза как топазы — я пробую на вкус ночь…
Мое дыхание клубилось в ледяном воздухе.
Я невольно зарычал — рык зародился у меня в горле. Мои передние лапы касались снега.
Попятившись, я подобрался и прыгнул на нее.
Вонь гниения окружала меня облаком, притупляя обоняние и вкус. Высоко в прыжке я как будто помедлил, и нечто взорвалось мыльным пузырем…
Я был глубоко-глубоко во тьме под морем, стоял, упираясь четырьмя лапами в склизкий каменный пол у входа в цитадель, сложенную из гигантских неотесанных камней. Камни испускали слабый, как у гнилушек, свет, призрачное сияние — точно мириады электронных часов.
Клубилось вокруг облако черной крови, капающей из моей шеи.
Она стояла в зияющих вратах. Теперь она была шести, может, семи футов ростом. К ее изъеденным, обглоданным морем костям местами льнула гнилая плоть, но шелка превратились в водоросли, колыхавшиеся в холодной воде, в этой не ведающей сна пучине. Ее лицо скрывалось за ними, как за живой зеленой вуалью.
Из ее предплечий и свисавшей с грудной клетки плоти вырастали полипы.
Мне казалось, меня вот-вот раздавит. Я утратил способность мыслить.
Она надвинулась на меня. Окружавшие ее голову водоросли шевельнулись. Лицо у нее походило на странное нечто, которое вам ни за что не захочется взять в суши-баре: сплошь присоски и шипы, и колышущиеся плети анемон, и я знал, что где-то под этой завесой прячется ее улыбка.
Я оттолкнулся задними ногами. Мы сошлись в пучине, мы боролись. Было так холодно, так темно! Я сомкнул челюсти на ее лице и почувствовал, как что-то поддается и рвется.
Это был почти поцелуй — на дне бездны.
Я мягко приземлился на снег, еще держа в зубах обрывок шелкового шарфа. Остальные клочья, подрагивая, плавно опускались на землю. Мадам Иезекииль нигде не было видно.
Серебряный нож лежал в снегу. Стоя на четырех лапах, я ждал в лунном свете, промокший до костей. Я встряхнулся, разбрызгивая вокруг соленую воду. Услышал, как она зашипела, как заскрипела, попав в костер, соль.
Я был оглушенным и слабым и с силой втягивал в легкие воздух.
Далеко внизу в заливе лягушкоподобные существа покачивались под поверхностью моря, точно мертвечина. На мгновение показалось, что их вот-вот унесет течение, но потом они разом извернулись, подпрыгнули и, плеснув хвостами, исчезли в пучине.
Раздался крик. Кричал лисоволосый бармен, пучеглазый продавец алюминиевой обшивки: он стоял, запрокинув голову в ночное небо, глядел на наползающие, закрывающие звезды тучи и кричал. В этом крике были разочарование и ярость, и он меня напугал.
Подобрав с земли нож, он пальцами стер с рукояти снег, полой пальто — с клинка кровь. А потом поглядел на меня. Он плакал.
— Сволочь, — всхлипнул он. — Что ты с ней сделал?
Я сказал бы ему, что ничего я с ней не делал, что она все еще настороженно ждет в своем подводном дворце, но я больше не умел говорить, а мог только рычать, скулить и выть.
Он плакал. От него воняло безумием и разочарованием. Занеся нож, он бросился на меня, а я отступил в сторону.
Некоторые люди просто не умеют приспосабливаться к незначительным переменам. Бармен пронесся мимо меня — с края утеса, в пустоту.
В лунном свете кровь — не красная, а черная, и следы, которые он оставил, падая, ударяясь о скалу и снова падая, были мазками темно-серого и черного. Пока наконец не затих на обледенелых валунах у подножия скалы, но несколько минут спустя из моря поднялась рука и с медлительностью, на которую было почти больно смотреть, утащила его в темную воду.
Кто-то почесал меня за ухом. Было приятно.
— Чем она была? Просто аватарой Глубокого, сэр. Фантомом, видением, если хотите, посланным нам из глубочайшей пучины, чтобы положить конец свету.
Я ощетинился.
— Нет, теперь все позади — на время. Вы развеяли фантом. Теперь уже сызнова не начнешь, ведь ритуал — строго специфический. Трое нас должны стать вместе и, пока кровь невинного собирается лужами у наших ног, произнести священные имена.
Подняв глаза на толстяка, я вопросительно заскулил. Он сонно похлопал меня по загривку.
— Конечно, она вас не любит, мой мальчик. В нашем измерении она даже нематериальна.
Снова пошел снег. Костер догорал.
— Ваше сегодняшнее преображение — на мой взгляд, неожиданное — прямое следствие тех самых небесных конфигураций и лунных сил, что сделали сегодняшнюю ночь столь подходящей для того, чтобы вызвать из Бездны моих старых друзей…
Он продолжал говорить низким голосом и, возможно, поведал мне важные тайны. Но этого я никогда не узнаю, ведь во мне бушевал голод, и его слова потерялись, сохранив лишь тень смысла: меня больше не интересовали ни море, ни обрыв, ни толстяк.
В лесу за лугом бежали олени: я чувствовал их запах в воздухе зимней ночи.
А я был голоден.
Когда я снова пришел в себя, было раннее утро, моя одежда невесть куда подевалась, и в снегу рядом со мной лежал недоеденный олень. По одному его глазу ползала муха, язык вывалился, отчего животное выглядело смешным и жалким, точно на карикатуре в газете. У брюха, из которого были вырваны внутренности, снег окрасился флуоресцентно-алым. Лицо и грудь у меня были липкими и красными от все той же крови. На горле — струпья и шрамы, но к следующему полнолунию оно исцелится.
Маленькое желтое солнце казалось далеким, но небо было безоблачно синим, и ни ветерка. В отдалении слышался рев моря.
Я мерз, был голым, окровавленным и чувствовал себя бесконечно одиноким. «Ну и ладно, — подумал я, — вначале такое со всеми нами случается. А со мной только раз в месяц». Я был совершенно измучен, но знал, что придется продержаться до тех пор, пока не найду заброшенный амбар или пещеру, а тогда засну и просплю неделю или, может быть, две.
Совсем низко, почти над снегом ко мне летел ястреб, что-то болталось в его когтях. На краткое мгновение он завис надо мной, а потом уронил к моим ногам в снег маленького серого кальмара и снова взмыл ввысь. Дряблая, многощупальцевая тварь лежала бездыханно и недвижимо в окровавленном снегу.
Я счел это знамением, но не смог решить, доброе оно или дурное, впрочем, мне было все равно. Повернувшись спиной к морю и мрачному городку Инсмут, я начал пробираться к огням мегаполиса.