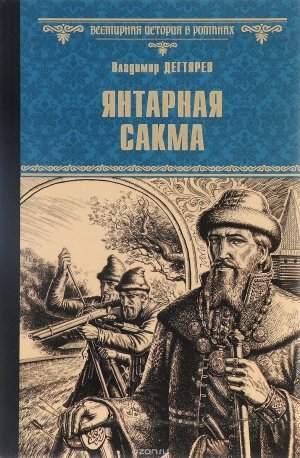
ОБ АВТОРЕ
Современный русский писатель Владимир Николаевич Дегтярёв родился в 1954 году в деревне Преображенка Кировской области. Вскоре три района этой области были переданы Горьковской области, так что у автора имеется некоторая путаница с местом рождения.
В 1961 году в связи с тем, что правительство объявило «о неперспективности деревень Среднего Поволжья», семья переехала в Казахстан — в самый тогда перспективный регион СССР. На севере Казахстана, в частности в Павлодаре, тогда начинались большие стройки промышленных, добывающих и перерабатывающих гигантов индустрии страны.
После окончания десятилетки Владимир Дегтярёв работал лаборантом на ЭВМ «Минск-6» в Индустриальном институте, осветителем в областном драматическом театре, монтёром городской линии связи, слесарем на Павлодарском тракторном заводе. И два раза безуспешно пытался поступить в Павлодарский педагогический институт на филологический факультет. В 1975 году случайно освободилось место помощника режиссёра на павлодарском ТВ, Владимир Дегтярёв его занял и после этого 25 лет отработал на ТВ, пройдя путь от помощника режиссёра до заместителя председателя Павлодарской облтелерадиокомпании. А в 1978 году поступил во ВГИК, на факультет кинодраматургии (заочное отделение), в мастерскую непревзойдённого мастера кинодрамы Валентина Ивановича Ежова. По сценариям Владимира Дегтярёва с 1986 по 1990 год были сняты 30 документальных и два художественных фильма. Большинство документальных фильмов демонстрировалось по каналам Центрального телевидения, а художественные фильмы «Красный обоз» и «Восточный коридор» окупили себя и принесли прокатчикам прибыль.
В 1995-м Дегтярёв ушёл с государственного телевидения и организовал первую частную телерадиокомпанию в Павлодаре. Но поскольку времена пришли иные, то по известным причинам политического характера Владимиру пришлось покинуть солнечный Казахстан и перебраться в Сибирь. С 1997 по 2009 год Владимир Дегтярёв проживал в Новосибирске, где и сменил род литературных занятий: от драматургии кино и телевидения перешёл на литературное поприще. Сначала занимался документальной литературой — писал книги об истории оборонных предприятий Новосибирска. А потом газета «Сибирь — момент истины» выделила Владимиру Дегтярёву центральный разворот, и началась трудная литературно-художественная деятельность. В этой газете были опубликованы циклы рассказов о Великой Отечественной войне, о «вятских людях» — роман «Поцелуй истины (Байки старого прокурора)». После чего писатель полностью переключился на историческую тему освоения Сибири, и в 2008 году московское издательство «Вече» опубликовало его первый исторический роман «Охотники за курганами». В том же году Владимир Дегтярёв был принят в члены Союза писателей России. Следом в том же издательстве был опубликован второй исторический роман автора — «Золото Югры», а издательство Санкт-Петербурга «Русская симфония» опубликовало первый том трилогии «Ушкуйники. Русская сага».
Сибирь остаётся главной темой литературного творчества Владимира Дегтярёва. Уже готовы и дожидаются публикации два романа «сибирской серии» — «Янтарная сакма» и «Коварный камень изумруд».
Учитывая то обстоятельство, что Владимир Дегтярёв состоялся как писатель и в некоторой мере востребован, он перебрался из Новосибирска в Тульскую область, чтобы быть поближе к издательскому центру страны.
Здесь стоит упомянуть, что кроме основных занятий Владимир Дегтярёв уже тридцать лет ведёт исследования протоязыка планеты. И добился в этом направлении определённых успехов, которые закреплены в книгах, вышедших в московском издательстве «Белые Альвы». Особой популярностью тематически подготовленных читателей пользуются книги серии «Тайны Евразии».
«Охотники за курганами» (2008)
«Золото Югры» (2010)
«Ушкуйники. Русская сага» (2010)
«Янтарная сакма» (2013)
Книга первая
СМЕРТЬ — ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
ГЛАВА ПЕРВАЯ
— Чего встал, как мерин над козой? — выругался Проня Смолянов и, не дождавшись от селянина ответа, двинул ему кулаком в ухо. — Беги за попом! Кому велено?!
В тёмной избе (а по ранней весне в смоленских краях всегда сумрачно) хрипло закашлялся болящий. Второй псковский купчина, Бусыга Колодин, наклонился над ним, спросил:
— Афанасий, Афанасий! Может, тебе чего горячего испить? Селянин, хозяин избы, житель этой лядащей деревушки Ольшага, и не думал бежать за попом: православного батюшку окрест смоленских земель нынче не найти, одни ксендзы здесь обретаются...
Ему опять прилетел крепкий удар в ухо.
— Попа нет, веди любого православного сюда, шилом! — в голос проорал селянину Смолянов. — Вот тебе за то копеечка! — сунул ему серебряную деньгу в рот, и в шею вытолкал бестолкового в дверь.
Мужик за дверью исчез, но тут же появился в оконном проёме, затянутом бычьим пузырём:
— Я вам сейчас, падлы москальские, пана сюда приведу! Ишь ты, сразу в ухо! — и пропал.
Иссохший мужик в рваном восточном халате на лавке хотел подняться, забеспокоился:
— Ты кто? Лицо подверни к свету, не узнаю тебя...
— Мы купцы псковские, Афанасий! На торжищах в Твери да в Новгороде с тобой встречались. Я — Бусыга Колодин, а вот он — Проня Смолянов. А ты — тверской купец Афанасий Никитин. Тебя уж тому как четыре года в Твери потеряли. Говорили, в Индию ушёл. Дошёл хоть до Индии-то?
— А!.. — Болящий купец в бухарском халате задышал ровнее. Ну, теперь ладно. Теперь отойду при своих. Хорошо, что пришли, браты...
— Заговаривается, — опасливо шепнул Смолянов. — Или матюгает нас... по-индийски! Ты, Бусыга, хотел с ним по делу говорить, так говори быстрей... А причастить — всегда причастим... глухую исповедь исполним... Давай про дело!
— Афанасий! Афанасий! — стал громко твердить Колодин. — Дошёл ты до Индии-то али как? Мы тебя подобрали едва живым на реке Днепр у Гомеля. Без лодок, без тягла, без товара. Пограбили тебя али как?..
Во двор избы вошёл местный пан при новом жупане[1] и при сабле на поясе. Сабля до половины торчала из ножен — вот-вот выпадет. За паном шли трое хлопцев с дрынами, а за ними крался хозяин избы.
Пан вошёл во двор, сразу заглянул за угол поскотины[2] и тут же перекрестился на подлый, ксендзовский манер. Увидел, стало быть, за углом десяток верблюдов, да полтора десятка высоких в холке русских коней. И шестерых псковских молодцов увидел с широкими красными шеями, с глазами в прищур: «Ну, кому тут по роже дать?» А потому пан утолкал саблю назад в ножны, развернулся и треснул селянина по уху, какое подвернулось. Плюнул под ноги, подошёл к окошку.
— Москали! Привезут вам скоро попа. На старом жмуйском[3] хуторе православный поп есть. Тоже вроде еле дышит. Ждите, москали... — Пан погладил усы, зыркнул по сторонам, пошёл со двора.
— Подобрали меня — спасибо, — прошептал сквозь кашель Никитин. — А сами вы как? Удачно продрались через разбойных арабов?
— Нет...— виновато ответил Колодин. — Мы этой зимой до Чёрного моря дошли, да там услыхали, что в Трабзоне[4] тебя заарестовали, а местный эмир с тебя все товары ободрал, а самого в тюрьму сунул... Расторговались мы тогда по-скорому в Судаке, да не в прибыток, и повернули в обрат. Нонче что на Каспии, что на Черном море — каждый эмир или султан, как их там, матерь ихну... каждый теперь установил злые пошлины на товары с нашей, русской, стороны. А на свои товары пошлину задрал до небес. Нонче поживы русским купцам никакой... Тебя вот, Афанасий, хоть довезём до Москвы, до лекаря доброго — и то польза.
Никитин с мокротой кашлянул, утверждая услышанное.
— Много товаров из Индии вёз, Афанасий, а? И какие? — подсунулся настырничать Смолянов.
— Камни драгоценные вёз: лалы[5], изумруды, топазы, алмазов пять... всего камней сорок две штуки, ценой на Ганзейском [6] рынке в три пуда серебром. Ткани индийские вёз, но ткани — для показа, чтобы узнать, кому надобны ли... Перец вёз да гвоздику, да других пряностей с десяток видов... Тоже для познания спроса... Да, видать, потерял в зиндане — в подземной тюрьме... Или покрал кто? Кхе, кхе... Всего, значит, на пять пудов серебром, думаю, по ганзейским ценам, вёз я товара. Эмир трабзонский, поди, пляшет от радости... У вас там испить чего крепкого нет?
Бусыга поднял на стол кожаный тюк, в каких обычно возят пропитание в дороге:
— Русского вина, медоварного нет, да вот... Тут, в литовщине, местные жиды стараются... — Он вынул из тюка глиняный бочажок, заткнутый через тряпицу обломышем кукурузного початка. Стал шарить глазами по пустой избе, ища посуду.
— Давай так! — Никитин привстал с лавки, три раза хорошо глотнул из бочажного горлышка. После чего крепко прокашлялся и сплюнул мокроту прямо на земляной пол избы. — То-то же! Полегчало...
— Ну и слава богу! У нас этого добра до Москвы хватит! — обрадовался Проня. — А скажи, Афанасий, почём тебе стало то добро в самой Индии, а? Лалы там, изумруды, перцы всякие?
— Не про то вопрошаешь. — Колодин оттолкнул Проню. — Ответь нам по здравой мысли, Афанасий, ты в дороге говорил, кому и чего ты везёшь, какие товары? И как ты их вёз? Где прятал? Не показывал ли кому?
Никитин снова кашлянул и подмигнул Бусыге:
— Здраво рассуждаешь, купец, масло в твоей голове есть. Товары мои индийские вёз я не в тороках[7], а зашитыми в полы вот этого халата, что и теперь на мне. Ткани только были в тюке, так ткани мало кого ныне занимают... — Он снова приложился к бочажке с крепким самогонным зельем.
Смолянов тут же поднёс тверскому купцу ломоть русского каравая, сдобренного толчёными свиными шкварками с чесноком. Никитин с удовольствием стал закусывать и проговорил между делом:
— А вот в Ормузе, чтобы заплатить за проезд на корабле через залив да поесть чего, продал я один мелкий красный камешек местному жиду — меняле в порту. Тот обозвал мой камень рубином и, скотина, начал за мной ходить, другой камень клянчить. Таких попрошаек я в дороге много навидался и как их отогнать, уже знал. Поманил того жида в простенок между портовыми домами да нож вынул ...
— Вот этот жид тебя в Трабзоне и продал эмиру! Вместе с камнями. — Смолянов сжал кулаки. — Они, гады, завсегда так, первые шпионы и наводчики! Значит, следил он за тобой. Может, твоя болезнь тоже от жидов? Может, напоили они тебя чем?
— Может, и следил... может, и опоили... — Афанасий снова закашлял, лицом стал белеть. — Конец теперь важен, а не причина. — Болящего затрясло.
Проня и Бусыга переглянулись. Колодин хотел было глотнуть из бочажки, да Афанасий его остановил:
— Не надобно, браты, пить, откудова я пил. Чую внутри себя индийскую лихорадку или китайскую болотную слизь. Червяки там такие, махонькие, меньше острия иглы... Изнутри жрут.
Бусыга тотчас принялся искать в своём тюке новую бочажку самогона. А Смолянов всё спрашивал:
— Так ты, Афанасий, и в Китае был? Вот-те на! О-го-го!
— А пошто ржёшь? — Никитин заметно окосел от выпитого, снова тяжело задышал. — По Китаю я только шёл. Там нашему брату интереса нет. Только вот дорога чистая, без разбою... Может, правду сказать, интереса нет только там, где я шёл. По южному краю Китая я шёл, браты... Так что правду не скажу про весь Китай, ибо не ведаю. — Афанасия стало заваливать на скамью. Он едва коснулся её головой, так сразу и засопел.
В избу без стука вошёл мордатый парень из помощников псковских купчин, внёс на обломке доски два таганка с дымящейся кашей. Поставил на шаткий стол:
— Там, во дворе, всё кудахчет хозяин этой халупы. С ним что?
Смолянов вынул из-за пазухи деревянную ложку, замотанную в белый рушник. Размотал ложку, попробовал кашу:
— Не досолили кашу-то. Всё соль бережёте... А хозяина халупы...
— Каши ему дайте, — вмешался Бусыга, — да пшена дроблёного половину мешка. Пусть радуется!
Никитин спал ровно и легко.
Смолянов первым доел свою кашу, спрятал ложку, сказал:
— А начнёт с Афанасия выходить эта жидовская муть, тяжко станет мужику.
— Ещё нальём, — согласился Бусыга. — Тут дело другое, Проня. Тут вот что... — Он наклонился прямо к уху приятеля. — У него, сказывали, тетрадь есть. Самошитая из кожи да из индийских белых тканей, да из китайской бумаги. В той тетради записан весь его путь и все товары, к каковым приценивался, да те, что индийским купцам надобны...
— Какие такие верные люди тебе про тетрадь сказывали? — хищно ощерился Проня.
— Жиды черноморские. Помнишь, когда мы Афанасия везли на арбе в свой караван-сарай, к нам все жиды приставали: мол, продайте тетрадь этого христианина, на растопку печки. Мол, она больше ни на что не годна!
— Не помню. Видно, выпивший был... А ты чего?
— А я — того! Я их польское пшеканье понимаю. Ты правду баял. Они, жиды, и продали Афанасия эмиру Трабзона. В смысле, добычу его продали — каменья драгоценные, перец, шафран...
— И тетрадь, что ли, продали?
Во дворе застукали копытами кони. Коней много, и стук копыт не холопский, а уверенный, сытый. Военные кони ворвались во двор.
— Эй там, в хате! Выходи по-хорошему! — заорал голос вполне по-русски. — Велено доставить вас, псковских купцов, да болезного Афанаську в город Смоленск, до князя нашего, Ольгерда Рыжего!
Смолянов бухнул кулаком об стол, выматерился черемисским[8] чёрным матом и толкнул дверь наружу.
— Чего орёшь, сотник? — Проня сразу ухватил глазом у переднего всадника знак сотника на польского кроя папахе. — У нас товарищ отходит, а ты — орать! Попа привезли?
Сотник хоть и служил Литве, а был русским. Сразу сдёрнул папаху, перекрестился, но в хату пошёл уверенно. Приказ от смоленского князя, литвина, сотник, видать, получил крепкий. Крепость его утверждалась тридцатью саблями, что топтались перед избой.
— Велено доставить... Про попа разговора не было, — прошептал сотник. — Это и есть тот купец, что ходил в Индию?
Никитин во сне задышал часто-часто, тощая грудь его заколыхалась в кашле, спёкшиеся губы пустили слюну.
— Всё, отходит, — прошептал Колодин. — Теперь пошли-ка вы все вон! Глухое причастие стану делать. Сволочи, попа не привезли!.. Вон пошли!
Сотник папаху надел, чумно перекрестился, не так и не эдак, и выскочил за дверь.
Никитин открыл глаза.
— Чего это было?
— А вон, уже приехали за тобой, Афанасий. — Бусыга ткнул пальцем в окошко, где уланы рассупонивали коней. — Цельный литвинский отряд. Хотят взять тебя в Смоленск да тетрадь твою!
— Меня пусть берут хоть в ад! Но тетрадь, браты, никому не должна достаться, окромя как великому князю Московскому Ивану Васильевичу. Я на то крепкий обет дал!
— В чём его крепость, Афанасий? — спросил Смолянов, поднося к губам тверского купца самогонную бочажку.
Афанасий хорошо глотнул, вытер губы, потом ответил не спеша, даже ласково:
— А в том обет, что ежели тетрадь моя к Ивану Васильевичу не попадёт, так её никто и не прочтёт. Ибо токмо он знает, как мою крипту[9] честь. Токмо великих князей да царей тайному азбуковнику учат. Вот так, браты! — И Никитин снова затих на лавке.
ГЛАВА ВТОРАЯ
От белого, чрезвычайно крепкого самогонного вина, хоть и шумело в голове, и по жилам вялость сонная растекалась, а в груди чуялась лёгкость. Дышалось без скрипу и натуги... Вот ведь, а? Поносило по свету, а до дома только чуток не донесло. Время пришло, помирать пора. Эх! Два раза его грабили, три раза он все деньги терял на купле-продаже, ибо чего не знаешь, нечего и покупать! А с другой стороны, как быть купцу в незнаемой стране при незнаемых обычаях? Ведь, почитай, две сотни лет русские люди в тех краях не объявлялись... А раньше... раньше там, в Индиях-то — ого-го! Ведь они, русские, — индийцам прямая родня! А раз родня, то кто-то же из русских первым должен был шагнуть в ту Индию! Ведь две сотни лет не виделись... Эх-хе-хе... В обычае русских самим возобновлять родство и торговлю... Даже вот так возобновить, чтобы три раза деньги потерять, зато потом крупно выиграть на добром товаре! Вот он, Афанасий, в конце-то концов и выиграл! Много выиграл!
Если бы не эмир тробзонский (вот уж где тать[10] — из всех татей тать!)... И таких там нынче столько, что вор на воре сидит и вором погоняет. А ведь ещё и при татарской чуме, батыевом отродье, для русских купцов весь путь по берегам Каспийского моря был открыт, как ворота собственного дома! Давай, заходи! Заходи и двигай в любую сторону — хоть в Индию, хоть в Китай, а хошь, так в Египет! Только в Египте нынче брать нечего, там арабы всё прибрали... весь Восток под себя прибрали именем Магомеда... Да, меняется мир, чего уж там... Как тут не поменяться после татарского двухсотлетнего погрому? Всё в мире татарвой и законами ихними пропахло. Даже души людские. Вот тут тоже вроде родные, русские, псковские купцы — да и те пристали: «Тетрадь да тетрадь им подай»... А может, это мне всё только мнится, а? Может, лежу я в трабзонском зиндане на каменной земле в глубоченной яме, и лезет мне в голову бред, будто от белого вина...
— Афанасий, эй, Афанасий! — Бусыга осторожно потряс купца за плечо. — Сейчас со старого хутора мальчонка прибегал. Ведут к тебе православного попа...
Проня Смолянов было поднёс баклажку с водкой к губам Афанасия. Тот глотнул, но вино потекло назад.
— Всё, браты, отпился я...
— А ты, это, Афанасий, — засуетился Проня. — Пока время есть, хоть в трёх словах опиши нам, как в ту Индию идти да что везти, а?
— Как идти? А хоть как, только не моим путём, браты.
— А каким тогда путём?
— Уголь дай.
Бусыга Колодин тут же вынул из зева остывшей русской печи уголёк, подал Афанасию Никитину. Афанасий стал рисовать углём на давно не беленной стене хаты.
— Вот видишь между гор проход? Это Уральские горы, и проход через них всем известен, называется он Челяба. Через тот проход к нам татары раньше ездили, как к себе домой. Да и все вообще — кто через Китай, да через Алтай — к нам ехали только здесь. А Югом Урала, по реке Яик, ехать нынче совсем нельзя. Там нонче пограбёжные заставы стоят. То ли кумыцкие, то ли калмыцкие... — Афанасий к неумелым треугольникам Уральских гор нарисовал поперёк тоже почти детские треугольники Алтайских гор. — Вот Алтай. Тоже горная страна. По Алтаю пойдёшь, упрёшься в реку Ишим. Она на север течёт, а ты спускайся по ней на юг, против течения. И будет там место названием Атабасар. Там сбиваются караваны со всех концов Азии, чтобы в Китай идти.
Вот с имя, с теми караванами, бестрепетно пройдёшь к озеру Нор Зайсан. Там ещё не Китай, но уже близко. Возле озера караваны расходятся в разные стороны... Кто в Индию — это рисуй как бы наверх и пиши «Индия», кто в Бирму — это по правую руку путь, а кто и на острова за Индией. На островах там, конечно, рай, но попасть туда невозможно. Не пускают белых людей на острова... Этот путь мне добром нарисовал один арабский купец. Вместе в тробзонском зиндане перемогались...
Бусыга Колодин на твёрдый бумажный лист быстро срисовывал то, что появлялось на стене, даже названия писал. Писал и рисовал быстро — письму, видать, не даром был обучен, а за хорошие деньги.
— Ты, Афанасий, этим путём не ходил. Ты вроде как бредишь, а? — встрял в горячую прерывистую речь Афанасия Проня Смолянов. — Ты же вроде кораблём плыл, через арабское Красное море, да сразу в Индийский океан, да сразу в Индию. А нас посылаешь посуху, да вон ведь в какую даль...
— Мой путь по морю надо до времени забыть, браты. Я на том пути три раза все деньги терял и пять раз с жизнью прощался. Вот он теперь какой морской путь. Понял?
— А чего нам везти, — не успокаивался Проня, — в те Индии через тот Китай?
Дверь в хату разом распахнулась. На пороге стоял дряхлый старик в замызганной донельзя рясе. В руках он, наподобие щита, держал Требник — затрёпанную книгу со стёртым рисунком креста. Позади попа высился, загородивши дверь, литвинский сотник.
— Ну, давайте скорее творите причастие да поедем! Князь Смоленский ждёт! Не то сам сюда нагрянет, тогда вам тут всем не до попов станется. Одна только исповедь из вас полезет!
— Не шуми, суена корова! — круто взял на горло Бусыга. — Договор есть между смоленским и московским князем — купцов не трогать!
— А будто я вас трону! Сабли вас тронут, а я тут при чём?
— Эх ты, а ещё русский! — прокряхтел со скамейки Афанасий Никитин. — Не стыдно ли?
— А жить-то надо! Вон ты хоть и хожалый, да, кажись, ещё и купец, а тоже, поди, жить хочешь?
Бусыга не вынес наглости, налёг на дверь в хату, вытолкал сотника наружу:
— Пошёл, нехристь папёжский![11] Иди, ксендзу жалуйся!
Поп, которого привезли из старого хутора, сам, видать, стоял одной ногой в холодной домовине[12]. Его пошатывало. Проня Смолянов обмыл горлышко той баклаги, откуда пил Афанасий Никитин, да обтёр его рукавом, поднёс баклагу попу:
— Давай, глотни! Живее станешь!
Поп не отказался, глотнул. Почмокал беззубым ртом, ещё глотнул. Три раза. Сунул ополовиненную баклагу в широкий карман под нутром своей рясы, выпростал наружу натуральный православный крест литого серебра и заговорил чисто, намоленным голосом:
— Причащается раб Божий... Как тебя зовут, странник?
— Погоди, остановил попа Проня. — Мы тут про наши дела не договорили ещё. Стань к окошку, бормочи туда свои молитвы. Чтобы сотник слышал. А мы ещё пошепчемся...
— Про што уж нам шептаться? — удивился купец Афанасий. — Разве про смерть? Так вон она, рядом!
— Ты погоди про смерть! — испугался Проня. — Про Китай нам скажи. Там же ткань творят именем шёлк! Дорогущую! Она там почём, эта ткань? И выгодно ли её покупать, чтобы впятеро у нас, в Ганзе, обернуть цену?
Афанасий Никитин то ли закашлял, то ли засмеялся. Проня Смолянов опять поднёс ему в глиняном стаканчике жидовского зелья. Афанасий зелье оттолкнул:
— Шёлк? Ты хоть тот шёлк видывал? Как тебя кличут?
— Проня... Смолянов буду...
— Вот, Проня, баба твоя из паутинок лесных могла бы спрясть ткань?
— Нет, Афанасий, этого невозможно, — вмешался Бусыга.
— То-то и оно. Настоящий шёлк, он тоже из паутинок, а те из червей выходят. И сам как паутинка. И сделать ту паутинку тканью, скажем, аршина в три, на это год требуется. А везут его из Китая на тысячах верблюдов! Это нам, грешным купцам, полный раззор. Китайцы закупают у алтайских хакасов лён! Хакасы свой лён тонко чешут... Да потом тот лён на веретене свивают в тончайшую нить. И продают узкоглазым китаёзам. А они уже к той хакасской нити присучивают нитку от своих червяков. Льняная нить сама выходит чуть толще паутинки да блестит от присученной китайской. Лён — всему голова! Из той смешанной нити и ткут китаёзы свой шёлк, ткут да раскрашивают. Краски у них к тому делу крепкие есть... Индийские, правда, краски. Нашим бабам тоже можно тонкий лён прясть, только зачем? Его не продашь. Китайского клейма на нём не будет, вот и не продашь.
— А ежели бы... своровать китайское клеймо да на наш лён ставить? — взметнулся Бусыга Колодин. — Тогда можно продать?
— Можно, — покряхтев, ответил Афанасий Никитин. — Да только русскую купеческую честь в грязь воровства ронять пошто? Ложь в торговом деле, это тебе купчинка, не ложь во спасение по христианскому Требнику...
— А пошто тогда ходит поговорка «Не обманешь — не продашь»? — влез в разговор Проня Смолянов.
— А по то! Говорят так про тех купцов, что жидовские обычаи суют в русскую жизнь. Али про тех, кто от отца принял мелкую лавочку, да так в ней и помирает. Ежели уж торговать, так с половиной мира! — Тут Афанасий Никитин сильно и глухо кашлянул, грудь его вздыбилась. — А если крупно не торговать, так иди паси скотину — пользы больше... Только не воруй! — последние слова Афанасий так и выкрикнул, как сумел.
— Так какого ж рожна ты нам совет даёшь ехать через Китай? — вдруг озлился Проня Смолянов. — Сам учишь крупно торговать и сам же говоришь, что у китаёзов нам раззор!
Афанасий посмотрел на него смиренным глазом, прошептал:
— Через Китай оно будет безопаснее, да и я там как следует не побывал... А вы побываете, разведаете... Попа зови. Худо мне!
Священник сам услыхал призыв болящего и тут же предстал перед ним:
— Какое твоё имя есть?
— Крестили Афанасием... Прозванием — Никитин...
— ...раб Божий Афанасий, прозванием Никитин... Грешен ли ты, сын мой?
— Ох, грешен, батюшка!
Поп неожиданно приподнял полу рясы, вынул баклагу, опять хорошо хлебнул. Водка кончилась. Пустую баклагу поп смиренно поставил на стол.
Бусыга Колодин, открыв рот, смотрел на лядащего ещё миг назад священника. Теперь перед ним читал книгу вполне живой и здоровый человек. От подлого жидовского зелья так говорить не станешь. Значит, сила души в том попе ещё есть. Есть в нём православный стержень! Слава тебе, Господи, безгрешное дело творим!
— Грехи твои, сын мой, сойдут с тобой в могилу и токмо что на том свете откроются. Так что уходи с миром и покоем. Нет ли у тебя каких просьб и пожеланий?
— Есть, батюшка. Возьми вот с этих моих товарищей, купцов псковских, строгий обет... А если они его не выполнят, чтобы их...
— Не выполнят — разорвёт их адская сила! Говори, какой обет надобно держать перед тобой. А вы, отроки, станьте перед отходящим человеком на колени!
Бусыга Колодин наподдал Проне под бок, и оба они упали на колени перед лавкой, где лежал Афанасий.
— А вот пусть дают Божью клятву, что от моего имени передадут царю Московскому письменный извет на эмира Трабзонского да на эмира Тебризского, тот извет, что описал я в своей тетради. Да и на всех тех, кто помешал мне выполнить мой святой обет перед Богом насчёт Индии... Там, на последней странице, вывел я православный крест и своей же рукой приписал своё наставление Ивану Третьему, московскому князю, чтобы он русскую торговлю поднимал... — тут Афанасий заплакал.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Заплакал Афанасий, хотя понимал, что плачется само. Плачется от обиды, что не закончил путь, не поимел денег, да ещё уходит на тот свет должником тверского князя. Тверской князь дал Никитину в займы десять гривен серебром, теперь проклянёт его... Не понимает и никогда не поймёт тот тверской князь, что сотворил Афанасий для торгового дела на Руси.
Вот перед ним стоят на коленях два человека. Псковские они, люди битые да мытые. Значит, святого слова никогда не нарушат. Значит, можно им вручить тетрадь, за которую он, почитай, жизнь отдал. За тридцать страниц — жизнь! Эх!
— Согласные вы, псковичи, дать слово обетованное купцу Афанасию Никитину перед отхождением его навечно в мир иной?
Бусыгу от неожиданности передёрнуло. Плечами вздрогнул. А Проня ничего, только прогундел:
— Согласны... Согласны, вот те крест святой поцелую! Бусыга и Проня поцеловали протянутый священником крест.
— Ну, давайте, отойдите туда, в уголок, а я исповедую отходящего...
Священник достал откуда-то стихарь, стираный-перестираный, накрылся стихарём, накрыл и лицо Афанасия Никитина и стал что-то скороговоркой спрашивать. Афанасий односложно отвечал. Сколько бы ни прислушивались к бормотанию псковские купцы — ничего не понять. Наконец священник откинул стихарь, протянул к губам Афанасия серебряный крест, Афанасий тот крест три раза облобызал.
Священник неожиданно ругнулся муромским чёрным матом:
— Елея не найти! Страна стала, тоже мне, Смоления! И водка тут жидовская! Есть чего русское?
Бусыга Колодин тут же сунулся в свой мешок, достал пузырёк из обожжённой в печи глины:
— Там льняное масло. Оно тебе, святой отец, по нраву?
— От же как! Теперь, Афанасий, раб Божий, отойдёшь со всем обрядом, даже с елеем!
Поп капал из пузырька жёлтое льняное масло на палец и прямо пальцем выводил кресты на лбу, на руках, на ногах лежащего купца Никитина. Проня Смолянов заметил, что Афанасий и правда отходит. Голые ноги тверского купца стали заметно синеть.
— Всё, отец святой, всё! Иди, родимый, иди! — чуть не в голос закричал Проня.
Бусыга же молча выгреб из армяка малую пригоршню арабских серебряных монет, высыпал на ладонь попу, сказал тихо, но жутко:
— Пытать тебя станут — молчи, что купчина Афанасий в Индиях бывал. Говори, у арабов в плену сидел. Заболел и помер.
— А на дорожку глотнуть?
Проня ухмыльнулся, тут же, в дверях, сунул священнику недопитую им да Бусыгой баклагу жидовской водки.
Недолго поп нёс водку. Не успел и приложится. Во дворе его тут же взяли в оборот и принялись бить литвинские уланы. Поп не кричал, не рвался назад в хату. Вцепился только в крест православный, да так с крестом в худых руках и упал.
— Когда холопы ваши в эту хату меня волокли, — заговорил вдруг со смехом Афанасий, — не могли башками своими помыслить — как нести? Ногами вперёд или головой? Пока ворочались да лаялись меж собой, так я успел тетрадь свою вон под тот столб приворотный сунуть. Тот, что по левую руку стоит. Сейчас сюда прибегут, станут меня пытать, так оборонять меня не суйтесь. Здоровье своё охраняйте. Русскому купцу в этом мире здоровье ой как нужно...
Литвины обшарили бездвижного попа, бросили наземь кулём и стакнулись кучей, решали что делать дальше.
— А что везти в Индию — везите камень янтарь... — опять ровно заговорил купец Афанасий. — Особливо тот, что с жужелицей али с комаром внутри. За тот камень вес на вес получите лалы или топазы, даже алмаз. К янтарю обязательно воску возьмите, сообразно объёму янтаря, а не весу. Обязательно — воску! Ну, идут сюда. С Богом, браты... Погоди, погоди, Проня! Дверь подопри, удержи хоть телом! Бусыга! Подсунься ко мне ухом...
Проня навалился на дверь халупы. Литвины бестолково суетились на улице. Потом вывернули бревно, решили бить бревном в хлипкую дверь.
Афанасий вдруг сухой рукой так крепко ухватил Бусыгу за ворот азяма[13], тот аж икнул.
— Кобылку хороших кровей... хоть махонькую, хоть бы ей и месяца три всего было, а доставьте в Индию. В город Бидар. Запомнил?
— Запомнил, Афанасий. Ты, давай, говори...
— Город Бидар — стольный град государства Бахман. Там раджа — мой друг. Зовут раджу Паранаруш... Кобылку, запомни...
Первым в хату ворвался красный лицом сотник. Злости в нём билось на пятерых. Заорал:
— Где тетрадь подохшего, москальские погани?
— Тихо! — прошептал Проня Смолянов. — Тихо! Ещё не отошёл. И мы про тетрадь вопрошаем. Слушай сюда. — Проня совсем ласковым, почти ангельским голосом, спросил: — Афанасий! Афанасий! Ты вспомни, как жида зовут, что поменял твою тетрадь якобы на лекарственную водку? Ну, как?
Из посинелых губ Афанасия слетело имя:
— Зохер.
— А свой шинок Зохер держит в этом селе? В Ольшаге? Или где?
— В селе Кизичи...
— Кизичи, — повернулся к сотнику Проня, — стоят на этом же тракте, тридцать вёрст отсюда. Скачи, хватай Зохера!
Сотник, гремя саблей, всё же подлез к умирающему да заговорил тоже ласково, берендей поганый:
— Когда ты поменял тетрадь у жида, Афанасий, да как она выглядела?
— Позавчера... Или вчера... Не упомню. А тетрадь покрыта коричневой кожей, в шестериду листа... Эхххх — хееее... — отошёл Афанасий Никитин.
— Вчера мы брали у того же Зохера две баклаги водки, — грубо врал сотнику Бусыга. — Мы тоже гнались за Афанасием. Хотели разузнать торговые пути... Водку, значит, брали в селе Кизичи. В шинке. Шинок там один. Ловите Зохера там, если ещё не убег... А мы уж, простите, такой обычай, станем здесь до следующего утра покойного отпевать да хоронить по-людски. Зря вы святого отца убили, кто теперь купца отпевать станет? Мы плохо церковный обычай знаем...
Литвинский сотник послал на это Бусыгу курей доить да с лютой словесностью в горле выскочил за дверь. Дверь повисла на одной ремённой петле.
Похоронили тверского купца Афанасия Никитина да безымянного православного попа поздним вечером, при полной луне, на заросшем кладбище. Проводил их до кладбища местный дед, слепой, старый-престарый. Но ещё помнил дед, что в этих местах была Православная Русь, а не подлая Литвинщина. Деда водил за руку малец, правнук, так тот по-польски всё кричал на ворон, а по-русски знал только «больно!» и «дай!». Мальчонке вручили половину каравая хлеба, а слепому его прадеду — три копейки серебром.
Дед монетами побренчал, тихо прошамкал:
— Предобрые паны! Естем перши проблем. Ускорости до нас, на село, прибуде польский ксендз, собака, я тада стану про могилы, что свеже порыты, говорыти, што родню похоронив. Ксендзу егда потреба трошки дата увзяток, ведь читать станет, пся крев, над могилами свою латинянску колобродину... дать надобе увзяток, штобы не читал. Грешно... пани добродни, читати ксендзу над русами свои поганые словеса. Так бачу?
Бусыга Колодин сыпанул деду ещё три монеты серебром, арабские, да мелочь медную, тоже старого чекана. Проня Смолянов выругался в том смысле, что больно дорогие ксендзы на литвинщине — тут же примолк, получив от Бусыги по загривку.
Дед по звуку об загривок понял, что и кто получил, сказал вдруг чисто, громко:
— Не твоя пока земля, отрок, так ори здесь: «Ите, месса эст!»[14]
Прямо с кладбища, как и указал дед, едва видимый просёлок выводил на старую московскую дорогу, ныне совсем забытую.
Куда там «забытую»! Только выбрались на ту дорогу, как встреч им — шестеро людей с копьями. А позади копейщиков кони громко хрипят, знать, добрые кони, некрестьянские. Хорошо, что луна вовсю светила, а то бы здоровенные подручные псковских купчин, махом прыгнувшие по сторонам, налетели бы с боков да посекли бы крадущихся по древнему шляху. У крепкошеих подручных за неделю наросло на душе то, что можно умыть только кровью. И мечи у них не в корчме были точены, а в русской кузне...
Из серёдки шедших по дороге вдруг заорал русский голос, с московским аканьем:
— Свои, свои, браты, свои! — услыхал, видать, русскую предударную матерность.
Сошлись прямо на дороге. Оказалось, это боярский сын, Обжига Кривулин, бежит от Москвы на Литовщину. Бежит с чадами, да с домочадцами, да со скотом, да пять плугов прихватил, серпы, косы, шесть семей крестьянских... Сзади, точно, уныло, с иканьем, подплакивал младенец.
— А что бежите-то? — зло спросил Проня Смолянов. — Поди пограбили кого? От чего же нынче бежать из Руси? Мир там и покой...
— Покой... мир...— протянул боярский сын Обжига Кривулин. — Оно конечно, кому как... Верблюдов продайте мне, а? Хоть будет на что людей посадить. Совсем замаялись...
Младенец вдруг зашёлся в кашляющем плаче. Мать его, видимо, совала ему грудь, да в груди избыло молоко. Дорожка ведь та ещё, Старая Московская, рытвинная да ухабистая...
Верблюдов, да, продать можно. Верблюды на Руси летом невыгодны. Линяют летом верблюды, а линялые верблюды работать не хотят... Столковались себе в убыток. Вдвое, считай, потеряли. А прокорми-ка их, этих зверей московским летом! Летом верблюд жрёт за трёх коров, а толку с него, как с телёнка — ни сожрать, ни запрячь.
— Так ты, боярский сын, не сказал ведь, почто бежишь с Москвы? — пристал Проня Смолянов к молодому ещё мужику, носившему на ремённом поясе длинный нож.
Обжига Кривулин обернулся, глянул по сторонам, только потом шепнул:
— У великого князя Московского, Ивана Третьего, негаданно помре наследник его, старший сын Иоанн Иванович. Говорят, жид Леон его отравил — лекарь литвинский, папский. Замятия[15] на Москве намечается. Хотят великие бояре посадить наследником и соправителем Дмитрия Иоанновича, сиречь сына помершего Иоанна, и, значит, внука нынешнего великого князя Московского Ивана Третьего... Опричь старшего сына от Софьи, Василия, да мимо наказа дедов и прадедов. Так-то, купец! Избесилась Москва, стала менять и дедовские обычаи и дедовскую веру. Сие есть, бают в народе — «ересь жидовствующая»! И та ересь вошла в умы и души всех великих бояр. И они прямо толкают великого князя Ивана Третьего: «Сади, мол, на престол, внука Дмитрия! А не то мы тебя скинем с престола, да казанским татарам продадим. В зачёт трёхлетней дани»! Ужас! Разве от такого не побежишь из Москвы?
— А великий князь Московский, он — чего? — Проня попридержал за пояс Обжигу, готового поместиться между горбов верблюда.
Обжига оттолкнул Проню ногой, концом длинного ножа уколол верблюда. Тот махнул головой, медленно двинулся по шляху.
Отъехав от Прони шагов десять, беглец московский всё же обернулся, ответил громко, со злой усмешкой:
— А чего великий князь мыслит, того не ведаю. Только вот знающие люди говорили по углам да по загнеткам, что, ежели великий князь Иван Московский вдруг победит в этой междусобойной замятие, тогда всем придёт обязательный каюк.
— Кому — всем? — прокричал теперь Бусыга, почуяв по низу живота холод.
— А всем! — зло и радостно ответил московский беглец. — На пятьсот вёрст окрест Москвы будет опять одна Москва. Одно княжество. А вольного города Пскова — не будет. И Великий Новгород свою вольность потеряет! А про Казанское ханство совсем забудут! Одна Москва будет! Попомните меня!
— И Литвы не будет! — заорал тогда Проня. — И Польши не будет! Зря ты туда бежишь! Всё равно ведь на Москве окажешься!
Утеклец невнятно выругался и подстегнул верблюда. А Бусыга и Проня, не сговариваясь, повернули со Старого Московского шляха влево. На Псков пошли, поближе к дому.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Про тетрадь Афанасия Никитина Бусыга и Проня сговорились молчать. А своих помощников сводили в храм на Подзоре, и те поклялись родными отцами, что не знают никакую тетрадь. Сидели, мол, в ста верстах от Пскова, на острове, где у Прони с Бусыгой складские лабазы, караулили купеческое добро. И далее острова не ходили.
Хоть парни и были новой веры, но древлянскую веру крепко помнили. «Клятву на отца» в древности давали смертную. Порушишь клятву — сам своего родителя и зарубишь. Или брата его, или любого мужика ихнего рода, если родитель уже помер. Справедливая была вера, старая, крепкая!
В Пскове уже почуяли неладности в Москве. И перво-наперво не повезли туда на отдачу посошную дань[16]. Оставили себе. Потом разом запустили в город больше сотни литвинских, немецких и датских купцов. Литвины — ладно, они торговали тканями да разной обувкой. А вот немцы и даны понавезли во Псков исключительно хмельной товар. Вино и пиво. А тайком продавали и белое вино, горячей, жидовской возгонки — стали делать то, за что московский князь головы лишал одним сабельным махом.
А на улице с бочек торговать не станешь. Посыпались тайком в кошли псковских старшин да письмовних дьяков серебряные деньги. И немалые. И тотчас открылись в городе иноземные питейные дома. А из такого дома благостным человеком не выйдешь — свиньёй выползешь. Значит, для успокоения пьяной души надобно возле питейных домов ставить храмы.
Но вот же беда: немцы даны, да литвины буевы не умеют ставить православных храмов! А ставят храмы католические — правда, за каждый гвоздь или камень платят сами, своим же мастерам. Идёшь по городу Пскову, а на каждом углу герекают на чужом языке. Тьфу! И ксендзы ходят совсем открыто, не таясь, нарочно крестят каждого псковского своим подлым крестованием. Своя же жизнь и торговля встала как конь в тесном станке, когда коню подковы меняют. В том станке не лягнёшь, не взбрыкнёшь...
Бусыга, едва год прошёл, как от Смоленска с тетрадью пришли, по осени навестил Великий Новгород. Там тоже росла иноземная винная и пивная продажа, а новгородские купцы жили широко, денежно. Им в охотку давали заёмные деньги, а кто давал — про то новгородцы даже в сильном подпитии молчали. Бусыга узнал процент отдачи с тех денег и перестал якшаться с кредитованными торговцами. Ибо дело это было грязное, галерное — брать взаймы под тот жидовский процент. Два года покатаешься, как колобок в масле, а на третий год станешь толкать или тянуть весло на турецкой галере — это как посадят, на какую цепь прикуют. Жиды в охотку торгуют русскими рабами на Туретчине. А турки в охотку покупают русских...
Вернулся Бусыга в Псков тихий, задумчивый... А тут ему Проня преподнёс непонятный случай:
— Я, Бусыга, в голоштанном детстве бегал по лужам да по огородам с Митькой Помариным. У него отец, помнишь, у рыбарей подрядчиком был, на Чудском озере, да утоп нечаянно? ...Так вот, днями встретил я того Митьку Помарина, а он, подлец, уже сильно грамотный и в Чудском монастыре сидит переписчиком летописей. При нём бумага, чернила и даже есть чего выпить... Выпили мы с ним малость, и я, вот же чудной случай, поведал ему про тетрадь Афанасия Никитина. Мол, надо бы её переписать, чтобы, значит, когда по обету отдадим тетрадь московскому князю, чтобы и у нас память осталась... об умершем купце... Ты чего?!! — последнее Проня проорал уже с пола, больно стукнувшись от кулака Бусыги об скамейку.
— Где тетрадь?!
— Ты чего, а? — Проня попытался встать и снова грохнулся на пол.
— Жаль, стервец, что отца у тебя нет. И никого мужиков в твоём роду нет! — заорал Бусыга, наматывая на кулак свой кожаный пояс, утяжелённый, для случая, бронзовыми бляхами. — Значит, мне придётся тебя сейчас резать!
— А я обет «на отца» не давал. — Проня поднялся с пола. — Но голову тебе сейчас поправлю...
Через неделю, когда у обоих сошли синяки, оба пошли в Чудской монастырь. Только вот монаха-переписчика Митьку Помарина там не застали.
— Утёк, видать, Митька, — тихо сообщил келарь, вздохнул скорбно и добавил: — Шептал тут Митька нашей братии, что клад нашёл. И за тот клад выручит немалые деньги, когда во Псков придут купцы от франков или от польских менял... А на Польше ведь тоже большое скорбное дело, христиане. Там в мучениях помирает король Казимир...
— Нам этот король, — прошипел Бусыга, — до заднего места! — Он не знал, чего ещё выведать про монаха-беглеца, утёкшего с ихним «кладом», с тетрадью. А жалостливо стоять у ворот монастыря, у калиточки, совсем стыдно стало.
— Не говори так, — задушевно, нараспев, прошепелявил беззубый келарь. — Вот скоро здесь встанут литвинские да польские войска да установится ихняя власть... Тихо станет нам жить, достойно. Поскорее бы уж! Намучились мы с московской властью...
Бусыга было хотел уж пристукнуть келаря, да тут влез промеж ними Проня. Проня тянул отцу келарю серебряный полтинник! Полтинник!
— Вот, на помин наших душ возьми или на помин польского короля, — елейно проблеял Проня. — Тот Митька, монах, у нас деньги брал, да не отдал. Нам бы с него деньги вытрясти. А уж потом... Может, и у тебя этот Митька чего брал, отец келарь?
Полтинник, сверкнув под полуденным солнцем, исчез в маленьком кулачке келаря. Келарь оживился:
— Как же! Как же! И у меня брал, и у братии нашей брал! Вот те крест святой — брал Митька! У кого по алтыну брал, а у кого и по два. На пропой брал, чего уж скрывать! Имеет Митька приверженность к пивному зелью!
Бусыга сообразил, что, слава богу, тетрадь досталась дураку. И след той тетради отыскать вполне можно. Потому сунулся в разговор:
— У тебя сколько денег Митька взял?
Келарь подумал, позагибал пальцы, потом поднял лицо на Бусыгу и ответил тихо:
— Рубль!
Оба они, и келарь, и Бусыга, знали, что «рубль» — это ложь и что келарь не соврёт, когда за настоящий рубль укажет, где притаился монах Митька с заветной тетрадью. Келарь получил ещё два серебряных полтинника и тут же сказал:
— Отмолю, ежели что худое содеется с пропавшим нашим монахом... А пропал он на питейном дворе шведского купчины, на Поречной улице... Наши монахи вчера в город за подаянием ходили, так видели Митьку на том дворе...
Монастырская калитка захлопнулась.
— При нынешней подозрительности, при полном воровстве и безвластии, — сказал Проня. — Монаха Митьку будем только резать!
— Но сначала бы тебя... опростать от головы, — вздохнул Бусыга.
Они сидели в датском питейном доме и пили дорогое — по копейке за кружку — пиво. То пиво сбраживали в датском королевстве на русском хмеле, проданном во Пскове за копейку — бочка. А цена была русскому хмелю — рубль за ведро на ганзейских рынках. Тысячу процентов прибыли имели ганзейцы от обычной русской вьюнковой травы! Иноземцы уже развернули на Руси лихую торговлю, стократно выгодную для себя и в стократный убыток для русских. Иноземные купцы ходили в юфтовых сапогах и плевали на лапти русских купцов.
— Время теряем, — заявил Бусыга. Он разоделся под ганзейского шкипера, выпустил наружу рукавов костромские кружева, а за воротник камзола — серебряной нитью увитое узорочье. На левом боку, на поясе, висела у него турецкая сабля, а на правом — тяжёлый кошль с деньгами. Внутри кошля, в особом карманчике, таились три золотых кружочка денег — старинных арабских, а сам кошель бренчал медью ещё татарского чекана.
— Пошли, кошли, поехали, — сказал прибаутку Бусыга, стукнул пустой кружкой по столу и первым вышел на улицу.
Проня заторопился за ним, приметив, что лицо у Бусыги побелело: вызверился на резню купец...
Шведский негоциант мигом увидел, как вошёл в его питейный дом на Поречной улице разнаряженный ганзейский шкипер. По шляпе видать, что шкипер. Швед выскочил в зал, поклонился ему и снова юркнул за прилавок заведения.
Шкипер кинул на прилавок серебро и спросил пинту красного вина. Выпил вино и спросил у шведа:
— Покажи мне русского монаха, что имеет продать клад.
Ганзейский шкипер плохо говорил по-немецки, так ведь нынче в этом углу России кого только не собиралось! Испанцы даже сюда заходили, спрашивали, не надо ли кого за деньги убить?
— Вот, под лавкой спит! — показал шведский негоциант на Митьку-монаха.
— Налей стакан жидовской дряни! — приказал ганзеец и походя пнул под лавкой.
Митька-монах вскочил, свалил лавку, надумал орать, но тут ему в руку поднеслась чарка крепкого зелья. За чаркой последовал кусок варёной рыбы. Ганзейский шкипер проследил, чтобы монах выпил всю чарку, и тут же утолкал его за дальний стол питейного заведения.
Шведский негоциант, владелец пивной, крикнул уже русских девок, чтобы прислуживать.
— Гебен мир айне бух![17] — иноземный шкипер протянул монаху руку.
— То не книга! То тетрадь! — испугался монах. Но ещё выкрикнул: — Продаю только за золото! При свидетелях! — Митька Помарин вытащил из своей дырявой рясы тетрадь Афанасия, показал ганзейцу, далеко отводя руку. И поманил к столу двух испанцев, взятых им в охранители.
Испанцы, весьма пьяные, но голодные, тотчас подошли, уселись по бокам Митьки. Хозяин пивного зала радостно ухмыльнулся. Этот монах да с теми испанцами за три дня пропил у него на серебро почти два талера! Сейчас продаст свою тетрадь и деньги пропьёт! Его к тому испанские головорезы обязательно направят. Хорошо!
Ганзеец побренчал в своём кошле, наобум вытащил три золотых кружочка. Протянул Митьке, а другой рукой забрал у него тетрадь и стал листать... Вроде она, Афанасия тетрадь.
Подзагажена, конечно, воском обкапана... А Проня с челядью ждёт за углом, у них под сёдлами десять коней.
Оба испанца сторожко глядели, как ганзейский шкипер с интересом листает тетрадь. Можно у ганзейца сразу, тут, за углом заведения, ту интересную тетрадь отобрать, а потом продавать снова. Цена теперь известна. Мешок золота! Человека режут за один золотой кружок, а в мешке таких кружков — сколько?
Испанцы вытащили не таясь длинные, узкие клинки своих шпаг, позвенели ими об стол. Бусыга от того железного звона только отмахнулся. Вот оно! На последней странице он увидел и узнал православный крест, коим покойный Афанасий почти два года назад, под Смоленском, пометил обетованную запись о принадлежности тетради московскому великому князю.
Бусыга не стал отвязывать мешок с медью, а просто отрезал его саблей и грохнул об стол. Испанцы недоумённо вытаращили глаза, они на слух понимали мельчайший звон денег. В кошле звякнуло не золото, там звякнула медь!
Бусыга столкнул одного испанца на пол, наступил на него всем своим немалым весом, пока резал другого. Потом сунул саблю жалом вниз, не глядя. Внизу, под ногами, хрустнуло, и тело иноземного дурня опало с последним выдохом.
А ганзеец уже широким шагом выходил из питейного заведения, не пряча красную от крови саблю. Монах, дурак, сидел, обнявши мешок с медью, и пьяно улыбался...
— Караул! — сипло и не в голос заорал швед. — Иноземцы режут иноземцев!
О том, что, через кровь завладев тетрадью Афанасия Никитина, Проня и Бусыга укрылись на своём острове, знал только Семён Бабский, старшина псковских купчин.
Про зарезанных испанских наёмников через день забыли, а вот про тайную тетрадь русского купца пошла молва по всему свету. И с каждой басней цена на ту тетрадь возрастала. Польский король Казимир, одной ногой стоя в могиле, обещал за неё пятьсот золотых дублонов, но над королём смеялись, ведь сам император Австрийской империи предлагал за тайную тетрадь уже три тысячи дублонов! Но его перешиб в цене Папа римский Александр Шестой: первый католик из всех католиков давал за рукописный труд Афанасия аж пять тысяч французских луидоров — для того только, чтобы получить ту тетрадь и самолично сжечь в собственном камине.
А по восточным окраинам Польши да Литвинщины гулял слабый послух, что жиды, прочно усевшиеся на Великом Новгороде, дадут за тетрадь Афанаськи Никитина тысячу рублей в серебряном весе. Этому слуху завидовали, но над ним и смеялись. Жиды наладились клеймить рублёвым чеканом бруски свинца, покрывать их оловом с подмесом серебра поверху. Такие рубли, пожалуй, годны только на свинчатки — бить в лоб самих жидов...
Семён Бабский по раннему утру приехал на остров и теперь рассказывал укрывшимся псковским людям про цену тетради тверского купца:
— Вот такая, стало быть, история с той тетрадью. Ты бы, Бусыга, хоть показал её мне... Я же тебя спас от повального розыска, когда ты испанских вражин отправил Деве Марии дорогу подметать[18].
Бусыга крякнул, вышел из лабаза.
Семён Бабский широким платком утёр пот со лба, спросил смурного Проню:
— Сидючи здесь, на отшибе, разве торговать можно? Чем живёте? Чем кормитесь?
— А! — махнул рукой Проня. — Нынче только по тайным тропам и торгуют. Новгородцы, вон, два наших лабаза завалили своим товаром. Гонят его мимо Москвы на Казань, а оттуда, по Волге, в Астрахань. Ничего... Мы с них берём понемножку. За сохранность имущества... Живём как можем.
— Недолго вам осталось мочь. — Семён Бабский снова утёрся. В лабазе было прохладно, а он потел и ёжился. — Москва рубит на Волге, перед Чебоксарами, город Нижний Новгород. Раньше там острог стоял, теперь встанет город. Знает Москва, что мимо её карманов деньги утекают. Теперь не утекут!
Проня только покачал головой. У него в Пскове осталась жена, родная сестра Бусыги — на сёстрах они переженились по старому купеческому обычаю. Чтобы деньги из рода не уходили. Он, Проня, душой в Пскове сидел, не на острове. И про Москву готов был забыть.
Вернулся Бусыга с кожаным кошлем. Развернул, достал тетрадь Афанасия. Семён Бабский подержал тетрадь на ладонях, увидел православный крест в конце, перекрестился, самолично захлопнул тетрадь и завернул её в кожу. Передал Бусыге:
— Пока спрячь. Да выпить мне чего холодного подай, а? Разговор сейчас будет. Меж вами разговор и между городом Псковом в моём лице.
Сели на улице, перед лабазом, на холодке. Малость выпили вина. По ковшу.
— Старый папа у католиков номер, — сообщил Семён Бабский. — Новый папа, именем Александр Шестой, говорят, совсем вызверенный человек. С турками стакнулся, готовит поход против Москвы. Письмо отписал великому князю Московскому, чтобы тот немедля уничтожил на Руси православие и вводил католическую веру... А городам Пскову и Великому Новгороду папа выдал отдельные грамоты, что он эти города уже приветствует, как перешедшие в лоно католической церкви. Вот так, парни. Не наливайте мне больше этого венгерского кваса, у меня чистая водка есть.
Выпили водки, тройной, царской возгонки. Проня и Бусыга молчали, закусывали. Только Семён Бабский не закусывал. А выпивши, шумно выдыхал:
— В Великом Новгороде сейчас какое-то бесоверие хвостом вертит. Объявился там некто, именем жид Схария, начал рушить устои православия. В открытую крушит нашу веру. А за ним встала дура и вражина полная — Марфа-посадница.
— Марфа за мужа своего Москве мстит, — осторожно сказал Бусыга. — За жида... Подлый же был у неё муж, Исаак! За немалые деньги пролез в посадники Новгорода, весь город опутал долгами. Кто противился, того казнил...
— Русских людей иначе как «русские свиньи» не называл, — встрял Проня. — А если кому платил за работу или за товар, то исключительно поддельным серебром... Слава богу, посадил его великий князь Иван Васильевич гузном в Болото![19]
Бусыга хоть и крепко выпил, говорил, хорошо обдумывая слова:
— Марфа-посадница теперь хочет Новгород оторвать от Руси и прилепить к Литвинщине. А мы здесь при чём? Псков сам по себе, не новгородская пятина[20].
— А вы при том, купцы, что владеете великой тайной. Где золото есть.
— Ну-у! Сказал тоже! — хмыкнул Проня.
— Сказал, ибо знаю что говорю. Великий князь Московский Иван Васильевич добровольно свою выю не нагнёт под католический крест. Мало того, он войну начнёт...
— Давно пора! — отозвался Бусыга.
Семён Бабский остервенел:
— А войну он начнёт, совсем не имея денег. И потому сначала ударит на Псков! Ему тут рядом от Москвы идти с войсками, а денег мы задолжали Москве аж за пять лет. Почти двадцать тысяч рублей!
Проня выругался в голос и закрыл лицо руками. Двадцать тысяч рублей! За такие деньги царь вместе со Псковом и его насельников спалит!
Старшина псковских купцов продолжал приговор:
— Разживётся Москва у нас деньгами, потом ударит на Великий Новгород. Потом на Казань. А уж потом...
— Ну, а мы-то тут при чём? — проорал Проня.
— А вам придётся двоим за город Псков постоять. — Семён Бабский поднялся, свистнул своим холопам, чтобы подгоняли коней. — Немедля поезжайте на Москву, да с тетрадью Афанасия Никитина. Как бы вроде купеческие послы... помимо городских властей приехали к Ивану московскому, по приговору купеческой общины... И чтобы хоть лбы расшибёте, но Ивана, великого князя, уговорите Псков не разбивать! А денег... Денег на войну против католической заразы мы, купцы, ему обнаружим. И весь псковский долг вернём. Голову на то даю...
ГЛАВА ПЯТАЯ
В новостроенной Грановитой палате Кремля великий князь Московский Иван Третий Васильевич принимал литвинских послов.
В палате удушающе пахло усыхающей штукатуркой, стояла почти банная влага, окна наглухо были закрыты, чтобы роспись на стенах вживалась в штукатурку сообразно правилам святого иконного письма. Иван Третий сидел на высоком помосте, именуемом теперь «престол», на особом троне, как бы родном брате того трона, что жена привезла в приданое...
А привезла Софья Палеолог в приданое с собой древний трон византийских императоров. Вот же баба! Знала, что везти! Цена тому трону, конечно, высока, поскольку пять сотен лет служил он имперскому величию Византии. Только вот под конец правления испохабили тот трон греки да ромеи, что опосля русских сидели. Приделали, дураки, на концы длинных подлокотников механические фигуры птиц именем павлин. Правда, хорошо иззолочены те птицы были, да что толку-то? Мысли в них нет, кроме беспричинной пышности. Нет, чтобы орлов примастрячить! Правда, некий механик, русский, снабдил тех павлинов изнутри механизмом часов. В какое тебе надобно время павлины вдруг развёртывают крылья, распушают огромные золотые хвосты и кукарекают! Кто трепыхание их первый раз видел да потом и «кукареку» слышал, тот обычно со страху нижней жидкостью исходил мигом. Некоторых первоглядцев вообще без ума в голове выносили из Тронной палаты...
Только сломались те птицы. Как раз когда сын Ивана Васильевича, Иоанн Молодой, заболел камчугом. Сунуть бы сразу тот трон в дальнюю кладовую, так нет, — Иван Васильевич, горевавший о сыне, велел нового механика привезти, из Греции. Тот сидел год, запёршись, с этими птицами, после чего попросил тысячу рублей за ремонтные хлопоты. Сказал: «Птиц и внутренности ихние время поело». Ну да, время — оно, конечно, враг и вещи и человека. А тут и Иоанн Молодой преставился... Сунули тот трон с птицами в дальний чулан в сердцах! Но прежде-таки мастера соорудили для Ивана Васильевича точно такой же, только без золотых птиц...
Сейчас Иван Васильевич, великий князь, восседал как бы у ног подымающегося на небо за царским престолом шестикрылого серафима. Сущность серафима из-за спины великого князя плавно перетекала со стены на потолок и разбрасывала крылья над всей палатой.
По правую сторону от Ивана Третьего, внизу, занимали длинную скамью думные бояре, сидевшие, по обычаю, в огромных родовых шубах и в меховых шапках высотой в руку. А по левую сторону от великого князя, тоже внизу, занимали свою скамью важные чины московской митрополии. Посол литовский Станислав Нарбутович сидел перед лицом князя на особом стуле без спинки, а прочие посольские стояли позади Нарбутовича. Кроме тяжёлого сырого воздуха в новостроенной палате ощутимо с обеих сторон витал дух злобы.
С московской стороны бесились оттого, что послы литвинские прибежали аккурат тогда, когда ещё не отмечена была очередная годовщина по кончине сына великого князя Московского. Русские в такие печальные дни даже казни отменяют, а уж с послами и не якшаются.
А литвины бесились от того, что дело-то шло об их интересах! Мало ли кто помер?! У них, у литвин, вон недавно король Казимир помер. Ну и что? Жизнь-то не померла! А сын Казимира и наследник его, Александр Казимирович, немедля возжелал взять в жёны русскую княжну, дочь самого Ивана Третьего, Елену Ивановну! В королевы взять! А ты попробуй, великий князь, свою дочь равновесно замуж отдать, по крови её! Такого гарного жениха, как Александр, круль Литвинский, нигде больше не найти! Александр послам прямо сказал: «Станут москали упрямиться да на свои похоронные обычаи напирать, твердите им тогда, что возьму я в жёны себе графиню австрийскую Анну, мимо ихней Ленки»!
Станислав Нарбутович, наполовину русский, но теперь литвинский шляхтич, говорил, далеко отставя правую ногу. Говорил надменно, превознося своего молодого короля... Но Иван Третий даже не дослушал, в ярости грохнул посохом об каменный пол палаты.
— Ты, посол, — отдышавшись, громко проговорил Великий князь Московский, — малость поостынь. Или я тебя поостужу. Вот дам отпускную грамоту только через половину года, поголодаешь на Москве да посидишь за крепким тыном, тогда научишься уважать государей...
Высокородные бояре закивали шапками. Русские духовные лица начали зло грозить литвинам кулаками.
Собственно, говорить ни той, ни этой стороне далее резону не имелось. Послы вручили Ивану Третьему доверительную грамоту от короля Александра Казимировича насчёт себя, выслушали в ответ обычные слова скорби по усопшему королю Казимиру да слова благостыни на счастливое правление короля Александра. Насчёт выдачи замуж великой княгини Елены Ивановны великий князь обещал подумать. В сватовстве не принято сразу орать от радости, но и долго думать незачем. Выгодное же дело предложено!.. Да вот наметился при посольстве обычный спотыкач, каковский бывает, когда в грамоте приписано: «Остатные дела посол наш имеет обсказать на словах».
Нарбутович обсказал на словах вот что:
— А изустно мне велено тебя, великий князь, расспросить от имени всех ромейских[21] государей — почто ты велел отравить старшего своего сына Иоанна, наследника своего? Говорят в просвещённых странах, что будто для ради того ты его отравил, чтобы посадить на престол мимо древних русских обычаев отчич и дедич, сына своего, Василия, от второй своей жены, Софьи Палеолог...
Тут-то и вскочил с престола Иван Третий во весь свой немалый рост. Да как сыпанул нечистым матом! Да как врезал посохом в каменный пол палаты! И повелел послу заткнуть рот. Иначе всё посольство просто сгниёт на Москве, что бывало не раз.
Нарбутович тотчас поднялся тоже, хотел проорать, что посольство немедля отходит от Москвы. Да ему в спину вонзился шёпот примаса[22] объединённой католической церкви Литвы и Польши:
— Именем Пресвятой Девы Марии, терпи и молчи!
Нарбутович выдохнул, будто конь, с которого сняли седло, и осел назад, на неудобный стул. Был Нарбутович толст, и стул под ним, треща, разошёлся на две половинки.
Иван Третий осклабился. Он, великий князь, стоит, а пащенок литвинский — сидит! Ладно! Великий князь провёл взглядом по скамье справа. Великие бояре уткнулись в пол. Только сидящий на самом конце скамьи Данило Щеня смотрел прямо в глаза великому князю. Иван Третий на его взгляд ответно шевельнул пальцами, сжимающими посох. Данило Щеня тут же поправил свою высокую боярскую шапку. Один есть!
В той стороне, где архиепископы и митрополит московский Зосима бездвижно и презрительно глядели в библейские телеса, рисованные по сырой штукатурке, в той стороне святые отцы, наоборот, зашумели и затолкались. Митрополит Зосима выдержал паузу и только хотел произнести громогласно имя того, кто станет от лица православной церкви иметь изустную беседу с послом литвинским, как сверху прорычал это имя сам великий князь:
— Игумен Волоцкий!
Митрополит Зосима аж обернулся на Ивана Третьего в гневе! Игумен Волоцкий никогда не входил в ближний совет бояр и святых отцов при великом князе Московском. Назначать его в переговорщики с литвинами — значило порушить другой московский обычай! Москали вот прямо сейчас задерутся между собой — послы могут тотчас уезжать со двора!
Великий князь повторил уже совсем тихим голосом:
— От нашей стороны назначаются моим именем в переговорщики с послами литвинскими боярин Данила Щеня и святой настоятель Волоколамского монастыря...
Станислав Нарбутович крепко стукнул себя по колену. До Волоколамского монастыря гонец станет ехать неделю, да пока старец соберётся — ещё неделя пройдёт, да пока до Москвы доедет — две недели. Месяц выйдет сидеть послам на Москве и проедаться! Это бы ещё ладно. Только игумен Волоколамский мог напрочь порушить хорошо сложенный новым королём Александром план погибели Восточной Руси через его женитьбу на русской княжне. План, недавно тайно утверждённый самим папой римским Александром Шестым!
Простой ниточкой в том плане болталась где-то сбоку православная вера русской невесты короля Александра, исповеданием, конечно, католика. Первое дело — запарить Елену напрочь без её православной веры и загнать в веру папскую, как положено! А за дочерью великого князя Московского пойдут перекрещиваться в католики и многие русичи. И те, что сидят пока под куполами православных храмов, но на польских да на литвинских землях, в Киеве да в Смоленске, да в Чернигове и в Белгороде. И те, что живут под рукой Москвы — пока... На Московское княжество уже ощерились и татары казанские, и казаки понизовой вольницы, и поляки, и литвины, и шведы... Даже турки, говорят, тоже стали на Московию голодными глазами посматривать. Да и Новгород со Псковом скоро уж, совсем скоро, отпадут в сторону католической благости. В смысле — под управу литвин и поляков. А пусть бы даже и под руку немцев! Так что ниточка просватанной Елены Ивановны потом, через свадьбу, мигом превратится в толстенный канат. А за тот канат можно тянуть уже всей Европой эту клятую Московию в стаю просвещённых европейских государств и в чистое лоно матери католической — папской церкви!
Конечно, тянуть придётся без великого князя Ивана Третьего. Его, видать, задумано в Ойропах избыть к ляду, чтобы главенствовал у московитов свой шляхетский сейм и чтобы все вопросы граждане решали на собрании. Вот как псковские да новгородские люди. Это у них пока зовётся «вече», но ничего, скоро будет зваться «сейм», как положено...
Опять же, правда, вопрос: а кто вперёд дёрнет? Ведь русские, лярва урва, дёргать за ниточки тоже умеют... А уж канаты тянуть! Ого-го...
Великий князь Московский, заметив напряжённое чело литвинского посла, сразу понял его думы. И тут же незаметно тронул концом посоха самого ближнего к нему думного боярина и первого предводителя большого полка — Ивана Юрьевича Патрикеева. Иван Юрьевич ежегодно за свой счёт выставлял на брань до полутысячи своей конницы да по тысяче пеших ратников. У него, по сказкам княжьих тиунов[23], было прикопано на чёрный день восемьдесят пудов серебра в денежном чекане и шесть пудов золота в изделиях и посуде. Посему следили за ним днём и ночью три Отряда великокняжьих доводчиков. (Власть на Москве и сильна токмо, что оводчиками, тиунами да духовенством. Ну и пятью полками рейтар[24] иноземного строя — им кого бы ни резать, лишь бы резать; особая за то идёт плата).
Почуяв посох великого князя пониже своей спины, Иван Юрьевич Патрикеев, великий боярин, встал и громогласно объявил всему литвинскому посольству:
— Поелику великий государь Московский ныне находится в печали и трауре, то мой боярский двор берёт послов на своё содержание. — Великий боярин кашлянул, сел, снял высокую шапку из бобрового меха, стал вытирать пот со лба и шеи.
— Шкуры баранов — пусть возвертают на мою поварню, — тихо подсказал Иван Третий. — Забыл, етива короста?
Иван Юрьевич поднялся, не надевши шапки, и бешено прохрипел:
— Шкуры баранов, матерь вашу, сдавайте на государеву поварню. Под отчёт!
Вся Московская Русь помешалась на указе Ивана Третьего сдавать ему прямо на двор бараньи шкуры. Были и таковские, что хотели деньгами вместо бараньих шкур откупиться. Тогда у троих вотчинников, пожелавших заместо шкур сунуть деньги, великий государь земли-то родовые и отобрал. А самих их да с семьями сослал в нижние земли, к луговым черемисам. Там выжить, как песню спеть: спел — и шабаш! Больше не споёшь. Никогда.
После того сразу все дотошные люди за город Тулу стали ездить. В степь. Исключительно за бараньими шкурами. Во как! Великий князь повелел про шкуры, так чего противу него переть? Скажет свою кровь собирать и ему нести, ведь понесёшь. Не спрашивая — зачем!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Шесть дней стояли на Москве псковские купчины Проня Смолянов да Бусыга Колодин, выжидали, когда великий князь Московский Иван Третий позовёт их в свои хоромы. Уже и месяц май, по греческому именованию, кончился. Начался греческий месяц июнь. Сенокос скоро, а у греков — июнь... Хе-хе.
Отдали псковские купцы ближнему хоромному дьяку Тугаре два серебряных динария да двух коней. Отдали, чтобы ускорить время свидания с великим князем Иваном... Время, оно для купца дорого ценится, как красный товар.
А чтобы совсем уж время не потерять, Проня Смолянов по прямому намёку хоромного дьяка Тугары отправился к игумену монастыря Рождества Богородицы на реке Голутве, который недавно велел заложить великий князь Московский. Проня Смолянов отправился туда на телеге, будто простой посадский мужик.
Монастыря как такового ещё не имелось, но в подземных кельях, что навроде землянок, уже проживали монахи. Сам игумен жил в трёхоконном рубленом доме среди там и сям раскопанных ям.
Сейчас игумен, здоровый, пузатый мужик, стоял возле трёх десятков телег, что привезли ломаный камень на укладку фундамента монастырских стен. Игумен отчаянно лаялся с возчиками. Те в злобе кидали шапки наземь и божились больше камня не возить на Голутву.
— Твоё священство, — говорил строго и разумно старшина возчиков. — Ведь возим камень почти аж с-под Тулы. В такую даль! В иных местах, что поближе, такого камня нет! Ну, дай ты возчикам ещё по две деньги, дак мы потом с радостию почнём тот камень ломать!
Проня вздохнул, привязывая коня к приворотному дрыну игуменской избы. Денег на Москве отчаянно не хватало. Медную деньгу, и ту прятали, ждали — авось когда и почнётся торговля, да такая, что была до прихода татар. А серебро вон, вишь, рубили на четвертинки. Копейка пополам — это будет «ушко» или полкопейки. А если ещё и «ушко» пополам разрубить, то станет «полушка» али четвертинка. И стоила та четвертинка не абы как, а две курицы. Или же целый аршин льняного полотна. Всё стало отчаянно дорого, особливо деньги. Вот где великий разор княжеству. А у князя доход от таких вот ломщиков камня, а им сейчас монастырь не оплатит — и трындец. Князь без денег, монастырь без денег, камнеломы без денег и, значится, купцы без денег! От где беда.
Проня Смолянов слышал от ближнего хоромного дьяка Тугары, что великий князь на это воскресенье назначил поездку на стройку голутвинского монастыря. Игумен знал ли об этом или не знал, но хоть три десятка возов ломаного камня создали бы вид работы. А то ведь князь Иван... ой-ей-ей! Запорет кнутами игумена. Свиреп был князь, голов не жалел, особливо провинившихся, и звания у тех голов не спрашивал. А со зла возьмёт и совсем не примет псковских купцов, как быть?
Неделю как сидят псковские купцы на постоялом дворе в Неглинном посаде, а такого наслушались от посадских, хоть без порток во Псков беги... Поговаривали, что Иван Третий вроде как за полное предательство сделал своего младшего брата, Юрия, всего лишь малым удельным князем на речке Ваге, что на самом севере. За то, что Юрий не поддержал возведение на престол, в соправители Ивана Васильевича, его внука Дмитрия. Правильно не поддержал, говорили: ломается не просто древний обычай, ломается весь жизненный уклад... Вот и побегай москвичи за рубеж...
А вот великим боярским родам — им что? У них половина земель на литвинской земле, половина — на русской. Отовсюду к ним деньги текут. Великим боярам всегда лучше всего живётся, если наследник мал, мамкину титьку сосёт, а великого князя уж нет — преставился. Вот тогда и власть у великих бояр заводится, а к той власти и деньги липнут...
А ведь от того и междоусобойные войны на Руси могут случиться... Бояр великих московский князь не тронет: на них стоит евонная сила. Но ведь злость избыть надо? Надо. А кому кровя пустить, да при том наживу поиметь? А вот хошь бы и Псков пограбить. Псков на копьё взять — причина найдётся. И Новгород взять тоже. Сказать только, мол, ваши купцы наших москвичей на торге обманули, на копейку больше взяли — вот тебе и война... Эх-хе-хе... А купцам чего ждать? Батогов по спине да прогара в личной казне...
Скоро ли камнеломщики прошибут этот каменный игуменский лоб? Время идёт... А камнеломщики завернули телеги и поехали прочь с берега речки Голутвы.
Проня выругался, догнал ихний передний воз, спросил:
— Куда наладились? Никто больше ваш камень не купит!
Старшина возчиков строго оглядел Проню, отозвался:
— Не купят, это точно. Дак ведь камень, он пить-есть не просит. А наши брюхи — просят. Сейчас поедим, поспим, назавтра вернёмся. Может, этот бугай одумается...
Проня придержал коня, дождался последней телеги, пристроился ехать в обозе.
Шептались ещё по Москве, будто всю эту мену наследника никак не приветствовала принцесса византийская Софья, вторая жена Ивана Третьего. Ей бы пригоже стало, будь ейный старший сын Василий на московском престоле! А вот татары — крымские, да казанские — да литвины подлые весьма приветствовали таковское решение Ивана Третьего. Им пятилетний Дмитрий совершенно был по нраву. Ребёнок на престоле — чего же лучше для терзания Русской земли? Крымчаки, казанцы да литвины, узнав про решение Ивана Третьего поменять очерёдность престолонаследия, радостно хихикали в рожу всем встречным русским людям. Ведь тем решением на Руси уже посеяно семя раздоров! Между новым и законным наследником. И грабить Московию можно сразу ото дня смерти Ивана Третьего! Или прямо сейчас! Зачем ждать, когда Иван, князь Московский, помре? Здоровый он, бес его забери!
А вот о чём на Москве не шептались, а держали рот на замке, так это про измену веры. Ходило вроде моровое, невидимое единомыслие, неведомого корня, будто веру православную неправильно приемлют все крестоналоженцы. А как надобно правильно?
— А митрополит Зосима чего бает? — слышалось, бывало, из кустов возле какого-нибудь московского пруда. — Не молчи, поп! Ответствуй людям!
Там, возле пруда, обычно топилась баня. Их много таилось в кустах около бессчётных московских прудов. Затащенный в баню силком мимоходящий поп, получивши после первого банного пара первую же чарку самогонного напитка, икал, закусывал прудовым карасём, обжаренным на палочке у костра, и отвечал:
— Митрополит Зосима? О! Сан евонный таковский, что обо всём он ведает. И раз про то разнобродие в вере молчит, значит, что... — поп замолкал.
Посадские, нарочно ловившие попа для познания правды, дёргались, но вторую чару попу наливали. Себя обносили, оттого и дёргались. Хлеба мало в тот год уродилось, брагу ставили из корня солодки да накопленных за зиму гнилых яблок, медовых обрезков, конопляных семян. Жуткая гадость получалась при варке самогона, но в голову шибала. И за то зелье княжеские тиуны могли тут же в пруд! С головой и надолго. Пока пузыри не перестанут подыматься из воды. Но, гады русские, всё равно ведь зелье гнали! Лишая великого князя кабацкого гривенника...
Поп в застиранной рясе, выпивши вторую чару, мрачнел, обводил посадских мутным взглядом, крестил их несамостоятельной рукой и говорил:
— Емлите, братия, наша вера крепка! Стояла вера и стоять будет!
— Так ведь окрест говорят, что скоро всех нас поверстают в жидовскую веру. Это — как? — спрашивал самый дотошный. — Ведь жить нельзя в безверии. А мы нонче, как дитяты во младенчестве, но без кормилицы. Говори, отче! Не таи правду! Татар на Москве переживали и это переверие переживём!
Поп накренялся, его удерживали, трясли. Тогда поп громко ответствовал:
— Сказано в Писании: «Кесарю — кесарево, Богу — богово»!
— И что, поп? Как это понять?
— Налей, значит...
— Нету, кончилась...
— Кончилась? Тогда вот что я скажу — вот так и вера наша кончилась. И другая начнётся. Богу, оно любому Богу — богово. Хошь и жидовскому. Тут, главное дело, ты князю отдай князево. И мне — налей, ибо попову — попово...
Ох, и били тогда попа! Ох, и били...
— Само по себе избрание наследника не есть личное право великого князя, — говорил в Хоромной палате Софьи Палеолог ейный исповедник, грек с русским прозвищем Афиныч. — На то есть старинные обычаи. И по обычаю дедовскому, мог же твой супруг назначить наследником своего младшего, родного, брата — Юрия Васильевича? Мог. А великий князь брата младшего обидел...
— Чем же мой супруг своего брата Юрия обидел? — вскинулась Софья. — Он ему в удел дал богатейший да преогромнейший край — Вагу! Там богатства по земле разбросаны, ходи да подбирай!
— Эх, великая княгиня! — Тут исповедник перешёл на греческий язык, сильно сдобренный латынью: — Сур анни тае абсурда ан киликие ен...
Софья налилась кровью от грудей ко лбу и дёрнула исповедника за бороду вниз. Да успела ещё подставить ему под нос край высокой прялки. Об тот край и резнулся носом грек, от чего из носа пустил юшку.
— Попробуй мне ещё раз сказать, что русские — дураки и не видят под ногами глиняной посуды, а предпочитают хлебать похлёбку из собственных ладоней... Пошёл к себе!
Исповедник, зажавши нос, выскользнул из Софьиной хоромины.
А он, собственно, был прав. Великий князь тем оглушительным назначением в наследники своего внука погнал в стан своих супротивников опору государства — малые боярские роды. Они хоть и чтутся «малыми», но их вдесятеро больше, чем великих родов...
Теперь Софье оставалось только что извести мужнина внука Дмитрия и посадить на московский престол своего сына Василия. Таковский план был. Его поддерживали почти все малые боярские роды. Ибо им пришлось бы друг друга резать, топчась на малом пространстве у престола. А их самих потом вырежут великие боярские роды. Не сами, нет. Сами те сабельками не машут. Наведут на Москву крымчаков или, не приведи господь, казанцев — от где живодёры клятые!
А сядет великим князем сын Василий от Софьи — всё пойдёт, как и шло. Тихо, благочестиво. Не в урон малым боярам, а в пользу. Осталась самая толика — денег раздобыть. Вотчины дать можно, пустых земель на Руси вон оно сколько — лежат втуне. Денег нет на Руси! А без денег и земля не родит...
И правда, войну, что ли, затеять? Хоть бы с литвинами? Но опять платить надобно: ополчению — кормовые, иноземным рейтарам — боевые двойные оклады... Татарам только платить не надо: если их на войну позвать, так они и сами своё возьмут. А На корм для коней денег? А повозочным?.. Господи, порви ты этот нищий, безденежный круг!
Софья подошла к хоромному киоту, поправила неугасимую лампадку, подлила льняного масла. Перекрестилась.
А внизу вдруг затопали грубые сапоги, охнула в испуге кухонная баба. Зычный немецкий голос проорал:
— Кто в доме сем есть — на выход! Ком, ком, шнеллер!..
...Через сутки бешеного конского гона на шести крытых возках великая княгиня Софья и сын её старший, Василий, уже большой отрок, вино пробовавший не единожды, оказались за толстыми воротами тихого, неприметного монастыря. Где-то в глухих лесах на северных землях да в трёх тёмных, сырых горницах, при мужской прислуге. А окрест монастыря встал охранным постоем полк иноземных рейтар.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
На следующий день Проня слегка припоздал на Голутву. А на Голутве, видать, ругались уже долго, от рассвета, и ругань игумена с возчиками достигла небес. Оттуда громыхнуло, брызнул дождичек. Возчики кинулись под телеги, игумен притулился под скатом надворотной крыши — там, где стоял Проня.
— А тебе, хожалый, чего надобно? — опять взъярился игумен, хватая Проню за ворот.
— Денег тебе хочу дать, святой отец, — смиренно поклонился Проня. — Как раз хватит с этими возчиками провести расчёт. А уж когда послезавтра, в воскресенье, приедет сюда великий князь, он тебя, игумен, не обнесёт деньгой. И не полушки к тебе в карман посыплются, а полновесное серебро. Вот такое. — Проня разжал ладонь, показал большой динарий серебра и тут же опустил монету в свой карман.
Игумен ахнул, втолкнул Проню в ворота, на малый двор, затряс его головой о поручни крыльца.
— Ты, игумен, хоть подумай, кого трясёшь, — возразил на битьё Проня Смолянов. — Я занесён в первый разряд псковских купцов самим великим князем Московским, а ты меня по холке...
Игумен быстро оглянулся и утолокал Проню в сени, а оттуда и в избу. Шикнул на какую-то бабу, что возилась с горшками. Баба спряталась за большой печкой.
— Есть у меня кабацкая водка да пиво тоже есть, бочонок. Ты чего будешь пить, купец?
— А то и это буду! — развёл губы в улыбке Проня Смолянов.
Через два мига договорились. Игумен вышел во двор к возчикам, смиренно перекрестил их, потом перекрестил камни на возах, потом и коней. Старшине возчиков передал три больших серебряных динария, полученных от Прони Смолянова. На те три динария можно было купить камня целую гору!
Старшина достал малый татарский безмен с одной чашкой, быстро взвесил деньги на безмене, куснул одну монету и махнул рукой возчикам. Те мигом подвернули передки телег, колёса задрались, телеги накренились, камень ссыпался на траву.
Игумен вернулся в избу, к столу, весёлый и довольный:
— Так ты говоришь, купец, тебе надобно два списка с тетради, написанной княжеской криптой! Да изделать те списки к воскресному дню?
— Говорю, да.
— А вдруг то не крипта, а бесовское чтение? Чтобы бесов вызывать, а?
Да, крепок станет игумен в княжьем монастыре на Голутве. Крепок и въедлив. И умён, зараза. По второму кругу хочет деньги содрать, теперь за борьбу с бесами!
— Вот тебе купеческая тетрадь. Чти сам, если разумеешь! — Проня Смолянов достал из-за пазухи тетрадь Афанасия Никитина, тайком перекрестил себя по животу, подал игумену.
Тот разложил тетрадь так, чтобы от окна падало больше света. Начал листать. Пролистнул страниц пять, захлопнул и подвинул тетрадь себе под крепкий локоть:
— Нет, купец, такую письмовину я монахам на перепись дать не могу. Они, конечно, расшили бы тетрадь на три части и за один день бы тебе переписали это изделие на две новые тетради. Но ведь бесовское там написано!
— Откель ты взял, что бесовское?
— Ну, а как же! — Игумен опять наобум открыл тетрадь Афанасия Никитина, прочитал: — «А стоит там, на площади, большой каменный Бык. Копыта у него золотые и одно поднято, будто вот-вот Бык шагнёт. И все, кто верит в Быка, те поднятое копыто целуют...» — это есть что как не языческая вера и её прославление?.. А вот тут: «Женщины, биляди аль сааби, эбле кеттык...». Э, э, погоди, это не то, это я не понимаю!
— Чего там понимать? — вздохнул Проня. — «Женщины там, значит, есть такие, что прямо сосуд мерзости и греха, а и с ними мне надобно иметь общение, ведь уже два года хожу по миру...» По-персидски здесь он пишет. Или по-арабски!
— Изыди, бестия! Персидского языка я не понимаю и всё тут!.. Ага! Вот ещё нашёл: «И в том храме молятся все, кто какой религии, им не важно. Храм так построен, что на все стороны света есть свой Бог, и нашего Бога я там возвидел и ему долгую и покаянную молитву принёс». Это как понимать? Приметил, видать, рисунок мужика с бородой и решил, что это — Христос? И в чужом храме чужому Богу принёс молитву? — Игумен захлопнул тетрадь Афанасия Никитина, треснул ею по столу и решительно спрятал под рясу, в крашенные синькой штаны. — Сам отдам послезавтра великому князю эту бесовскую писанину! И пусть он тебя хоть на кол садит, хоть в смоляном срубе жжёт! Ишь, чего на Русь приволок! А ещё купец, да, поди, православным числишься... — Игумен, правда, выпил водки две чары с небольшим довеском. Быку годовалому столько подай, он через час половину Москвы снесёт, благо она деревянная. А игумену хоть ещё наливай. Столько выхлебнул, пивом запил, но даже выю не гнул и смотрел ровно...
Да, силён поп! А ведь выручать тетрадь надобно! Предупреждал же Проню Бусыга Колодин, что не зря подлый хоромный дьяк Тугара подсунул им этого игумена. Сам хитрый дьяк положил на ту тетрадь свой острый воровской глаз! А с другой стороны, где на Москве найдёшь добрых переписчиков, как не в этом княжьем монастыре? Что делать-то?
Из-за большой русской печи вышла та баба, которую шугнул игумен, видать, стряпуха его. Ну и всё остальное прочее, бабье, при нём, видать, исполняла... Правую руку баба держала под фартуком, там что-то оттопыривалось.
Игумен поднял глаза от стола, осмысленно посмотрел сначала на пустой стекольный штоф из-под царской водки, на ополовиненную бадью монастырского пива, потом на бабу.
— Сосуд мерзости и греха! — сказал он бабе. — Зачем сюда припёрлась, сквалыга?
В ответ баба вынула правую руку из-под фартука и так огрела игумена по лысине деревянной скалкой, какой катают сочни для пирогов, что игумен резнулся головой об стол и захрапел.
— Пива мне зачерпни, — попросила баба Проню. — А то ведь он, гад, никогда меня не угостит.
Проня немедля, опасливо поглядывая на увесистую скалку, зачерпнул из бадьи полную кружку пива. Баба в один присест выпила пиво, утёрла губы и сказала:
— Идти тебе по реке, по левую руку. Там через малое время увидишь рухлядный домишко старых уже монахов, которые зарабатывают перепиской бумаг. — Она бестрепетно задрала рясу игумена, достала тетрадь Афанасия Никитина из кармана широких штанов, протянула её Проне.
Проня тетрадь взял, засунул за пазуху, поднялся с лавки, чтобы идти.
— Э, купец, ты пока не торопись, я ещё не так стара, как, может, выгляжу в глазах моего хозяина ненаглядного. Давай-ка пойдём на полати, да измерь ты, мил друг, мой сосуд мерзости и греха...
Бусыга Колодин терпеливо дожидался Проню до самого вечера. Где ж его искать? Ждать надо. Запил, поди, опять, сволочь.
На постоялом дворе на Неглинке, окромя них, псковских купцов, никого не ночевало. Люди перестали ездить на Москву, выжидали.
Хозяин пристанища, большой седой однодворец, вдовый, бездетный, к вечеру ежедень выпивал. И выпивал много. А выпивши — прятался. Закатается на сеновале, что над конюшней, завалится сеном — хрен найдёшь. Даже и не храпит. Таится. А колодец у него замкнут на амбарный замок, и самому не попить, и скотина мается, хоть той скотины всего четыре лошади. И баба — кухарка куда-то деется. Значит, и не повечерять. Ну, московские, ну погодите! Отчумится вам сухой хлеб без соли!
И вот сегодня, под самую ночь, хозяин постоялого подворья, уличным прозванием Бешбалда, вдруг высунул голову из сеновала и тихо вопросил Бусыгу:
— Меня никто не кликал?
— Ты колодец отопри, отвечу! — тоже тихо, но бешено, через губу, отозвался Бусыга. — Скотина-то моя чем перед тобой виновата, что ты запоем пьёшь?
— Запьёшь тута. — Хозяин совсем ловко, привычно, вниз головой, съехал с сеновала во двор, привязанным к поясу ключом отпер замок на колодезной крышке и сообщил Бусыге: — Завтра жида казнить станут. Здеся, на Болоте. Вот и пасусь, чтобы бесы загодя не собрались по его душу да мою бы заодно не прихватили.
Ой! Чокнутый, как есть чокнутый!
— Какого жида? — спросил Бусыга Колодин, наливая в скотскую колоду колодезной воды.
Кони шумно обрадовались, затолокались у колоды, быстро тянули воду, затрясли гривами.
— А того лекаря Леона, что два года назад отравил нашего Иоанна, святаго великомученика — наследника великого князя Московского! — Бешбалда заплакал честными слезами.
Бусыга, услыхав про Иоанна, пролил ведро с водой:
— Поди, голова у тебя болит? Ведь с утра гадость пьёшь! Налить тебе для здравия чарку жидовской возгонки?
— Налей, Христа ради, налей, а! А я тебе тут и хлебца печёного доставлю, и сливы солёные астраханские, и кисельку овсяного подам. Давай наливай!
Бешбалда подержал чашу перед глазами, дунул в неё, вытянул дрянь одним махом, утёр бороду, сунул в рот горсть солёных слив, забуркотел сквозь полный рот:
— Иоанн наш, старший сын великого князя, занемог, почитай, пять лет назад. Если не больше, да... «Камчуг» называется та болезнь. Тридцать лет ему минуло — и на тебе: старческая немощь прихватила! Камень зародился в почках и рос, как хлеб на опаре... Обезножил Иоанн! А ведь так не бывает, чтобы почки у молодого мужика без работы встали! Значит, колдовством оговорили великого князюшку али чем опоили. Супружница евонная, Еленка, перемолоть бы её в муку! Она и выбила из жизни Иоанна Молодого. Больше некому! И незачем!
— Еленка, это дочь господаря молдавского Стефания? Про неё баешь, Бешбалда? — Бусыга был купцом, оттого про разные страны знал.
— Про неё, купец, про неё, сучку... — Бешбалда очень ровно налил себе чашку самогонного вина, капли не пролил мимо. Лицо у него было ровным, широким, нос длинным, тонким. Борода — чернь с проседью. А вот руки... руки его, будто задние ляжки хряка. Такой рукой Бешбалда если отмахнёт кому, то больно не будет. Мёртвым боль не чуется.
И, видать, мужик грамотный. Он вдруг глянул на Бусыгу синими своими очами, в которых и пьяной искорки не блестело. Вот ведь, а? Вылакал чару дюже крепкой отравы, а в глазах — синь бездонная. Поди, колдун?
— Ты сам не пьёшь, ибо душой бесишься, — тихо, но отчётливо произнёс Бешбалда. — Велю тебе — выпей. Душа размякнет и на место своё упадёт. Под сердце. И заснёт в благости. На, пей! — Бешбалда протянул Бусыге свою же чашку, на две трети полную жидовской гадости.
— Нет, — Бусыга твёрдо отвёл руку Бешбалды в сторону. — Не пью я пархатое и поганое зелье. Извини.
— Там, в чаше, того злого зелья уже нет, — уверенно и опять тихо толковал Бешбалда. — Ты пей, пей.
Бусыга, сам не помня как, зачем-то взял чашу и выпил в неё налитое. Господи, пронеси и помилуй! Из чаши, точно, перетекло ему в горло нечто сладковатое, тут же ударило по крови, растеклось в брюхе, шумнуло в голове, и стало Бусыге легко и даже весело. Бешбалда на глазах Бусыги снова налил в чашу сильно воняющей, мутной жидовской жидкости, колыхнул, дунул в неё и тут же выпил.
Бусыга приподнялся с травы, заглянул в чашу. Обычно на дне оставалась муть. А тут — на дне чаши три чистых капли светятся. Бусыга перекрестился на случай и чуть себя по башке не стукнул кулаком: Бешбалда!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Это ныне стало ругательством — «Бешбалда», а тогда, в изначальной Руси, падали в ноги тому, кто носил на голове золотой обруч с огромными золочёными рогами и имел статус главного жреца при молитвенном и погребальном капище древнего Бога Быка. Звание его — Беш Баал Да — означало «Главный Нож Бога Баала на Алтаре его». Он возносил живые жертвы Богу, своим ножом даруя им Вечное Небо. Конечно, ему, Бешбалде, обратить свинячье жидовское пойло в чистый, как слеза, спирт, раз плюнуть. От попал же Бусыга к кому!
Купец взял с огромной, ему протянутой ладони, горсть солёных слив, с немалым удовольствием разжевал, косточки собрал в кулак. Бешбалда молчал, жуя солёные сливы.
— Нам к великому князю Московскому надобно попасть, — умоляющим голосом заговорил Бусыга. — Попасть по доброму делу. Зарок дали помершему купчине Афанасию, что к великому князю Московскому попадём и предсмертный наказ Афанасия выполним. Наказ — дело святое... А вдруг попадём ко князю да что не так скажем, а?
— Тверской купец Афанасий сын Никитин наказ вам передал?
— Он. Ты знал его, что ли?
— Слышал, было время... Правильно, не всё надобно князю говорить. Но ежели придётся-таки, то жида того, Леона, ругни. Прямо в княжьи очи. Князь Московский на жида заморского надежду поимел... Какую надежду поимел, ту радость и получил...
— А что, полагаешь, наши колдуны Иоанна бы вылечили от болезни?
— Хех! Там лечить-то — безделицу ненькать... Дают болящему пить до горла горячее пиво или квас. Потом сажают на норовистую лошадь, и пока не упадёт с неё, так пусть и скачет. Через два дня такого лечения камчуг сам дробится и покидает тело песком, когда помочишься.
Бусыга не удивился. Он на Пскове и не такие колдовские выверты видел.
А вот ещё есть другой способ камчуг лечить. — Бешбалда потёр рукой свою голову. — Надо за один присест съесть ягоду астраханскую именем арбуз. В половину пуда весом чтоб была та ягода.
Тут Бусыга Колодин не выдержал, всё же хохотнул:
— Ну, тут ты, колдун московский, малость пошёл на загиб. Какая такая есть ягода да чтобы в половину пуда весом?
— Бывает такая ягода, да-да, и в половину бараньего веса. Не веришь? А ещё купчина... — Бешбалда без улыбки посмотрел на неверящего Проню, стал продолжать рассказ о несчастном наследнике великого князя Московского. — Сказывал мне конюший великого князя, боярин Шуйский... он родня мне по матери... но об этом помалкивай... Так вот, будто Еленка молдаванская, змея вывертливая, вызвалась сама найти своему мужу Иоанну лекаря в заграницах. Нет бы великому князю Ивану Васильевичу задуматься, как так быстро у снохи его подлой нашёлся заграничный лекарь? Ведь сын его мучается... родительская кровь шумит, голове покою не даёт.
— И лекарь что?
— А что лекарь? Он такой лекарь, как ты коновал... «Я, — говорит, — имею дипломы и грамоты от разных государей!» И показал Ивану Московскому той грамоты. Нонче любой дьяк тебе таких воз накарябает.
— Эх, жиды, паскуды! — Бусыга взялся за голову и так сидел, слушал.
Бешбалда говорил, закрыв глаза, будто читал:
— «Я, — объявил жид отцу Ивану Васильевичу, — вылечу сына твоего; а не вылечу — вели меня казнить смертною казнью». Великий князь велел лечить; Леон стал давать больному лекарство внутрь, а к телу прикладывать стклянки с горячею водою; Иоанну стало хуже и он умер тридцати двух лет. Старый великий князь велел схватить лекаря[25]...
— На месте надо было рубить, чего хватать? — вскинулся Бусыга.
— Похоронное дело, на месте нельзя... Христианский обычай... Да и заморские лекари бучу бы подняли. Мол, бывает, мол, ошибся ... Ну, вот почти три года томил Иван Васильевич того Леона в темнице. Сегодня справит великий князь очередную годовщину по сыну, а завтра... Завтра конюший Шуйский тому жиду по горлу проведёт ножичком... Я для такого дела ему свой ножичек дал. То-о-о-онкий! Давай спать.
— Я завтра схожу туда, на те мостки, — сказал Бусыга.
— Не ходи, спать перестанешь... Шуйский — резальщик тонкий... уметливый...
Бусыга посмотрел угасающим взором на Бешбалду и смежил веки. Дрёма напала. Лёгкая, чистая...
И где это носит Проню? Хоромный дьяк Тугара подсказал идти в монастырь на Голутве, но как тому дьяку верить? У него в глазах иногда промаргивается такая склизкая муть, что барану ясно — смелый вор тот дьяк.
Из темноты улицы неуверенно подала голос усталая лошадь. Бусыгу кто-то большой, бородатый окатил холодной колодезной водой. Он попробовал продрать глаза, сразу стало бодрить дыхание. Сбоку, из-за колодца, вывернул Проня Смолянов.
— Веди меня скорей к лежаку! — потребовал он пьяно, водочным угаром заглушая острый конский пот от своего мерина.
Сам себе удивляясь, что оставался совершенно трезв и совсем спокоен, Бусыга почти ласково спросил Проню:
— Хоть тетрадь-то при тебе?
— He-а. Не при мне. Отдала одна баба тетрадь переписчикам. Будем ей должны завтра. Ты — деньгами, пять алтын серебром, а я... — Проня споткнулся о порог дома. — А я отдам долг своим сосудом мерзости и греха... Так та баба велела... Иначе нам тетради не видать!
Бусыга Колодин поволок тяжеленного товарища к лавке, бесясь, что аж пятнадцать копеек завтра кому-то отдавать, да не медью, а серебром! А Проня всё цеплялся сапогами за какие попало предметы в избе да всё бормотал, то зло, то умилительно:
— Сволочь всё же этот тверской Афанаська! Ну, мог и правда закриптовать своё письмо! Нет, наборонил целую тетрадь русским языком! Ну, мог бы тогда соврать где надо! Нет, не врёт, господи прости. А правду прямо так и пишет: стоит, мол, каменный Бык на площади, а копыта у него золотые! Золотые копыта, понимаешь? Одно от земли поднято, и кто похочет, тот то копыто целует! Вот ведь вера у людей, а? Копыто целовать! — Проня захохотал и шатнулся на лавку.
Бусыга решил утром избить его до полусмерти да возвертаться во Псков. Какая-то баба, какой-то бык? Пропала драгоценная тетрадь, где её теперь изыскивать? Только и осталось, что великого князя Ивана Васильевича просить сделать обыск на Голутве, а он... пошлёт тебя посохом по хребту. Ему нынче до тетради ли, когда он завтра жида казнит, а послезавтра пойдёт Псков грабить?
Проня вдруг приподнялся с лавки:
— А помнишь, торговали мы с неапольскими неги... нега...
— Негоциантами, — договорил Бусыга Колодин, думая, что сейчас бить Проню ещё рано, не дойдёт до него битьё: как куль рогожный стал мужик. Были бы не родня друг другу, прямо поленом бы ему, да в промежность!
— Да, с неапольскими негоциантами, — выговорил наконец Проня. — И они чего рассказывали? Как я тебе про быка?
— Спи, завтра по-иному у меня заговоришь.
— Нет, ты вспомни! Когда, мол, ихнего первого священника, папу римского, на престол садят, все должны ему копыто целовать! То есть, конечно, ногу. Золотая она, нога у папы, что ли? Или там всё же копыто золотое, а?
Бить Проню Бусыга Колодин утром не стал, запряг лошадей и поскорее выехал со двора. Бешбалду он не видал с раннего утра, только его работница копошилась у летней печи, подалее от дома и хлева.
Шуряки чего-то похлебали горячего в кабаке на Неглинной, Проня получил половину чарки водки, чтобы оздороветь, Бусыга пил кисель на молочной сыворотке.
Потом поехали на Голутвино. Хоть и с похмелья и сильно дёрганный, но Проня Смолянов вёз Бусыгу прямой дорогой, не кривулял.
Подъехали к завалившемуся домишке на краю оврага. Оттуда внезапно вышла крепкая румяная баба. Что-то держала за спиной, в правой руке.
— Ну, я пропал совсем! — тошно изрёк Проня и зашептал Бусыге: — Выручи хоть раз, а? Давай, я этой бабе отдам деньги, а ты всё остальное! Не могу я! Устал! Ушли из меня силы.
— Деньги, пять алтын серебром, принесли? — с ухмылкой сладкой радости спросила баба.
Проня закивал головой и раскрыл просяще пустую ладонь перед Бусыгой. Бусыга от неожиданности и наглости требования достал свой кисет, вытряхнул на ладонь Прони пятнадцать серебряных копеечек чекана ещё князя Гюрги Долгорукого. Проня маленькими шажками подошёл к бабе, высыпал деньги ей в подол. Хотел увернуться, да не успел. Баба выпростала правую руку, что прятала за спиной, кинула на траву три тетради. Две новых, только что сшитых, а одну старую, потёртую, Афанасия Никитина тетрадь! Другой рукой она в тот же миг схватила Проню за воротник и молча потащила в кусты.
Бусыга Колодин коршуном кинулся на тетради, мельком просмотрел их. В новых, так ему показалось, всё было перенесено страница в страницу, как у Афанасия.
— Тебя, Проня, скоро ждать? — крикнул Бусыга в ближайшие кусты, живо шевелящиеся. — К обеду будешь?
Ему ответил задыхающийся бабский голос:
— К... ужину... придёт!
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Великий князь Московский Иван Третий в воскресенье сходил к заутренней в придельной церкви, потом долго ел в одиночестве, обдирая руками бараньи рёбра. Кинжал князь воткнул в стол. Это значило для челядинцев, что ходить надо тихо-тихо и молчать в передник, даже если тебе в зад раскалённый гвоздь суют. Вот времена!
Вчерась ввечеру пришла на Москву татарская сотня из Казани, а с ней — мырза Кызылбек, тот, что отвечает за сбор дани. Дань с великого Московского княжества собирать ещё рано, надо осени дождаться, когда у народа деньги зазвенят. Значит, прибыл мырза по иному случаю. А по какому, о том надобно спросить ближнего хоромного дьяка Тугара, что у великого князя отвечает за денежные дела. И за делишки тоже...
Но вчерась же, после того как боярин Шуйский, по древнему обычаю, ещё до восхода солнца отправил лекаря Леона на Москве-реке окуням обрезание делать, то дьяк Тугара похотел отойти по своим делам из Кремля. Его конюшенные люди попридержали. А боярин Шуйский, прискакав от реки, по-тихому, одному ему, великому князю, сказал: «Слово и дело»... Потом добавил, что лекаря Леона он резал медленно, а тот от милости такой много говорил...
— И меж тех слов жид, обоссавшись и справив в воду большую нужду, признал, что хоромный дьяк Тугара точно берёт с татар серебро. И за то немалое серебро выдаёт татарам все денежные прилады Московского княжества...
— Не за ним ли, не за Тугарой ли, пришли вчерась казанцы с мырзой Кызылбеком?
— Татары, великий князь, пришли отобрать у тебя лекаря Леона. За его жизнь, точно известно, хазарский кагал[26] отвалил казанским татарам большие деньги...
— А чего ж тогда, получивши большие деньги, казанцы не торопились спасать того жида?
Конюший Шуйский хмыкнул:
— А казанцы не торопились, чтобы на тебя, великого князя Московского, лишнюю вину навесить... Им что Леон, что Тугара... Деньги они получили, а работу не сделали, жида не спасли. Ну, не успели! А ты у них зато в новом виновном залоге.
Иван Третий своему конюшему, боярину Шуйскому, по жизни доверял. Ведь они почти полная родня. От своей очередной вины перед казанцами великий князь отмахнулся, но велел насчёт хоромного дьяка красиво позаботиться.
Боярин Шуйский аж заржал от удовольствия и звякнул саблей о ножны.
— Сделаем, великий князь. Тебе в удовольствие, паскудам на память! — Конюший Шуйский сбил шапку на левую бровь и вышел из горницы.
Иван Третий стал дожидаться, пока в покои поднимутся татары. Что он перед приходом Шуйского думал о городе Пскове? Что-то весьма злое... Нонче, кстати, на заутренней службе в церковном притворе стояли псковские купцы. Говорят, они уже неделю ожидают приёма по неотложному делу. Какого-то тверского купчину то ли убили, то ли ограбили, то ли ещё что. Это как понимать? Псковитяне хотят просить его, московского князя, заступиться за тверичанина? Что за непонятный умысел? У тверского купца что — своего князя-заступника нет?
Пущай подождут псковские купцы... Сейчас с татарами бы развести концы... Ну, он-то, Рюрикович: как же ему концы не развести? Жида Леона уже отправили к Богу его, яхвенному... А вот второй конец, так тот совсем смешной... Дело-то царапалось всего о двух деревеньках на границе Московии и Казанского ханства. Деревеньки числятся за Москвой, а подать с них тянут татары. Два года идёт тяжба и никак не кончится. Нет, она бы кончилась, ежели бы великий князь Московский велел собрать ополчение да кинулся бы на Казань, да Казань бы взял...
На княжеском подворье, в дальнем конце, у конюшен, вдруг резко зазвенела дворучная пила. Великий князь глянул в оконце. Гридни споро пилили комель толстенного дуба, пенёк готовили. Заметили в окне лицо князя — и тотчас пила умолкла. Иван Третий махнул рукой — пилите...
Пусть пилят. И пенёк, и Казань клятая — всё нынче в одну строку... Только хрен ты, да с редькой, ту Казань нынче возьмёшь! Больно сильна стала Казань, когда арабы повоевали чуть ли не всю Великую ранее Персию. Татары, вишь ты, тут же под арабские мечи своими шеями подставились — молитвы арабские стали читать. Татары сильных уважают. И бешеных. Вот арабы всё же повоевали Константинополь, стольный Царь-град русских... Станбулом теперь кличут бывший Царь-град. А ведь грех — по столько раз менять название. Беда будет... И ту беду арабам русские принесут! Вот вам крест!
Иван Васильевич на всякий случай перекрестился на огонёк лампады комнатного киота...
Там, где стоял в Царь-граде русский идол — Великий Бык, а потом был отстроен огромный православный храм Святой Софии, арабы в том храме свою мечеть открыли. Ну, это ладно, у русских и у арабов корни моления одни — православные. Деньги разные — вот в чём разноголосие. У арабов много денег, а у русских — шиш. (Тьфу, нескромность вылезла после моления в храме!) Такое разноголосие со времён хана Батыя: соберут с Великого княжества Московского дань, свезут в Казань, ополовинят и только половину везут в нонешний Станбул. А там деньги на войну тратят. И даже на войну супротив русских! Нашим же салом — по нашим сусалам! Вот спроси его, великого князя, сейчас: мол, зачем тебе воевать Казань? А он бы и ответил: «Хочу сам возить дань в Константинополь! Не всю, а половину!»
Женитьба его на византийской принцессе Софье как раз и касалась возможности через родство Московии и Константинополя отобрать у Казани право на сбор дани с русских земель. Да тут же, сразу, взять себе право на сбор дани с земель казанских. И прочих, кои обретутся впоследствии сынами да внуками...
Долго тянулся торг о женитьбе. Сваты русские более полугода сидели в Риме, куда от арабов бежал последний константинопольский император Константин Палеолог. Император умер, а дочь его, Софья, осталась без казны и сочувствия. И без женихов. Вишь ты, а ещё Европа! Им подавай и невестино имя, и казну в приданое! Где ту казну, казну второй русской империи, теперь брать? Её двести лет назад из тайника в городе Пизе ушкуйники вынули, когда ходили на резню при Косовом поле[27]... А, кстати, где же нынче та имперская казна?
За окошком пару раз тупо стукнул топор. Иван Третий глянул через слюду во двор. Челядинцы пытались вбить топор в дубовый пень, которому четыреста лет, если не более. Лезвие топора просто отскакивало от плотной, как железо, толщи дерева. Великий князь махнул гридням, чтобы убирались. Они закатили пень в конюшню, затворивши за собой ворота.
Ладно, ладно... Принцессу Софью в жёны получил, а дозволения резать Казань — нет. Не у кого просить позволения! Хочешь — иди бери, режь... Или Литву — хочешь, так режь! Самое время маленько старых земель себе вернуть да старых врагов на распыл пустить. Хорошие времена, добрые... Но пока вот такая дёрганая жизнь на Москве, что не буду я брать Казань... Сейчас бы кому-нибудь башку срубить! А?
В боковую дверь на ор великого князя заглянул испуганный кухонный отрок. Проорал князь, оказывается, последние слова в полный голос.
— Иди, иди отсель, — сказал парнишке Иван Третий Васильевич. — Я так шумлю, для порядка... Постой! Глянь, сидят ли в проходе на внутренний двор хоромины два человека, видом купцы? Скажешь мне. Иди!
Кухонный отрок живо вернулся, просунул голову в дверь, покивал головой. Мол, сидят купцы.
Ворота во внутренний двор княжеского терема открылись, заехали во двор шестеро татар, совсем бессовестно богато одетых. Первым ехал казанский казначей, мырза Кызылбек. Ну, пока коней устроят, пока прогыргыркают последний раз, потом пока пройдут в палату длинными переходами... О чём он тут думал? А, псковские купцы!
Ежели бы псковитяне прознали, что скоро городу их грозит война... А без войны как же лишать русские города свободы и вольностей? Разжирели псковские... Рассчитались бы с ним за старые долги, а потом бы дань немножко удвоили. И делу шабаш! Не случилось бы войны. Теми псковскими деньгами Иван Третий года три бы отбрыкивался от казанских татар... А за три года можно вокруг Москвы и стену построить... Нет, волокут псковитяне серебро в чужие ганзейские города, кумпании какие-то придумали. Я им дам кумпании! Через неделю и дам! Полторы тысячи копейщиков да пятьсот мечников, да тысяча лучников, да татары крещёные, Данияровские, пять тысяч сабель — тоже кумпания, только московская!.. Может, и знают псковичи о московском походе да вознеслись непомерной гордыней? А может, те два купчика средней руки, что жмутся к стене в проходе, и есть псковская делегация? А пошто только вдвоём приехали умолять великого князя не лишать город Псков вольностей торговых? Как это не лишать, когда, вон, татары на крыльцо уже взошли? За деньгой! А деньга — вон она откуда растёт, из тех вольностей! Бить буду Псков!
Мырза Кызылбек вошёл, сбросил шубу соболью прямо на пол, три шага ступил навстречу московскому великому князю, ни поклона не отбил, ни шапку не снял. Только расшеперил рот в улыбке:
— По здорову ли будешь, великий князь?
— Я-то буду по здорову. — Иван Третий нарочно нарушил порядок приветствий и приветственных ответов. — А вот у меня в личных хоромах болящие попались, — и поманил мырзу к слюдяному окошку хоромины.
Кызылбек осторожно выглянул во внутренний двор. Из ворот царской конюшни, как бы сам собой, выкатился толстый пень. Два здоровых молодца в кафтанах княжьих кучеров поставили этот опилыш «на попа». Княжий конюший Шуйский выволок к пеньку хоромного, ближнего княжьего дьяка Тугару, что ведал казной Московского княжества и торговал мырзе Кызылбеку тайные денежные московские дела. Шуйский волок дьяка левой рукой, в правой руке его отсверкивала сабля древней хорезмской работы.
— А-а-а... — начал было мычать мырза Кызылбек.
Да тут Шуйский махнул саблей, махнул с хорошо выученной боевой оттяжкой. Голова хоромного дьяка отвалилась на сторону. Из конюшни выбежали конюхи. Дьяка подхватили за ноги, двое засыпали песком кровь берендея. А пенёк будто сам собой скрылся во тьме конюшни, ворота быстро схлопнулись.
— А как ты, мырза Кызылбек, чувствуешь своё здоровье? — ласково спросил Иван Третий Васильевич. — Размножаются ли твои стада? Хватает ли травы твоим баранам на всю летовку? Родила ли твоя четвёртая жена? Я ей на этот случай гостинец приготовил!
Мырза Кызылбек зачем-то уставился диким взором на княжий кинжал, воткнутый в стол. Великий князь осторожно выдернул кинжал из досок, сунул в ножны на поясе. Подвинул по столу в сторону татарского мырзы большой лист своего великокняжьего указа.
— Вот ей гостинец!
Под руку мырзе Кызылбеку тотчас подскочил казанский толмач. Хоть мырза говорил по-русски лучше любого московита, ответственность за документ нёс толмач.
Толмач прочитал:
— «Великий князь Московский...»
— Указ читай, на титло время не воруй! — велел толмачу Иван Третий.
— Указ. «Деревеньки по границе великого княжества Московского, да по границе великого княжества Казанского, именованием Тютюри и Собакино, населением обеих в двенадцать душ пахотных мужиков, я, великий князь Московский, в знак прекращения удельного спора двух государей, московского и казанского, передаю в Казанский удел, а сбор пашенный и подымный передаю под личное владение мырзы Кызылбека навечно». Подпись...
Чужой дядя, да ещё старинный данник, хоть и великий князь, запросто награждает землёй, людьми и деревнями знатного человека чужого государя! Третьего по чину в татарском княжестве! Это считалось не просто оскорблением мырзы Кызылбека. Это считалось оскорблением всему Казанскому ханству. За этой грамотой стоит не смех и водкопитие — война стоит за этой грамотой! Крепко задрала Москва Казанское ханство!
Что сейчас сделает мырза Кызылбек? Порвёт великокняжескую грамоту? Так у него есть кому доложить про сей поступок казанскому хану. А уж хан Казанский порвёт мырзе брюхо от горла до пупка. Свернуть мырзе эту подлую грамоту и увезти с собой, показать своему хану самому? Так мырза Кызылбек четверть часа назад возле конюшни видел, что бывает с предателями.
Великий князь Московский взял с пристальной тумбы колокольчик, звонко протренькал. Двери в палату разошлись, и на огромный стол челядинцы стали ставить огромные блюда, куда помещались целые бараны, кучи кур и гусей, графины и бочажки с водками, наливками, заморскими винами.
Татары, а их пришло шестеро, переглянулись, разом посмотрели на посеревшее лицо мырзы. Тот молчал. Сопровождающие его зашевелились, сели на лавку по одну сторону стола.
Великий князь ухватил за белую рубаху кухонного челядинца:
— Наготовили на целое войско, а народа нет. Там, в проходе в красный придел, сидят два псковских купца. Зови их шилом за княжий стол!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Татары посидели накоротке. Никогда так не сидели. Одного барана кое-как умяли и откланялись и прямо из княжьего терема ушли всей сотней от Москвы.
— Ну, с чем пожаловали? — спросил псковских купцов великий князь Московский, когда от запаха татар проветрили палату.
Проня Смолянов тотчас упёр глаза в стол, а Бусыга Колодин, глядючи прямо в очи великого князя, сказал:
— Помянуть бы надобно нам... государь... тверского купчину Афанасия Никитина. Он много для нас, купцов, сделал...
— Да что мне ваш купчина! — заорал вдруг великий князь. Происшествие с татарами сильно скребло ему душу. — Помер Аким, ну и куй с им!
— А для государства нашего, русского, он сделал в пять раз больше, — упрямо говорил Бусыга Колодин наперекор княжьему гневу. — Он в Индию ходил. На разведку, почитай, за свой счёт... Вот его тетрадь с записями похода. Мы дали ему обет праведный, что тетрадь передадим лично в твои руки, великий князь... Вот передаём тебе тетрадь купца Афанасия Никитина да список с неё.
Великий князь сгрёб обе тетради, небрежно перелистал, шлёпнул на край стола.
— Пишут, пишут, землю бы лучше пахали!
— Обожди злиться, великий княже! — упрямился Бусыга Колодин. — Афанасий Никитин половину Земли проехал да кровью и потом полил, а нищим помер, чтобы разведать торговые пути от Москвы в Индию!
— Ну, проехал да и нищим помер. Значит, не купцом ему быть, а золотарём![28] У меня вон с весны конюшни ещё не чищены! Пусть бы золотарил мои конюшни за две деньги в день. Чего он в Индию-то поплёлся?!
— А ведь до смерти своей Афанасий Никитин был только чутка беднее тебя, великий князь, — встрял в спор уже подвыпивший Проня Смолянов. — Трабзонский эмир у него пограбил индийских товаров на пять пудов серебром!
— А на чём он столько товаров вёз? — развеселился вдруг великий князь. — Тысячу телег при себе гнал? Конечно, какому эмиру понравится, что по его земле катится тысяча телег с товаром?
— Он в подкладе своего халата весь индийский товар вёз, — тихо сказал Бусыга. — Камни драгоценные, перец, шафран, корицу...
До великого князя дошло. Он самолично наполнил серебряный штофик водки, передал Проне.
— Наливай да рассказывай!
Проня Смолянов теперь откровенно хищно глянул на стол, одной рукой стал наливать себе водку, а другой подтаскивал жареного гуся вместе с деревянным подносом.
Иван Третий два раза громко звякнул в колоколец. Сзади неслышно, в одних вязаных" носках, подошёл крепкий мужик с сивой бородой.
— Обе тетради — бегом в собор. Да пусть там мои книжники два дня крепко сидят и читают, что написано. Потом, после воскресенья, пусть приходят сюда — говорить.
Великий князь велел псковским купцам каждый день с понедельника, с утра и до вечерней молитвы, бывать у него безотложно. И дожидаться его в Приёмной палате, где бояре да иные лучшие люди сидят. Вот так.
Купцы откланялись, ушли довольные, а на князя будто накатило. Вон, нашёлся русский мужик, самолично сходил в Индию, почитай, полсвета обошёл! И богатства описывает, которые можно вдесятеро продать. А нужда у Москвы есть великая в тех богатствах! И татары эти... Давят данью, зажиться не дадут!
В дверь просунулся конюший Шуйский:
— А ведь пора, государь, нам в поход на Псков собираться. Когда запрягать? Тебе возок запрячь тот, литвинский, али наш? Наш — он ходом погрубее, да ведь прочнее будет...
Хотел великий князь запустить в Шуйского куском недоеденного гуся, да вспомнил, что тот прав. На Псков пора идти. Чего ждать-то? Ладно, рассчитаем так. Завтра суббота, банный день. В воскресенье надобно драть батогами игумена монастыря на Голутве, что медлит с постройкой. Ну и воскресная молитва. На понедельник, вот, тоже появилось важное, вроде даже денежное дело с купцами. Значит, на Псков идти — во вторник.
— Погодь сегодня запрягать. — Иван Третий подсмыкнул длинные рукава татарского тёплого халата. — Садись вот, выпей. Сабельный удар у тебя больно хорош. Эх, такой бы удар, да в степи!
Конюший боярин Шуйский, с удовольствием улыбнулся на похвалу, выпил серебряную чарку водки, ухватил солёных груздей в льняном масле с крошеным луговым луком, зажмурился, с чувством прожевал. Спросил:
— В степи, говоришь, государь, это за речкой Свиягой? Или за речкой Илеть?
Подходы к городу Казань кроме Волги защищали реки Илеть и Свияга. Иван Третий хмыкнул, ничего не ответил.
Молодой боярин поскучнел лицом: скоро ли до Казани доберёмся?
— Воевода Патрикеев, Иван Юрьевич, где остановил наш передовой полк, идучи на Псков? — спросил князь.
— У Порхова, на реке Шелони. Чтобы псковские маялись большой думой: то ли на Новгород наше войско двинется, то ли на Псков.
— Ну, встал, так пусть и стоит, а то засиделся на Москве.
— А почто не выступаем-то? — всё же спросил боярин Шуйский, наливая себе ещё чутка водки.
— Да сколько же можно своих людей резать! — не выдержал великий князь и треснул кулаком о большое деревянное блюдо, из которого татары жрали варёного барана. Попал по обглоданной кости, из кулака закапала кровь. — Договориться же можно!
— С псковскими договоришься! Как же! — Боярин Шуйский взял со стола чистый рушник, облил рану водкой из стекольного штофа, стал перевязывать правую руку великого князя. — Они у себя уже костёл наладились ставить и ганзейское торговое подворье расширяют. А там, от Ганзы, купцами вылезли одни жиды. И говорят: «Построй ты нам, великий господин Псков, синагогу!»...
— Чего построить? Какую Гогу? Китайскую?
Боярин Шуйский глянул на великого князя свирепо, ругнулся по-родственному, выпил махом водки, ответил, не закусив:
— Молельню им, жидам, построить надо! Ихнюю — и всё тут!
Иван Васильевич вернул Шуйскому его же матерность да ещё своей прибавил... Хрястнул по столу перевязанным кулаком:
— Ещё и ересь жидовская множится. Не-е-ет, резня будет! Сыном убиенным клянусь!
— Вот давай сына твоего и помянем...
Оба встали, поклонились сначала друг другу, потом на юг и на восток, перекрестились... И напились от души, по велению сердца.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Проня Смолянов в субботу и в воскресенье пропадал на Голутве. Приходил только к ночи, падал и спал. Довела его игуменская просвирница до похудения и ломоты в коленях.
Бусыга же купил у великокняжьего письмовного дьяка два листа бумаги и не выходил с подворья, всё листал монастырский список заныканой для себя тетради Афанасия Никитина да что-то писал на купленных листах — иногда цифирь, то ли умножал, то ли вычитал, не поймёшь....
А поутру, как раз в понедельник, на княжий двор, в кремлину, начатую обводиться каменной стеной, сквозь сторожевые рогатки проскочил гонец от Патрикеева, от воеводы большого полка. Гонец тяжело протопал мимо псковских купцов, ожидающих в Приёмной палате, грохнул кулаком в дверь княжеского покоя и вошёл, не дождавшись изнутри пригласительного окрика.
— Ну, началось! — сказал Бусыга Колодин. — Так и есть — война. Не успели мы с тобой, Проня, выполнить посольское наше дело к великому князю Московскому...
— Чья война? — спросил дремавший на скамье Проня Смолянов.
— Наших с москвичами война, вот чья!
В Приёмную палату тихо затекли три бородатых монаха — молодых, высоких, крепких. Сзади них неслышно пытался ступать архимандрит Московский, настоятель Успенского собора, сам весом пудов на десять. Архимандрит осторожно нёс завёрнутый в белую тряпицу предмет размером вроде Афанасьевой тетради.
Гонец вышел, плотно прикрыл дверь в княжескую горницу, косо надел московского кроя красную шапку с пером сокола, тихо, но явно выматерился про войну.
— Эй, молодец! — густо проговорил архимандрит. — Ползи ко мне на коленях, проси угождения за злую матерность при мне, святом отце, а то неделю будешь стоять в углу царского собора, грехи замаливать!
Гонец крякнул, ещё раз матерно помянул войну прямо в лицо святому отцу и вышел из Приёмной палаты, громко хлопнув дверью.
— Егора Сыча сын. Из Сокольников. Найду — запорю, — непонятно кому пояснил архимандрит.
Из княжьей горницы их всех скопом позвали к князю.
Иван Третий, серый ликом, ходил вокруг пустого стола, расчёсывал бороду. Проня Смолянов при виде пустого стола вздохнул.
— Садитесь по согласию, — пригласил великий князь. — Ибо к великим родам вы не относитесь, — отчего-то хохотнул он, и снова гребень заскользил в его огромной бороде. — Гонца видали? — спросил великий князь. — От воеводы Патрикеева?
— Я того гонца, великий княже, в пыль извозюкаю! — начал гневиться настоятель Успенского собора, архимандрит Московский.
— А что ты сделаешь с двумя тысячами ганзейской рати, что встала вчера на Филатовой горе, слева от Пскова? Треть из них в железных панцирях, да при них сто солдат с аркебузами и три пушки. А? Да псковичи говорят, что выставят против меня... Супротив меня! Ихнего великого князя!.. Выставят две тысячи копьеносного ополчения — мужиков опытных, крепких! Да выкатят на стены аж двадцать пушек, тайком купленных в неметчине... Купцы псковские! Покупал ваш город тайком двадцать пушек?
— Покупал, великий государь. — Бусыга Колодин поднялся со скамьи, поклонился великому князю. — У шведов пять пушек, у данов — пять, да десять уворованы при стычке с литвинами погаными.
— Ну! Чего примолк, архимандрит?
— Нам, великий княже, воинских дел не решать, — сообщил князю Ивану архимандрит. — Молитвы мы вознесём, как положено, когда прикажешь. А вот главное дело ныне — тетрадь сия. Вредная для нашей веры тетрадь. — Архимандрит белую тряпицу с тетради Афанасия Никитина содрал, сунул за пазуху. Тетрадь положил возле себя. — Больно много в этой тетради злого, бесовского да оскорблений соседним государям. И лжи много. Особливо про диковинных животных да про злато-серебро, про каменья драгоценные. Те каменья, что описывает этот вероотступник, есть токмо на парадном хитоне иудейского первосвященника. Так прописано греками в книге, кою они сто лет пишут. Библия, толстая книга. Святая... А более таких дорогих камней нигде нет. Соврал, значит, тверской купец. Вон, печка горит. Разреши туда сунуть сию бесовскую срань! — Архимандрит поднялся, держа тетрадь в руке.
Проня Смолянов быстро пригнул голову к столу. Бусыга Колодин не выдержал, соскочил со скамьи, изогнулся и вырвал тетрадь у святого отца.
— Отдай взад, христопродавец! — тонко, с бешенством просипел архимандрит.
Великий князь пошевелил рукой в окровавленной тряпице. Бусыга поклонился и сунул в ту княжью руку многострадальную тетрадь купца Афанасия. Великий князь Московский опять заходил по комнате, прижимая раненую руку вместе с тетрадью ко груди:
— Мы против ганзейской рати да псковского ополчения уже выставили под городом Порховым, за речкой Шелонь, две тысячи своих ратников. Передовой полк. А позади него собирается большой полк воеводы Юрия Ивановича Патрикеева. Пушек у нас нет, только пищали да ручные бомбарды. Штук сто. Да, вот псковским непокорным людинам ещё один подарок будет прямо сейчас: вроде гонец проскочил во двор...— Иван Третий глянул в окно. — Точно, татарин во дворе. Татарин крещёный, так что ты, святой отче, готовь руку для поцелуя и крест свой нагрудный.
В палату и точно вошёл быстрым шагом молодой татарин. Низко поклонился великому князю, подошёл под благословление архимандрита.
— Говори! — разрешил великий князь.
— Тысяча наших сабель встала седнешней ночью в лесу под Изборском да ещё полторы тысячи как ты просил, великий княже, привязали своих коней в бору, что по правую руку от Пскова. Что сказать нашим тысяцким? Если завтра под рассвет мы ударим с боков, а твои полки — прямо, мы всех сомнём!
— Возьми за доброе известие княжескую полтину... вот тебе... да иди на кухню, подкрепись сначала, а потом поезжай назад. Скажи своим тысяцким, я сам буду через неделю стоять боевым станом перед воротами Пскова. И там всё решим.
Татарский гонец поклонился и вышел весёлый.
Архимандрит поднялся со скамьи:
— Разреши, великий князь, отправиться в храм, начать службу о победе русского воинства...
— В храм ступай, но службу о победе пока вести рано. Ступай, ступай...
Не успел архимандрит покинуть палату, как в дверь просунулся тучный отрок во всём холщовом, белом:
— Заносить?
— Заноси. А то вроде как постный день у нас, при святом отце нельзя.
Пока уставляли стол заедками да подавали чугунки с кашами да холодное мясо, мочёные ягоды, хлеб чёрный да ситный, великий князь всё ходил повдоль стола.
Что-то у него, великого князя Московского, получалось не так. Не по-русски. Этой ночью Иван Третий не спал, читал монастырский список с тетради Афанасия Никитина... Это же Четьи минеи торгового люда, а не тетрадь! Её наизусть учить надобно.
Вот он, великий князь, собирается пограбить Псков, пролить кровь. За что? Серебра ему мало. А серебро ему зачем? Татарам отдать. Ибо они — татары казанские, а он — всего-то данник сопливый, у которого можно и город Москву сжечь, а жгли не раз, и родню его можно в аманаты[29] запереть и держать в заложниках до смерти. И ведь держали: деньги давай! А ведь деньги — они только снаружи его княжества и есть. И торговля вся — у тех, кто морем владеет... А у нас одни реки, что утыкаются в чужие моря. Наш купец вон сидит, жадно хлеб кусает. Разве бы, имеючи деньги, купчина русский так жадно хлеб жрал? Имеючи море, так сопел бы?
А у него, у великого князя Московского, сейчас на руках не просто карта куда идти торговать, у него на руках — опись полумирового базара. Он, великий князь, пошлёт вон того купца к морю Каспийскому, издревле русскому, а тот купец продаст воска хазарским жидам, то море оседлавшим, получит на три копейки больше за пуд да и тому рад. А те, хазары подлые, тот воск продадут на свечи в гарем трабзонского эмира в пять раз дороже! Разве это справедливо?.. И разве через три дня будет справедливо, когда великий князь Московский из-за трёх пудов серебра смоет огнём русский город Псков? А те три пуда псковского серебра тут же понесёт клятым татарам, да с поклонником...
— Наливай и мне! Чего, про великого князя забыл? — рявкнул Иван Третий на Проню. — Под хмель думать вместе будем, так веселее...
— А чего тут думать, великий князь? — спросил Бусыга Колодин.
Иван Васильевич медленно поднял голову от блюда с бараниной. Глаза его стали наливаться тёмным гневом. А Проня и Бусыга уже стояли на коленях и упирались головами в сапоги великого князя.
— Ну, чего ещё?!
— А то, великий князь, что пришли мы к тебе не только с обетовальной тетрадью тверского купца Афанасия Никитина... — начал Бусыга. — А пришли мы с тайным посланием от всех псковских купцов...
— Давай сюда послание!
— Дать не могу, оно на словах передано!
— Ну, вот что купцы... Шли бы вы отсель подобру-поздорову! Афанасьеву тетрадь, мне завещанную, держали при себе почти пять лет. Поди, за пять лет послали по той тетради уже десяток караванов, да с немецкими купцами? Не за так, поди, а за деньги! А? С меня теперь собираетесь урвать серебра?
Иван Васильевич швырнул тетрадь прямо в лицо Бусыге. Тот успел тетрадь ухватить, поднялся с колен, подтолкнул встать и Проню. Осторожно положил тетрадь поближе к московскому великому князю, сказал, как бы прощаясь:
— Велено нам передать от псковских купцов, от старшины нашего, Семена Бабского, что ежели не станешь Псков воевать, то наши купцы тебе немедленно выплатят двадцать тысяч рублей... В зачёт недоданной дани.
— Погоди, погоди уходить, купец! Я не велел! А взамен, взамен чего у меня купцы просить станут?
Тут заговорил и Проня Смолянов:
— А чего просить? Только обычного права. Изгони ты своей силой, великий князь, иноземных купцов из нашего города да вели русскую торговлю возвернуть как она была! Вот и всё!
Иван Васильевич махнул купцам садится, протянул им по чарке вина:
— Это и всё? Так это мы — махом! Вот так, как выпили!
Выпили. И Бусыга Колодин не выдержал, засмеялся. Тоска, что два года грызла ему сердце, вдруг исчезла, испарилась...
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Ольгерд, князь Смоленский, литвин подлый, вёл свой отряд на город Печоры, что перекрывал Пскову выход на Балтику. Русский сотник чуть не в слёзы молил князя Ольгерда на Псков не ходить. Мол, купцы, пять лет назад схоронившие здесь Афанасия Никитина да зазря давшие навет на шинкаря Зохера, сидят сейчас в Москве и пьют вино с великим князем Иваном Третьим. В Пскове их нет.
В бешенстве и злобе князь Ольгерд сам прискакал в село Ольшага, где велел сотнику вырыть истлевшее тело Афанасия Никитина и всю одёжу с трупа порвать, но тайную тетрадь отыскать. Князя Ольгерда раззадорили до бешенства растущие цены на ту тетрадь. Русский сотник перекрестился православным обычаем и отказался. Его повесили тут же, на одной перекладине вместе с мелким шляхтичем, хозяином того селенья.
А потом, в полоумном отчаянии, князь Ольгерд дал команду: «На Псков!» И пошли на Псков тремя конными отрядами по двести сабель, татарским обычаем, без обозов. Пошли четыреста улан да двести тяжёлых драгун, при двух конях каждый. Такая гоньба позволяла проходить за день девяносто вёрст, посему князь Смоленский Ольгерд высчитал, что окажется под Псковом через три дня и три ночи.
Шесть сотен сабель, чтобы взять Псков — это смешно, но Ольгерд заранее услал гонца к данам, чтобы те вели военные шестипушечные корабли по Чудскому озеру прямо к Пскову. Обещал всю добычу из города данам. Ему, Ольгерду, нужны были только два псковских человека. И при них чтобы нашлась тетрадь!
Датские мореходы сначала пригорюнились, ведь все три корабля могли и потонуть, но больно велика была обещанная добыча в пользу моряков. Город Псков — богатая добыча! Шхуны подняли якоря...
На третью ночь литвины стали подходить ко Пскову со стороны Изборского леса. Передовой отряд легкоконных улан в сотню сабель, шёл тихим ходом, при полной луне огибая дубравный лес, когда навстречу им так же тихо выскочили из леса две сотни татарской конницы. Уланы со вскриками стали разворачивать коней, а там, сзади, ещё две сотни татарских лучников!
Кони литвинские добрые, крупные. Их колоть не надо. Зато самих улан татары махом прошибли стрелами и утянули на арканах в бор. Одёжа на уланах красивая, да и на военных поясах у них болтаются дорогие кинжалы. И хоть бы кто из улан успел крикнуть: крещёные татары режут врагов по-русски, одним махом! Ну, а коней уланских тысяцкие сами поделят, их воля. А кони — добрые, русские кони...
Псковские ратники с ночи понедельника метались по башням городской стены, выискивая передовой полк великого князя Московского. Ведь самолично видели, как ещё при луне челядинцы великого князя Московского на телегах подвезли и развернули напротив главных ворот Пскова шатёр Ивана Третьего, установили длинные шесты со стягами. Воевода псковский сам поднялся на дозорную башню, перечитал, что означают стяги. Был там стяг «На молитву», был стяг «Во славу воинства русского», а длинного вымпела «К бою!» не виднелось... А нет, вон поднимают... Ни болдоха себе! Московские челядинцы подняли фиолетовый стяг «Миром утешимся»... Хо-хо!
А там, вдали, со стороны городка Порхова, откуда обычно в облаках пыли подходили москвичи — тишина. Ни пыли тебе, ни вороньего грая. Это как понимать?
Ганзейские отряды, стоявшие слева от города Пскова на Филатовой горе, заволновались. Им смысл полотняных стягов на московском стане не был понятен.
Воевода псковский Никола Кресало, хоть ему и доложили о подошедших к Пскову датских военных шхунах, от доклада отмахнулся. Он вскинулся на коня, велел отворить ворота города и так, один, поехал прямо на красный шатёр великого князя Московского.
За ним увязались двое его оруженосцев. Одного воевода послал на Филатову гору, объяснить ганзейскому воинству, что войны, судя по всему, не будет. Пусть готовятся к переговорам. Второго погнал вперёд, смотреть, где же великий князь Московский?
Холоп даже с места не стронулся:
— А вона он, в повозке едет.
С малого пригорка, точно, спускалась к великому шатру большая повозка. За ней на конях лениво тянулся обычный княжий конвой, человек в сотню: копейщики, бердышане, пищальники...
Воевода Никола Кресало покинул седло, ухватился рукой за стремя, встал перед великокняжеской повозкой на одно колено. Великий князь Московский ступил на землю, прогнулся назад, в пояснице:
— Вот дороги, ей-богу! Одно горе, а не дороги! Что, Кресало, поди, к бою с нами изготовились?
— А как же, великий государь! Ведь нас с четырёх сторон окружили!
— Ну, с трёх сторон наши, если теперь и ганзейцев за своих счесть. А со сзаду кто на тебя навалился?
— Пока не ведаю, но доводчики бают, что пришли сюда три датские шхуны с пушками да князь Смоленский Ольгерд пытается на саблю Псков взять....
Оба, и великий князь Московский, и Никола Кресало, рассмеялись. Каменный град Псков на саблю не взять! Его за год сотней пушек не расшатаешь.
— Ольгерд где встал?
— Полез к озеру, навстречу датским кораблям да в болота упёрся...
Великий князь покрутил сначала левой рукой, потом правой. Издав по дикому взвизгу, в обе стороны помчались гонцы с пиками. На концах пик яростно крутились под ветром длинные чёрные вымпелы с золотыми орлами о двух головах: «К бою!» Псковитяне, что облепили стены, враз поприседали за зубцы крепости.
Увидев чёрные, на смерть зовущие вымпелы, со стороны изборского леса вылетела первая татарская крещёная тысяча, пошла огибать Фомину гору, нестерпимо воя: «Улла, улла!» Справа от города, из тёмного подборовского леса, косой лентой развернулась мимо Пскова вторая свирепая тысяча сибирских татар, непрерывно визжащих: «Алалала!» Татары двумя потоками помчались к южной оконечности Чудского озера.
Очумелые ганзейские военачальники стали было разворачивать вослед татарам три своих коротких пушки. Псковский воевода заругался чёрной руганью.
— Чего лаешься, Кресало? — удивился Иван Васильевич. — Татар сибирских не видал? Они второй год у меня... Подрабатывают летом. Сибирь же теперь наша, им теперь в Сибири дела нет. Не бойся, они крещёные...
В огромном шатре великого князя холопы уже расставили столы, запалили позади костры, рубили мясо. Великий князь подтолкнул локтем задумавшегося псковского воеводу:
— Зови ганзу, закусим пока. Чего им там прохлаждаться?
А ганзейцы уже и сами сообразили, что Псков от московитян защищать не придётся, можно пива выпить. Трое ганзейских званых людей сели в карету и за три мига скатились к шатру великого князя Московского. Ганзейские же ратники с Фоминой горы перетекли к Псковским воротам и там рассеялись.
Пока здоровались да интересовались погодой на Балтике, на трёх телегах провезли перед великокняжескими очами первых литвинских пленных, потом завернули телеги во Псков, там полоняне станут дожидаться выкупа.
Утро стояло хорошее, тёплое, роса только начала сходить с травы. Июнь месяц, дивная пора.
— За мир и покой — выпьем? — спросил Иван Третий Васильевич у магистра города Нарва, выбранного ганзейскими старшинами воеводой супротив московитов.
— Так. Хорошо, — ответил магистр и стал сдирать с себя кованые латы.
Где-то в отдалении, вроде как на Чудском озере, ухнула пушка, за ней вторая, третья. Потом даны там, далеко, заорали: «Горим, горим, пожар!» Потом всё опять смолкло.
— Татары, вестимо, подожгли шхуны горящими стрелами. Эх, три корабля пропало зазря... — Псковский воевода поморщился на водку, но выпил махом.
— Ещё кораблей себе навоюешь. — Иван Третий подтолкнул в бок Николу Кресало.
Выпив чару водки, нарвский магистр резнул серебряным стаканом об стол и начал заваливаться набок.
— Сурпы ему! Живо! — крикнул холопам Иван Третий.
Кто-то из холопов тут же притащил на деревянном подносе татарскую пиалу с жирным наваром от мяса.
— Пей, магистр, пей, облегчение получишь, — уговаривал нарвского магистра Иван Третий.
Магистр хлебнул жирной сурпы да с луком, солью, да с перцем, ему понравилось. Ещё пару раз хлебнул, сел прямо.
От главных ворот Пскова к шатру выдвинулась делегация псковитян. Попереди хоругвей и иконостасных икон главного храма, что с натугой волокли церковники, шли молодые красивые девчата, пели что-то весёлое, сами себе подтанцовывали, а в руках держали огромный каравай хлеба. На каравае горкой блестела кучка соли.
— Вот чего я люблю, так это девчат и свежий хлеб, только вынутый из печи. — Иван Третий встал поперёд всех своих бояр, первым пошёл навстречу псковскому мирному ходу. Отломил кусок хлеба, макнул в соль, прожевал, потом начал целовать девчат.
Они хохотали, пробовали увернуться, смяли колонну церковников. Те забуркотели совсем не церковными словами.
— Всё! Всё! Похристосовались и разошлись! — рыкнул на церковников великий князь Московский. — Шуйский!
Перед великим князем предстал конюший Шуйский, уже с румянцем на щеках и с запахом весёлого зелья.
— Вон ту поляну видишь? — показал пальцем Иван Третий. — Вот, командуй холопам, чтобы туда перевозили всё добро, чем угостить человек пятьсот: псковичей, ганзейцев да наших, конечно, и татар, если похотят. А нас здесь, возле шатра прикрой стрельцами. Говорить будем. Эти... псковские купцы, Проня и Бусыга... они здесь?
— Здесь, великий князь.
— Книгочеи кремлёвские здесь?
— Привезли. Под немалой охраной.
— Ну, давай, Шуйский, распоряжайся. Я своим делом займусь.
За княжьим столом сели ровно, не по лествичному уставу[30], будто не денежный прогал государства сели обсуждать, а весёлое брачное сватовство.
От псковских купеческих старшин пришёл и долго усаживался Семён Бабский. У него из-за громадности тела голос звучал совсем тонко, как у замужней бабы. Так и прилипла к нему городская кличка — Бабский. Только он да великий князь Московский знали, что этой ночью псковская купеческая община передала конюшему московского князя, Мишке Шуйскому, четыре бочки серебра. Шуйский принял под тремя печатями каждую бочку. На двадцать тысяч рублей серебра в русской, арабской и ганзейской монете пряталось в тех бочках. Мишка Шуйский уже проверил — правильное серебро в бочках оказалось...
От ганзейского купечества подал рескрипт[31] на ведение дел сам магистр города Нарвы. Собственно, за этим столом решали дела только великий князь Московский, магистр города Нарвы и Семён Бабский.
— Я, понятное дело, говорю от всей земли Русской, — сказал в застольную тишину Иван Третий. — Завершальное слово стану тоже я говорить последним. После меня даже мышь не пискнет. Споров уже не будет...
Великий князь и договорить не успел, как на гульбанной поляне вдруг завизжали, в разные стороны побежали люди. К шатру великого князя неслись три татарских всадника, орали:
— Ольгерд, князь Литовский! Ольгерд, князь Литовский!
— Вот те, литвин поганый! — выругался Иван Третий. — Неужли нас обошёл своим войском и сейчас нападёт, сволочь?
Три татарина подскакали к самому шатру, кулями свались с седел, пали в ноги Ивана Третьего. Иван Третий сделал мрачное и презрительное лицо. Татарин, что имел знак тысяцкого на шапке и на правом плече, докончил орущий клич:
— Ольгерд, князь Литовский, оставил нам на поживу три сотни своего войска, а сам, один, ушёл о двуконь в Эстляндию! А большие лодки, с пушками, они горят!
Воевода псковский зло сплюнул и погрозил татарскому тысяцкому кулаком. Иван Третий выругался про некоего Бога Зурвана[32] персидским неприличным словом, ведь татарским матом нельзя, потом спросил:
— Сколько я должен татарскому войску, раз Ольгерда не взяли?
— Нет, великий князь, ты не должен ничего. Ведь мы литвин догола пограбили! Только половину мешка серебра дай, а так — ничего!
Конюший боярин Шуйский уже волок на плече полмешка серебряных монет, а Иван Третий протягивал татарскому тысяцкому серебряный штоф с водкой. На штоф татарин замотал головой, поровнее подкинул на плече мешок с деньгами:
— Следующий раз опять нас зови, великий князь. Следующий раз литвин Ольгерд, пся крев, от нас не уйдёт.
— Джаксы! — согласился Иван Третий. — А теперь идите на правый берег Ильмень-озера. Там вставайте улой. Ждите...
Иван Третий не досказал, чего татарам ждать, да тысяцкий ихний, видать, понял, звякнул ещё раз мешком с деньгами и что-то весёлое проорал своим сотникам.
Великий князь сел за стол, уже не обращая внимания на татар:
— Четверть пуда серебра из казны вынул, как выбросил. Тьфу на Ольгерда!.. Мы сели здесь вместе потому, что я не хочу сейчас отбирать торговые и прочие вольности у города Пскова. Но за эту милость я спрошу. И спрошу строго. Вам всем знакомы эти купцы?
Проня Смолянов и Бусыга Колодин встали со скамеек, опустив головы. Семён Бабский буркнул что-то вроде согласия.
— Вот есть у них дело, — продолжал Иван Третий Васильевич. — Да такое, что если они его исполнят, то Псков навечно станет особым городом в Московской державе. А не сделают — не взыщите... Сами видели — татарин полмешка серебра взял и пошёл, даже не попрощался. А если каждый раз так?
— Если каждый раз так, то это не есть хорошо! — согласился магистр города Нарва. Его снова потянуло упасть. Он упал и захрапел.
— Пусть спит, ганза хренова, — поморщился Иван Третий. — Что мы приговорим, то он и подтвердит.
— А что мы ещё приговорим? — протренькал Семён Бабский.
— А что приговорим, то покаместь между нами останется.
— Э-э-э, — протянул Семён Бабский. — Оно бы лучше, чую, мне и не слышать.
— Нет, ты слушай, что тебе говорить станет великий государь всея Руси!
Книжники разом встали со скамьи, отошли к костру. Бусыга толкнул Проню, ухватил за руку, тоже потащил:
— Мы туда сходим, великий государь... за шатёр. Вино... наружу низом просится...
— Башковитые во Пскове купцы... Идите. И делайте там своё дело, пока не кликну.
За столом остались государь, псковский воевода Кресало да Семён Бабский.
— Как обещал, так и будет. Иноземных купцов изгоню, а всю торговлю хмельным зельем возьму под себя...
— Э-э-э, — тонко запротестовал Семён Бабский.
— Возьму под себя! А весь торг станут вести псковские. Надо же вам возвернуть себе те двадцать тысяч рублей... На то грамота моя есть, подпишем сегодня... Теперь вот что. Псков не трону, окромя малой части. Вечевой колокол сымете и мне поднесёте... Да мировальную грамоту подпишете, в коей навечно, под крестное целование, означите, что все псковские земли входят в Московское государство. С моим судом, с моей расправой и с моим воеводой...
— Эк! — поперхнулся Семён Бабский. — Это что же, а? Народ псковский...
— Пошёл бы ты со своим народом! — Никола Кресало грохнул Бабского промеж лопаток. — Государь сказал, и мы ему кланяемся...
Иван Васильевич глянул в синие глаза посеревшего, но мужественного и крепкого воеводы псковитян. Голосом не дрогнул, хоть весточку про судьбу свою воевода услыхал почти смертную.
— Ну, не завтра же вечевой колокол снимать станете, — проговорил великий князь. — А тогда, когда всё к тому сойдётся...
— Чёрный бор... чёрный бор со Пскова нынче брать станешь, великий государь? — спросил воевода псковский.
«Чёрный бор» — внезапный и огромный денежный налог со всех людей, от стариков до младенцев — стал собирать ещё Иван Калита, прадед Ивана Васильевича Третьего. Большие и всегда последние деньги со всего народа, бедного или богатого, шли на покрытие «чёрных дней», то ли войны, то ли морового поветрия, то ли на междоусобойную войну...
— Нынче посмотрим, — ответил Иван Третий псковскому воеводе. — Когда с Новгорода хабар[33] возьму, тогда увижу, брать с вас чёрный бор или не брать.
Воевода дёрнул кадыком, задержал дыхание, услышав от великого князя Московского татарское пограбёжное слово. Конец Господину Великому Новгороду! Лицо воеводы стало краснеть.
Хороший мужик, псковский воевода. И кличут его хорошо — Кресало! Надо ему дать путь. Москве такой воевода всегда сгодится, хоть он и из малых родов будет...
— Мы, великий государь, если нужда... с Новгородом тебе поможем! — твёрдо молвил воевода псковский. — Пушки у нас есть, огненного припаса хватит.
— Поможем, великий государь, — просипел и Семён Бабский. — Поможем всем народом! — дошло до купчины, куда дело гнётся.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Псковская торговая община — и посадник, и старшины работных концов, — все эту особую договорную бумагу за тремя подписями одобрили. Ибо к бумаге прилагался Указ великого князя Московского о продлении ещё на три года «особых торговых и прочих вольностей городу Пскову за честность в делах денежных, пошлинных и даточных».
А главное, в той бумаге ничего не писалось о вечевой вольнице города Пскова и о ненавистном для Москвы вечевом колоколе... Правда, Иван Третий, государь всея Руси, одно пишет, другое на ум кладёт. Чтобы громогласно сказать под яростный рёв пяти тысяч московских ратников да пяти тысяч крещёных татар мырзы Данияра: «Ернамай кара бракши!»[34]
Обошлись сии две бумаги дорого, но давали псковитянам возможность за три года наполнить свои кожаные кошли, да прикопанные на чёрный день горшки. Выгода без сумления от того договора есть. А про тот прибыток, что забренчит от продажи хмельного пития во Пскове, да без участия шведов, данов и ганзейцев, и бумаги молчали и великий князь промолчал.
В стольном граде Данабурге[35] нешутейно спорили насчёт московской бумаги, а магистру города Нарва проломили шелом и на следующий раз отказали в выборах в магистрат. Наконец датский конунг велел прочесть бумагу принародно. Москва всего-навсего просила у данов сто пудов янтаря, который вон, в Балтийском море, всё побережье усыпал, тем янтарём мальчишки в чаек пуляют.
Но окончательный расчёт Москвы задел данов до матросской ругани. За сто пудов простого янтаря да ещё пуд с комарами и мухами внутри — Москва давала пятьсот рублей серебром! Пятьсот рублей! Это всего два новых одномачтовых корабля с командой, по четыре пушки на каждом, да с годовым запасом съестного!
— Пятьсот рублей! — орал председатель собрания. — Это значит, что сама Москва получит от нашего янтаря тысячу! Или аж две тысячи! Москали — хитрые воры! Кто подписал этот продажный договор? Немедля на эшафот подлеца! А Москве встречную грамоту писать — пусть дают нам две тысячи рублей московских за тот янтарь или же шесть тысяч наших талеров!
Председателя собрания, по знаку короля, приставы стащили с кафедры и вытолкали взашей из залы.
Датский конунг, как и прочий парламентский люд, вестимо, знал, что балтийский янтарь есть малый приработок бедных датчанок, готовящих себе приданое. Из сотни найденных на берегу кусочков янтаря девушки собирали бусы и торговали ими на улице, чтобы их не обвинили в сборе милостыни. На один серебряный талер нужно продать добродушным понимающим бюргерам пять таких бус из двадцати кусочков янтарной смолы! Бюргеры несли в дом сомнительной цены бусы и бросали их в камины. Из каминов шёл необычный смоляной аромат, напоминающий штормовое море... Конунг данов один знал, пять сотен рублей серебром данам даётся Москвой только за особую срочность сбора «солнечного камня». На что Москве сей камень — это не датская забота. Янтаря на Балтике много — внукам хватит...
А ещё конунг данов знал, что Иван Московский везде, где можно, занимает нынче деньги. Даже к императору Испании и всей Южной Европы, Максимилиану, посылал своих послов с грамотой о займе денег. Просил золотом триста тысяч дукатов! А император Максимилиан две недели поил московских послов и просил извинения перед великим князем Московским, что денег дать не может. Самому деньги нужны — Англию бить! Вот ежели бы Иван Третий пошёл с испанцами на Англию, тогда оно, конечно... Русский посол предложил так, что до Англии далеко, а русские навалятся на большого друга Англии — турецкого султана Махмуда Белобородого. Испанцы бьют Англию, а русские — его Порту Великолепную! Максимилиан план одобрил, да вот заболел... А у Дании Иван Третий отчего-то в долг не просит. Ясно, воевать он данов хочет. Хочет так взять деньги, без отдачи. Эх, Иван, Иван... дали бы тебе даны серебра, чего там...
Конунг поднялся на своём возвышении. Кто-то стукнул молотком по деревяшке. В наступившую тишину конунг передал своё решение:
— Выбрать сто девушек на выданье, пусть соберут за неделю эти десять пудов янтаря. Кто найдёт кусок смолы с жужелицей внутри, той отдельно платить один талер. А всем за работу — по пять талеров! Исключительно на приданое.
— Грабёж! — заорал кто-то с дальней скамьи.
— С Москвы мы возьмём в пять раз больше. Пятьсот рублей! Всё! Я собрание закрываю, даны!
Получив согласие от данов и от псковитян да псковские договорные деньги, Иван Третий Васильевич тут же засобирался в Крым, повидаться с крымским ханом Менгли-Гиреем. Тот наполовину гонял в себе русскую кровь, но никому в том не признавался. Один Иван Московский знал, кто есть на самом деле крымский хан.
А на татарском посольском дворе уже неделю толклись без дела казанские люди. Малое посольство прислал в Москву казанский хан, тоже являя желание видеть Ивана Третьего.
— Ерен бан гой! — Иван Третий матерился, глядючи, как под его деревянным дворцом гуляют казанские послы. — Кош бол керек! — Ругань означала, что великий московский князь сам выбирает себе дорогу.
Гонцы казанские матерность слушали и улыбались. Ругайся, не ругайся, великий князь, а в Казань всё равно поедешь, хоть спелёнутый ремнями. Татары, они потерпят, ожидаючи князя Московского, ведь на посольском дворе ежедень им резали по три барана и давали вина по полтора ведра. Ислам запрещает пить вино, однако послы теперь на походе, а не в мечети! Ислам разрешает пить вино на походе, ибо вино есть лекарство! Одно только бесило казанских послов — князь Московский велел им сдавать на его двор шкуры баранов, которых татары съедят. Те шкуры старший дьяк самолично считал. И ругался татарским похабным словом, если шкуру приносили порченую, с надрезами.
Следующим утром казанские послы уже истошно орали, требуя выдачи великого князя, но боярин Шуйский тот ор перекричал:
— Ночью забрали нашего князя люди крымские и самоходом погнали в Крым!
— А-а-а! Шайтан урус, джаман москаль баш!
— Девяносто вёрст, поди, уже от Москвы прошли по Крымскому шляху! Догоняйте! — Шуйский рассвирепел.
— Пошто же великий князь так спешно в Крым помчался? — спросил его Бусыга Колодин, подвернувшийся конюшему под руку. — Вроде не тот план имел князь.
— Тебя не спросил, ты обиделся, так? — хищно поджал губы боярин Шуйский, хлопая себя по бокам расстёгнутого по жаре тегиляя[36], ища длинный нож.
— Чего придираешься?! Пошли лучше вина налью. Вино у меня есть кизлярское, ты такого не пил!
Купцам псковским, чтобы не шастали лишний раз по Москве, великий князь выделил для проживания свою конюшенную пристройку, выгнав на лето конюхов жить на сеновал. Будто в защиту псковских купцов от московских лихих людей, а на самом деле — для полного пригляда.
Вымахнув разом оловянную кружку кизлярки — дагестанской чачи, подкрашенной кизиловой ягодой, боярин Шуйский мигом окосел. Тут к боярину и подсунулся Проня Смолянов, неожиданно проснувшийся в душной пристройке:
— Слышь, конюший боярин! А правду бают, что великий князь увёз в Крым наши деньги? Из тех, что собрали псковские люди? Аж четыре тысячи рублей увёз?
Шуйский сморгнул, повернулся к Проне, зло шепнул:
— Ты, варнак! Ты великокняжескую тайну проведал? На кол тебя... — тут он завалился на сено и захрапел.
— Увёз Иван Третий наши денежки в Крым! Взятку увёз Менгли-Гирею! — Проня ухватился за корчагу с кизляркой. — А нас с тобой, Бусыга, теперь заставят те четыре тысячи рублей где хошь там и брать! Или вон, как конюший бормотал — на колья посадят.
— Ты бы спал, а? — Бусыга уронил Проню рядом с храпящим Шуйским. — Без тебя тошно, и в голове тараканы...
Крымский хан Менгли-Гирей дождался середины месяца июня, когда подлый залив Сиваш обмелел и местами высох, и велел гнать свои стада на северный берег Азовского моря. А раз пошли на север стада, пошла туда и крымская конница.
Ногаи да калмыки сначала увидели скот и возрадовались. Их вожделение образумила боевая конница хана. Пришлось ногайским ворам и калмыцким барымтачам[37] отходить к Дону. А оттуда — карамай берши! — двигался на них русский конный отряд. Видать, передовой полк: русские всего одним отрядом не ходят! Да ещё со стягом великого московского князя!
— Алла! Алла! — заорали сотские, и орда ногайцев врезалась в орду калмыков.
Деваться некуда. Зажали кочевников крымчане да русские. Ногайцы стали, конечно, резать саблями калмыков, чтобы первыми кинуться через единственный брод за Дон.
А русские ничего, мирно проехали мимо, на речку Гайчур.
— А-а-а! Хвосты пахарей, собаки! Испугались? — орали из-за Дона ногайцы, обирая убитых калмыков.
Русские, коих оказалась всего-то сотня конников, а не войско, на дальнюю ругань не отвечали и ехали туда, где высоко на шесте колыхался на ветру вымпел ханской ставки...
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
— Нет, погоди, урускан[38] Ибан-кнез, — заволновался Менгли-Гирей. — Ведь тогда выйдет война!
— Война, она всегда была и будет. А так, вот, погляди. — Иван Третий отодвинул с ковра, на котором они сидели, широкую золотую тарелку с мясом нерожавшей кобылицы, расстелил полотняную карту: — Вот. Ты станешь конно подыматься по Волге на север да встанешь в городке Алатыре. А я со своими пешими отрядами подойду прямо под стены Казани с запада, от Тулы и Каширы. Другой мой отряд рванёт по волжскому льду. Да вятичи зайдут с тыла. Капкан получится!
— Зимой мы воевать не можем, — быстро сказал Менгли-Гирей. — Холодно. Коням травы нет.
— А я распоряжусь твоим коням подогнать обозы с ячменной крупой да со ржаными сухарями, а? Подымись по Волге и встань где прошу. Две недели не воюй, а просто постой на виду у города Казани. Пару недель попируешь у костра — и домой...
— А что я за это иметь буду? — совсем свёл глаза в щёлки Менгли-Гирей.
— Ты уже поимел, друг мой и брат. А вот люди твои за холода и прочие напасти мзду поимеют с казанцев.
— Как так, Ибан-кнез? То к Казани ходи, то не ходи! Как так поиметь, только стоя на виду?
— Но ведь при нашей резне казанцы побегут из города!
— Побегут! — тут же согласился Менгли-Гирей. — Ох как побегут!
— Так пусть твои люди их словят.
Крымский хан совсем зажмурил глаза. Скоро он такую добрую весточку доведёт до своих тысяцких, те передадут её мурзам и абызам[39]. Все роды возрадуются! И молитвы за своего хана вознесут!.. А если крепко подумать?
...Они уже половину часа, если не более, как солнце пошло на убыль, спорили о том, надо ли воевать Казань. Каждый понимал, что надо. Но Менгли-Гирей видел себя, если казанцы выстоят, валяющимся в Константинополе на полу перед Великим султаном Махмудом Белобородым. И на шее у него, у Менгли — шёлковый шнурок. Уже затянутый.
А Ибан Базилевс, урус Ак Сар[40], сильно раззадорился: Казань ему отдай и всё тут! Он и деньгами звенел.
— Тут выгода тебе какая, — в третий раз начал толковать Иван Московский. — Казань с моего княжества берёт пятьсот гривен дани ежегодно. Потом добавляет своих пять сотен и везёт тебе уже тысячу гривен. Ты свои динарии добавляешь и везёшь всю дань в Константинополь бусурманам. Серебро везёшь, не медяки! А ежели я стану собирать общую дань с улуса Джучи[41], то буду тебе возить полторы тысячи гривен! Ты пять сотен из тех гривен станешь тихо оставлять себе...
— Откуда деньги возьмёшь? — сразу сделалось волчьим лицо Менгли-Гирея. — Столько серебра в улусе Джучи нет!
— А вот и есть! — Иван Третий наклонился близко к пропахшей коровьей мочой бритой голове хана Менгли. Он коровьей мочой мазал бритую голову, боялся полысеть. — Казань с меня выжимает не полтысячи гривен серебром, а все восемьсот! Но триста себе прячет! А я молчу! Ибо... — Тут Иван Третий отвернулся в сторону заката, смахнул с век то ли слёзы, то ли пылинки. Шмыгнул носом. — Ибо два моих сына — в аманатах у Казани! Я их пять лет не видел! Не показывают мне подлые казанцы моих сыновей! Может, уже и в живых их нет!
Иван Третий Васильевич нагло врал. Младшие, от Софьи, сыновья его жили рядом с Москвой, в прочно укреплённом городе Владыкине. И только раз в год, на Пасху, их показывали казанским баскакам[42].
Иван Третий снова утёр глаза, махнул своему сотнику. Княжеские гридни осторожно поднесли на ковёр две серебряные бадьи, наливом по два русских ведра в каждой. В бадьях плескалось, источая неземной запах, ромейское вино. И на каждой бадье висело по два серебряных же ковша ёмкостью в чару.
— Выпьем давай, чего Бог послал. — Великий князь зачерпнул вина, один ковш подал крымскому хану.
Тот ухватился за ручку ковша и чуть не выронил — тяжёл был серебряный ковш.
— Нонче пьём с серебра, а даст Бог, возьмём Казань, будем пить с золота, — заманивал крымчанина Иван Васильевич.
На литьё серебряных бадей с ковшами великий князь выделил особому кузнецу пять пудов серебра. Кузнец предлагал замесить серебро со свинцом и тем уменьшить расход, да Иван Третий не позволил. С Крымом до обманного дела ещё далеко. Надо его брать простотой и вроде как глупостью. Пусть пока чуют себя ханами.
Выпили ещё по ковшу красного вина. Менгли-Гирей начал сопеть, исходить потом. Опьянел, бедолага. Великий князь тут махнул рукой, подзывая тысяцкого. Тот, тяжело вминая в землю каблуки сафьяновых сапог, поднёс к ковру два льняных мешка, осторожно поставил перед Менгли-Гиреем. В мешках тонко тренькнуло. Серебро!
Стрельцы меж тем подносили и подносили полотняные мешки, что звенели, лаская ханские уши. Там тренькали четыре тысячи рублей из тех, что привезли в Москву псковитяне после мирного московского похода. То есть три тысячи шестьсот гривен. А на одну гривну на Москве можно купить шесть дойных коров! Холмогорских, вельми удоистых. Естива мерена!
— Вот это серебро я бы десять лет по каждой осени отдавал бы казанцам. Но ты, Менгли, его бы не получил. Прячет себе Казань часть моих датошных денег. А они — вота! Вот сколько за десять лет спрятали бы от тебя казанцы клятые!
Менгли-Гирей раскрыл один мешок, сунул туда руку, вытащил горсть чешских талеров. Из второго мешка вынул тоже горсть монет, но с клеймом ганзейского союза — рейхсмарки.
— Тута в каждом мешке по двести рублей. Всего, значит, двадцать мешков дарую тебе. Да бадьи изумительной работы. С ковшами! — завертел в четвёртый раз разговор Иван Третий.
— Рублей? Ты же говорил, что гривен! Гривна тяжелее рубля!
— А ноне что на рубль, что на гривну, одинаково товару укупишь! — защищался Иван Третий. — Или ты, Менгли, только жидам веришь? Только они деньги вешают на весах! Так ведь почему вешают? Чекан у денег дурной! Один талер весит на золотник тяжельче другого. А другой — легче. Жиды на разнице чекана и творят воровство!
— Мы не жиды!
— Верно. Сыпь деньги назад. С тобой мы не сошлись, пора мне катить обратно, на Русь... Эй, охрана! Заберите деньги!
— Э-э-э! Князь Ибан! А пошто деньги берёшь назад?
— Отдам казанцам. А тебе их вёз, чтобы доказать, сколько денег ты бы поимел ежегодно, если бы договорился с великим султаном, что вместо Казани станет дань Москва собирать... Ну, хочешь, возьми с каждого мешка по одной монете. Потом, когда казанцы тебе дань для султана привезут, сравнишь. Увидишь, о чём я тебе в очи твои толковал беспутно половину дня!
Менгли-Гирей потянул все мешки к себе. Но как ухватишь такую гору серебра двумя руками? Заверещал:
— До великого султана пока доползёшь, много рублей надо отдать визирям да ещё и жёнам султанским!
Иван Третий тянул мешки к себе:
— Аманатов, сынков моих, убьют, если явлюсь назад без денег!
Менгли-Гирей махнул своим людям:
— Шкуру сайгака и писца сюда!
И ведь написал, хан крымский! Написал казанскому хану, своему родственнику, что получил от великого князя Московского четыре тысячи рублей в зачёт дани, ибо четвёртая жена великого султана вот-вот родит и надо ей преподнести значительный подарок. Почти на три года тем письмом хан лишал Казань московского серебра! Хорошо подавать вино в серебряных бадьях!
Четвёртая, и весьма любимая, жена великого султана, об этом ещё позавчера узнал крымский хан, неделю назад скинула плод. Но плод был! И где тут подлая ложь?
— Так, хорошо, — разулыбался Иван Третий на арабские красные знаки письмовника. — А когда же казанцев пойдём бить?
— Только не этой зимой! — испугался Менгли-Гирей. — Через год и пойдём. Ага?
— Нет, — не согласился Иван Третий. — Я же тебе который раз толкую! Если нонешной зимой пойдём, то всё имущество тех казанцев, которые побегут, твоё! А уж там серебра! Не мерено, поверь мне! Ещё от хана Батыя осталось! Но русских купцов и русских рабов ты смотри не трогай!
— А они тоже побегут?
— Ко мне же побегут, обалдуй!
— Не ругайся, Ибан-кнез. Мне и моим родам твоё дело выгодно.
— Вот спасибо тебе, великий хан, спасибо и я уже поехал... — Иван Васильевич поднялся с кошмы, потопал ногами (попробуй посидеть, загнувши колени в стороны).
— Э! Э-э-э! А две таких бадьи с тем же вином? И с ковшами? — уточнил крымский хан. — Будешь мне возить?
— Ну, бадьи с вином — это не дань. Это мой тебе подарок. Будут тебе подарки, хан Менгли! Друзья ведь отдариваются, нет? Ведь ты мне — тамыр?
— Да, так. Тамыр я тебе, — прошелестел хан. — Пять косяков коней тебя завтра догонят на дороге. Мой подарок. Тебе он люб?
— Любо мне десять конских косяков, — ответил Иван Васильевич, сходя с ковра.
А сам мысленно бил себя по лысой голове за те словеса. Кони — это хорошо. На Москве коней мало. А вот где мешки взять, полные серебряной монетой? А где на огромные серебряные бадьи серебро искать? Если псковские купцы сходят мимо Индии али сгинут, тогда что? Одно тогда останется дело — нежеланное, не ко времени, но по деньгам верное: Новгород!
Иван Третий свистнул. Его люди отошли от костров к своим лошадям, некоторые качались. Опились бузы крымской[43], не утерпели!
Когда русский отряд перевалил за бугор и спустился в низину реки Дон, Менгли-Гирей велел сотнику своей личной охраны скакать к ногаям. Отбитых у калмыков коней ногайцы продадут за серебро мигом. Две тысячи кобылиц погонит завтра Менгли-Гирей на зелёные луга Бахчи-Сарая. Две тысячи кобылиц всего-то за двести серебряных рублей! Лошади станут давать молоко, а бабы утолокают молоко в кумыс. Эх, кумыс, вечная пьяность в голове! И всего-то за двести рублей московским серебром!
А пять сотен самых негожих кобылиц, малодойных, его пастухи отгонят завтра к посольскому каравану московского князя. Московиты кумыс не пьют. Им какая разница, что за лошади?
Застучали у белой юрты копыта крепкого коня. Менгли-Гирей поднял глаза. Перед ним крутился на большом княжьем битюге здоровенный монах — книгочей из свиты великого князя Московского. Монах нагнулся с седла к воняющей мочой голове крымского хана:
— Великий князь Московский, две просьбы забыл тебе передать, великий хан...
— Говори! — пьяно махнул рукой крымчанин.
— Ежели услышишь, что у нас на севере скоро маленькая война почнётся, так чтобы не лез в наши пределы. А лез бы ты через Киев в пределы литвинские. Там будет пусто. Войска литвинские побегут противу нас стоять на севере у Великого Новгорода. Маленько разживёшься грабежом литвинских городов.
— Джаксы. Вторую просьбу говори...
— И, ел емень тар бек![44] Вели, чтобы нам дали кобылиц молодых, справных, удоистых, а не бабушкины слёзы! Не то московский государь обиду на тебя поимеет... Гойда! — и тяжёлый битюг тяжело пошёл в намёт, догонять своих.
— Опять обворовал меня Иван... — прошептал в сияющий бок серебряного ведра Менгли-Гирей. Там виднелась его кривая пьяная рожа. — Отдать придётся Ибану Базилевсу пятьсот хороших кобылиц...
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
— Ногаи донесли мне, что был ты, Ивашка Московский, у моего брата, у крымского хана. Зачем ездил? Меня дразнишь, да? — Казанский хан сидел на своём троне, увезённом из города Бухары ещё внуком Чингисхана, самим Бату-ханом, почти двести лет назад.
Перед троном стоял Иван Третий, великий князь Московский. А попробуй не стоять перед древним персидским троном! На нём ещё цари русов сидели, когда держали под собой Персию и Византию! А этот, который сидит сейчас там, наверху, и бормочет по-своему, он кто? Так, грелка для великого трона...
— Мен сен баламыс ба, айналайн... Казани Коган[45].
— Ты, Ивашка Московский, говори по-русски! Иначе мой толмач зря деньги станет получать.
— А чего тут говорить? Вот. — Иван Третий рассупонил польский кунтуш[46], достал свёрнутую шкуру сайгака с арабскими письменами и сунул назад себя, зная, что ханский толмач там.
Толмач живо и вслух прочёл грамоту крымского хана. Особливо выделил голосом, что четвёртая, любимая, жена Великого султана вот-вот родит и нужно ей делать подарок.
Услышав про роды султанской жены, казанский хан, родом сам от внука бухарского эмира и кыргизской бабы, соскочил с трона и пробежал вокруг Ивана Третьего:
— Мне, вперёд Крыма, почему не дал знать о такой счастливой вести?
— Ну, потому, что ты бы на Москву навалился, стал денег требовать на подарок мимо дани.
— Собачий хвост!
Иван Третий, великий князь Московский, переступил с ноги на ногу. Они, татары, от малого умишка думают, что это очень обидно, когда тебя называют «Хвост собаки». А это просто весёлая подначка арабов, дразнящих тех, кто пашет землю в одиночку. Собака всегда бежит впереди своего хозяина, виляя хвостом. Ибо понятно, что впереди может выскочить волк или, не приведи бог, татарин. Тогда верный сторож гавкнет, а пахарь тут же достанет топор или боевой лук.
Казанский хан вдруг остановил свой бег вокруг Ивана Третьего:
— А почему на колени не встал? Башку сейчас рубить тебе буду!
— Руби. Тогда не узнаешь, почему тебе не надо тратить деньги на подарок, великому султану. Менгли-Гирей потратит, а ты сохранишь.
— Почему это я не стану тратить деньги на подарок великому султану?
— Выкинула плод султанская жена... Праздника в Константинополе не случится.
— Радуешься, да? Ивашка ты московский! Радуешься, что не прирастают Магомедовы силы людями?
— Бабы — не люди, — скучно ответил Иван Третий. — Бабы они инструмент человека. Так и в Коране написано. И в Библиях.
— А? — Казанский хан толкнул своего толмача.
— Джарайт балкала! — тут же подтвердил толмач, зная наверняка, что хан евонный ни Корана, ни Библии не читал. — Правильно тебе говорит Иван Третий, московский князь.
— Езжай тогда домой, Ивашка московский. Там мои люди тебя ждут. Им денег дай. Они знают сколько.
— А нет денег на Москве. — Иван Третий уже дошёл до двери. — Все деньги у крымского хана. Ты сам слышал бумагу, сие подтверждающую. К зиме дань соберём да тебе принесём, тогда наши деньги сочтёшь. А пока нищие мы, хвосты собаки. — Иван Третий толкнул двери так, что обе высоченные половинки с грохотом резнулись об стены дворца.
Жди зиму! Уже из бараньих шкур, собранных великим князем, пошито три тысячи тёплых шубеек да три тысячи шапок, да в сапоги шерстяные укладки. Жди зимы, Казань-город...
Вечером, через день после возвращения Ивана Третьего из долгого и тяготного пути, за Бусыгой Колодиным и за Проней пришёл сам княжий конюший.
— Пошли. Зовёт.
Шуйский держал на псковских купцов справедливую обиду. Он просил у них ведро кизлярки, а получил лишь баклажку глиняную на треть ведра. Остальное было на всякий случай подальше припрятано. Боярин это чуял, оттого и злился.
В сумерках княжей палаты сидели окромя князя Ивана Васильевича Третьего те три монаха — не монаха, но трое крепких книгочеев в монашеских одеяниях. Проня Смолянов никак не верил, что у монахов могут быть такие кулаки, будто пудовые гири. И руки у них, от плечей до локтей, что конские ляжки. Такой рукой можно мечом полдня махать и не устать. Проня монахов побаивался, в глаза им не глядел.
Стол для пиров сиротливо стоял у самой стены.
— С завтрашнего утра, псковские, вы никуда гулять не выйдете. Вот вам три учителя и месяц сроку. Чтобы знали всё, что учителя вам накажут! Да так знали, чтобы из уст отлетало... Вчерась был у меня гонец от тверского князя. Так тот чуть ли не в приказ велит мне вернуть ему либо тетрадь Афанасия Никитина, либо десять гривен, что тот Афанасий занял под своё имя у него. Да с жидовским привеском в двенадцать гривен! Чего мне делать? С вас взять двадцать две гривны? С сирых неучей?
— Мы отдадим ему, тверскому, великий княже, сами отдадим, — заполошился Проня. — Вот сходим в Индии и отдадим.
— Ладно. Тогда ты, Шуйский, раз купчины в отдаче денег добровольны, когда будешь к имям в конюший двор ходить, сабельку-то сымай с пояса. Но! Без плётки всё же не ходи!
— Не буду ходить без плётки, — заулыбался боярин Шуйский.
Великий князь вдруг замолчал, вроде и дышать перестал. Подпёр голову левой рукой, да так и застыл. Пригорюнился. Бусыга Колодин с удивлением заметил, что точно так же сидит и шурин его, Проня. Всегда дразнит великого князя, дубина стоеросовая! Мало того, Проня вдруг решился потревожить думу великого князя:
— О чём горюешь, великий князь, Иван Васильевич? Может, тебе помочь надобно? Так мы... это...
— Печалуюсь я от того, купчины псковские, что сидят у меня на посольском дворе да за крепкой оградой литвинские послы. Приехали дочь мою, Елену Ивановну, единственную мою отраду, просить замуж за круля литвинского, Александра... И к тому моя думушка клонится, что дочь свою единственную, я за того круля литвинского отдам! Потому что иной возможности задрать Литву да Польшу у меня нет.
— Ка-ак «задрать»? — изумился Проня Смолянов.
— Как медведь задирает. Обычно. — Великий князь поднял голову. В глазах блестели такие искры, что ими можно было запал у ружья подпалить.
Проня Смолянов сообразил свою оплошность, тут же бухнулся со скамьи в ноги московского государя. Иван Третий незлобно пнул Проню, велел сесть на место.
— Шуйский! Ты там крикни, пусть гридни стол накроют. Посумерничаем и спать пойдём. — Великий князь вдруг поднялся со стула. — А чтобы вам, купцы, жилось веселее, так я вам свою тайну открою! Встречу имел я с крымским ханом...
— Чтобы крымский хан за Афанасия Никитина эмира Трабзона наказал? — осведомился совсем оживший Проня Смолянов.
— Да нет, — глаза у великого князя странно, по-волчьи сверкнули. — Помнишь, там, у Пскова, бражничали, когда войну отменили? Запродал я ваши жизни и весь ваш город Псков крымскому хану. Ежели через два лета вы, купцы дорогие, не вернётесь из Индий да с дорогим товаром или с золотом, то оно вот как станется: Псков навечно сядет под крымского баскака.
С вашими родителями, жёнами и детьми. С соседями, друзьями и недругами. Хе-хе!
Гридни стали стучать по столу деревянными тарелями, кто-то принёс сальные свечи, зажёг. Но светлее не стало. Вроде даже и потемнело... Ибо врать Иван Третий Васильевич умел очень убедительно. Оттого и смог за время своего володения прирезать к Руси ещё столько земель, сколько у ней было, когда он народился. Русский был князь, он всё резал без особых слов. И земли, и людей.
Шуйского, который всё посмеивался в бороду, шепнули вдруг от двери. Он подошёл туда, что-то послушал. Весело выругался. Сел за стол, глянул на Ивана Васильевича, на поникших псковских купцов, проорал стольному гридню:
— А ты всё же нам выпить подай. Повод нашёлся!
— Ась? — повернулся к конюшему великий князь.
— Литвинские послы пошли на попятный ход. Иосиф Волоцкий в полдень приехал, им души тут же загнул — через плечо до задницы.
— Побольше несите выпить, эй там! — крикнул гридням Иван Васильевич.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Три недели, что послы литвинские сидели в посольской усадьбе за крепким забором, с ними говорил только боярин Данило Щеня.
Сначала ругались о пограничных спорах: кто кого зарезал да за что. Резались на границе Руси и Литвы только бродячие шайки, да купцы, защищавшие свой товар. Про то Москва ещё с покойным королём Казимиром решила, что каждый своих резальщиков выдаёт другому. Десять раз так приговаривали на сходах, но на границе порядка так и не имелось. Ну, вот, нынче порешили, что пусть государи сами казнят своих воров.
— А как же нам быть с верой вашей принцессы? — на последнем сходе послов взял слово примас католиков Литвы и Польши. — Она, по древнему магдебургскому праву, должна принять нашу святую католическую веру! Жена короля не имеет права быть иноверицей!
Этот был тот подлый вопрос, собственно, из-за которого литвинские послы и сидели на Москве. Его в грамотах не прописывали, поелику прописать такой пункт брачного договора значило тут же поставить вопрос ребром: «Кто кого станет бить и воевать? И в той войне изначально кто будет прав?»
Данило Щеня, боярин, уже три раза бывший в большом полку третьим воеводой, а после этого спора с послами, ясно понимающий, что быть ему теперь уже вторым воеводой, а чуть подалее и первым, если великому князю угодит, тут, после этого вопроса, засопел. Потому как вопрос этот сам великий князь Иван Васильевич уже решил. И решил зверски православный храм на литвинщине ставить для его дочери! Нет храма — нет и невесты у короля Александра!
А ежели Елене не быть невестой и женой, тогда вертать назад королю Александру жидовский займ, сотворённый под честное слово папы римского. Десять тысяч золотых венгерских дукатов занял молодой король Александр у жидов, исключительно на войну с московитами и не извещая об этом сейм. А победит король Александр Москву да пограбит, тогда будет чем отдавать долг. Другого способа крупно и как бы честно задрать Москву у него нет. Жениться надо на православной невесте. За веру потом и задираться... Правда, жиды-кредиторы выставили ещё условие королю, что свои синагоги на Московии поставят за свой счёт. Да пусть хоть в каждой деревне ставят за свой счёт. И шинок, и синагогу. Королю Александру эту жидовскую затею брать в раздумье невместно. Он светский владыка. Религия же бродит во тьме среди чёрного пахотного люда — пусть её...
Ответ насчёт веры королевской невесты должен был давать литвинским послам Гавриил, настоятель Волоцкого монастыря. Его со дня на день ждали с приездом. Чего это вдруг вывалил Даниле главный переговорный вопрос этот чумной и тощий католический поп?
Данило Щеня посмотрел на молчащего литвинского посла Станислава Нарбутовича:
— Начали нас задирать, что ли?
— Этот вопрос — дело сакральное, не в моей компетенции, — быстро ответил Нарбутович, щеголяя латинскими словами. — Твоего ответа, видишь, ждёт примас католикос. Не я.
Великий князь запретил Даниле касаться церковных сущностей, могущих возникнуть в разговоре. Но тут вопрос поставили так, что личного посыльника великого князя, а значит, и его самого, государя всея Руси, обидели. Потому Данило Щеня резко развернулся в сторону папского посланника и ответил:
— Сначала, примас католикус, она дочь великого государя нашего, а потом уже, во вторую очередь, после свадебки, жена вашего короля.
Дьяки, сидевшие за спиной Данило Щени, ухмыльнулись в бороды и застрочили на листах ответ молодого боярина...
Что дьяки зачали ухмыляться на совсем не посольские слова выскочки Данило Щени, увидал через тайную щель в соседней комнате боярин Иван Юрьевич Патрикеев, воевода большого полка и второй по силе влияния на Москве человек после великого князя.
Ворочать большим передовым полком означало ого-го какой вес! Вот двадцать лет назад воевода Семён Бельский, которого теперь кличут Иудой, в резне при городке Корчеве взял да и повернул большой полк боком. Литвины это знали и ударили по русским и в лоб, и в тыл. Много русских тогда полегло, а много и полонено было. А Иуда после той резни очутился в Литве, при дворе короля Казимира и при жирном кормлении на дарёных ему русских городах и вежах...
Теперь вот большой полк повелением великого князя так и остался стоять между Псковом и Великим Новгородом. Сторожевые полки левой и правой руки развели широко в стороны. Полк левой руки неожиданно ушёл к самой литвинской границе, аж под городок Себеж, а полк правой руки встал у Старой Русы. Что значило для новгородцев оборону, а не нападение. Но вот зачем засадный полк великий князь погнал встать не на позадках, как обычно, а поперёд большого полка, в двух переходах от Великого Новгорода? Зачем на Ильмень-озеро ушли сибирские татары?
В Переговорной палате опять густо заговорили. Литвины расшумелись так, что стали стучать сапогами.
Иван Юрьевич Патрикеев припал глазом к смотровой щели секретного чулана. Пусть постучат. Договор у него с литвинами был тайный, что если станут стучать сапогами об пол, то он немедля появится в переговорной палате, помогать литвинам... Подождут. Не свадьбу справляют...
Чего это его тревожило посейчас? А! Засадный полк великий князь велел отвести почти к самому Великому Новгороду.
Вот сие есть загадка. Расположение засадного полка подскажет новгородцам, что великий князь, их... прикрывает! От кого прикрывает? Получается, что прикрывает от... Москвы?!
А командует нынче засадным полком вон тот малородный выскочка, Данило Щеня! А ведь этого выскочку надо бы прикончить, ась?
Об этом позавчера ещё думали пять высокородных бояр во главе с ним, с Иваном Юрьевичем Патрикеевым, укрывшись в монастыре на Тихвинке, у Зосимы — митрополита Московского и всех земель. Он, Патрикеев, да великие бояре Ряполовский, Стрешнев, Бельский — сын Иуды, Собакин, да Михайло Воротынский — вот кто правил Русью! А не «Божьей милостью государь всея Руси».
— Пора бы начать надвижение новых уставов на Москву, — темно сказал тогда боярин Ряполовский. — Пора ведь? И Марфа-посадница того ждёт, и силы, за ней стоящие... Их бесить не надо.
— Митрополит Зосима должен прийти, он скажет, — так же смутно ответил воевода Собакин и поморщился. У него вдруг стали открываться старые раны на спине, он их двадцать лет назад получил, когда бежал от стен Казани. Собакин положил нынче тайком большой вклад в Тихвинский монастырь и по весне будет в него перебираться с полным постригом, на покой.
— Не надо бы поспешать, — с одышкой выдал свою мысль боярин Стрешнев. — Своего мы добились. Дмитрий, сын Ленки, молдаванской сучки, уже ходит в великих князьях и громогласится на площадях тоже как «государь всея Руси»... На той стороне просят нас пока руками не рыпать и копытами не бить... — Стрешнев имел способность говорить с насмешкой.
— Меня, бояре... — вдруг совсем строго, как командовал, произнёс тогда Иван Юрьевич Патрикеев, — весьма заботит, что на половине Руси уже звучит по храмам и монастырям иная молитва, заместо «Отче наш». Там изменен уже канон моления и Великий пост не блюдётся в полную силу. Так только, словесами постятся. И порядок церковных праздников изменен. А государю нашему — хоть бы хучь! Ведь о том ему доклады, поди, несут, тот же игумен Волоцкий целую тетрадь бумаги извёл противу нововеры. А...
— Погоди, — перебил его Бельский-сын. — Тут я вот что скажу. Иван-князь назвал это тихое изменение в уставах «ересью жидовствующей» и велел ту ересь остановить. Но как остановишь то, что народом приемлется? Иван-князь, видать, понял, что если пошёл один раз у нас на поводу, огласил наследником своего внука Дмитрия, то далее ему сопротивления иметь не следует. Даже в поправке в вероисповедании... Сомнут.
— Да не сомнут, — выдохнул боярин Стрешнев. — Отравят или убьют.
— Что ж, Иван-князь неделю назад об том говорил, — вскинулся тут старик Ряполовский. — На сороковинах по сыну высказал мне душевную правду. О князе Иване Лукомском да о Матвее Поляке, толмаче литвинском, говорил...
Сидящие тогда как-то осели плечами. А он, Иван Юрьевич Патрикеев, вдруг почуял, как онемели почки, а потом погорячели, и из них вот-вот прыснет через уд моча.
Князь Иван Лукомский, перебежчик в Литву, да литвинский толмач Матвей Поляк два года тому назад, по заказу ещё живого польского короля Казимира, добровольно согласились отравить Ивана Третьего. Их тогда поймали, пытали русским обычаем и казнили площадно и страшно. А по уговорённой затее, после отравления великого князя Московского, на престол сел бы его младший брат, Юрий Васильевич. Ну, тот сердцем слаб, душою неширок — посидел бы на престоле до семилетия юного Дмитрия, сына Ленки-молдаванки и... тоже бы помре. А Софью, вторую жену Ивана, подлую толстуху византийского рода, да ребенков её, сгноили бы в дальнем монастыре... Впрочем, Иван-князь и сам сообразил упечь Софью в монастырь.
Надо бы кончать напрочь с этим великим князем, с Иваном Третьим. Много на себя власти берёт... Эх, отравили бы его тогда! Хороша была задумка, да у недоумка.
— Говори быстрее, чего тебе сказал князь Иван?! — крикнул тогда Патрикеев на боярина Стрешнева.
— Сказал мне великий князь Московский Иван Васильевич, что знает, когда умрёт и как.
Иван Юрьевич Патрикеев на те слова плюнул, выругался матерно и поспешил вон из кельи, в нужной чулан. А в дверях столкнулся с митрополитом Зосимой. Зосима имел лик бледный, прошипел только:
— Гонец к нам, тайный, из Новгорода. В монастырях Новгородской земли велено великим князем Московским вести перепись насельников. Поимённую...
Боярин Стрешнев, услышав такую весть, хохотнул:
— Иван-князь погодно ведёт такую перепись. По всей земле. Ловит, кто скрывается от подушной подати да от воинского служения. Чего тут опасного?
— То тут опасное, что Господин Великий Новгород, со времён Батыевой переписи при Александре Невском, не давал разрешения вносить в список монахов! — Зосима вытер лоб большим рушником, по концам которого вязаны были кружевной работой четырёхконечные кресты.
— Времена нонче не Батыевы! Много хуже! — откликнулся на то боярин Стрешнев.
— Это точно! — Патрикеев вернулся из нужного чулана. — Нонче времена совсем самодержавные. Гибельные!
Ивана Юрьевича Патрикеева за последнее время совсем избесили его сотоварищи по великому заговору противу Ивана-князя. Только и знают, что в словах увёртываться! А ведь когда надумали ломать власть на Москве и в её пределах, все говорили ладно и прямо.
Ясно, как божий день, куда вёл своё володение Иван-князь. В свою единоличную сторону. С боярами перестал совет держать, второй раз женился на иноземной принцессе, хоть и с православным уклоном веры. Послов засылает не по обычаю. Вон недавно послал аж к императору Максимилиану. Испания, она за тридевять земель, да за тридесять рек. Воевать её, что ли? Царём всея Руси хотел себя повенчать, под невиданную со времён династии Сасанидов имперскую корону Ас Сур Бани Баалов! И ведь повенчал! Сам себя повенчал на царство! В Успенском соборе, гад этакий. Великие бояре на то венчание не пошли всем кланом! И отписали окружным иноземным государям, что того венчания не приемлют дабы иноземцы его тоже не принимали. Так почто же нынче великие бояре и митрополит трусят?
— Во исполнение нашей веры и обычаев, — заговорил Патрикеев и тут же поймал себя на мысли о том, что и сам говорит обиняками. — Не надо бы суетно... — Иван Юрьевич вдруг замолчал.
Сидящие перед ним начальные головы древних боярских родов прекрасно знали, что после падения Ивана-князя и обретения нововерия на Руси боярин Патрикеев станет как бы первым среди равных. Но с руками коротенькими, не как у великого князя Московского. И под приглядом Сейма или выборной Думы (или как там назовут то собрание горлопанов, желающих и себе оторвать хоть кусок власти). Примеры Польши и Литвинской земли ясно говорили, что сейм или рада либо боярский совет не дают государству силы. Сто человек — стосилие — это как стобожие: не знаешь кому молиться. И почнёшь воровать. Плакать за Русь, но воровать...
— Не знаешь что сказать, — озлился митрополит Зосима, — так и не говори! Я скажу. — Он поднялся, стукнул посохом об каменный пол. — А скажу я правду. Попомните ещё меня. Эта перепись, затеянная Иваном-князем, нас до добра не доведёт. А вот Ивана-князя — того доведёт. До добра, какое ему похочется. Так мне ещё месяц назад сказала Марфа-посадница! А её глас вельми многозначен и мудр... Велеть церковное вино принести или без благословления от меня поедете?
После упоминания Марфы в келье стало вдруг душно. Баба эта, вдова казнённого новгородского посадника, затеяла сей заговор противу власти Москвы, взяв у жидов европейских немалые деньги. На них она сейчас мёд-пиво пьёт, сынов своих в бояры вывела и личную стражу в тысячу мечников держит. А вот их, бояр русских, в темень заговора заволокла. Заманила хитрая баба великих бояр деньгами воровскими, жидовскими! И те деньги они, великие бояре, получили уже наперёд. От жадности или по скудоумию. Э-э-э-эх!
Бояре встали, тишком пошли из кельи наружу, на воздух.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Иван Юрьевич шумно выдохнул воздух от воспоминаний. Опять глянул в смотровую щель. Там уже улыбались, даже как бы и веселились.
Говорил боярин Данило Щеня:
— Эти татары, громодяне и послы добрые, хорошо умеют писать одно, а иметь в смысле совсем иное. Поэтому вы уж подыщите себе другого толмача, чтобы татарскую письмовную грамоту правильно чел.
Иван Юрьевич просто ошалел от того, с какой резвостью этот щенок Данило провей вокруг пальца всё литвинское посольство. Ладно бы одного папского шпиона и примаса литвинских католиков! Но как поддался на тот явный обман такой старый лис, как Станислав Нарбутович? Нет, пора выходить в посольскую горницу.
Иван Юрьевич тяжко вздохнул, поднялся со скамьи, тихо отворил неприметную дверь в сени посольского терема... Тут во дворе грохнуло. Заорала стража.
Орала она не от испуга, а от радости. Здоровенный, красномордый стражник, выкормленный на чистом коровьем масле в Замоскворечье да на ячменном хлебе тонкого помола, прокричал по всему терему:
— Игумен Волоцкий прибыл! Аллилуйя!
Высокий, лицом сияющий, с бородой чёрной, без седины, хотя и в годах уже был, в переговорную горницу легко вступил настоятель Волоколамского монастыря Иосиф, мирским именем Громобой. Сиречь — Гавриил.
Данило Щеня с восторгом подскочил к руке Иосифа Волоцкого, истово приложился. От руки пахло огуречным рассолом и мёдом. Два дьяка, что сопровождали молодого воеводу, тоже подошли под благословление.
Литвины остались сидеть. Примас католикос один только встрепенулся, высоко поднял крест католический о четырёх концах, перекрестил вошедшего тем крестом. Как бы отгонял от себя злого духа.
— Ну, сидящие друг против друга, что мне скажете? — осведомился Иосиф Волоцкий, легко усаживаясь на подставленную ему дьяками широкую скамью. — Поди, духовный вопрос требуется разрешить?
Данило Щеня махом понял, что сейчас ему надо выступить, и выступить с напрягом.
— Не моего умишка дело, святой отче, но вот этот, который подлым крестом махал на тебя, он спрашивал, пошто дочь великого государя до сих пор не перекрестили в литвинскую веру? — Данило Щеня указал рукой в сторону засуетившегося примаса. — Да так грозно вопросил, что я... чуть было ему не ответил вековечными русскими словесами. Так что грешен я, святой отче, и прошу у тебя посейчастной исповеди и примерного мне наказания... — Данило Щеня понимал, что Иосиф Волоцкий от дорог северских устал, но кое-что надо бы ему узнать прежде, чем начнёт он сшибку с наглым примасом католикусом.
— Во благовременье приму твою исповедь, боярин Щеня, — густо сжимая слова, произнёс Иосиф Волоцкий. В нём сразу почудилась жуткая сила. — А сейчас давайте вопрос мне! Или мне воеводе верить?
— Мне верить! Мне! — вскочил со скамьи примас объединённой польско-литвинской церкви. — И вопрос один: когда Елена Ивановна, принцесс московит, невеста круля Александра, примет у меня перекрещение? Иначе нельзя её везти нашему крулю под венец! Это моё последнее слово!
— Последнее слово, прелат, говорят у края могилы. Тому, кто в неё лёг. Ты что, уже лёг?
Иван Юрьевич Патрикеев, сидевший у дверей, и на глазах русских дьяков и литвинских послов так и не подошедший под благословление к игумену Волоцкому, тяжело встал и вышел их горницы. Слышно было, как он орёт на своих гридней, давно привёзших с воеводина поварского двора съестной посылок литвинам:
— Чего раззявились? Обедать пора!
— Святой отец Волоцкий не велел! — шумнули ему в ответ гридни.
Примас католикус грозно глянул в сторону тучного Станислава Нарбутовича, готового жрать каждый час, опять повернулся к русскому попу и с нажимом сказал:
— Перекрестить невесту будем!
— Не будешь, — ответил игумен Волоцкий. — Святая Русь не твоя вотчина! Елена Ивановна станет жить с мужем, будучи в православной, истинной вере. И ей, на её подворье, мы сами, своей силой и своей денежной казной поставим храм.
Примас взвизгнул:
— Папа римский Александр Шестой, наместник Бога на Земле, запретил в наших странах ставить новые православные храмы! Твой князь Московский тоже запретил ставить католические храмы на земле Псковской и на земле Новгородской.
— Да срал я на твоего папу! — тихо и величаво ответствовал ему Громобой, от сохи ставший игуменом большого и весьма почитаемого монастыря. И бывший тайным духовником московского князя Ивана Васильевича. — Мой великий государь, по древним грамотам и летописям, есть володетель половины ваших земель. — В голосе игумена Волоцкого чуялось торжество; примас католиков, видать, попал на подготовленное ловное место. А папа католиков даже Римом не владеет... Так — куском земли с наш огород величиной. Какой же это володетель? У кого вся земля, тот и володетель.
— Папа римский есть наместник Бога на Земле, — вдруг завизжал примас. — А Бог владеет всей Землёй!
— У каждого свой Бог. — Игумен Волоцкий сделал тягучую паузу. — Но Бог, он на Землю не претендует. Души свои мы ему доверяем, а не Землю.
— Пусть Елена Ивановна перекрестится в нашу веру, — шевельнулся Станислав Нарбутович, отмахиваясь от суетливого примаса. — Король Александр на этом настаивает, и польская рада настаивает и литвинский сейм. Неладно станет, если муж и жена в одной постели спят, а в разных храмах молятся.
Вот и попались! Игумен Волоцкий достал из широкого рукава своей добротной рясы большой кусок отлично выделанной кожи. Кожа древняя — сразу видать. Прочитал с выражением:
— «...Думаете ли вы, что я пришёл дать мир Земле? Нет, говорю вам, не мир, но разделение; Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться: трое против двух и двое против трёх; Отец будет против сына и сын против отца; мать против дочери и дочь против матери; свекровь против невестки и невестка против свекрови своей...»?[47] — Игумен свернул кожу, глянул волчьим глазом на примаса католиков. — Откуда я чел сии благие слова?
Примас побледнел. Повернулся за подмогой к своим, посольским. Те глядели в пол. Иосиф лукаво сморщил губы:
— Неужели не памятно вам сие Евангелие? И тебе, примас? Так, согласно письменам апостола Луки, проповедовал Иисус, рождённый от Девы Марии, почитаемой вами, католики. Мысль его о разделении вы поняли? Принимаете её? От Иисуса Христа, который имеет имя ещё наше, тайное, православное — Галаад, принимаете ли? Словеса праведные? Принимаете или нет, в Господа Бога вас...
— Вас спрашивают! — проревел Данило Щеня, гася явную ругань игумена.
Примас католикус заверещал нечто латинское. Станислав Нарбутович дёрнул его за полу сутаны, да так сильно, что примас очутился на полу, перекинувшись через лавку. Станислав Нарбутович встал:
— Закрываем посольство. Княжна Московская, Елена Ивановна, невеста короля литвинского, станет пребывать в городе Боровичи, данном ей на кормление нашим сеймом. Там, у себя в замке, пусть ставит домашний православный храм. А там...
Данило Щеня от радости заржал, как конь стоялый. Эх, молод ещё посольство творить, торопится... Смеясь, Данило тут же подтвердил:
— Посольство закрываем. Государь всея Руси Иван Васильевич, великий князь Московский, титлом Третий, велел по закрытию посольства немешкотно провести обрядовое венчание в Успенском соборе и вашему посольству вести нашу княжну Елену Ивановну, жену короля Александра, к мужу её!
Станислав Нарбутович от неожиданности дёрнул себя за бороду, но попал в бритый подбородок. Эт её, в домовину с костями, эту веру католическую! Голый подбородок вместо Божьей благодати, стыд и срам! Но подарок Данило Щеня сделал послам богатый. Литвины и не полагали так быстро соединить Елену и Александра. Король литвинский будет нежданно рад!
Слышавший за дверью весь скоротечный ход переговоров Иван Юрьевич Патрикеев злым шёпотом матюгнулся. Литвины попались! И весь замысел быстрой перемены власти на Руси тут же рухнул. Как чел это проклятый Громобой Волоцкий? Ведь он о разделе чел! Не зря и с большим намёком!
Снизу стали подниматься в Переговорную палату гридни. Тащили широченные подносы с первой переменой блюд.
— Подвинься, воевода, — хмуро погнал с лестницы великого воеводу Патрикеева передний гридень. — Не засти мне путь...
Большой воевода Патрикеев поднял руку на гридня, но рука тотчас опала. В человеке, наряженном гриднем, воевода с ужасом узнал первого книжника Ивана-князя. Тот ещё был книжник... Убивал, говорят, на спор и больно умело. Ткнёт неожиданно татарину два пальца в глаза и вырывает с глазами лицо его...
— Иди... иди, — шепнул воевода. — Иди с Богом.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Поутру следующего дня Иван Васильевич коротко отстоял заутреню и вышел из Успенского собора скорым шагом. За ним ближние отроки, дети больших воевод, вели в окружении своём пятилетнего Дмитрия Иоанновича, наследника, но уже государя всея Руси. «Наследник и государь» шмыгал носом, сопливел. Мать его, Ленка молдаванская, стояла среди кучки великих бояр. Тоже как бы при защите.
Соборный дьяк прочёл с Лобного места венчальный приговор.
— Подписано... — на всю площадь громогласил дьяк. — Государь всея Руси Дмитрий Иоаннович...
Народ встал на колени, но, услышав, кем подписана венчальная грамота, поднял лица вверх. Заворчал народ. Дьяк успокоительно добавил:
— Великий государь всея Руси Иван Васильевич к тому договору руку приложил.
Народ склонил головы к земле. От земли к Лобному месту донеслись смешочки.
В след отцу из собора вышла великая княжна Елена Ивановна. Над её головой держал венчальную корону конюший великого государя — Шуйский. Рядом с Шуйским медленно ступал, колыхая брюхом, посол литвинский Станислав Нарбутович. Он тоже держал венчальную корону, но над пустым местом, справа от Елены Ивановны. Муж, круль литвинский, Александр, повторит венчальный обряд уже на Литвинской земле. Со своим присутствием.
Иван Васильевич, великий князь Московский, опричь обряда, подошёл к дочери, поцеловал троекратно. Со стороны великих бояр что-то громко сказала сыну Ленка молдаванская. Мальчонка повернулся к невесте, протянул руки — тоже, видать, целовать. Народ тихо загудел. Шуйский ловко наступил мальцу на ножку. Дмитрий Иоаннович заплакал. Его махом утянули в свою толпу чёрные монахи, шедшие позади врачующихся. Ленка молдаванская шикнула протестно.
Иван Васильевич немедля отмахнул страже. Стража, полутысяча немецких рейтар, тут же рассыпалась, оттесняя народ. Открылся проход к венчальному поезду, стоящему у Грановитой палаты. Под ноги Елене Ивановне раскинулся, будто сам собой, длинный узкий ковёр, до самого венчального поезда. Красный, сияющий. Венчальная процессия ступила на ковёр. Хор монахов благостно запел: «Богородица Дева, радуйся».
Великого боярина Ивана Юрьевича Патрикеева тронул за руку неведомо откуда взявшийся сотник из личной охраны. Шепнул, нагнувшись, прямо в ухо:
— Поутру стали по особым спискам брать монахов с дальних подмосковных монастырей. Митрополит Зосима велел о том предупредить. Берут монахов нового устава. Подпись под тайным указом только вон его, пацана Дмитрия.
— Чего врёшь? — изумился боярин Патрикеев. — Он же писать не умеет! — и тут же тревожно оглянулся.
Все большие люди упёрлись глазами в богатейшую венчальную процессию.
Стольник криво дёрнул губой. Трусил, что ли? Шепнул:
— Подпись писец написал, а мальчик свой палец приложил... Ну, я пошёл?
— Стой! Ко мне на подворье иди. Тотчас пусть соберут мне обоз. Едем из Москвы к войску!
Сотник повеселел глазами, живо побежал в сторону татарских ворот. Великий боярин Иван Юрьевич Патрикеев стал выбираться из толпы.
— Ты куда это? — спросил Патрикеева боярин Ряполовский. — Сейчас пить почнём. Во здравие.
— Скажешь Ивану, великому князю, что я немедля выехал в большой полк. Под город Порхов. Мол, что-то тревожное в том полку.
— Трусишь, к лешему тебя забери?!
— Иди туда же! — отозвался большой боярин, толкаясь среди чужих.
Народ на площади зашумел сердито. Боярин Патрикеев сморщил лицо, быстро и свирепо обернулся. Свирепо не получилось, сам понял. Получилось и глупо, и слезливо, и боязно...
Шумели не на его уход. Шумели на примаса католиков Литвы и Польши. Тот вдруг выбежал вперёд венчальной процессии и первым пошёл по красной дорожке к венчальному поезду из десяти пышно убранных повозок. В руках, торжествуя, примас нёс большой католический крест о четырёх концах.
Примас успел сделать пять шагов. На шестом — два здоровенных молодца вдруг поднялись с колен из толпы, дёрнули примаса в кучу народную. Образовался малый и быстрый клубок тел.
Станислав Нарбутович отвёл глаза и смотрел на небо.
— Бывает... — шепнул ему конюший Шуйский, старательно напрягая руку, чтобы удержать золотую, тяжеленную венчальную корону над головой невесты. — Московский народ силён за свои обычаи постоять. Противу их нарушения.
— Вижу, — шепнул в ответ Нарбутович. — И даже удивлён, что народ московский так крепок телом. Будто ратники личной охраны великого князя, а не народ, завалили, аки зверя, нашего Божьего слугу.
— Ратники тебе что — не народ?
Великая княжна Елена Ивановна обернулась к ругающимся, нёсшим венчальные короны:
— Блюдите!
Шедшие позади брачного хода монахи громким, слаженным хором затянули полагающуюся моменту молитву.
Лавочники на Красной площади, на другой день по восходу солнца явившиеся отпирать торговлю, все похмельные и весёлые, вдруг очумели. Половину площади запирал плотный строй стрелецкой тысячи. Четыре полка стояли коробом вокруг Успенского собора. Расстояние от стрельца до стрельца — сабельный мах.
— От же етива Масленица! — шепнул своему соседу, Калашнику, мясник Проворыч. — Казнят кого али как?
— Окстись! После вчерашнего венчания — какая казнь? Три дня не прошло...
— Слышь, Калашник, точно, три дня не прошло. — Проворыч остановился в двух шагах от огромного стрельца в зелёном кафтане. — А это Лукича, кабатчика, сын. Мишка. Здорово, Мишка!
— Проходи, купец, не велено! — густым, горловым шёпотом ответил Мишка. — А то бердышом!
Калашник очумело глянул на Мишку-стрельца, покосился на окна Грановитой палаты. Везде тишина, ни огонька!
— У тебя лавка будет подалее отсель, — сказал Проворычу Калашник, — пошли к тебе, а? Выпьем. Я прихватил баклажку.
— Пойдём. У меня там медвежий окорок закоптился поди... А то чего-то тут...
Под свирепым глазом Мишки-стрельца купцы завернули на сторону, к мясным рядам. Сын кабатчика им тихо-тихо шепнул во след:
— Дядька Проворыч! Игумен Волоцкий у государя гостит! Прости...
Вот пошто народ московский на Красную площадь лаптей не ставил и носа не казал: игумен Волоцкий на Москве, у государя!
—Давай, Гавриил, рассказывай. — Иван Третий игумена звал только Гаврилой, монашеское нерусское имя ему претило...
Игумен Волоцкой обители сел вольно, достал тетрадь самошитую, большого размера, открыл читать.
— Брось, говори так. Верю!
Игумен положил тетрадь под руку Ивана Третьего, заговорил тихо, душевно:
— У них, у Марфы-посадницы, всё расписано, как у греков в Евангелии. Мишка Олелькович, ейный ближник теперя, как бы личный посол от круля литвинского, когда я отъезжал по твоему зову, как раз тоже свадебное предложение сделал Марфушке, курве окаянной.
— Этот стервец станет мужем Марфы?
— Да не так, великий государь. Она, вишь ли, всё кочевряжилась насчёт возглавить заговор против тебя, так Мишка Олелькович от имени зятя твоего, Александра литвинского, сделал ей предложение принять в мужья литвинского князя фамилией Манасевич. Тому уже скоро семьдесят лет, так чтобы Марфа, по быстрой кончине того мужа, стала при статусе. Это значит, когда они... жидовствующие, оторвутся от тебя, от Москвы, то Марфе бы сесть на Новгород полным чином литвинской княгини. Будто как в летописях, когда на Киеве сидела Ольга-княгиня...
— Никакой Ольги на Киеве не сидело! — взорвался Иван Васильевич. — Тоже ослы, греческим воровством записали сказку про Ольгу! Древлянских послов в яме засыпала, других послов в бане пожгла, город древлянский птичками запалила...
— Да погоди ты, великий государь, хаять летописи!
— Нет, я всё же выпью! — Иван Третий грохнул рукоятью кинжала по пустой медной тарели на столе.
Загрохотало так, что гридни, сунувшиеся в палату, затряслись — и половину стола заставили.
Игумен Волоцкий опрокинул в рот малый серебряный кубок водки, крякнул:
— Мои люди в ближнем окружении Марфы-посадницы...
— Курва она и более никто! — рассвирепел великий государь.
— Мои люди покрали у неё некоторые бумаги, а некоторые переписали верно и без лжи. В тех бумагах...
— На стол мне те бумаги!
— Уже лежат, не видишь тетрадь?
Как не беситься государю? Ещё отец его, Василий, прозванием Тёмный, ухайдокал мужа этой поганки Марфы за то, что тот почал ту замятию противу московской власти на Новгороде. Василий даже татар подкупил обещанием удвоить дань, если они не полезут разводить Москву и Новгород. Он татарам, конечно, врал, но как же быть, ежели от Москвы уходит земля, по которой все купецкие товары идут в католические страны? Москва всю свою историю жила посредничеством в торговле и защитой купеческих интересов. Отобрать у неё этот кус — и загнётся Москва!
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Иван Третий по кончине отца своего Василия Тёмного имел долгий разговор со старым купцом Матюшкой Избытковым. Тот и обсказал молодому великому князю все выгоды стояния стольного города Москвы на сей земле, именно в сём месте. На месте древнего табора Мосокава, где имели отдохновение те роды и племена, что уходили с боями из Второй русской империи, из Византии.
Он же, Матюшка Избытков, поведал, и откуда взялся на Новгороде мужик именем Исаак Борецкий.
— Полукровка он, жидовская кровь пополам с поляцкой юшкой...
Матюшка Избытков уже шесть десятков раз видал зиму, а всё торговал, да торговал праведно. Ему можно было верить.
— Тот Борецкий записался на Новгороде купцом, — продолжал рассказ Матюшка, — поскольку сидел при деньгах, и немалых. Конечно, не при своих деньгах. Сам не торговал, а держал торговцами нанятых людей. В лавках его казали товар и брали деньгу новгородские люди. А возили товар из неметчины да литовщины — неруси. Так и поднялся тот Борецкий тихой сапой от малого купца в большие посадники...
Должность посадника встала полукровке Борецкому в расход на две тысячи гривен. Того купить, этому поклониться... Огромные, нешуточные и неучтённые деньги! Но на Руси издавна деньги — грязь, а люди — золото. А про посадника Борецкого все знали, что поверху его — золото, а по нутру — грязь!
Чтобы избыть худую молву, взял тогда Борецкий за себя в жёны дочь воеводину — Марфу. Та уже в четырнадцать лет познала и ласки, и таски. В пятнадцать родила Борецкому сына Федьку. Он, Федька, ныне воеводой на Новгороде. Потом уже, будучи при власти, тот Борецкий пристроил в Новгороде полного жида Схария своим личным казначеем при торговых делах.
— Твой отец, великий князь, за то извёл Исаака Борецкого, что тот открыл католический костёл в Нове Городе для иноземных купцов. Так положено во всех странах. Только в том новгородском костёле, в тайном приделе, читали богопротивную книгу названием «Тора». И такую же невместную книгу названием «Библия»! И новгородских людей тайно на те чтения собирали. И про будущую жизнь, весёлую и безвластную, песни пели, Соломоновы. Не успел твой отец всю правду из паскуды Борецкого вынуть! У Еськи при себе яды были, зашитые прямо в воротник рубашки. Он, сидючи в яме, тот свой воротник пожевал, с-с-сука, и от гнева твоего отца беспыточно ушёл... А Марфа, жонка евонная, стало быть, затаила на Москву и на твой род злобу гадючью. Ещё бы не затаить! Торговать она не умела, а тут жиды поляцкие поднесли ей подарок: опись долгов её муженька, Борецкого, им, жидам ляхотским. И долгов тех оказалось на пять тысяч гривен... Я, великий князь, купцом долго состою. Везде побывал. И во всех землях тех жидов клянут нещадно. А они как крысы. Крыс ведь сколько ни бей, те множатся. Ну, предложили жиды Марфушке подлой такую выгоду: мол, долг спишем, ежели выведешь Новгород из-под Москвы. Денег на то дадим... А дальше чего рассказывать? Ты всё понимаешь дальше. Не маленький...
— Крысы, говоришь? — Молодой князь поднялся, заходил по деревянной светлице. Отсюда, из этой светлицы, его отца, Василия Тёмного, выносили в последний путь...— Про крыс я понял... Надо бы отца помянуть...
— Отчего бы великого князя Василия не помянуть?
Матюшка Избытков хватанул тогда, перекрестившись, полную чару марийской араки — молочной водки — и не поморщился. Здоров был купчина! Закусил, заговорил душевно:
— Мне ещё дед мой рассказывал такую бывальщину... Когда на ляцких землях, в Полонии, в Паннониии да в Ромении, вспыхнула болезнь чума, то ведь крысы её принесли. А тех крыс привезли с собой те жиды, коих гишпанские короли прогнали со своих земель... Ну, когда люди стали помирать быстрее мух, то одна дорога — бежать. Вот ляцкие народы и побежали через реки Дунай да Днепр на нашу, русскую сторону. Крыса, она воды боится... Так долго ли ей было спрятаться в шаболье да в разном скарбе ляцких бегунцов? Так и перебрались те крысы к нам на Русскую землю. Тайно. И тут же заселили наши деревни, сёла и городки окрест Киева, Белгорода, Смоленска...
— Беда! — рявкнул тогда в голос великий князь Иван Васильевич.
— Горе горькое пришло на Русь... Однако мы же русские, у нас на любое горе свой обычай есть. И древний обряд. Собрались люди со всей нашей земли и порешили исполнить такой обряд, названием «Вавилонская купель». Под присмотром стариков собрали они свой малый прибыток, детей взяли, скотину, памятные вещи и вошли по горло кто в реки, кто в пруды да в озёра. И так с утра до следующего восхода солнца стояли. А дома свои и поскотины, и риги, и овины, рожь на корню, сады. Всё пожгли, всё пошло под чёрный пал, выгорело напрочь, от Днепра до великого Дона.
— А крысы? — спросил ошалевший молодой князь.
— И крысы выгорели.
— А народ как же?
— А что народ? Народ наш из воды вылез и пошёл стучать топорами. Побывай нынче в тех местах, так краше и чуднее их, поди, нет.
— Они, те места, не под моей рукой...
— А ты тоже помахай топором — и будут под твоей!
— Об чём задумался, великий князь? — громко вопросил игумен Волоцкий. — Наверное, о крысах?
— Откель прознал? Мысли чтёшь?
— Да нет, просто ты два раза помянул шёпотом «Вавилонскую купель».
— Так ты, святой отец, тот обряд знаешь?
— Знаю, великий князь.
— А благословишь ли меня на его исполнение? Ведь обряд тот языческий.
— Благословлю, великий князь. Ибо в страданиях народа я разницы не делаю по вере и по крови страждущих. Сё человек страдает, не пень!
Оба они понимали, о чём спрошено благословление и от чего очищает душу великого князя игумен Волоцкий. От греха на пролитие русской крови. Той крови, которая вот-вот захлебнётся в грязной крови подлых иноверцев. Так что чистить кровь надобно. Во имя детей и внуков.
И начинать следует с Великого Новгорода. С головы. С головы Марфы-посадницы...
Марфа Борецкая извелась. Воскресный день, во храмах новгородских колокола заливаются благостным звоном, а ей, Марфе, сегодня после обедни, на тайном сборе всех заговорщиков, объявлять о последнем дне Господина Великого Новгорода в русской вотчине! Правда, и радость будет — сказать, что сей день (а сие случится через месяц) станет первым днём жития народа новгородского под державной рукой короля литвинского Александра!
Фёдор Исаакович Борецкий, воевода новгородский, вошёл в светёлку матери, внимательным глазом оглядел большую, крупную женщину.
— Что вы, мамаша, пригорюнились? — завёл разговор Фёдор Исаакович. — Не надо горевать, беса тешить! Мои люди тайно донесли мне вчерась, что три полка литвинских уже вышли в нашу сторону. При десяти пушках, при обозах. А в обозах и святые католические отцы, и всё убранство для перелицевания новгородских храмов в костёлы.
Фёдор Исаакович матери бесчестно врал. Александр, король литвинский, после женитьбы на дочери Ивана Третьего только махал рукой на «заговор пархатых». Был молодой король Александр повседневно выпивший и орал послам новгородским:
— У меня медовый месяц! Пошли вон!
Даны и шведы, и немцы при начале жидовского заговора, два года назад, первыми совавшие Великому Новгороду оружие и ратных людей, после неудачного покушения на жизнь Ивана Третьего попритихли. И тоже отмахивались: «Потом, потом!»
Фёдор Исаакович Борецкий мать совершенно не боялся. Другое дело брат его, младший Борецкий, Мишка. Тот два раза был матерью самолично бит татарской камчой[48] и насиделся в тёмном подвале. Первый раз за то, что силком принудил трёх комнатных девок к греховному соитию. А второй раз за то, что жида Схария, новгородским именем Захар Иванкович, лаял матерно.
Жид ему денег не схотел занять. А молодому Мишке зарасть пришла поиграть с польскими купцами в игру «зернь», в кости. И проиграл тогда Мишка и свои три рубля, и свой богатый, серебром шитый польский кунтуш, и татарский кинжал с двумя крупными красными рубинами на рукояти. Просил у поляков вернуть хоть кинжал и кунтуш, которые Марфа ему дарила на день рождения, — так те поляки только посмеялись и потребовали выкуп — шестьдесят рублей! Жид Схария денег не дал, а пожалился Марфе на неуёмность младшего сына.
— А ведь Мишку-то нам бы надо... прибрать, мамаша, — неожиданно молвил Фёдор Исаакович. — Не ровен час утечёт на московскую сторону, нас продаст.
— А ты давно ли брата своего младшего видел, а? — спросила Марфа.
— Некогда нам видеться, — мрачно отозвался Фёдор. — Я всеми днями при ополчении...
— Знаю, как ты при ополчении! — дико заорала Марфа. — Жрёте там зелье ковшами да пиво бочками. А пишете расход на мой счёт! А Мишка, брат твой подлый, сидит на монастырском подворье у Нева-реки! Как потюремщик!
Марфу-посадницу душила дикая злоба и обида не просто так. Вчерась, когда оговаривали с жидом Схарией весь ход нынешнего, наиважнейшего разговора с людьми, поддержавшими заговор противу Москвы, тот жид нечаянно проговорился, что теперь долг Марфы жидовскому кагалу в польском гетто — восемнадцать тысяч гривен, или двадцать пять тысяч рублей для ровного счёта. А потому дело с отделением Новгорода от Руси следует ускорить. В интересах самой Марфы.
Двадцать пять тысяч рублей! Город Псков построить, одеть в камень и вооружить, стоило всего пять тысяч рублей! Марфа почуяла, как кровь её отхлынула от лица, потом прямо валом бросилась назад. Посадница заорала жиду Схарии:
— Чего ты суёшься со своей мелочью ко мне в такой час?! У моего будущего мужа, князя ляхетского Манасевича, один его рыцарский замок с угодьями стоит столько да ещё полстолька! Отдам долг, не спеши!
— Да тут спешить некуда. Ибо наречённый жених твой, Манасевич, позавчера почил в бозе. Нет у тебя теперь жениха.
— Другого отыщет король Александр!
— На то время требуется, великая господарыня. — Схария собрался выйти, но у дверей повернул лицо, как бы грозя Марфе своим безмерно длинным толстым носом. — А сегодня на тайный сбор не жди своего дружка любезного, литвина Мишку Олельковича. Тот по самому рассвету, до петухов ещё, съехал из Новгорода.
— Куда съехал? — каменея сердцем, спросила Марфа.
— В город Киев. Сказал, будто там помре его старший брат Симон, что был на Киеве литвинским воеводой. Будет теперь твой Мишка искать того места. Не до игры ему теперь в твоё сватовство. И не до наших дел... — и поганый жид наконец вышел.
Марфа села на то, что подвернулось. У неё перед глазами поплыли круги, сердце заколотилось, как молот у кузнеца. В голове пошёл шум и звон. Она слабым голосом крикнула девку, чтобы несла настойку ревеня и траву зверобой на водке.
Что же ты, Марфа, а? Ещё вчера не было бы поздно собраться как бы на богомолье, а самой гнать в Москву. Там поклониться в ноги великому князю Московскому да замолить грех... Иван Третий, Васильевич, он в женских качаниях сведущ. Он бы простил... Конечно, человек с десяток новгородцев казнил бы, так ведь не тебя, не сынов твоих!
А в голове, наперекос сей здравой мысли, дрожал от ласковости и наглости голосок жида Схария: «Смотги, Магфа! Похочешь вдгуг своё слово погушить, мы тебя под землёй найдём».
Три часа потом Марфе наводили лик. Особые девки тёрли щёки Посадницы сурьмяными белилами, потом на те белила клали три капли густой мази с краской от арабов. Щёки краснели.
Перед выходом в столовую палату терема, где собралось почти сорок человек, ей почтительно доложился жид Схария, что двое только не явились. Один, купчина, сказался больным, а на самом деле всю ночь пил безбожно. А второй, настоятель старого Ильменского монастыря, взят неизвестными и увезён в сторону Москвы.
— Поспешать нам надобно, Марфа, господарыня, ох поспешать! — значительно произнёс Схария, открывая перед Марфой дверь в столовую палату. Голос его теперь был чист, светел и радостен, будто утром не он топтал самолюбие самой грозной в Новгороде бабы.
Марфа вошла в палату с улыбкой, поздоровалась, поклонилась собравшимся на три стороны. Народ поднялся со скамей, что-то прогудел в ответ. Сын её, воевода новгородский, сидел как бы сбоку, отдавая матери торцевое кресло у стола. Она заняла это кресло, оглянулась на кухонную дверь. Оттуда выглядывал повар, рекомендованный Марфе Схарией. Повар кивнул и плотно затворил двери.
— Через месяц, — сказала в лица собравшихся людей Посадница, — наши заветные мечты исполнятся. Нам надобно только укрепить душу, ибо станется между Москвой и Новгородом обязательная сеча...
Купец Ванька Коробов, москвич, женившийся на новгородке с большим приданым, шепнул своему соседу, Клёпе Шарину, тоже купцу, но ведущему дела на жидовские деньги:
— Каждый раз начинает пугать, что с Москвой резаться надо...
— Не ты же станешь ножом махать, — отмахнулся Клёпа. — Помолчи...
— Вчера ночью... Так, Фёдор Исаакович? — обратилась Марфа к сыну, тот важно кивнул. — Вчера ночью пришёл гонец с литвинской стороны. Там готово всё для нашей защиты. Три полка, да при пушках, двигаются в нашу сторону. Встанут у города Луга...
— А мимо Пскова как они пройдут, правительница? — сидя вопросил тысяцкий Щёкин, отвечавший за оборону западной стены Новгорода.
— Псков имеет на то с ними тайный договор. Сто раз повторять? Псков — наш город!
За столом тихо покатился шум. Некоторые противились утверждению. Хотя, конечно, грамота такая есть. И лежит она в особом сундуке у митрополита Новгородского. Один только митрополит Новгородский ведал, что нет уже в сундуке той грамоты. Нету! На Москве уже она. Продана Пименом, бывшим до нынешнего митрополита во власти, московским шпигам. Тот продавал на Москву всё, даже оклады с икон...
— Мы уплатили казанским татарам...— продолжала Марфа, — пушками и огненным зельем, чтобы они этот месяц, до холодов, постоянно угрожали Москве войной и набегами...
Купчинка Ванька Коробов опять не выдержал, зашептал соседу:
— Слышь, Клёпа. Я на Москву тут ездил две недели назад. Встретил там своего дружка, Данило Щеню. Вместе без штанов по Москве бегали в малом возрасте. Он мне не говорил, что казанские татары Москве грозят...
— Помолчи, дурак! — прошипел Клёпа. — Скажет тебе москвич про татар! Ты же ему теперь кто? Вражина ты ему! Он теперь жалеет поди, что тебя по малолетству в луже не утопил.
Марфа, слыша, как её слова стали обсуждать, заговорила в полный голос:
— Через месяц, как с полей уберут хлеб и репу, почнём замятию! Что там ещё?
В кухонную дверь, ибо главный вход в палату был припёрт засовом, кто-то рвался войти, прокричал:
— Я гонец твой, правительница!
— Входи, гонец!
В палату ворвался, весь истерзанный, русский парень, одетый чухонским пастухом. Срывая горло, просипел:
— Достоверно известно, правительница Господина Великого Новгорода, что великий князь Иван велел готовить себе путь на Вагу! Через неделю будет на Ваге!
За столом зашумели. Кто-то крикнул гонцу:
— Урой своё рыло отсель, дурак!
Вага, удел младшего брата Ивана Третьего, Юрия Васильевича, отстояла от Новгорода в такой дали, что и поминать её не стоило.
Высокий, рослый старшина древоделов Новгорода сунул гонцу кулаком в ухо. Шапка с пером упала на пол. Старшина наступил на неё ногой. Это считалось полным оскорблением звания гонца. Осталось ещё плюнуть на шапку.
Гонец хмыкнул старшине в лицо, проорал:
— Князь Иван московский идёт на Вагу с тремя тысячами передового полка, с пищалями и пушками! В полном круге татарского конвоя в пять тысяч сабель! Данияровского конвоя! А подать гонцу чашу с водкой!
С воем и грохотом повыскакивали из-за стола, окружили гонца и Марфу. Орали в голос. А чего орать? Чего толпу собирать, когда столы ломятся, можно налить и крякнуть? Ванька Коробов и сосед его, Клёпа, тут же налили и стали пить.
— От Ваги, если на нас повернут московские полки, сколько дней им идти? — спросил Клёпа купца Ваньку Коробова.
— Две недели неспешного хода. Без обозов.
— Две недели? Ладно, успеем...
Чего он, Клёпа, успеет, купец не сказал. И так ясно. У него в литовщине вся родня. Он успеет туда за две недели, точно.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Река называлась у арабов «Лонг Дон» — длинная река. И городок стоял на ней там, где пристань на острове. Местные жители все, как один, имели рыжие бороды и здоровенные кулаки. Тот городок местные люди называли «Лондон». А реку — Темза, «Серебряное создание». Мол, реку им создал Всевышний Бог.
Арабы, лучше всех в мире понимающие про Бога, только смеялись. Ведь это арабы создали «Серебрянную реку», привозя сюда своё серебро!
Арабы плавали на больших чёрных кораблях именем «гурабу», что означало «ворон». Чёрный цвет те корабли имели от обилия смолы, защищающей борта от протечки воды. Англы сего не ведали и тех кораблей шибко боялись. А ещё боялись того, что кроме парусов те корабли двигали вёсла. А вёсла двигали рабы. Вот почему арабские «лукар» — купцы — могли бывать на острове англов хоть зимой, хоть летом. Хоть при ветре, хоть без ветра.
Англы, конечно, радовались, когда в их «порт на Темзе» входил огромный гурабу. Арабы покупали здесь олово и за этот лёгкий белый металл платили тоже белым, но тяжёлым металлом — серебром. Правда, иногда смуглые и бородатые муаллимы, капитаны гурабу, здорово грешили. У них часто помирали рабы на вёслах, так они утаскивали с острова зазевавшихся рыжебородых, чтобы украденные англы гребли. Пятеро — одним веслом, до скончания живота своего.
Однажды муаллим[49] Хаджадж ибн Фарис, когда на гурабу погрузили почти всё олово, готовое к вывозу, вдруг выхватил из-за широкого пояса сверкающий аль хинд, стальной меч, и одним махом снёс головы двум английским грузчикам. Ступил правой ногой в кровь зазевавшихся бедняг и сказал:
— Начальника вашего порта желаю видеть!
Англы, тут же разбежались по тёмным углам пристани, но вытолкали на пристань того олдермена[50], что считал слитки олова, и более тщательно — арабские серебряные монеты. Олдермен перекрестился, но на палубу к арабам взошёл.
Тем же мечом арабский капитан небрежно и тоже махом рассёк пополам три длинных оловянных слитка. Поднял две половинки посеченного олова и поднёс прямо к лицу олдермена:
— Это что я вижу, вор?
Олдермен, к ужасу своему, тоже увидел, что оловянный слиток просто забит крупным песком и мелкими камнями. Так островные хозяева плавильных печей увеличивали вес оловянных слитков, но безбожно портили олово, ради которого арабы плавали в такую даль по коварному океану.
Понимая, что после такого случая головы уже не сносить, олдермен всё же попытался спасти себя праведным доносом.
— А вот русские, — прохрипел олдермен, — скупили у данов на море Баалтик весь янтарь! Весь! И повезут его мимо вас в Индию! По земле! Это мне сообщили родные, что приехали ко мне погостить из земли Дания!
— Ладно, — сказал муаллим. — Грузи остальное олово.
Забегали грузчики, тела казнённых столкнули в воду Темзы, кровь на палубе срочно замыли.
Когда гурабу осел в воде до красной черты на корпусе, муаллим крикнул про немедленный отход в море, потом разрубил своим мечом причальный канат. Корабль пошёл на середину реки.
— А деньги за олово где? — рявкнул вслед кораблю перепуганный олдермен, стоя на краю пристани.
— На! — на пирс полетела стёртая медная монета.
Олдермен монету подобрал и направился сразу к королю этой части острова, чтобы тот урезонил вороватых плавщиков олова. Иначе в следующий раз в порт на Темзе могут войти сто огромных гурабу и на них будут пушки!
Великий султан Великолепной Порты Махмуд Белобородый, что в этот неурочный час принимал арабских купцов, извертелся на широком троне.
Арабы из страны Аравия — почти родные братья султана, только настоящие арабы. В чистую кровь. И приплыли они в Константинополь на трёх кораблях — мусаттах[51]. Каждый такой корабль имел в длину двести шагов да в ширину сорок, а под его палубами прятались кроме матросов двести воинов. Сопровождали три мусаттаха восемь кораблей бариджа, малых парусных, лёгких и быстрых, как волки пустыни. Они очень нравились прибрежным левантийским разбойникам и те разбойники на бариджах грабили всё побережье Срединного моря. И оттоманские селенья тоже грабили, и многажды...
— Я тебя просил, брат, — резко выговаривал великому султану Эль Му Аль Лим, самый большой начальник военного флота арабов. — Я тебя просил приглядеть, чтобы русские не торговали в наших местах!
— Я гляжу! — радостно ответил великий султан.
— А зачем ты проглядел, что русские сухим путём, через Китай, везут в Индию янтарь?
Янтарь в Индию доставляли исключительно арабы. Они много чего доставляли туда исключительно. Самое важное — железную руду из Восточной Африки. Индия знала секрет плавки железа и превращения его в сталь. Боги, видимо, оставили ей тайну способа, при котором огонь набирал нестерпимую для человека температуру. И тогда получалась сталь. Из той стали в городе Дамаске ковали несравненные клинки, могущие за один удар и безвредно для самого клинка перерубить пополам франкский меч.
А янтарь, весьма плохонький да махонький, совсем как песок пустыни, арабы добывали в Красном море. Индийские жрецы толкли тот янтарь в порошок, потом мешали со смолой дерева «ингини» и с воском, добавляя туда толчёную кору другого тайного дерева, и катали из полученной смеси тонкие палочки. Те палочки, если их поднести к огню, долго дымились и божественно пахли. И стоили очень дорого, давая храмам Будды возможность приятственно славить ароматом лёгкого дыма своего богочеловека, рождённого в цветке лотоса...
Если же русские купцы повезут в Индию настоящий янтарь, индийские храмы станут покупать только его, а потом получать от своих верующих втрое больше за каждую дымящуюся палочку.
— Да, я проглядел, что русские повезли янтарь в Индию. Поэтому завтра я пойду на Русь войной! — разгорячился великий султан.
— На русских нельзя ходить войной! — веско и очень медленно сообщил султану Эль Му Аль Лим. — Это наши братья по древней вере!
— У руссов сейчас вера в иудейского бога Христа! — зло напомнил султан главному мореходу Аравии.
— У них сначала православие, а потом всё остальное! — рыкнул Эль Му Аль Лим. — Слушай меня, дураков не слушай!
— Слушаю, многомудрый, слушаю!
— Хорошо меня слушай! Но между нами и руссами не возбраняется война купцов. Если кто из купцов, то ли рус, то ли араб, привезёт лучший товар да подороже его продаст, тот и победил! Посему янтарь у руссов можно купить, украсть, сжечь. Но силой отбирать? Аллах покарает таких разбойников!
— Я пошлю вдогонку за русскими своих людей, и они украдут их янтарь! — согласился великий султан. — Через год... нет, через шесть месяцев... весь русский янтарь будет лежать вот на этом ковре у ваших ног!
— Алла бисмилля! — сказал на то заверение главный морской араб и покинул султанский дворец.
— На всё воля Аллаха! — повторил про себя великий султан и долго неразумно глядел на шёлковый шнурок, брошенный самым главным мореходом Аравии на огромный персидский ковёр.
Петли на шнурке не виднелось, слава аллаху. Но и такой шнурок лишь одно мгновение ласкает кожу горла. Потом горло перестаёт глотать воздух...
Самый молодой из княжеских книгочеев именем Никола Моребед сказывал свой урок, расхаживая по конюшенному дому. Проня Смолянов и Бусыга Колодин смирно сидели за столом и внимали.
— Афанасий Никитин, — складно говорил Никола-книгочей, — не расчёл нового устройства мира после нашего исхода с персидских земель. Он, думаю, имел у себя древние летописные своды и даже картографии, по которым наши далёкие предки вели торговые пути. Самый главный торговый путь проходил по берегу аравийского моря прямо в Индию, когда мы жили в Вавилонии... И даже далее Индии, в страну Ас Сина, что ныне зовётся Корея...
Тут встрял Бусыга Колодин, чтобы громким Толосом хоть на три мига разбудить своего вечно сонного шурина:
— Ну и что, если Афанасий пошёл в Индию, когда мир уже изменился? Ведь не убили же его? А даже дали расторговаться!
— Афанасий Никитин, — повторил Никола Моребед, взял плётку и той плёткой огрел стол прямо рядом с мордой дремлющего Проню Смолянова. Проня сел прямо и перестал дышать, — всё делал правильно. Кроме одного. Он не учёл неписаные законы арабской торговли нонешнего времени в Индиях. А она поставлена на одном — торгует араб! Остальные — покупают!
— Так Афанасий же только покупал! — встрепенулся теперь и Проня.
— Но коня-то он продал! С коня-то он те деньги и поимел, на каковские купил драгоценные камни и разные пряности.
— Подумаешь — конь! — заспорил Проня. — Он поживёт да помрёт. Ежели бы Афанасий привёз в Индию нашу пушнину да льняные рубашки, что ткут невестам! Тогда бы — ого!
— Повторяю! — Никола Моребед для порядка ещё раз саданул плёткой по столу. — Торговать арабы запретили! Можно токмо, что покупать. И весь сказ!
Проня Смолянов оглядел обеденный стол великого князя Московского. Окромя полпива, ничего существенного на столе не стояло. Великий князь заметил прищур Прониных глаз. Мотнул головой в сторону Шуйского. Тот нешутейно полоснул Проню плёткой по спине.
— Ой! — Проня быстро сел на скамью, подальше от великого князя.
Иван московский съел миску простокваши с медовой водой, потёр чесноком горбушку ржаного хлеба, умял и её, откинулся от стола:
— Как учёба, движение есть?
— Будет, — оторвался от бараньих рёбер с кашей Никола Моребед. — Но пойдёт быстрее, ежели вот этот чурбан станет у нас магометанином.
Проня мигом соскочил с лавки, прижался к стене горницы:
— Да ни в жизнь. Хоть вешайте!
— Внешне — магометанином, — холодно проговорил Никола Моребед.
Бусыга Колодин от его голоса аж поёжился. Никола Моребед по крови был мордвин. А мордвины там, откуда вместе с ними пришли русские боевые отряды, то бишь в Вавилонии, в Шумере да в Египте, а потом и в Царьграде, они там исполняли тяготную жреческую службу — упокаивали мёртвых. Они же брали людские жертвы для Православного Бога Быка, Баала...
— Вели, чтобы московский имам ко мне к вечеру зашёл, — строго сказал Николе Иван Третий. — Я ему за будущие мусульманские уроки серебра отсыплю и дам малость красного кирпича. Он хочет придел к своей мечети пристроить, так пускай.
— А мне что прикажете? — хрипло спросил стоящий у стены Проня Смолянов.
— А ты станешь носить халат, который застегнёшь встречь солнцу, да в том халате — молитвенный коврик, — сурово пояснил Никола Моребед. — А когда будешь в Индиях, как заметишь, что тамошние мужики падают на колени на коврики, тотчас и сам падай. В ту же сторону падай, что и магометане! И бормочи ...
— Чего бормотать?
— Имам вечером научит. А Шуйский намочит свою плётку в соляном растворе да попросит тебя тот магометанский урок повторить.
Проня Смолянов отделился от стены, сел на своё место, ухватил большой кус баранины, каши не взял. Проговорил, кусая мясо:
— Вы меня пугаете, чтобы я мало ел и отощал, как магометанин в праздник Рамадан. Я не из пужливых.
— Ну-ну, — ответил великий князь. — Ладно. Я пойду в свою светлицу подремать до вечерней молитвы, а вы тут много не пейте. Поутру будет вам дело... — какое дело, великий князь не сказал. Вышел.
Никола Моребед тут же начал, зараза, учить Проню:
— Магометанам не дозволяется: есть свинину и кислый хлеб, пить водку, медовуху, жидовский самогон, тратить силы на чужих жён, обманывать в денежном расчёте, обижать стариков, детей и коней. Магометанам не разрешается...
— А я магометанского языка не знаю! — проорал Николе Проня. — И тем самым могу угробить весь княжеский план!
Шуйский опять резнул плёткой по столу:
— Через месяц станешь у меня гыркать, как казанский татарин на московском базаре!
— А почему это — у тебя? — возмутился Проня.
— А потому, что я, видя твою лень и притворство, сам стану оплачивать твоё обучение. По своей природной стервозности, я на этот счёт денег не пожалею! А потом с тебя спрошу либо деньги, либо урок!
— Он, боярин, парень способный, — встрял Бусыга Колодин. — Он быстро всему научится!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Великий князь Московский Иван Третий сам стянул сапоги, разобрал постелю, зашторил оконце и лёг в угловой, малой светлице.
Софьюшка, супруга его, месяц как молится в дальнем монастыре. Вместе со своим старшим сыном... С его, Ивана Третьего, сыном, Василием. Да под охраной немецких рейтар... Пусть пока помолится...
Послы литвинские, которые неделю назад увезли любимую дочь Елену, на прощальном обеде весьма хвалили его. Хвалили за то, что внук Дмитрий повенчан на государство и пишется в указах совместно с великим князем и тоже титлом «государь». Та похвала послам ещё припомнится! Ведь Иван Третий Васильевич зло смешал право престолонаследия, заведённое ещё Иваном Калитой и подтверждённое Дмитрием Донским. А почто так пришлось сотворить, знает только он сам да супруга его, Софья, что терпит сейчас в дальнем монастыре неволю... Великие бояре, сволочи, проверили уж через хожалых монахов, терпит ли великая княгиня Софья нужду и неволю? Ох, как терпит! Страдает... Остались довольны бояре Ряполовский, Стрешнев, Бельский — сын, Собакин... и, конечно, Юрка Патрикеев. Ну-ну...
За слюдяным окошком солнце пускало косые, уже предвечерние, лучи на деревянные хоромины великокняжьих дворцовых служб. Дерево тех хоромин посерело от дождей, от солнца, от морозов да и просто от времени. «Пора бы уж камень везде применять. Не забыть о том приказать мастеру Фрязину!»
Опять в голову полезла недодуманная мысль о младшем брате Юрии, что сед в удел на Вагу. Всё есть у брата Юрия — и сила, и масло в голове есть, да вот только благости в нём много. А с благостью на душе можно только деревню удержать. А, скажем, держать Великий Новгород или Тверь, или Владимир-град... Эх — хе-хе! Нельзя и думать христианину о том, что надобно иметь в душе, дабы Великий Новгород держать под рукой крепко. А уж Русь нынче держать — прости меня, Господи, но благости в душе надобно только на копеечку!
Иван Васильевич перекрестился, стал натягивать сапоги, потом умылся водой из серебряного таза, чтобы перебить гневливую мысль о брате Юрии. Погнал мысли на север, на холодную равнину, где Вага...
Вага — «Святая вода при святом огне» — она там, где большие древние селенья Холмогоры и Архангельск, реки Двина да Печора со вкусной рыбой... Монастыри там, лето короткое, зима длинная... Мошка и слепни, волки их забери!
Англы да шведы приплывают туда на тихих толстых кораблях. Покупают потихоньку, как доносят тиуны, русский лён, пеньку, моржовое сало и клыки, рыбий клей, конопляные канаты и пеньковые верёвки для своих кораблей. Мачтовый лес берут. Сыплется потихоньку серебро в русские карманы... Серебро? В чьи карманы?
Иван Третий сел на кровати прямо в сапогах, поджав ноги, как татарин. Вот! Вот где, видать, образовалась прореха на княжьем кармане! Вот пошто Патрикеев, лис старый, вдруг выпросил, да не у великого князя, а у Софьи, удел Вагу для Юрия Васильевича! Жаден на деньги боярин Патрикеев, вот что. Сам встал во главе злобного переворота в русских землях, но денег своих на то дело пожалел! На ворованные у великого князя деньги ставит супротив него же ворогов.
Иван Васильевич схватил колоколец, затрепал в кулаке. В дверь просунулась голова постельного Савки, сына боярина Стёпки Шереметева, жаль, рано умершего.
— Оповести, что тронемся на Вагу через недельку, с утречка. А сегодня вечером скажи архимандриту соборному, пусть ждёт меня ночью в храме. Скажи три слова: «В дверь пойдём». Он поймёт... Ну, ступай теперь, да никого не пускай, полежу пока...
Полежишь тут... Татары, ногайцы, арабы, литвины, поляки, Индия... да полное одиночество в таком окружении. От раздачи боярам земель истинных друзей не поимеешь. Друзья ныне, в его-то возрасте, либо уже в земле, либо ожидают убытия в землю ...
И Вагу, единственный выход к морю, хоть и студёному, отдать пришлось Юрию! Хоть и родному брату, а бестолочи. Или предателю?.. А как же Архангельск? Там же море! Наше море! Вот поедем — и с Архангельском на месте разберёмся. А про бывшие свои южные моря пока помолчим. Чего про них говорить, когда арабский халифат крепко вцепился в Чёрное море, залил магометанством Хвалынское — ныне «Каспий»...
А тверской купец Афанасий Никитин, истинно — совершил большое дело. Во-первых, смертью своей показал, какой дорогой ходить не надо. Это уже оправдало все его расходы и тверскому князю надо бы помалкивать насчёт десяти гривен.
Заставим замолчать. Поедем в Холмогоры, заедем и в Тверь... Да. А вот что же «во-вторых» свершил Афанасий?
Великий князь сунул руку под подушный валик, вытащил на свет монашеский список с тетради тверского купца. Там торчала кожаная закладочка. Иван Третий с удовольствием перечитал: «А раджа мне твердит: “Скажи, что веришь в Магомедову веру, миллион золотом дам!” А я говорю, что я, мол, православный и другой веры мне не надо!»
— Главное — вот оно! Золото в Индиях есть. И множество! А в наших краях, золото — что есть? Это есть падение Казани и возрастание православной Москвы до уровня столичного града, имеющего право на сбор дани со всего бывшего улуса Джучи! А там, глядишь, потечёт серебро и с самого Крыма! И меня, великого князя, наконец повенчают на царство! Только бы золото... Металл богов — золото! Серебро — условный расчётный металл. Власть над людьми и государствами серебро не имеет. Так, видимость одну. И один звон от него, от серебра-то. — Иван Третий лёг, положил монастырский список с тетради Афанасия Никитина себе на грудь и закрыл глаза.
Подкралась дрёма — тяготная, тревожная. Закрутил ты, Иван Васильевич, хоть сам и русский, дикую греческую проделку. Прямо сказать, плутование. Такое, что почище станется, чем игра в эти... фигуры на доске. Те, что делают в окончательности шах и мат.
Он два раза посидел за доской, расписанной на клетки, подвигал те фигуры, как учили книгочеи, да и оттолкнул от себя доску. Говорят, отложили потом те шахматы в сундук, в каковой собирали подарки от деда будущему внуку его, то есть сыну Василия — сыночка от Софьюшки. И пусть внука назовут как деда, и будет он, значит, Иван Васильевич Четвёртый...
Через три года поженится, даст Бог, Василий Иванович, сынок любимый. Значит, что? Значит, сейчас звереть надо ему, Ивану Третьему! Звереть и на том зверстве прихватывать к Руси ещё малость землицы. Казанскую да астраханскую землицу бы... А там, может, и от Балтийского моря что отрежется... Киев бы прибрать, мать городов русских. Смоленск уже заждался русских ратей, да и Белгород. Татары крымские за так не отдадут Белгород, по-ихнему — Ак Keep Ман. Говорят, царь там похоронен. Ну, ежели царь, так, значит, русская та могила, и душа ныть не станет, когда под Белгородом прольётся кровушка...
А по ночной Москве, хоть уже и рогатки везде ставлены, и стрельцы на конях разъезжают — прохожих гонят, а кого и забирают для порядка — по ночной Москве потянулись боярские обозы.
Вчерась ещё не пошёл на свадебный пир и ускользнул из Москвы обозом Иван Юрьевич Патрикеев. А сегодня почали уходить и другие великие боярские роды.
По указу великого князя Московского, опосля заката солнца никто не мог войти в город, тем паче — из него выйти. Но тут как же встать оружно поперёк пути, если едет обозом Стрешнев — боярин, воевода правого полка. Кричит матерно:
— На войну еду, не на моленье!
Стрельцы ошалели. Проезжает.
А воевода Собакин и грамоту кажет стрельцам, что ему великий князь даровал выезд из города и въезд в него без оповещения путевого дьяка. Воевода Собакин исполнял снабжение русских полков оружейными припасами, как его не пропустить?
А вот к татарским воротам тянется обоз князя Ряполовского. Он тихий и старый, его можно и спросить. Стрельцы, трое, покинули сёдла, подсунулись под свет факельщиков, сопровождавших обоз, низко поклонились переднему возку:
— Скажи, ради Бога, великий воевода, куда ты так торопишься? Али угроза есть Москве?
Воевода Ряполовский плохо слышал, ему стрелецкий вопрос прокричал в ухо ближник, сотник личной охранной сотни. Ряполовский ответил не стрельцам — сотнику и откинулся вглубь зашторенной повозки.
— ...твою! — проорал стрельцам сотник. — Так и сказал, служивые. Не обессудьте!
— Проезжай тогда, — сказал пожилой стрелец и добавил тихо: — Лично буду голову рубить Ряполовскому. Чует моя душа!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
По окончании вечерней службы архимандрит Успенского собора снял с себя торжественные одежды и натянул старую рваную рясу. Сверху накинул кожушок из козлиной шкуры, голову покрыл старым колпаком московского кроя. Только успел обрядиться, великий князь уже тут как тут, притвор храма снутри на засов запирает.
— Свечами богат? — спросил Иван Третий.
— Да ради твоего прихода, отец ты наш...
— Кресало взял? Топор?
— Всё взял.
— Пошли.
Спустились через широкий лаз в подпол, что под алтарём, где лежали в каменных саркофагах великие московские люди. Архимандрит хоть и мужик полноватый, но вельми крепкий. С таким и ходить под землю. Только его и посвятил Василий Тёмный, отец Ивана Васильевича Третьего, в тайны Успенского подземного схрона. Были ещё пра-прадедовы вологодские схроны, да, честно сказать, чтобы обойти тамошние ловушки, надо было помнить тайны поклонения древнему Богу Быку.
Архимандрит, не ведающий точного знака, где потайная дверь, принялся останавливаться возле каждой каменной колоды, креститься, да великий князь его ругательно шугнул:
— Буена куена! Ведь так до второго пришествия под землёй бродить будем!
Архимандрит Успенский нашёл наконец в земле подпола стальное ржавое кольцо, вздохнул, вынул из-под рясы короткий ломик, поддел кольцо. Вдвоём кое-как подняли окованную медью крышку потайного хода. Прошли сто шагов и оказались у замытой влагой двери, тоже — под стену, выложенную кирпичом. Только крест из прочных камней указывал, что дверь — вот она.
Архимандрит под хмурым взглядом великого князя достал из-за пояса топор, протянул князю. Иван Васильевич примерился и ударил обухом по нижнему выступу каменного креста. Камень согласно тронулся и углубился в стену. Ещё три раза Иван Васильевич бил по концевым камням креста, потом ударил по тому, что был третьим в перекладине, но не средним.
— Навались!
Великий князь и архимандрит навалились на крест. Заскрипело — и кирпичная дверь отошла вовнутрь.
Архимандрит зажёг новый толстый огарыш свечи. Они стояли на влажной земле четвёртого, самого малого, московского схрона, где лишь трое последних московских князей прятали добытые сокровища. Иван Третий взял с дубовой полки золотой кубок, что был преподнесён сурожскими купцами великому князю Дмитрию Донскому сразу после победы над Мамаем. Из того кубка пил сам Мамай, перед тем как бежать с Куликова поля, от Девичьего монастыря. Всегда бы им, татарам, так бегать!
— Кубок Мамая не трожь, — хрипло сказал архимандрит. — Память сие есть для потомков.
— Чего тогда трогать-то? Мне золота немедля надобно фунтов десять. А лучше, чтобы поболее.
— Сейчас. — Архимандрит протиснулся в тесном схроне мимо великого князя, обдав того запахом водки на чесноке.
Боялся ведь святой отец, а? Боялся идти под землю! Вот оно где древнее поверье: до сих пор люди с Севера говорят «Мосокава» — описание того, что имелось в том древнем таборе, когда люди к нему пробивались через огромные болота, дикие леса и сплошные оборонные засеки да через широкие реки. «Кладбище, соль, подземные молельни и чистая, святая вода» — вот что такое Мосокава.
А что ещё надобно путникам, когда они с кровью прорвались через Кавказ и движутся в края дикие, безлюдные, на вековечную новую жизнь? На улице Арбат до сих пор продают ячмень россыпью. Как и пять сотен лет назад. Название улицы так и переводится с тангутского — «чищеный ячмень россыпью». Подходи, покупай сколько надо. Это есть великий обычай табора, снисходительного ко всем: к сирым и убогим, к здоровым и богатым. Хошь, бери горсть ячменя, хошь — мешок али полную телегу. Зерно в питании человека и скота — первая вещь!
Архимандрит тем временем подлез под нижнюю полку, сильно резнулся затылком об неё, выругался непотребно и протянул оттуда, снизу, ко князю Ивану кожаный кошель. Иван Васильевич кошель схватил и выронил. И тоже ругнулся. Кошель, сам хоть и махонький, весил не меньше пуда!
Завязка на нём уже сгнила. Великий князь осторожно развёл края кошля. Архимандрит одной рукой тёр затылок, а другой рукой залез в кошель. Вытащил кулак, разжал. На ладони тускнели три монеты непонятного чекана, но золотые.
Сунув одну монету под пламя свечи, Иван Третий без труда прочёл чёткий арабский текст: «Тимур эмир Гураган».
— Тамерлановекие монеты. Откуда здесь?
— Дмитрий Иванович Донской, — со тщанием знатока блаженно произнёс архимандрит, — ежели что брал, то брал до крупинки.
— Подчистую, значит, грабил, — уточнил великий князь. — Это с нас грех сымает. Возвертаемся.
Особым ломиком, с загнутыми концами, великий князь уже из тоннеля притянул пласт кирпичной двери на себя, пока она не встала на место и кирпичи хитрого замка не выдвинулись в прежнее положение. Дырку от ломика архимандрит тут же замазал грязью, собранной прямо с пола. Затупил, значит, малый потайной схрон московских князей.
Иван Третий Васильевич знал ещё места трёх таких схронов под московскими холмами. Но это были личные великокняжеские клады. Архимандриту про них знать не надобно. Вот Василий настоящий, пока ещё тайный наследник, скоро про них узнает, когда сходит с отцом под землю. Жизнь, она такая. Клады в ней обязательно требуются.
Великий князь топал по хлюпающей грязи подземелья, смотрел на огонь толстой свечи, что нёс архимандрит, и до боли кусал губу. Наследник! Был бы и Дмитрий, внук, в наследниках — парень головастый и шустрый. Но не жить ему долее 15 годков на этом свете. Не великий князь так решил. То порешила его сноха, вдова помершего нечаянно старшего сына, Ивана, Еленка молдаванская, когда поддалась на уговоры великих бояр и пошла под ересь, жидовствующую на Руси. Теперь думать и писать надо — «звали Еленкой»... Два раза она пыталась отравить и его, Ивана Третьего. Власти бабе исхотелось. Регентшей сесть при сыне своём, Дмитрии. Нагляделась на иноземные паскудные нравы! Ну, здесь, на Московии — не Запад. Здесь — Восток. А Восток тёмен в своих нравах и обычаях...
— Чего бурчишь? — спросил Иван Третий у архимандрита.
— Молчу я, молчу, великий князь. Это ты всё бурчишь: «Змея, змея»... Змей здесь отродясь не водилось.
Через день, к вечеру, великий князь, одетый как простой гридень, в сопровождении одного только Шуйского, правда, вооружённого, будто целый отряд рейтаров, появился далеко от окраины Москвы. Зато у нужной кузни на каширской дороге, там, где стоит сельцо Булатниково.
Кузнец, сириец родом, десять лет назад бежал в Московию от родовой арабской мести. Заделался кузнецом — и вон, уже ждал великого князя. Запалил синий огонь в калильной печи, разложил на железной доске тёмные стальные приспособы. Того кузнеца вся округа звала русской кличкой «Колыван», а в песках Сирии его кликали Димитрием.
Великий князь Иван Васильевич бегунцов, честно сказать, не любил и гнал далее. А этого оставил, ибо он спас бегством всего одного своего мальца. Дочерей оставил арабам, а сынка спас. За его сынком и охотились кровожадные бедуины. Вон он, наследник Колывана, качает мехи у кузнечного горна. Взращённый на русском хлебе, нынче этот молодец чистейших арабских кровей, подкову делает калачом, а потом ломает пополам, а сейчас вежливо кланяется великому князю.
— Здравствуй, Махмуд, — ответил на поклон великий князь и повернулся к кузнецу. — Тебе, Димитрий, знакома эта монета?
Сириец взял монету величиной с гусиное яйцо, если на него глядеть одним глазом и в торец, провернул её в толстых пальцах:
— Знакома, великий княже. Венгерский золотой дукат.
— Да? Но ведь в Паннонии золота в землях вроде бы и нет.
— Воруют. А вернее всего, княже, там только ведут чекан сего изделия. Из чужого золота. Чтобы след потерялся.
— Значит, Димитрий, ты правду говоришь — воруют. Но ведь вор токмо что тот, кто первый начал, а? Другие уже не воры. Так? Ведь я — не вор сей монеты? А?
Махмуд хохотнул и качнул мехи так, что пламя из горна опалило крышу. Кузнец погрозил сыну кулаком, рёв огня тотчас стал тихим, он ещё раз провернул венгерский золотой дукат перед глазами:
— Вор, великий князь, — это и тот, кто прячет уворованное.
— Так, — Иван Васильевич покачал головой, огладил бороду. — Так ведь я подал тебе спрятанное, Дмитрий!
— Дак не ты же прятал.
— Ну, ты больно мудрёный мужик. Откуда набрался такой силы знания?
Кузнец Димитрий внимательно глянул на великого князя, оглянулся на сына.
— Я из последователей Али ибн Абу Талиба, четвёртого преемника пророка Мухаммеда, — чётко произнёс на арабском языке кузнец Димитрий. Прознал, что Иван московский арабский знает и уважает. — Когда бешеные Омейяниды взяли власть в халифате...
— Дальше я знаю. Давай лучше про золото.
— Великий княже! Три дня мне надобно, чтобы вырезать из дамасской сабельной стали чекан для обеих сторон сей монеты. А потом время станешь мерить ты. Весом золота либо количеством той монеты.
— Вес золота будет всего сто сорок фунтов, Димитрий. Тимура Гурагана золотые монеты пустишь на переплав.
— Пущу. Дело доброе. Эмир Тимур золото не разбавлял медью и серебром. Чистую получишь... венгерскую монету, княже. — Кузнец тут же завесил золотую венгерскую монету на малых весах, называемых апотечными. — Со ста сорока фунтов золота ты, великий княже, поимеешь...— он быстрым угольком начеркал неясную арабскую цифирь на доске... — четыреста восемьдесят восемь таких монет. Желаешь, изготовлю ровно пять сотен?
— Нет, Димитрий, у меня станется не воровской, а честный торг. Не с татарами, леший их погладь. Делай как надобно.
— Надобно тогда, для правды, вес той монеты подгонять под англицкий серебряный шиллинг... И там ещё малость золота останется...
— То, что останется, пустишь своему сыну на православный нательный крест. Парень заслужил. Твою веру я уважаю, ты с ней и уйдёшь по истечении времени. А сына... сына своего, Махмуда, изволь покрестить, кузнец Димитрий. Ему здесь жить и своих сыновей растить. Через неделю, когда привезёшь мне свои изделия, пойдём в главный храм Москвы, там и покрестим твоего сына. Крёстным отцом ему стану я. Так что назовёшь сына крещёным именем Иван. Согласный?
— На всё воля Аллаха, великий князь.
— У нас пока в силе воля великого князя... Так будешь на Москве через неделю? Или тебе долго надо творить монетный чекан?
— Через неделю, по воле великого князя, я буду на Москве...
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
— Великий князь Иван Васильевич Третий направился гостить в удел к младшему брату, Юрию! — радовались московские люди.
— Айда кто куда! — звали в подлый и тайный жидовский шинок на Ярославском тракте, у реки Яузы.
Шинкарь с утра крестился на московские колокола, а ночью качался туда-сюда, долбя свой молитвенник. Люди видели, люди знают. Сволочь... Только вот выпить на шармака[52], за полкопеечки, можно только у того шинкаря. Эх!
«Айда» кончилось прямо за бродом через реку Яузу. Там стоял конный отряд сотника Эрги Малая. Это если кликать его по-русски. Три сотни «Чёрных клобуков», перешедших из Черкесии на службу великого московского князя, носили чёрные папахи и чёрные бурки, а скакали на белых конях. При саблях, конечно, при кинжалах да при дальнобойных луках. «Чёрные клобуки» исполняли окрест Москвы охранные деяния.
Каракалпаки эти за прошлый год вырезали три шайки воров, а в этом году сшиблись с казанскими татарами, имевшими настроение раздербанить большой русский обоз, поднявшийся с низовий Волги и вёзший вяленую рыбу на московский торг. Чтобы не ходили доносные разговоры про судьбу тех пограбёжных татар, черкесы, как шептались на базаре, утопили татар в Москве-реке. Всю сотню. Так что за филёвским мостом воду брать пока было нельзя.
— Водку пить пошли? — мирно спросил московитов Эрги Малай. — Нэ хадите, пажалуста. Шинок гарит давно, один уголь теперь естем. Коган Ибан так велел: «Чтобы только уголь — гаварит, остался. Уголь — и тот в реку смыть! Вместе с жидовской костью»! Ха-ха-ха! Пачему нэ смешно?
Москвичи разом сказали: «ха!» и повернули от Яузы назад, в город. В городе дело всегда найдётся — забор на своей усадьбе поправить, в храм сходить, колодец почистить. Выпить тож. Копеечку за чарку! Едрить в твоё дышло! А чтобы нормально выпить, надо три чарочки! Три копеечки! А это ведь шесть курей! Дорого! Не наработаешь за три дня на один штоф водки! Пропало лето! Чтоб великому князю сесть в болото голой задницей на Ваге. Там, рассказывают, болота больно студёные... Ведь московские кабаки, все три, они княжеские! На московских людях бешеные деньги зарабатывает князь, чтобы ему в том болоте пиявки в гузно впились!
Иван Третий не велел гнать гонцов на Вагу, решил нежданым приездом обрадовать и младшего брата, Юрия, и того важского боярина, Ваньку Сумарокова, который именем великого московского князя нёс ответ за охрану архангельского побережья от наплыва разных кораблей.
За неожиданностью визита следила татарская конница из крещёных воинов. Они широкой дугой шли от Ильмень-озера повдоль реки Северная Двина. Кто попадался на пути, того гнали назад, в сторону Вологды. Сзади повозочный поезд великого князя прикрывали около тысячи русской конницы, да столько же пеших рейтар, усаженных на телеги. А по правому берегу Двины шли и русские, и татары — три тысячи конных служивых. Шли резво, быстро.
Вот уже какой год ходят к селу Архангельскому иноземные купецкие корабли. Больше всего англицкие и шведские. А это значит, во-первых, что из покупных товаров — леса, пеньки да прочего — иноземцы построят себе ещё больше кораблей. А во-вторых значит, что младший брат, Юрий Васильевич, свою казну собирает не только с датошных людей, как заведено по обычаю и удельному праву, но и имеет большой прибыток с государственных великокняжеских границ. И незнамо куда тот прибыток девает, с кем им делится! Отлупить бы Юрия-дурака розгами, да ведь у того у самого уже дети!
У города Холмогоры пришлось делать остановку. Брат Юрий всё же прознал про поезд великого князя Московского и бросился встречать. Великому князю подвели разубранного в боевую сбрую вятского битюга. Князь пересел из повозки на огромного коня и так, в седле, татарским обычаем, ждал приближения брата.
Брат Юрий Васильевич приближался тоже на коне. На татарской степной кобылке. За ним спешил конным ходом десяток русских охранных бердышан, как положено. А сразу за охраной скакало шестеро иноземцев — по крою платья видать.
Подскакали. Братец Юрий соскользнул из седла, встал на одно колено, склонил голову. Бердышане личной охраны удельного князя, тоже попрыгали из седел, упали головами в землю, скинув шапки. Только иноземцы даже не шевельнулись в сёдлах. Перекидывались словами, кто-то хихикал.
— Шуйский! — проревел великий князь. — А подай сюда Надёжу Черемиса!
Братец Юрий разом побелел лицом, похлеще бабы-блудодейки. Не вытерпел, повернулся к иноземцам, что-то крикнул шведским горловым слогом. Иноземцы задумались, потом расхохотались.
А перед великим князем Московским предстал Надёжа Черемис, огромный детина, в малиновой рубахе, чёрных штанах в плисовый подбор, в зелёных сапогах персидских — носы загнуты вверх. В правой руке Черемис легонько качал кривой арабский меч, тот, что к концу сильно расширяется, а у загиба, на самом конце, заужен в жало тонкого острия. «Крисом» тот меч кличут в русских пределах.
Братец Юрий лёг на землю, пополз на брюхе целовать сапог старшего брата.
— Раньше не мог догадаться? — грозно, невмоготу себе, проорал Иван Третий.
— Брат мой родный! То ведь есть иноземные купцы! Шум пойдёт!
— У меня в свидетелях пять тысяч войска. Каждый скажет, что московскому володетелю не один этот шпынь поклона не отдал. Черемис, хэйя!
Надёжа Черемис, мягко ступая, по очереди подходил к каждому иноземному купцу. Легко валил его вместе с конём на землю и в момент падения отрубал телу голову. Двое купцов стали было поворачивать коней. Но там, сзади, в ряд стояли хмурые великокняжеские бердышане, потряхивая огромными боевыми топорами. Солнце бегало, искрилось на отточенных лезвиях.
— О! — похвалился Надёжа Черемис, взяв в каждую руку за волосья но три иноземных головы. Он подошёл к Ивану Третьему, бросил головы князю под ноги.
Рассчитанным движением Иван Третий, не глядя, достал из кармана шубы золотой венгерский дублон, подал его Надёже. Черемис дублон схватил, облыбзал добрую княжью руку и пошёл втыкать арабский крис по рукоять в землю — чистить от преступной крови.
У братца Юрия в глазах замелькали тени, он почуял страх.
— Вставай, братец, давай хоть обнимемся за нежданную встречу! Как там мои племянники? Научились стрелять из детских луков, что я им послал прошлой зимой? — ласково, как ни в чём не бывало, спросил великий князь Московский.
Татары позади братца Юрия кидали на телеги тела казнённых иноземных купцов, успевая шарапнуть по ихним карманам.
— Научились, брат...— бормотал Юрий. — Пошто ты так?! Ведь теперя ни один корабль к сельцу Архангельскому не придёт!
— Пущай не приходит. Мне-то от их приходов какой прибыток? Мне, володетелю сих приморских земель, а?!
Младший брат великого князя махнул рукой, поднялся с земли, пошёл, сел на лошадь. За тот малый срок, что он здесь правил, малым флотом ходили сюда иноземные купцы, и он получил от них почти сто русских фунтов серебра! Тогда как годовой оброк и подворный сбор со всей Ваги не приносил и двадцати пяти фунтов. На эти деньги как жить на северских, стылых землях? И вот те нате — старший брат явился!
Юрий Васильевич от испуганного томления в голове и не вспомнил, что половину тайных сборов от иноземных купцов он совсем недавно втихоря отправил в Великий Новгород, доверенному купчишке киевского жида Схарии, осевшего в Новгороде якобы аж с 1570 года по новому исчислению лет, от которого и пошла по Московии зараза жидовской ереси. А за жидом стояла свирепая и на всё готовая Марфа-посадница.
Вечером в Холмогорах старший брат вразумлял младшего брата. Сидели в малой горенке. Иван Третий с удовольствием выпил шотландского самогона из ржаной отруби, сожрал десять полных ложек красной икры, пополам с белым рижским хлебом, мазаным жёлтым маслом холмогорских коров.
Позади Юрия сидел скотина Шуйский. Тоже ел всё, что и князь. Но успевал, гад, и саблей скрипеть. То вынет из ножен, то опять заткнёт.
— По удельному русскому праву, — толковал Юрию прописные истины великий князь, — всё, что приносит тебе удельная земля, то — твоё. А море не трогай! Моё оно, море. Сиречь, как и те корабли, что приплывают по этому морю. Рыбу морскую али тюленей, что на берег вытащат твои люди, бери себе.
— И ежели иноземный корабль какой вытащат твои люди на берег, то и корабль бери себе, — сказал сзади сволота Шуйский. — Со всей оснасткой и всем добром внутри.
Мысль Шуйский изрёк пограбёжную, но очень свежую. Юрий Васильевич внимательно глянул на старшего брата. Иван Третий тотчас кивнул на слова своего конюшего:
— Выбросит чей корабль на берег — волоки себе! А команду корабельную, капитана и прочих можешь отсылать ко мне, на Москву. Ибо нет у тебя права распоряжаться иноземными делами... Завтра мы сами, без тебя, проедем до села Архангельское. Поглядим да кое-что там уладим — наверное, так же, как Надёжа Черемис. Спать пошли!
Весть о том, что на побережье Белого моря добрались татары, рано поутру сорвала на крик весь приморский посёлок в сотню дворов. Бабы завыли, мужики похватали багры. Английский бриг, две датских шхуны да три же шведских купеческих «развала» выбрали якоря да чутка отдали рифы на парусах и завертелись в полосе прибоя, ожидая хозяев.
Иноземцев здесь всегда радовало, что в заливе подле села Архангельское дно мелкое, приливов и отливов нет. Корабли, специально построенные для каботажного, прибрежного плаванья, подходили к берегу на сто шагов, едва касаясь килями неопасного песчаного дна. Человек с берега мог запросто подойти к кораблям, вода ему доставала по пузо. Бывало, что так, наскоро, без лодок, приморские люди разгружали и нагружали суда. Неужели этот рай для иноземцев закончился?
Татары, числом больше тысячи конников, воем и посвистом обозначили своё прибытие. К удивлению местных мужиков, татары стали втыкать с южной стороны деревянного архангельского храма свои пики, к пикам привязывали коней и чинно, снявши малахаи, заходили в храм, крестясь.
Местный поп, услышавший татарский вой, положил поклон на икону Николая Угодника, спрятал под рясу литой линовальный крест, а взамен достал топор из-под алтаря. Татары же, войдя во храм, падали перед попом на колени, клали крестное знамение, как положено православным чином, и стукались башками о грубый пол. Встав, они целовали у попа руку, в коей зажат был топор, клали на алтарь деньги, украшения, кинжалы, даже кое-что из дорогой одёжи. И чинно покидали храм.
Последние татары отъехали от храма и сразу взяли в намёт на Холмогорский тракт. Из перекошенных дверей храма донёсся хриплый голос попа:
— Люди! Христиане! Помогите!
Поморы протолкнулись через узкую дверь в тесное церковное строение. Поп стоял на алтаре, ибо стоять больше было негде — всё пространство храма завалили татарские дары.
— Чего ж ты кричал? — удивился староста рыбарей.
— Кричал, чтобы про кирпич озаботились, христиане. Пора кирпичный храм возводить! Да поболее нынешнего! Раз в пять!
А с улицы заорали бабы:
— Великий князь едет Московский! Спасайтеся! Детей прячьте в погреба, молодух в лодки, лодки толкайте в море!
Шуйский с двумя бердышанами втащил в избу старосты удельного воеводу Ваньку Сумарокова. Того самого, что должен был исполнять надзор за удельными делами, а особливо беречь русскую границу по морскому берегу.
Великий князь сидел за деревянным столом и с немалым удовольствием тянул из фаянсового немецкого блюдечка горячий травяной настой, нежно оглаживающий брюшное нутро.
— Ванька, — разулыбался великий князь Московский, государь всея Руси, — а я, вишь, в гости к тебе пожаловал.
Ванька Сумароков как был брошен на пол, на четвереньки, так и стоял враскорячку, головы не подымая.
— Ванька! — совсем задушевно молвил Иван Васильевич. — Спасибо тебе от меня великое!
Староста поспешил долить в блюдечко Ивана Третьего ещё толику полезного настоя.
— Теперича, Ванька, собирай свою семью, сундуки и прочие животы свои. Поедешь со мной в Москву. И это, не забудь, Ванюша, свою казну, что собрал ты с пятидесяти шести иноземных кораблей, побывавших здесь, под твоим приглядом, за три лета...
— Один корабль, великий княже, имел пушки, так что он торговым не считается, — спешно подсказал староста архангельских рыбарей.
— Не суйся под руку. И военный корабль сюда приходил чего-то же брать. А? Покупал? Деньги платил?
Воевода Ванька Сумароков молчал. Сволочь и хитроумец — нынешний великий князь. Брата своего сюда, младшего, Юрия, в Архангельское, вишь ты, не взял. Не на кого теперь свалить вину за приём чужих кораблей. Брата своего кто же станет толкать на плаху? А с другой стороны, своих кораблей на Руси нет. Окромя чужих, кто же придёт?
— Своих кораблей на Руси нет, — темно, мутным голосом пробормотал воевода Сумароков. — Окромя чужих, некому заходить. Вот они и заходят. Воды набрать, хлеба, рыбца солёного... Вот за ту воду, за тот хлеб и платили иноземные купцы. Тебе сии деньги причитаются, великий князь. — Ванька Сумароков кое-как вывернул из кармана охабня[53] десять серебряных монет чешского чекана. Дотянулся до стола, высыпал серебро на скатёрку перед великим князем.
— Молодец! Деньги несёшь в казну! Целых десять талеров! — проорал Иван Третий и треснул по волосатой седой башке воеводу Сумарокова краем фаянсового блюдца, да так ловко, что рассёк кожу. Лицо воеводы немедля стала заливать кровь. — Тащите его на улицу, к людям!
На улице уже собрались все поморы, что были в селе. В стороне, на песчаном берегу, вытащенные до половины корпуса, чернели в прибойной волне шлюпки с иноземных кораблей. К толпе возле старостиного дома медленно шли шестеро иноземных капитанов, заранее снявши шляпы. Их уже оповестили о судьбе убиенных купцов.
Великий князь оглянулся на капитанов, когда про них шепнул Шуйский.
— Тела им отдай, Шуйский, пусть тела заберут.
— А головы?
— Сейчас же вбей колья здесь, на берегу, и пусть татары посадят на них те головы мордами в сторону моря! Намёк всем приезжим!
Иноземные гребцы со шлюпок, мараясь в крови, потащили безголовые купеческие тела по лодкам. Головы открытыми безумными глазами смотрели в даль Белого моря.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
За толмача выступил тонкий и сухой архангельский мужик, слегка хромоватый. Толковал он добротно, сразу за князем, будто эхом служил у Ивана Третьего.
— Немцы! — рявкнул великий князь. — Нонешнее дело... — он показал на кровящие головы, — есть наказ будущим заморским купцам и капитанам, возжелавшим посетить Русскую землю. Наказ простой: пришёл — плати, ушёл — плати, купил — плати. Тяготного ничего в тех платежах вашим купцам нет. А чтобы купцы лучше считали, с этого дня я оставляю здесь моих людей числом в сотню. Половина имеет пищали с огненным боем...
Староста рыбарей подсунулся сзади под плечо великого князя:
— Сотню людей, великий князь, обустроить же надобно. Избы жилые нужны, изба мыльная, изба столовая, изба сторожевая, изба счётная, подьяческая...
Иван Третий обернулся к старосте:
— Мудёр же ты, мужик! Раз имеешь такое правильное рассуждение, станешь здеся пока заместо воеводы. И с его правами. А избы... Ты правду баешь, зима катит. Но мне татары докладали, что по Двине сюда движутся плоты, сотня плотов отменного строевого леса. Вот из чего будешь избы ставить! Уразумел? Давай! Бери людей и шилом гони за плотами!
Тяжёлый, плотный капитан с большого английского корабля выступил вперёд и что-то зло проговорил. Толмач тут же перевёл англицкие глотательные звуки на чистую русскую речь:
— Говорит, что это его плоты плывут по Двине. Его купец их купил, он их хозяин. Хозяин двух тысяч брёвен!
— Надёжа Черемис! — крикнул, услышав перевод, конюший Шуйский.
— Погоди орать, — остановил любимчика великий князь. — Сам разберусь.
— Что ты! — испугался Шуйский. — Глянь, какая у него шея толстая. Два раза саблей махнуть придётся, чтобы этот вор голову уронил наземь. А тебе, великий княже, два раза махать сабелькой невместно!
— Годи, сказал! Разбор пойдёт в ином разряде. Слышь, англ! Сколько твоим купцом было уплачено за лес?
Англ ответил без раздумий.
— Не врёт, великий княже, что покойный его купец уплатил по три шиллинга за десяток брёвен, — шепнул толмач. — Только, по совести говоря, у нас не меньше двух шиллингов стоит каждое бревно. Лес-то в плотах — мачтовый! Одна лесина в десять сажень[54] длиной! Англ волокёт его к себе не дом строить, а корабли. И у них там такой лес идёт по пять шиллингов за бревно!
— Да, золото, а не лес. Я твой лес перекупаю, англ! Даю дороже — по три шиллинга за бревно! Плачу не серебром, плачу золотом!
— В тех плотах две тысячи строевых брёвен! — разошёлся считать толмач. — Это будет...
Шуйский подсказал сзади, тихо:
— На венгерские деньги выйдет самая малость — всего сто десять золотых дублонов за тот лес! По англицкому счёту. Даже выйдет с переплатой, великий княже!
Иван Третий отвязал от седельной сумы два кожаных кошля, подкинул их на руке.
— Ну, тут станет сто золотых. Полагаю, что хватит. Возьми расчёт англ!
Шуйский подскочил, переял у князя деньги, поднёс английскому навигатору. Делать нечего. Тот куснул несколько монет, потряс в руке. Тяжеленные монеты, золотые. Капитан сунул кошли в широкие карманы кителя, повернулся и пошёл к своей шлюпке.
— Теперь у меня слово к остальным корабельщикам. Я, великий князь Московский, государь всея Руси и володетель сих земель, забираю весь здешний товар под себя. На три года вперёд! Плачу золотом! Если давали честную цену за товар, что лежит сейчас в пузах ваших кораблей — плывите с миром. Если воровали, опрастывайте корабли. Старшинка! Считай!
Старшина рыбарей с опаской глянул на воеводу Сумарокова.
— Чего на него пялишься? Мёртвых не видал?
— Так он это, великий княже, он ещё... того... шевелится.
— На Москве замрёт навечно. Ты говори, что надо.
— А чего говорить? Скажу правду. У своих, у данов, или шведов, эти гады берут тюлений жир в три раза дороже, чем у нас. А уж про канаты и про лён я и не говорю, княже. Такого товара нигде нет, а они, вишь ты, орут, что у них единственных есть деньги. И нам за товар дают столько, сколько похотят. И правда тут ихняя. Кому мы свой товар продадим, окромя как не им? Ведь деньги-то нам нужны! Брату твоему, Юрию, подать нести в удел надо? Надо! Да нам прикупить чего — вроде ножей, пил, топоров... Иглы нам нужны особые, рыбацкую одёжу из рыбьей кожи шить. Такие иглы мастерят только шведы! Полный разор нам! Наших денег-то нет!
— Будут, — коротко бросил Иван Третий, прищурившись. Он глядел мимо старосты на манёвры большого англицкого корабля.
Корабль повертелся, стал боком к селу. От борта поднялись вверх щиты, обнажив четыре пушечных люка.
— Кереметь твою маму! — крикнул в сторону корабля великий князь. Повернулся к Шуйскому: — Выкидывай на волю вымпел «К битве»!
Над толпой тотчас заполоскался чёрный и страшный русский златотканый стяг с косыми прорезями. Татары махом ринулись на конях прямо в море, навстречу англицким ядрам. Архангельцы сталкивали в воду свои баркасы. Шуйский орал:
— Резать только англа!
Английский корабль дал залп из четырёх пушек. Ядра просвистели над головами людей, окружавших великого князя, взбили землю возле поморских бань.
Иван Третий тронул толмача за плечо:
— Остальным капитанам скажи, что их я не трону. Пусть выгрузят товар или мне за него доплатят. И плывут себе с миром. А этот англицкий скотина не уйдёт!
Почти полтысячи татар и русских, бросая верёвочные удавки и железные кошки, зацепили за такелаж англицкий корабль. Полезли на палубу... Русские резались с англами молча, татары дико выли. Шуйский бегал по берегу с оголённой саблей, орал:
— Княжье золото хватайте, золото хватайте! — Потом прокричал исключительно для великого князя: — Остервенели наши напрочь!
В воду полетел порубленный на куски морской стяг англов, потом плюхнулись оба якоря. Связанного капитана поморы пронесли по воде и кинули под ноги великого князя. На брюхо капитана осторожно положили два кошля с золотом.
— Пущай здесь полежит, — сказал великий князь, забирая денежные кошли. — Дел у меня много. Управлюсь со своими делами, управлюсь и с ним.
Капитан англицкой шхуны вроде заматерился по-русски, но кто же поймёт кота, решившего полаяться?
Великий князь пошёл в избу к старшине, подтолкнув и толмача. За ним потянулись совсем ошалелые капитаны пяти оставшихся на рейде кораблей.
Народу в избе набилось достаточно. Великий князь крикнул Шуйского — тащить казну. На деревянный стол старосты из шести кожаных мешков Иван Третий высыпал триста золотых венгерских дублонов.
— Вот! Старшина! Архангельцы! Это плата за ваши товары на три года вперёд. Пишите роспись, чего я на эти деньги у вас наперёд как бы купил да по какой цене. Кто из других стран придёт, велю продавать им дороже, чем мне! То, что возьмёте сверх моих денег, то ваш прибыток. Довольны вы, люди?
В избе весело, но неуверенно зашумели.
— Добывайте в море, обычным порядком всё, что добудется и везите товар мне, на Москву. Везите к зиме моржовый жир, рыбу треску, оленьи шкуры... Чего нам ещё надобно, Шуйский?
— Что эти немаканы сюда привозят... Толмач! Толкуй им, живо! Иглы нам на Москве тоже нужны, оружие огненного боя, рейтарские нагрудные доспехи, порох, кузнечные наковальни, железо полосами! Всё нам надо! Всё пусть везут сюда, а вы покупайте и нам перепродадите на Москве.
— А дорога-то к вам, на Мосокаву, больно страшна. Лихие ушкуйные люди шалят на дороге-то, — вмешался староста рыбарей.
Иван Третий кивнул, согласился, что да, дорога пока страшна. Но голосом вот что сообщил:
— Я тракт от Архангельска до Вологды велю взять под татарскую охрану. Будете спокойно гонять обозы. Татар, знамо дело, прокормите олениной. Им что олень, что тюлень, было бы мясо!
— А от Вологды до Мосокавы как? — не унимался староста.
— От Вологды и заяц без моего пригляда по дороге не проскочит. Там охранные заставы уже поставлены, под рейтарской стражей пойдёте...
Тут Шуйский загорелся мыслию:
— А может, великий государь, половину рыбных припасов да оленину, пусть сразу везут к вятичам? На город Хлынов? По Западной Двине точно на Хлынов и выйдут. А?
Иван Васильевич нахмурился. Шуйский дело говорил. Да как бы не проговорился! По зиме вятичи с северной стороны встанут под Казанью, как тайно договорено. Съестной припас по зиме для войска, вестимо, лучше пушек.
— Варнаварец! — шумнул Иван Васильевич ближнего особого дьяка. — Понял смысл?
К столу протиснулся здоровый рыжебородый дьяк Варнаварец, человек сербских кровей.
— Проводников на Вятку дадим, — стал говорить Варнаварец поморскому люду. — Но надо бы успеть до первого снега. Сделаете?
— Ат-тара бас![55] — выкрикнул поморский старшинка и тут же отвернулся, резнул сам себя по затылку: что-то сообразил.
Иван Третий кивнул головой Варнаварцу. Тот утянулся обратно в угол комнаты. А то так можно и впрямь проговориться, что ждёт нонешной зимой Казань.
— Без хлеба присели нынче вятские люди, — сообщил полную ложь Иван Васильевич. — Просили оказать поможение...
— Окажем, великий княже! — засуетился старшинка. — Только вот...
Иван Васильевич тут же достал из кармана мешочек с золотыми монетами.
— Там золотых — двадцать штук. Хватит? За рыбу, оленину, ну и назад чтобы доехать — коней себе прикупить.
Народ поморский зашумел. Старшинка сказал, давя в себе слезу:
— Вот ведь! А? Вот как государевы дела делаются! Хватит нам этого золота, великий государь!
Здоровенный помор, молодой, но до бровей бородатый, с удовольствием на лице бухнулся на колени перед великим князем:
— Благослови, великий князь, возить на Москву жемчуг!
— Чего? — расшеперил глаза Иван Третий. — Откуда здесь жемчуг?
— Да полно его по нашим рекам, — пояснил хромый толмач. — Вот, гляди... — он вытащил из кармана горсть крупного, речного жемчуга, сияющего под свечами, запалёнными в избе ради великого князя.
Великий князь с немалым удивлением катнул по столу жемчужины. Они покатились с тихим шумом — так шумит только жемчуг.
Шуйский подлез под левую руку князя. Ему толмач пересыпал жемчуг, сказал:
— Наш поморский подарок великому князю...
— Отменный жемчуг, великий князь, — покачал тяжёлые сияющие шарики конюший Шуйский. — Арабы взвоют, если мы его протолкнём в Ганзу...
— Покупай, — велел великий князь. — Поморы! Шуйский будет покупать ваш жемчуг! Мне пока он не надобен. Мне чего понасущнее надо! Русь такими шариками не защитить. А вот рыбой да железом, это по мне!
К столу протолкался здоровенный швед с рыжей до красноты бородой:
— Мы, капитаны, великий князь, все доплатим тебе. Не вели опустошать наши трюмы.
— Не велю, — согласился Иван Третий.
Швед потоптался, спросил уже не басом, а тихохонько:
— Разреши забрать с собой англицкого капитана. Он там, на песке, замёрзнет.
— Не разрешаю. Это добыча вон того боярина Шуйского.
Шуйский, выпучил глаза, грозно сообщил шведу:
— Год стану держать англа на своём подворье, в Москве. Кормить, поить. Кто приедет выкупить, тому отдам. А цена ему — двести рублей серебром или... или восемьдесят венгерских дукатов золотом.
— Кораблю как без капитана? Подожди, сейчас соберём тебе рубли, выкупим...
Тут вмешался великий князь. Он выдернул свой кинжал из ножен и воткнул в деревянный стол. Шуйский немедля пал на колени. За ним стали грохаться об пол остальные люди поморского края. Иноземные капитаны помедлили и тоже встали на колени.
— Корабель теперя мой! — заорал Иван Третий. — Он на меня напал с пушками, а это есть война. Корабль я взял в полон! Капитана Шуйский взял в полон! Всё теперь наше! За капитана платите Шуйскому, так и быть. А мне за корабль пятьсот фунтов стерлингов готовы уплатить? Нет? Тогда корабль — мой!
— Оно так. Оно есть справедливо, государь. — Швед поднялся с колен, держа в руке упавшую на пол золотую монету. — За капитана дадим плату, за корабль — нет. Бери его. Он твой. — Швед осторожно покосился на жуткий персидский кинжал и аккуратно положил золотые монеты на самый край стола.
Иван Третий самолично сгрёб монеты в кучу. Но кинжал так и оставил торчать в столе. Золото, великий князь сие знал с детства, людишек околдовывает. Кто золото хоть раз увидит, тот на серебро плеваться станет. Иноземцы увидели мешки с золотом. И кинжал рядом с Божьим металлом. Этого Ивану Третьему пока достаточно.
Его самого золото не трогало. Ему спокойно жить мешала земля. Чужая земля. Под другими володетелями. Но та, которая просто мечтала стать русской.
Вечером, когда иноземные корабли потерялись в серой мути Белого моря, князя Юрия Васильевича, приехавшего с повинной, позвали в Старостину избу, где остановился ночевать великий князь.
В сенях Юрия встретил княжеский дьяк Варнаварец. Он высоко, к самому лицу князя Юрия поднёс плошку с горящим тюленьим жиром. Глухо сказал:
— У великого князя с тобой станется не разговор — подлинный допрос. Говори по чести и по совести. Жить тогда будешь! — И уже в голос добавил: — Проходи сюда, Юрий свет Васильевич! Дверь в горенку вот она, тута!
Удельный князь Юрий Васильевич никак не мог смочить язык слюной, чтобы ответить наглому подьячему. Пока гонял сухой язык, на улице раздался конский топот и тяжёлое тело коня тупо грохнулось на землю, захрипело. В сени ввалился рослый детина в красном кафтане и в красной шапке с пером сокола по правому обрезу.
— Обожди, гонец, тут... — засуетился Варнаварец.
— Я тебе обожду! Война! Третьего коня загнал, — шумнул гонец. Он стукнул кулаком в дверь избы и, не дождавшись разрешения, вошёл.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Поутру первыми ушли от Архангельска сибирские татары. Ушли полной Ордой в сторону Великого Новгорода. За ними туда же понеслись двадцать гонцов великого князя, у каждого на шапке торчало по два сокольих пера. Спешный, спешный гон! Два гонца, но уже с тремя «соколами» на шапках, да каждый при трёх запасных конях, удерживали разгорячённых коней у Старостиной избы.
Государев подьячий Варнаварец протянул великому князю два толстых листа бумаги. Иван Третий, нахмурившись, пробежал исписанные листы, хмыкнул при виде отпечатка детского пальчика, положил листы на спину пригнувшемуся Шуйскому, на каждом написал своей рукой: «Великий государь всея Руси руку приложил». Отдал листы гонцам.
Те понукнули застоявшихся коней, в галоп пошли по широкой улице села, подбадривая себя взвизгами.
— У кого такой маленький пальчик? — спросил великий князь, не оглядываясь.
Варнаварец тихо ответил:
— Детей в Архангельском много...
— Молодец. Князя Юрия шумни ко мне.
— Здесь я, великий государь. — Удельный князь Юрий Васильевич поклонился старшему брату малым уставом.
— Помнишь наш писаный договор? Про то, что станешь ты мне, великому князю Московскому, везде и во всём помогать и повиноваться. А?
— Как же! Помню.
— Ну-ну. Собирай своё войско и двигай за мной.
— А куда?
— На Новгород. На Великий Новгород пойдём, удельный князь Юрий Васильевич. На город моей земли, который меня продать и предать задумал. И воевать меня задумал. Давай торопись, я повелел «поход»...
Большой воевода Иван Юрьевич Патрикеев при гонце прочёл указ государя всея Руси Дмитрия Ивановича немедля двигать большой полк на Великий Новгород. К сердцу подступила одышка. Руку великого князя Московского Ивана внизу листа он узнал. А пальчик... пальчик мог кто угодно приложить.
Вестей к нему из Москвы от Еленки молдаванской о походе на Новгород из Москвы не доносили. Выходит так, будто малолетний Дмитрий своим именным указом велел брать на брань Великий Новгород, а великий князь и государь всея Руси Иван Васильевич с этим согласился. Но он, великий государь, тут как бы и ни при чём.
— А кто пальчик... пальчик кто приложил?
— Великий государь Дмитрий Иванович приложил. Наследник, — ответил гонец. А рожа у самого — замоскворецкая, сытая, наглая.
— Чего врёшь? — сорвал горло на крик Иван Юрьевич. — Кому ты врёшь? Ты же от Архангельска сюда пришёл!
— Я не от Архангельска сюда пришёл, — нагло ответил гонец. — Я от великого государя Ивана Васильевича пришёл!
Иван Юрьевич оглянулся. Трое тысяцких большого полка стояли в пяти шагах от них. Лица строгие, тихие.
— Чего? — рявкнул на тысяцких Патрикеев. — Чего... делать-то?
Тысяцкие развернули коней, поехали прочь по пыльной улице городка Порхова. Тысяцкие не решают что делать, им команда нужна, не более того. Иван Юрьевич крикнул им вслед:
— Разводите заставы! Выступайте на Великий Новгород!
Тысяцкие понукнули коней, взяли в галоп...
Данило Щеня, недавно назначенный воеводой засадного полка, стоявшего в двух переходах от Великого Новгорода, ходил по стёртому ковру шатра, ругался про себя. Просто так он без дела стоять не любил, а дело затягивалось.
По-над речкой Болховкой, на которой стоял засадный полк, послышался топот коней, потом ругань с караулом. Московский говорок и новгородскую брань различить было легко. О, дело приехало!
— Пропустить! — проорал через полог шатра Данило Щеня.
В шатёр, продолжая ругаться, вошли новгородские люди. Оружия при них не имелось. В первом вошедшем Данило Щеня узнал старого знакомца, купца Великого Новгорода Ваньку Коробова.
— Здрав будь, боярин! — Ванька снял шапку, двое других смиренно поклонились в пояс.
— Здорово, Иван, сын Петров, — Данило Щеня крепко пожал пятерню Коробова. — Зачем пожаловал в мой стан?
— Дак тут, это... поздравить тебя, боярин Данило. — Ванька вдруг затоптался, заоглядывался. — С повышением в разрядном чине хотим поздравить.
— Поздравляй, Ваня! — с полной радостью в голосе ответил Данило Щеня.
— Отобрали наши поздравления, — прогукал низким голосом старший возрастом новгородец. — Тюки поотобрали.
— Военный стан, — развёл руками боярин Данило Щеня. — Но тюки вернут. Сейчас мы тут сами... — Он свистнул.
Здоровые парни из обслуги тут же принесли малый бочонок с монастырской водкой, разные заедки. Данило отмахнул челядинцам уходить, сам разлил водку в чары:
— Ну, по единой!
Выпили. Заели копчёной рыбкой — день был постный, пятница — похрумкали солёными грибами. Ванька Коробов наклонился к Даниле:
— Наши посадники послали меня к тебе как старого знакомца. Желают знать, почто великий государь идёт к Великому Новгороду с большой силой?
Данило Щеня налил по второй чаре, хотя пить ему никак нельзя было, с утра ждал гонца от Ивана Васильевича, а сейчас уже обед. Где гонец, естива амбара? Тут не до гостей...
— О том, что творит великий государь всея Руси, он мне не докладывает. Так что... Чего хошь проси, только не ответ на свой вопрос. Выпили по второй?
Ванька Коробов выпил, не закусывая. Его явно побивала нутряная дрожь.
У недалёкого брода через реку Болховку заорали, засвистели. В шатёр просунулся караульный:
— Гонец к тебе, воевода, от государя нашего, Ивана Васильевича.
— Наконец-то! Давай сюда!
Гонец о трёх «соколах» на шапке ввалился в шатёр. Воевода Данило Щеня уже успел плеснуть в чашу крепкой водки, сунул чашу гонцу в руки. Гонец с чувством выпил, ухватил кус жареной осетрины, мазанной хреном, а другой рукой тянул к Даниле узкий кожаный мешок с грамотой.
Данило грамоту взял, перекрестился, махом развернул, быстро пробежал глазами.
— Эк! Эй, караул!
В шатёр вошли двое караульных да ещё пяток их затоптался снаружи.
— Вот этих, новгородских, отведите в обоз да отдайте им ихние тюки. И чтобы — сторожить! Этого, Ваньку Коробова, я пока при себе оставлю.
— Ну, в ворота твои чтобы твоё хозяйство не влазило! — ругнулся старый новгородец. — Ну, Ваня ты Ваня! Говорил я тебе!
Данило Щеня подождал, пока новгородских уведут подалее, сунул гонцу серебряную полтину и штоф с недопитой водкой, проводил его до выхода. Повернулся к Ваньке Коробову:
— Ванька, ты меня прости, но попал ты в недобрый час на мой стан.
Купец Коробов затопал ногой по стёртому ковру шатра, молчал. Данило Щеня шёпотом помянул купцову мать, но громко свистнул. Шатровый полог откинулся, вошли без спросу оба тысяцких засадного полка:
— Чего изволишь, боярин?
— Выводите полк махом. Как уговорено. Обозы пока пусть здесь ждут, назавтра тронутся. Пушки держите на задах похода, при снарядах. Да крикните моим холопам, пусть шатёр снимут. Я сейчас догоню головной дозор.
Тысяцкие выбежали, на ходу крича команды полкового строя.
— Некогда, Ванька, некогда балакать. Сейчас вот, возьми княжий знак. — Данило Щеня оборвал от левого плеча лоскут кожи с наплавленным на него серебряным атакующим соколом. — Возьми знак и гони через наши заставы. Там будут Татарове, так то наши татарове. Кто спросит — покажешь им знак.
Ванька Коробов вроде что-то сообразил:
— Да как же это, Данило? Война?
— Хуже, Ваня, хуже, чем война. Ты, ежели жить хочешь и семью сохранить, и нажитое тобой, так вот что сделай. Ты приволоки мне на поход жида Схарию. Знаешь такого?
— Слышал... Но он говорят, покрестился...
— Приволокёшь мне сюда на поход жида Схария, — жёстко повторил Данило Щеня, — тогда будешь жить на Москве при животах своих и при торговле своей. Именем великого государя это говорю. Жид Схария сейчас укрылся в старом монастыре, у Нево-реки. Вымани его, приволоки мне, тогда всё тебе будет. Давай!
— А мои товарищи, они как?
— Пусть выкуп за них готовят! Война, етива Матрёна!
Ванька Коробов, новгородский купец, выскочил из шатра московского воеводы, лицом красен, глазами бел. Боярская охрана услышала из обдираемого шатра воеводы:
— Коней ему дайте, новгородцу, он по моему делу спешит!
Старший охраны глянул на атакующего сокола в руке новгородца, хмыкнул, указал в сторону коновязи:
— Ехай, мил друг! Твоё дело правое!
Господин Великий Новгород, узнав от купца Ваньки Коробова, что москвичи точно идут на город войной, ударил в вечевой колокол. На вече постановили, что надо слать гонцов во Псков за подмогой, потом за подмогой к шведам, стоящим гарнизоном на Балтике, в устье реки Нево. И, конечно, кликать ополчение.
— Марфа-посадница, — прокричали бирючи[56] на вечевом сходе, — затворилась в домовой церкви, начала молитвенное бдение за Господина Великого Новгорода! От Марфы в сторону Литвы и неметичины посланы гонцы велеть поторапливаться с военной силой, как оговорено. Кто-то из толпы кинул в бирючей навозной лепёшкой...
Из домовой церкви до едальной палаты — двенадцать шагов по крытым сеням. Сделав те шаги после тихого, заунывного звона колоколов, Марфа велела принести заедков и белого вина. Той злой водки, которую неумеренно любил её покойный муж, Исаак Борецкий.
— Ушёл Схария, укрылся? — спросила Марфа холопа Рунгарда, пленённого ещё её живым мужем.
— Так, госпожа, укрылся. В торговой фактории. На Нево-реке.
— Ну, присядь со мной, выпей. Одной пить — чёрта тешить.
Рунгард с поклоном принял серебряный стакан с водкой, махом, по-русски, опустошил.
Марфа прожевала кусок жареной оленины, закинув в рот разом и горсть клюквы:
— Не стучи костями, холоп! Пока москвичи развернут полки, здесь будут уже немцы и шведы. Король литвинский Александр сообщил, что три полка стоят в трёх дневных переходах от Новгорода. Отобьём москвичей и тут же от них по земле отрежемся. И прирежемся хоть к Литве, хоть к шведам.
Холоп Рунгард выпил ещё следом за Марфой. И стал клониться набок. От притворства. Он знал от немецких купцов, своих земляков, что литвины и немцы полки к Новгороду не пошлют и что татары Данияровские ходят на войну не по дням, а по часам. Три часа — и вот они здесь. А стоят те татары уже второй день между Новгородом и Псковом. Пять тысяч сабель да столько же копий. Им разницы нет кого резать. Хоть псковских, хоть литвинских...
Ополчение собралось на следующий день — четырнадцать тысяч крепких мужиков со своим оружием. Собственного войска у Великого Новгорода было две тысячи, и оно село в городе на стены. Туда же вытащили три десятка разнолитых пушек, зелья для них хватало.
Оба посадника Великого Новгорода да епископ Новгородский Феофилакт по тому же утру благословили ополчение, потом проехали вокруг города на телегах с иконою Божьей Матери. Посередине пути они малость задержались: полтысячи вольных охотников встали перед верховниками Великого Новгорода на колени. Просили считать ихнюю ватагу в ратном деле и дать пару пушек да огненного зелья на сто шведских аркебуз. Посадские распорядись зелья дать, а в пушках отказали.
Объехавши город, Великий Новгород затворили.
Иван Васильевич, государь всея Руси, великий князь Московский, встал боевым станом на Старой Руссе. Три тысячи его войска да две тысячи татар взяли городок в плотное кольцо.
Татарами же были махом разбиты два кабака — вино и пиво вылили в канавы.
Свирепость московских показалась жителям страшной и невиданной. Трое самых зажиточных горожан, что бежали в ночь с семьями в сторону Литвы, были пойманы, обобраны и на месте поимки порублены саблями и стар, и млад.
На восьмой день от начала новгородской осады со стороны Великого Новгорода через Старую Руссу потянулись обозы с ранеными московскими ратниками, пошли своим ходом пленённые новгородцы, поволоклись обозные колымаги с награбленным добром.
Иван Васильевич, по обычаю, разбил огромный шатёр на холме позади города. К тому шатру спешили гонцы из полков от Новгорода. Со стороны Москвы подходили и подъезжали ратные люди и купцовый люд. Купцы московские скупали у великого князя добро, добытое в Новгороде. Иван Васильевич не торговался, отдавал добро за половину цены.
Он как раз вертел в руке древнюю монету, вырученную за награбленное, хмыкал. Тихо вошёл подьячий Варнаварец:
— Последние вести, великий государь!
— Годи! Монета, подскажи мне, чья? Сам не разберу.
Варнаварец, родом из византийских земель, с Чёрных гор, бегунец от великого султана, взял тяжёлую серебряную плитку округлой формы:
— Огня бы мне, оттиск слепой больно.
Челядинец великого князя запалил толстую свечу, поднёс.
— Ой, май карагай! Чума меня забери! — удивился Варнаварец, разглядев письмена. — Наша это монета, великий государь! Ас Сур Бани Баала Лонга! Вавилонское письмо, знак Быка! Не чекан это — литьё! Писано, что здесь шестьдесят мин серебром! В те времена три сотни боевых верблюдов стоили столько!
— Ну, купчина, ну Копейкин! — восхитился великий князь. — Выйдешь от меня, вели у этого купчины все древние монеты отобрать, заменить монетами моего чекана, вес на вес. А старые монеты спрячем. Поглубже. Потомкам на диво. Ну, а теперь — говори!
— Двое суток полк Данило Щени держал новгородское ополчение. Да, поболее чем пять тысяч лучников да шесть тысяч копейщиков и топорников ринулись было через реку Волховец на полк Данилы! Выкосили новгородцы почти весь засадный полк. Рванулись в твою сторону, да тут вот наши татары... Если бы не татарский внезапный рейд по задкам того ополчения... Нету теперь у новгородцев ополчения. Ничего у них нет! А Данило Щеня с тремя ранами едет сам к тебе, великий государь.
— Так. Отчего выкосили засадный полк — сам знаю. — Иван Васильевич зло затопал по деревянным плахам шатра, ковров на полу он не любил: насекомых брезговал.
— Конечно, знаешь, великий государь. Большой полк боярина Патрикеева подошёл к Даниле с опозданием на день да на ночь.
— Так. Патрикеев, лис старый, он где?
— Едет к тебе. Весь болен и ослаб.
— Ко мне не допускать, сунуть его в подвал Троицкого монастыря!
— Туда бы не надобно, великий государь. Там ты уже законопатил Ряполовского боярина да Бельского, сына Иуды.
— Некогда выбирать. Сидеть им всё равно недолго. Ещё?
— Жида Схарию взял на побеге к шведам новгородский купец Ванька Коробов. Ждут в твоём обозе.
— Чего это за новгородский купчик к нам перекинулся, а?
— А земляки они с Данилой Щеней, оба родом из Торжковского погоста. Данило его и подговорил жида взять. Иначе ушёл бы, собака!
— Так. Купчинке новгородскому ждать меня на Москве. Пусть там ему и дом, и прочее найдут. Семью он вывез?
— Нет, государь, семью купчинки новгородцы порезали. Узнали, что он переялся на твою сторону.
— Возмещу потерю! Город сгорел?
— До трети улиц сгорело, а так — ничего.
— Хорошо воевали, ловко! Теперь пиши на отдельном листе: «Жида Схарию определить на подворье боярина Шуйского». Шуйский уже изготовился его принять... Пиши далее, что поить, кормить, содержать с-с-скотину Схария, как бы заморского врача или там... мастера по металлу. Без обид. В ласковости и неге. Записал?
— Сейчас...
— Пиши, что расход на содержание жида Шуйский станет делать сам, потом подавать расходную бумагу на имя великого государя Дмитрия Иоанновича... Пиши, пиши... Так. Потом будет ему сделан возврат из казны потраченных средств. Но не менее как сто рублей в день...
Варнаварец поднял недоумённое лицо на великого князя, но тут же опустил лик к письму, понял, зачем пишет неуёмную бумагу.
— Написал? Теперь ставь подпись: Дмитрий Иоаннович, государь всея Руси руку приложил... Ну, детский пальчик, обмакнуть в чернила, ты сам найдёшь.
Варнаварец кивнул. Пальчик всегда найдётся. А как же государь?
— Давай подпишу сразу эту бумагу и пустой лист. На пустой лист перенесёшь, что сейчас написал, пальчик приложишь и пусть та бумага за подписью волчонка Дмитрия очутится в Литве или в Польше...
На писаном и на пустом листе Иван Васильевич в самом низу мелко, как бы подобострастно, подписал: «Согласен. Иван Третий».
Варнаварец хмыкнул:
— Могу, великий государь, перетолкнуть эту бумагу хоть папе римскому.
— Не надо. Тогда враньё почуют. Пусть ляхи слёзы умиления льют по жиду, им бы так жить... Я потом с ним самолично, со Схарием... Шуйскому накажи, чтобы жид через месяц был здоров, весел и ждал меня с радостию великой.
Варнаварец покачал головой. Да уж, иметь дело с Иваном Третьим — всё равно что целоваться с кабаном.
Иван Третий косо глянул на безмерный обоз, тянувшийся из новгородских пределов в сторону Москвы, спросил:
— Шведы — что? Литвины — как? Как псковские?
— Шведы покрутились пять дней возле берега, отошли прочь. Литвинам некогда, крымские татары осадили Киев, грабят весь юг Польской земли. А псковские молодцом стояли, своего слова не порушили. Они новгородских гонцов приняли, напоили, накормили и отправили назад. Сослались на «Договор», что у них с тобой подписан.
— У меня и с Великим Новгородом «Договор» был. Ну-ну... Теперь снова пиши! Четыре сотни семей известных, новгородских, пусть перевозят к нам, на Москву. А четыре сотни московских семей пусть заселяются в Новгород... Скота много отбили у новгородцев?
— Ой, много, великий государь! Не считано. Режут наши ихний скот, ставят сабельный удар на быках да коровах. Спорят, кто телёнка на копьё поднимет... Поелику гнать скот некому, пастухов в твоём войске нет, а татары скота себе не хотят. Им скот с собой — куда? Им серебро да шаболье надобно...
— Вели скот больше не резать, пусть бросают в поле. Москвичи, что пойдут на житьё в Новгород, тот скот себе приберут...
За пологом свистнули долгим переливом. В шатёр просунулся старшинка личной охраны:
— Делегатов ведут до тебя, великий государь. С подношением.
Иван Васильевич шагнул из шатра. На холм, тяжко причитая, волоклась лента из новгородского люда, человек двести. Посередине хода впряжённые в хомуты новгородцы тянули большую ломовую телегу. На телеге возвышался новгородский вечевой колокол.
Иван Васильевич сделал три шага навстречу серой ленте причитающих в голос людей. Узнал передних: митрополита Феофилакта, обеих посадников, именитого купчину Кузнецкого, трёх тысяцких...
Варнаварец, высокий, жилистый, на половину шага отстал от великого государя, но продолжал говорить ровно, как по писаному:
— Им твоя грамота о немедленной выдаче пятнадцати тысяч рублей известна. Вон, по задкам миловального хода везут на телегах бочки с серебром.
— А ещё? Мне ещё денег надо!
— Ещё добра разного в серебре и в одёже на тридцать тысяч серебром, отстали на полдня пути. Но везут.
— Вели новгородского митрополита Феофилакта тотчас отправить в Успенский собор. Там о нём позаботятся. Федьку Борецкого и... — в моей грамоте ещё указаны трое заговорщиков — пусть хватают у меня на глазах, везут на Москву и немедля башки рубят. Пока я сам вернусь, чтобы духом ихним там не пахло!
— А Марфу-посадницу, великий государь? Тоже казнить?
— Ни в боже мой! У Юрки Патрикеева — сволочи, лисы старой, линялой, на Москве хоромы остались впусте. Так вот, Марфу, стерву жидовствующую, в тот патрикеевский дом и определить. Вместе с младшим сыном и тремя служанками. Алтын в день ей выдавать на содержание. Роту моих немецких рейтар в охрану... А то народ наш, что московский, что новгородский, кишки ей вывернет. Пусть живёт, проживается...
Варнаварец дёрнул плечом, но промолчал. На алтын — три медных копейки в день — на Москве жить можно. Выжить нельзя!
Иван Васильевич стал спускаться от злого нетерпения в сторону воющих новгородских людей. Варнаварец спешил за ним, торопливо подсказывал:
— Вечевой колокол, великий княже, смотри не пинай, даже пальцем не трогай. И не вели кидать в печь на переплавку. Вели его повесить на простой звон, на колокольню Ивана Великого. Без особого шума, ночью. Пусть тренькает... Затухнут искры вольности в Новгороде, тогда хучь што с ним твори...
— Ну-ну, — отозвался великий князь.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Москвичи жались по углам, торги у Кремля затворились. По домам именитых горожан ездили писцы да кремлёвские дьяки, возили с собой попов. Собирайся, бросай московский дом, езжай в Новгород! Живи там, хирей от далёкой жизни! Плакали люди, а собирались. На Ивана Васильевича Третьего тогда и пало прозвище «Грозный». Злые люди по-тихому называли его и «Горбатый» — больно высок был ростом, ходил ссутулившись.
Проня Смолянов, одетый в татарский халат, застёгнутый влево, в черно-красной чалме, покрывающей бритую голову, в стоптанных татарских же сапогах медленно шёл по пустой пыльной площади от великокняжеского двора до Проломных ворот старой, ещё саманной стены Китай-города. Он мечтал сразу за воротами спрятать чалму за пазуху и рвануть бегом повдоль Неглинной реки. А там сразу — царёв кабак.
Кабацкий целовальник его, Проню, знает и спрячет. Проня выпьет водки, потом пива и поспит в закуточке. Ему, как бы вроде мусульманину, теперь водки не давали. Сладкой воды пей хоть до горла, а хамры — фигу! «Хамра» — это вино, «сали» — это молитва, «фидда» — это серебро. По-арабски. Мать ихну в чужие слова! Правда, Проне весьма нравилось слово «нахаба» — грабить. Русские говорят «нахапал»... Ну, пора бы бежать!
— Кыф! Сала![57] — проговорил вдруг сзади выследивший Проню книжник.
Был бы он и, правда, книжник, Проня бы ему голову-то поправил. А таких больших да твёрдых кулаков у книжников не бывает! И плётка при нём, и кистень. Тать, а не книжник! Шайтан, короче, если по-арабски.
Подчиняясь княжескому книжнику, Проня тут же остановился, сорвал с пояса молитвенный коврик, бросил его на землю и пал на коврик на колени.
— Харуф! Гарб эйна?[58]
Проня на виду у прохожих засуетился. Зло засуетился, не подымая головы. Книжник, мало того что обозвал его непонятно как да ещё и непонятные вопросы задаёт. Какой такой Гарб? Горбатый, что ли? Горбатых Проня не знает.
К нему неспешно подошёл со стороны ворот нерусский человек с нерусской седой бородой. Наклонился, спросил:
— Муслим?[59]
— Э-э-э, конечно.
— А! Хасанан! Хадж кьян на?[60]
— Нет!
— Хасанан. Тогда, руси, я дам тебе правильный совет. Сначала не носи чалму. Чалму носят те, кто совершил хадж. И потом ещё скажу — тот человек, сзади тебя, он спрашивает: «Где запад, баран?» Так вот, руси, запад там, — бородатый показал в сторону Проломных ворот.
Проня радостно кивнул и тут же повернулся вместе с ковриком в указанную сторону.
— И священный город Мекка там, и святая из всех святынь — Кааба — тоже там.
— Спасибо, — сказал Проня. — А теперь иди, человек с бородой. Я тут сам как-нибудь.
— Я пойду. Только сообщу твоему мудар аль рису, то есть учителю, что на молитву вставать ещё рано.
— Да? Ну, тогда я его сейчас каталя![61]
Проня вскочил на ноги. И тут же слетел с ног, подсеченный ловким ударом неруся с бородой.
— Своего учителя — не убивают, руси. Извини, я повалял тебя в пыли, — белобородый поклонился Проне и неспешно пошёл в сторону великокняжеского двора.
Сзади Прони захохотали. Он в бешенстве оглянулся. Шестеро русских, одетых в малиновые, с белыми отворотами, кафтаны личной охраны Ивана Третьего, перестали смеяться. Старший, с большой чёрной бородой, сказал Проне:
— Сие есть арабский купец. Мы его охраняем. Иди, парень, своей дорогой.
Княжий книжник стоял молча.
— Он у тебя так и просится в кабак, — сообщил книжнику старший из охраны арабского купца. — Отпусти мужика. Русскому надо иногда гасаля[62] свою душу!
Книжник махнул рукой, заговорил с посольскими охранниками об ушедшем купце.
Проня спешно сунул коврик за пояс халата и побежал, разматывая на ходу чалму. Побежал в сторону реки Неглинной, вспоминая, как зовут кабатчика.
Белобородый арабский купец с длинным именем, которое Иван Третий сократил до Абу Шейх, говорил государю:
— Ибан бин Базилевс! Ты имеешь захаб, я имею дивный товар! Давай станем торговаться!
Захаб. Золото! Откуда этот белобородый, но почти чёрный лицом арабский купец прознал про Иваново золото? Вчера только Иван Третий вернулся от Старой Руссы, Где принял покаянную грамоту от господина Великого Новгорода и под пальчиком великого государя Дмитрия Ивановича, но под своей, подтверждающей пальчик, подписью, лишил торговый град Новгород всех его вольностей, а главное — вечевого колокола, проклятого всеми московскими великими князьями от самого Юрия Долгорукого.
Сегодня же поутру государь казнил прилюдно подлого боярина Ваньку Сумарокова, собрал всех древоделов и велел к зиме приготовить двести саней, да к ним купить шесть сотен лошадей и по первому снегу гнать всё это добро в Архангельск. Да чтобы не забыли положить в сани лыковые мешки, пять тысяч штук. И бочки! Бочек тысячу штук. Мешки — под мороженую рыбу, бочки под тюленье сало! Рыба — московским людям на еду, сало — на свечи. А деньги за их каждодневное потребление — великому князю. Эх, хорошо!
За этот будущий обоз великий князь заплатил мастерам золотом, венгерскими дублонами, на что древоделы стали ругаться.
— Дай, княже, серебро!
— Не дам! Серебро мне надобно на дань татарве казанской!
— А где же нам поменять золото на серебро?
— Со временем поменяете... Псковские купцы придут по зиме торговать, у них малость серебра будет. То да се... Рыбу привезут с низовий Волги. Отстаньте от меня со своим золотом!
Отстали.
— А я тебе, Ибан бин Базилевс, — продолжал говорить араб, — пригоню двести верблюдов! Половина их них — верблюдицы. Молоко станешь доить. Пить верблюжье молоко много лучше, чем водку.
— Это ты правильно говоришь, купец, — ответил наконец Иван Третий Васильевич. — Но не надобно мне верблюдов! Иди в Казань, там верблюдов купят. Потом съедят.
— Я к тебе пришёл, — спокойно держал ответ на грубость великого князя белобородый араб. — И от тебя уйду к себе. Давай сам веди наш торг.
— Да нечего мне тебе продать! Не-че-го! Земля моя захудалая, один ячмень да коровы. Торгую на горсть серебра в год!
— Ибан бин Базилевс! Я не прошу мне продать. Я прошу тебя купить. У меня купить мой товар и дать мне за него захаб! Фахима?[63]
Иван Третий покачал головой:
— Ма фахим туук![64]
Купец Абу Шейх сверкнул глазами, расчётливо медленно вынул их халата платок, развязал один угол. Там, в углу платка, Иван Васильевич увидел три венгерских золотых дублона. По чекану сразу вызнал свои деньги. Вот оно как! Древоделы московские, видать, успели поменять толику княжьего золота на арабское серебро! Башки бы им снести! Так других таких мастеров нету на Москве и в окрестностях. Чёрт бы их...
— Третий раз тебе говорю, я знаю Ибан ибн Базилевс, что тебе нечего мне продать. Я пришёл, чтобы ты у меня купил. Захаб мне давай и бери что хочешь: хоть рабынь из Персии, хоть кобылиц из Аравии, хоть длинные ножи из Дамаска. Захаб мне давай!
Арабский купец, этакая гадина, пришёл один! Один на Русь! Крепко знает арабский купец, что вызверись сейчас великий князь, как он вызверился на иноземцев в селе Архангельском или на Великий Новгород, тотчас Крымский шлях затопят волны конников. Ногайцы, калмыки, оттоманцы и даже крымчане... сожгут и Москву и всё окрест, а великого князя с людьми утащат на арканах в полон. Арабы, братья по крови... Что бы его княжеские книжники ни говорили, а вот этот вот «брат» сидит и самого великого князя Московского пугает!
— А давай будем меняться! — неожиданно предложил Иван Третий. — Товар на товар, а?
— Захаб! Аллах запретил мену с неверными! Велел брать с них золотом!
Что же ему всучить в ответ на имя его Бога такого, сильного и православного? Не всучишь. Он, гад белобородый, прекрасно знает, что князь Владимир Красно Солнышко, дабы уцелела от напастей Русская земля, за свой клочок земли Киевской пять сотен лет назад урвал себе грековского Бога. Или жидовского? Кто теперь ведает? Иначе Византия не желала принимать сторону князя Владимира, когда на него пошли с Запада наёмники скандов, а с Востока — полчища половцев и кипчаков. Любого Бога ухватишь за бороду, когда такая напасть! Сама Византия побродяжная и наняла скандов да половцев идти на князя Владимира..., А этот, белобородый, имеет полное право толкать Аллаха вперёд себя: его Бог!
— Ладно, не будем меняться, — устало ответил Абу Шейху Иван Третий. — Кажи товар! Я выберу.
Араб крикнул. Двери в горницу распахнули княжеские гридни и они же стали вносить товары Абу Шейха.
— Пока носят, — шепнул арабскому купцу Иван Третий, — я схожу тут... избавлюсь от лишней жидкости.
Купец ласково помановал левой рукой. Разрешил великому князю, ишь ты!
Иван Третий торопливо вышел из горницы. Толкнул неприметную дверь в широком проходе и очутился в «слуховом» чулане. Слушали четверо — два книжника, боярин Шуйский да тот псковской купец, именем Бусыга.
— Ну? — шёпотом спросил великий князь.
— Шейх Абу Фадх ибн Фарух, ибн Хаджадж ибн Маххабат ибн Масуди, как пишут арабские книги, был не купцом, а поэтом. Складно писал нечто вроде песен, — сообщил великому князю старший книжник.
— И такого купца, значит, нет? Хорошо...
— Резать будем? — обрадовался Шуйский.
— Погоди ты! Размахался... А кто это тогда в моей горнице трясёт белой бородой и трындит по-арабски?
— Караим, горский еврей. Есть такие, в горах живут, — пояснил второй книжник. — По всему видать — тиун, доводчик и разведчик султана турского, Махмуда Белобородого. Борода у купца крашеная. А по крови его подлой борода должна быть чёрная.
— Поджечь бороду надо, проверить, — подсказал Бусыга Колодин. — Обнажится изначальный цвет.
Пошли в горницу. Товары, что привёз лживый купец, лежали на большом столе, на лавках. Две какие-то голые бабёнки в прозрачных накидках жались в углу, отвернули к стене лица. От них пахнуло потом, мочой и пыльной травой. Ну-ну. Хорош товарец!
Иван Третий подвёл Бусыгу к Белобородому, сообщил:
— Мой главный купец. Личный. Для меня покупает...
Бусыга Колодин развернул свёрток — первый, что попался под руку на столе. На пол заструилась бумазейная дешёвая кисея. Иван Третий стоял возле окна, во двор, оглаживал бороду. Бусыга развернул следующий свёрток. В нём оказалась кривая сабля, бывшая в деле. Бусыга вынул клинок из ножен, поморгал глазами:
— Добрая вещь. Вели, великий княже, огня мне подать. Надо проглядеть лезвие.
Старший из княжеских гридней по знаку Ивана Васильевича заширкал кресалом, поджёг фитиль, поднёс его к огарку свечи, торчавшему на медном подсвечнике. Бусыга приблизил саблю к свечному огню.
— Ага! Вот здесь! — громко сообщил Бусыга. — Щербина есть! Гляди-ка сюда, купец!-
Белобородый нагнулся. Бусыга ухватил его за конец бороды, резанул по нему саблей. Тот клок, что был зажат в кулаке, немедля оказался в огне свечи. Клок завонял горько, как воняет краска на иконе, если на икону упал огарок. Концы белых волос почернели.
— Ну и кто ты теперь таков есть? — спросил купца великий князь.
Купец завращал глазами, заругался непотребным арабским слогом... В княжеском дворе громко завизжали кривоногие купцовы люди — и мигом всё стихло. Конюхи, со скуки резали тех людей татарским приёмом, как баранов, — под горло.
— Кричи Шуйского! — велел Бусыге Иван Третий. — Под землю этого скотину и на правёж. Да огня не жалеть! Ишь, обложить меня собрались! Я им не медведь. Мой боевой тотем от князя Рюрика — нападающий сокол! Иди, возьми меня в небе!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
В каменном пытошном подвале Белобородый шпиг молчать не смог. Дыба и раскалённые щипцы, да кат[65] Томила, ослобонили ему язык от молчания.
Великий князь с особым, горловым, клёкотом, видать, от бешенства, задавал вопросы. Шуйский сидел позади Ивана Васильевича, пил квас, который ставили здесь же, для палача и подручных его. Вкусен был квас, настоянный на смородине! Молодой княжеский книжник умело и скоро писал на вощяной дощечке чертами и резами:
— «Послан я от великого султана оттоманского проведать здесь, куда русские купцы повезут камень янтарь да много ли его повезут, да каким путём. Если путь будет через Казань на Челябу, а потом на Атбасар[66], то русских купцов велено пограбить на Атбасаре, далее не пускать, но и прилюдно не убивать... Да ещё меня просили киевские жиды проведать заодно, как живёт в Иове Городе мой брат по вере жид Схария. Он пришёл в ваши пределы нести самую ясную и праведную религию от Бога Яхве. Схария сначала нам писал, потом его письма перестали приходить... Купцов русских не так давно нарочно похватали по приказу турского султана. Русские купцы под пыткой сказали, что Новгород почитай весь к той вере уже приведён и все высшие чины новгородского клира проповедуют тайно, а где и явно, ту жидовскую веру...»
— Это всё и всем здесь слушающим надо забыть, — совершенно ласково попросил великий князь, оглянувшись на присутствующих. — Забыть до времени. А то ведь кат Томила всех вас помнит. Помнишь, кат?
Кат Томила хмыкнул и прямо на глазах великого князя выпил плохо пахнувшей водки из походной сулейки. Отрыгнул и наклонился к висящему на дыбе. Караим попросил пить.
— Напои. Лучше говорить станет, — велел Иван Третий.
Жид выхлебнул воды пополам с жидовским пьяным зельем и опять заговорил. Говорил он много. Но главное звучало так: «Арабы держат монополию по всей территории халифата. Русских не велено пускать на юг далее селения Астрахан. И не велено русским искать пути в Индию. Это арабский базар. Большой, на половину мира. И на тот базар нельзя водить кобылиц. Иначе индианские цари через тех кобылиц своих коней расплодят, станут сильными да потом на многих конях станут воевать арабов. И откроют весь базар всем купцам, с любых земель...» Потом Белобородый издал крик, выгнулся против хребта, головой к пяткам. И провис на дыбе — сердце разорвалось.
— Теперь я всё до конца понял, что загадал нам перед своей кончиной Афанасий Никитин. Царствие ему небесное. Праведный был человек! — заявил Бусыга Колодин. — Большое дело ты сотворил, кат. Считай, спас меня от неминучей погибели в Индиях. И великого князя спас...
На чёрную от сажи ладонь палача легла большая серебряная испанская монета. Кат Томила хохотнул, легко, передними, большими, как у коня, зубами перекусил монету пополам. Одну половину протянул своим подручным, другую сунул в засаленный человеческим жиром рваный карман кожаного, тёмного от крови фартука.
— Ежели сюда когда попадёшь, — сказал кат Томила Бусыге, — я тебя сразу кончу. Чтобы не мучился. Перед Богом говорю.
Бусыга потемнел глазами и быстрым шагом выскочил наружу.
Пока шли с младшим книжником по тоннелю на воздух, книжник молвил:
— Афанасий Никитин вот потому перед смертью и велел, если идти в Индию, так с кобылкой.
— Я мерекал, что он бредит, — сознался Бусыга. — Ведь кобылкой у нас называют кузнечика, что прыгает, как молодая кобылка.
Книжник вёл не в княжескую горницу, а много левее её.
— Куда идём? — со сжавшимся сердцем вдруг спросил у него Бусыга. А сам, не опомнившись ещё от смрада и тусклого огня пытошной, затрясся: всё — пропало дело! Станут они с Проней великими, по гроб, должниками Московского князя. И великий князь за этот долг поставит на правёж весь город Псков. Эх!
— Пришли, — сказал младший книжник. — Здесь мастерская нашего иконописца. Мудрейший человек и рука его — рука Божия!
В мастерской расчудесно пахло тёплым льняным маслом, томлённым на огне рыбьим клеем, острым настоем трав.
Потолочного настила в мастерской не имелось, а прямо в скатах крыши, сквозь проделанные окна, заложенные слюдой, виднелось солнце. А вот самое чудо возле окна в стене — так это две медных пластины сажень на сажень размером, выгнутые, чтобы ловить солнечный свет от окна и подавать его куда требуется! Зеркала! И цена им в половину любой московской улицы али целого посада!
У Мастера льняные повязки с краткими православными молитвами держали на лбу длинные волосья.
Проня поклонился и стал осматриваться. Книжник коротко поговорил с Мастером. Тот шумнул подмастерьям, чтобы вышли на улицу и из каменной ниши вытащил плоский дубовый сундук. Поставив его на большой рисовальный стол, он поманил к себе Бусыгу:
— Папирус знаешь?
Бусыга глянул на книжника, в смущении помотал головой.
— Египетская бумага, — пояснил Мастер. — Древняя больно вещь, а оттого — слабая на прочность. — Он раскрыл широкий и низкий сундук нерусской работы и даже не арабской, осторожно убрал сверху льняную ткань, промоченную острой и едкой настойкой из трав.
Первым на стол лёг лист папируса, рисованный такими яркими красками, что Бусыга прикрыл левый глаз. На листе, будто в живее, стоял диковинный и вельми страшный зверь. Тело его покрывали толстые, тяжёлые пластины как бы из железа, но цвета серости. Глаза горели красным огнём. Рот открыт был для кусания, а во рту торчали огромные и тупые, как пеньки, белые клыки. На морде страшилища, пониже лба, торчал огромный, кривой, будто сабля, рог!
— Это сказка, — подрагивая правой ногой, сказал Бусыга. — Одного рога ни у кого не бывает. Бог дал всем по два рога. На тот случай, ежели один сломается. Возьми хоть быка...
— Помолчи уж, бычий знаток, — оборвал его княжий книжник. — Гляди далее!
Оказалось, что возле передней ноги неведомого зверя лежал маленький чёрный человек. Мёртвый. Второй такой чёрный человек доставал зверюге только до колена ноги и пытался тыкать в зверя острой пикой. Внизу рисунка виднелись три закорючки, Бусыге смутно знакомые.
— Письмо египтян. Священное для нас письмо. Написано — «Носорог, зверь Африки».
Мастер отодвинул рисунок и достал второй лист из сундука. На нём древний краскомаз изобразил такую бредовую картину, что Бусыга прыснул смешком.
— А по шее? — спросил княжий книжник.
На листе возле высокого дерева стояло уродливое животное. Если бы не его очень длинная шея, то Бусыга мог бы сказать, что это олениха. Но у того животного с длиннейшей шеей рожки имелись. Маленькие, на самом затылке. А концы рожек закручены в шарики. Шарики-то на рогах зачем? Животное с длинной шеей объедало листья с высоченного дерева. А внизу опять стояли закорючки. Мастер прочёл: «Жираф».
Бусыга сказал, едва удерживая смех:
— Я в зверя единорога верю, ибо то есть наш зверь — конь со святым рогом во лбу. А в такую шею я не верю!
— Не верь. — Мастер усмехнулся. — Не под пыткой стоишь. А потому я сейчас найду то, что надобно: того зверя, в которого придётся поверить, чтобы сотворить! — Он положил в сторону очередной лист из сундука: — Вот, гляди! Зверь зебра.
— А зачем лошадёнке полосы? — Бусыга спросил и тут же обиделся: — Ну, чего столько пытали, а? Можно было сразу показать натурального коня, только полосатого — и шабаш! Но арабы в такого коня не поверят и головы нам в Индиях снесут!
— Арабы поверят, — грубо ответил Бусыге княжий книгочей. — Они каждый день таких зверей видят. Ибо в Африке живут. И жирафов видят, и бегемотов. И зебров. И единственный выход прорваться сквозь ихние кордоны — это от великого нашего князя послать ему чудный и редкий подарок — животное зебру...
— Подарок — это хорошо! — утёрся рукавом Бусыга. — А на самом деле раскрасить молодую кобылицу полосами, так?
— Мудёр парень! — согласился Мастер. — Далеко пойдёт. И арабы его не остановят. Особливые краски для конской шерсти я составлю через день. Ищите молодую кобылку. Покрасим, дадим просохнуть. А потом будем пробовать те краски смыть. Мочой коровы, человеческой мочой, простой водой. Другого мытья арабы на границе или в гиссарлыках... ну, на своих таможнях... и не придумают.
А другим утром, как оказалось, за непонятным человеком с белой крашеной бородой приезжали татары. Чьи — не понять. Полусотня их лениво потолкалась у закрытых ворот Кремля, им вынесли все купеческие тюки и вывели двух «девиц», оказавшихся уже бабами в возрасте. За обман и на всякий случай тем бабам ночью отрезали языки.
Страж у кремлёвских ворот сказал по-русски тем татарам:
— Не расторговался ваш купец... — и ворота в Кремль захлопнулись.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
В княжеской конюшне гридни вбили в землю колья, четыре штуки, завели туда молодую кобылицу, трёх месяцев отроду, привязали ей ноги к тем кольям. Она стала жалобно звать свою мать. Пришлось заводить и кобылу-мать. Мастер принёс список с египетского папируса и бадейку с жёлтой краской.
Молоденькая кобылица имела нежный, слегка коричневый цвет шерсти. Вот по той шерсти Бусыга и стал малевать полосы, сообразуясь с рисунком. Мастер присел рядом, направляя руку Бусыги.
— Тут, в краске, смотри, купец, растёртое золото. Ты уж краску-то береги, ладно? — успел ещё сказать Мастер.
Но какая сволочь надела путы большой кобыле на передние ноги, а про задние ноги забыла? Наплевала та сволочь, значит, на судьбу всей великой индийской затеи? Мать-кобылица, возмущённая, что её дочь непотребно мажут, повернулась задом к красителям и крепко лягнула их обеими задними ногами.
Бусыга получил подковой по правому плечу, Мастер — по голове. Не будь в конюшне дремлющего от скуки Шуйского, великий князь удавился бы с горя: ведь забила б кобыла за свою дочь зело нужных для Руси людей! Шуйский заметил, что кобыла отплясывает коваными копытами на валяющихся без памяти Бусыге и Мастере, заорал в голос и рубанул саблей по её шее.
— Врачей сюда! — заорал Шуйский. — Всех! — и пошёл раскатывать конюхов и кого попало русским площадным разгоном.
Тут и сам великий князь объявился. Услышал ор там, где его быть не должно. И вслед за боярином Шуйским такого укуба[67] наобещал подручным конюхам, что те порскнули из ворот княжьего дворца, аки бегемоты, разевая рты и топоча ногами по дощатой мостовой.
Только через месяц отошли от болезни Бусыга и Мастер живописи.
В середине греческого месяца августа посадили Бусыгу Колодина да Проню Смолянина в большой обоз. Главным распорядителем того обоза, до города Казани, Иван Третий назначил старшего книжника. Но не сказал псковским купцам, что старшим тот книжник будет до самого возвращения купцов в Москву из дальних и неведомых земель. Или до полного их невозвращения.
Провожать обоз Иван Васильевич не вышел. Велел сказать купцам, что у него собралось негаданно ганзейское посольство.
Посольство, и правда, приехало негаданно. Но оно может и подождать. Ибо сказано в преданиях глубокой старины: «Тот силен, кто не повален». А чтобы не повалили тебя, надо дубом казаться, а не ивушкой плакучей...
Утянулся обоз. Ворота схлопнулись. Тогда государь крикнул во двор:
— Шуйский! Проводил купеческий обоз? Ганзу заводи! Послов! И, слышь, Шуйский? Тот под меня трон поставь, который с птицами золочёными!
Шуйский, кинувшийся было бежать, тут же остановился, услышав про трон. Потряс руками возле головы, захохотал и побежал исполнять.
Иван Васильевич, крестясь на Николая Угодника, сам себе дал обет, и шёпотом:
— Меньше пятидесяти тысяч гривен с них не возьму! Вот те крест, Никола!
Ганзейское посольство расселось по лавке, что стояла повдоль длинной, безоконной стены. Великий князь осторожно сел на старый византийский трон с павлинами. Хитрые московские кузнецы тонкими золотыми ниточками расправили птицам огромные хвосты и крылья, и так, на ниточках, те хвосты и крылья держались. Весьма почётно всё это тронное убранство гляделось со стороны послов.
Пошто ганзейские послы приехали — вестимо. Слава богу, про измену веры дочери великого князя, а ныне супруги литвинского короля Александра, разговору не будет. Не хочет Ганза знать чужих мыслей о молении разным богам. И про полный разгром питейных заведений во Пскове и в Новгороде разговора тоже не будет. Ганзейцы сами понимают — воровали. Без ведома великого князя вели торг своими хмельными напитками, а русским у себя такой торг вести запрещали. Что и есть прямое воровство... Ганзейцы, они хитрые и пока выжидают. И ясно чего выжидают — очередного удара Москвы. Куда тот удар Москва направит после полного разграбления Великого Новгорода, хотят узнать. Хорошо, успокоим, что пока по ним бить не станем.
Иван Васильевич отмахнул послам рукой — начинать. И началось! Да не про то, что надо!
— Великий князь Московский Иван Васильевич! — произнёс ганзейский посол. — Пошто смоленского воеводу Ольгерда ты обидел?
Вот тебе на! Для Ганзы тот воевода Смоленский, как для медведя — комар. На Смоленске уже давно другой литвинский воевода сидит, а про Ольгерда и думать забыли. Но ответим, как спрошено:
— Он первый напал, аки огромный волк, на мой маленький городишко Псков.
Посольская свита зашумела: Псков превосходил вчетверо Смоленск.
— Неправду говоришь, великий княже! — возвысил голос посол.
— Иди в ганзейский город Любич, там тебе подтвердят! Ганзейские полки встали в оборонь перед Псковом, когда подлый Ольгерд нападал, они и подтвердят, что я один там, без войска обретался! И даже без шелома! В одной тюбетейке! — Великий князь в бешенстве вдруг задел крыло левого павлина.
Птица скрипнула механизмом, повернула на посла голову и ту свою голову вздёрнула! И хрипнула.
Хрипнул и посол. Со страху, видать.
— Кра-кра, — повторила хрип огромная, в рост посла, золотая птица.
Со скамейки, где сидели посольские, срочно решили помочь своему послу войти в себя. Раздался голос, теряющий букву «ры»:
— Как же ты там один был, великий княже, когда там твои татагы гезали наших литвин?
— Татары — не мои, — сурово оборвал жидовского евнуха Иван Третий. — Это я татарам служу и дань даю! Они чего похотят, то и делают!
— Так, так, — торопливо согласился посол. — Но наши доглядчики видели, что татары тебе кланялись. Это как понять?
— А так и понимай. Я для рядовых воинов великого казанского хана... дай Боже ему долго жить... я там второй человек. Хоть и данник. Почему бы им, простым воинам, да мне, великому князю, не отдать поклон? Татары — люди смирные, тихие, верующие...
— Ври, да не столько! — раздалось от посольской скамьи.
— Сейчас сюда татар крикну, — ухмыльнулся великий князь. — Сам убедишься!
— Не надо татар сюда кричать! — воспротивился тут же ганзейский посол. — Так поговорим. Безоружно.
— Кра-кра-а-а-а... — снова затянула птица павлин.
Шуйский, стоявший сзади трона, дёрнул её маленько за хвост. Птица замолчала.
— Давай тогда второй вопрос! — развеселился великий князь. — Птица, вишь, недовольство показывает подлым смоленским воеводой Ольгердом!
— На Смоленской земле упокоен твой людишка Афанаська Никитин, — начал второй вопрос посол. — Нам известно, что вёз он с собой тетрадь с записями. Та тетрадь есть наш... — тут посол запутался среди русских, татарских и польских слов.
— Есть ваш хабар, — подсказал Иван Третий. — Это добро у нас! Шуйский!
Из-за трона вышел Шуйский в ослепительно белом камзоле венецианского пошива, в красных сапогах бухарской выделки, при золотом арабском поясе, на котором висели две сабли. Ножны сабель аж сияли от разноцветного блеска дорогих каменьев. На животе пояс держала огромная позолоченная бляха с выбитой на ней восьмиконечной звездой с серебряными лучами. Светлые волосья княжьего конюшего венчала московского покроя малиновая шапка с ухарским изломом. На шапке, как герб, распластался золотой сокол, падающий клювом вниз.
Глядя на пышный наряд Шуйского, Иван Васильевич стал соображать, что недаром всё же ганзейцы пригнали послов. Точнее, послов пригнали не ганзейцы. Не по желанию своих купеческих старшин пришли на Москву ганзейские послы. А по желанию той шайки, что вертит и королём Александром, и папой римским, и половиной европейских королей. Она, видать, уже видит Москву погромленной, так спешит спасти самое богатое, что есть на Москве. И для неё, значит, для жидовского кагала, самое богатое — тетрадь тверского купчины Афанасия Никитина. Вот тебе, великий князь, верное свидетельство, что ты не зря ради похода псковских купцов в индийские пределы принародно наделал огромных долгов!
Чего там расшумелись ганзейцы, засуетились возле Шуйского? А! Ясно! Особливо задел посольских людей кинжал смоленского воеводы пана Ольгерда, косо висевший у левого плеча Шуйского. Но тут уж шуми — не шуми, а это военная добыча. И она помещена на камзоле на почётном месте — у сердца.
— Тетрадь неси, — велел великий князь.
Шуйский сделал низкий поклон и вышел из Приёмной палаты. Посольские разом затихли. Не ждали, что дорогая тетрадь так легко им достанется.
Шуйский тотчас вернулся. В руках его трепалась тетрадочка в осьмушку листа, видать, что свежей работы. Шуйский передал её великому князю, тот протянул сокровище послу ганзейскому. Посол тотчас отмахнулся от сей тетради:
— Опять обман, великий князь? Та тетрадь шесть лет писалась купчишкой Афанаськой, должна быть вся в грязи и в жире, как и всё у вас, русов. А ты что за чистое новьё нам суёшь? Подделку?
— Сую? Послать бы вас через могилу да на ту сторону Земли! Я вам сую?
Тут же со скамьи поднялся самый старый посол, видать, что из русских, смоленских людей. Низко поклонился, сказал мирным голосом:
— Великий княже! Не гневись. Но посол наш правду молвит. Есть люди, что видели ту тетрадь у Афанаськи Никитина в руках. Точно — засаленную, обтрёпанную, грязную...
— Тебе — отвечу. — Великий князь подвинулся на троне, нарочно задел крылья правого павлина. Тот только скрипнул механизмом да внутри его что-то стало щёлкать. — Но сначала надобно тебе, по нашему обычаю, освежиться. Шуйский!
Шуйский, бряцая своей боевой сбруей, на миг пропал в соседней горнице и тут же появился, неся большой ковш. По палате пошёл тонкий запах заморского вина. Шуйский с поклоном поднёс старому русскому ганзейцу черпальный ковш в четверть ведра.
— Великий князь Московский тебе лично подносит сие вино!
Старый русский вымахнул полный ковш через три глотка. Утёр бороду, низко поклонился. У его соседей по скамье задёргались кадыки. А Шуйский, подлец этакий, уже подносил старому русскому второй золочёный ковш вина...
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Подождав, когда опорожнится второй ковш, Иван Васильевич принял поклон старого русского, живущего теперь у ганзейцев, и продолжил говорить:
— Так вот в чём дело-то, посол ганзейский, — повторил Иван Третий. — Ведь когда Афанасий Никитин в ту Индию пошёл, он занял у тверского князька Тишки Романеева десять гривен серебром. Чтобы на те гривны приобресть товары для торга в Индиях. И, как мы все здесь сидящие ведаем, не вернулся Афанасий в родную Тверь... Значит, что должок за ним остался перед тверским удельным князем. Посему, дабы пресечь всяческие раздоры, велел я передать ту засаленную тетрадь Тишке. Как бы в счёт долга. Я бы себе оставил тетрадь купца Афанасия, да где же я десять гривен сейчас возьму? Мы всем Московским княжеством теперь в долг живём. Да... Конечно, упирался удельный тверской князь, да куда от меня денешься? Принял он ту тетрадь и долг Афанасия Никитина в десять гривен погасил честным словом под святым крестом! Ты это видал, Шуйский? Перекрестись, что сам видел!
Шуйский немедля повернулся в красный угол палаты, к иконам, истово начал класть кресты на себя и на иконы.
— Мы же сделали список с той тетради, — продолжал великий князь. — Вот тот список, у тебя, посол. А теперь — верни!
Посол ганзейский дёрнулся было, но список вернул. Великий князь осторожно положил тетрадь возле себя, на сиденье древнего трона Палеологов.
— Ибо когда мы дали эту тетрадь книгочеям нашим, греческим, то оказалось, по их словам, что тетради сей не десять гривен цена, а пятьдесят тысяч!
— Это как надобно понимать? — Посол сделал шаг назад, притопнул ногой.
— А так и понимай. Я тетрадь Афанасия вам, послы, отдам. Но! За пятьдесят тысяч гривен, кои ваши государи...
— Не дадут!.. Ты при деньгах! Ты Новгород пограбил и от Европы кус оторвал! — заорали посольские чуть ли не в один голос.
— Ну да, конечно... Пограбил... Скажете тоже... Свой город и пограбил? Ну-ну. Господин Великий Новгород мне три года дань не платил, вот я ту дань и забрал. И татарам отдал. Как положено. Хотите проверить мои слова? Так я сейчас напишу вам охранную грамоту, и поезжайте в Казань. Там спросите...
Иван Васильевич знал, что предлагал. Жиды в Казань и палец не сунут. Казанцы люто ненавидели пейсатых менял. Уж чего-чего, а в справедливости татары казанские толк понимали... Иван Васильевич заорал, перекрывая крик послов:
— Пятьдесят тысяч гривен! Ну, займёте на три года! Под мою роспись и под мою великую княжескую печать!
В том списке с тетради кое-что было не вписано из оригинала. Про золото, про драгоценные камни, про путь через Китай... Отчего бы и не отдать тот список? Да под займ?
— Под сорок процентов годовых — тогда займём! — прошишликал кто-то из посольских.
— Под жидовский процент? Хорошо! Я подпишу и такой договор! Вот вам крест! — сказал государь, но не перекрестился. Такие деньги самому нужны, зачем отдавать? — Ну! Конец переговорам?
— Нет! — Посол отирал со лба пот, хотя в палате стояла такая прохлада, что можно и в шубе усидеть. — Нам теперь как будущим заимодавцам интересно узнать, с каким товаром ты, великий князь, собираешь караван в землю Син?
Иван Третий глянул на Шуйского.
— В Китай! — пояснил Шуйский.
— Не но тайной ли тетради Афанаськи Никитина пойдут твои купцы в землю Син? — настаивал на ответе посол.
— Не по тайной тетради! — наложил на себя крест Иван Третий. — Афанасий через землю синскую проходил и там видел полное отсутствие торговли. Одна мелкая мена там, в Сине... Глину меняют на песок, песок — на глину. Сам прочтёшь об этой нищей земле в той тетради!
— Ой, неверно отвечаешь послам, великий князь! Чего повезут твои купцы в страну Син?
— Чего с меня спрос вести, когда вы всё знаете? — нахмурился Иван Третий. — Караван везёт в страну Син воск и янтарь. Может, что и продадут мои купцы. С янтаря датского и отдам вам долг.
— С Катая денег не возьмёшь, гешефт там — мизег, — опять прорезался шепелявый голос с конца лавки.
— «Катая, катая», — передразнил Иван Третий тот евнуховский напев. — Мизер? Возьму — не возьму, дело моё. Шуйский, завершай но обычаю приём ганзейских купцов!
Шуйский поклонился, вышел в большие двери. Тотчас те двери распахнулись на обе стороны, в зал затекли ровным шагом двадцать рынд[68] в белых кафтанах, с топориками на плечах. Меж ними строгим шагом прошла на середину зала Еленка-молдаванка. Она вела за руку разодетого в меха мальчонку, Дмитрия-Соправителя, у которого на голове сидела махонькая золочёная шапочка, точная копия великокняжеской шапки для парадных выходов. Еленка-молдаванка глянула мимо глаз великого князя Московского, повернулась сама и повернула Дмитрия-Соправителя в сторону сидящих ганзейских послов. Послы шумно поднялись со скамьи, стали кланяться, весело говорить потребные словеса.
Шуйский под тот шумок опять очутился позади старого византийского трона. Договорить хвалебные речи послы не успели. Теперь правый павлин вдруг дёрнулся, отчаянно скрипнул и сделал грозный замах крыльями. Внутри механической птицы всё клокотало и тренькало. Потом он хрипло проорал, вроде как выругался. И поддёрнул головой. Вроде: «Пошли вон!»
Под скамейкой ганзейских купцов явственно зажурчало — там, где сидел евнух без буквы «р» в говоре.
— А крикнуть сюда холопов с тряпкой! — развеселился Иван Васильевич. — Птица вызверилась на всех присутствующих!
Рындовый конвой тут же окружил орущего с испугу Соправителя, побелевшую Ленку-молдаванку и вытеснил их из палаты.
— Пошли, пошли! — заторопил и ганзейских послов боярин Шуйский, соскочил с позадков трона, с явным и настоящим испугом оглядываясь на огромную золотую птицу, резво ворочающую головой. — Не дай бог взлетит, всех заклюёт на хрен!
На сотне повозок, под охраной полка рейтар ганзейцы мигом привезли деньги. Клейма на брусках стояли Габсбургского торгового дома. Ганзейцы перезаняли серебро у венгров, стакнувшихся с южными германцами в захвате земель. Ну, теперь кто кого обскачет. На венгерскую кочевую жадность да на расчётливых германцев великий князь Московский и держал мысль. Денег те страны, теперь стакнувшиеся, могли дать и в пять раз больше. С тайной надеждой, что за должок обкарнают и половину земель у Руси...
Великий князь ещё кое на что рассчитывал. И ждал гонца из Литвы, где по всей стране шастали московские шпики и тиуны...
Гонец из-под Смоленска, из сельца Ярцево, что стояло на московской стороне литвинской границы, наконец прибыл. Весёлый, краснорожий, видать, выпивший.
— Ну? — спросил великий князь.
— Тверской князь три дня назад, на самой заре, хотел пересечь пограничье и рвануть в Литву!
— Не ушёл?
— Как можно, великий государь? Завернули махом! Тащится назад. Никола Кресало, псковской воевода, со своим полком показывает ему обратный путь, Данияровские татары подгоняют сзади.
— Шуйский! — заорал великий князь. — Подь сюды!
Боярин Шуйский тотчас появился в княжей горнице.
— Уехали из Казани наши купцы? — грозно спросил великий князь.
— Уехали! Как и велено тобой, великий князь, уехали две недели назад. Поди, сейчас уже через Челябу идут... Нет теперь у нас интересов в Казани. Окромя одного, зимнего.
— Понял? — дёрнул гонца за ухо Иван Третий. — Понял, о чём в выпившем виде надо болтать на торжищах возле Литвы?
— Понять-то понял, великий княже... — Гонец был Чувашии, хитрых и настырных кровей. — Да только вот на сухой язык что я болтану? Не поверят сухому языку.
Тут же взбесившийся Шуйский сообщил гонцу бранным словом кто он есть. Не глядя на ухмылку великого князя, конюший отвязал с пояса богато вышитый кошель с серебром, ополовинил его, русскую мелочь сунул в карман кафтана, а горсть серебряных арабских динариев вместе с кошлем кинул гонцу. На кошле золотом был шит личный знак боярина Шуйского.
Чувашии поймал кошель, поклонился на три стороны большим русским уставным поклоном и пошёл в дверям. Прикрывая снаружи те двери, он твёрдо сказал:
— Болтану так, что половина литвин побежит обратно к себе, а половина — под сутану папы римского!
— Брысь! — шикнул в спину гонца Шуйский. — Только заведи мне такую мельницу! Сгною!
Гонец, уже в коридоре, хохотнул.
— Сильно выпивший, — вздохнул великий князь. — Так ведь служба гонцова такая... Лучше ты, Шуйский, скажи, кто с моим послом Матвейкой Сушиным пойдёт... врать на Литве про наши каверзы? Кого решил пеньком подставить?
— Дьяк Варнаварец пойдёт...
Иван Васильевич остро глянул на Шуйского, отвернулся к иконам.
Ганзейское особое посольство, доставившие немалые деньги московскому князю, по обычаю провожал особый посол великого князя. Там, в ганзейском городе Любиче, он, Матвейка Сущин, передаст грамоту, что великий князь Иван Васильевич деньги получил сполна и роспись поставил. Злость задумки отправить вместе с посольством крепкого человека для воровского дела придумал Шуйский. Ганзейцы Литву не минуют при своём пути из Москвы. А Варнаварец, грамотный и головастый сумеет там столько худого и злого наболтать, что литвинцы заполошатся и загоношатся. Чего и надобно.
Варнаварец в Смоленске по кабакам показывал выпивающим литвинцам побои на спине и раны на руках, сам в усмерть пьяный, и орал всем, что он, дьяк Посольского приказа, прилюдно был бит конюшим Шуйским до полусмерти, а потом выгнан за границу. Чтобы великий князь, мол, его, избитого, не увидел. А он, дьяк Варнаварец, к этим московским зверям больше не вернётся.
— Пусть люди смоленские да литовские знают, — орал в пьяные слёзы Варнаварец, — что по весне сотвориться на Смоленске то же, что сотворила Москва с Великим Новгородом! Придёт на Смоленск московский поток и разграбление! И татары придут!
— Чьи татары придут? — тихо спросил Варнаварца просто одетый шляхтич, но с дорогой саблей на поясе.
— Данияровские! — плакал Варнаварец. — Крымчаки по весне пойдут ногаев бить. А великий князь Московский сюда сам поведёт полки. Возле Казани оставит только полк Данилы Щени, а на Оке, под Москвой, никого не оставит. Вся рать пойдёт на Литву... Под то нашествие Иван-князь и занимает деньги у кого ни попадя...
Шляхтич велел крикнуть захваченного поутру и тоже пьяного московского гонца. Тот будто запутался в дорогах и попал на литовскую сторону. У него нашли богато вышитый кошель с серебром и всем известной печатью боярина Шуйского.
— Этого пьянчугу знаешь? — спросил у гонца шляхтич, толкая ногой лежащего на грязном полу Варнаварца.
— Дьяк Посольского приказа Варнаварец. Великий князь на него гнев изволил наложить. Вместе с полсотней плетей. Ворует княжеские бумаги, сволочь, — хмуро и похмельно ответил гонец, отводя глаза от храпящего на полу Варнаварца. — И иноземцам продаёт. А деньги пропивает.
Шляхтич, а то был пан Заболоцкий, самый сильный у польского короля человек, поднёс кошель Шуйского к самому носу гонца:
— А про этот кошель ты что скажешь, украл? У боярина Шуйского?
Гонец вздохнул, мутно глянул на кошель, попросил:
— Чарку поднеси, пан, всё скажу. Похмельный я, голова болит...
К вечеру и Варнаварец, и московский гонец сидели в подвале смоленского замка. На них литвины уже поутру послали в Москву обычный запрос на выкуп. Трое литвинских почтовых людей у московской границы разделились. Один так и пошёл на север, на Москву, а два других свернули на реку Дон поднимать к весне казаков, понизовую вольницу — грабить московские пределы. А с Дона те особые гонцы должны были подняться на Казань и предупредить казанского хана, что по весне все Ивановы полки, да с новыми воеводами (старые по подвалам ждут казни), пойдут воевать Литву. Путь на Москву станет свободен! Прийдёт пора Москву булгачить крепко и навечно!
Книга вторая
«ПОЙДИ ТУДА, НЕ ЗНАЮ КУДА,
СДЕЛАЙ ТО, НЕ ЗНАЮ ЧТО»
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Караван из полусотни верблюдов, двадцати коней, пяти яловых конематок и сотни баранов медленно двигался по голимой каменистой степи. Уже пошла третья неделя с той поры, когда московский караван миновал горный проход Челяб, да вот уже неделя, как перешёл реку Тобол по тайному броду. Так что московские купцы почти месяц топчут старый, забытый теперь путь в страну Син.
Шли строго на Восток, тихо. Никого не трогали. Чабаны, пасущие тощих овец, при виде зелёного стяга на длинной палке тут же отгоняли отары с набитой веками сакмы[69], давая дорогу русскому каравану…
— Твоего крылатого льва они боятся! — крикнул начальнику каравана Проня Смолянов, когда чужие отары в который раз заметались перед передним верблюдом.
Там, и правда, было чего забояться. От седла передового верблюда караван-баши высоко вверх торчала палка с зелёным стягом. На полотнище, задрав для удара передние лапы, стоял золотой крылатый леопард, Грифон, знак власти древнего Вавилонского царства. Татары казанские, ветвь от древних персидских родов, право на Грифона имели полное.
Караван-баши повернул красную бороду к Проне и сказал: — Согласен, пхе! Только где там лев? Там леопард, древний боевой знак!
Проня согласно кивал головой, хотя леопарда, такого зверя, он не знал и боевые знаки не различал. Боевой знак — это если копьё или меч, стрела или кинжал. Мутит ему голову проводник, цену себе набивает...
Бусыга Колодин чаще всего спал между горбов своего верблюда, отсыпаясь за многодневные ночные бдения в Москве вместе с учёными книжниками. Один, самый старый книжник, всё же поехал с ними, ведь Пронька Смолянов так и не научился шаркать по-арабски, пьянь несусветная!
Хорошо после русской зелёной равнины смотреть на одинаковую серость степи — глаза слипались, тоже отдыхали. Хорошо...
А позавчера началось! Думали — совсем каюк. В Тургайской ложбине, где река Убаган соорудила, с дури, солёное озеро Кушмурун, два вьючных верблюда, молодых, конечно, отошли в сторону от каравана. Наверное, почуяли соль и воду — лучшее лакомство. И тут же встряли по колена в солончаковые топи.
Караван-баши, крепкий, высохший от солнца и времени проводник, назначенный к русам указом казанского хана, заорал. Проня Смолянов, ехавший на резвом коняге, тотчас повернул в сторону увязших верблюдов.
— Стой! Иначе я тебе голову отрежу! — тихо и по-русски сказал Проне Караван-баши.
Ну! Если начальник каравана говорит по-русски, значит, беда. Проня натянул поводья.
Попавшие в тягучую липкую грязь верблюды теперь не шевелились. Стояли смирно. Тоже, наверное, испугались русского языка.
— Пока всем стоять тихо! — Баши медленно слез со своего одногорбого дромадера, осторожно ступая, прошёл несколько шагов в сторону застрявших животных.
Коричневый, густой, как деревенская сметана, солончак, уже засосал ноги животных выше колен.
— Что в тюках? — не повернув головы, спросил баши.
— Янтарь в тюках, — ответил Книжник. Он скинул с головы капюшон чёрной рясы, огладил короткие седые волосы и добавил: — На том верблюде, что увяз первым, в двух тюках самый ценный янтарь — с мухами.
— Две солёные кожи вязать к арканам. Арканы — к волосяным верёвкам! — приказал баши. — Потом бросать к верблюдам!
Проня с Бусыгой тотчас исполнили повеление. Бараньих шкур хватало. И чем их солить — тоже. Чего в азиатских пределах вдоволь, так это соли! Потому на бараньи шкуры грязной соли не жалели. Шкуры быстро дубели на солнце, становились как деревянные обломки широких досок.
— Кидай мне шкуры!
Бусыга шкуру кинул точно к ногам баши. Проня промазал шагов на пять.
— Тяни шкуру к себе и кидай второй раз. Третьего раза не будет. Утонешь вместе с верблюдами, — тихо сказал Проне Караван-баши и ругнулся персидским злым богом.
Проня затряс головой, рывками подтянул к себе волосяную верёвку со шкурой. Два раза примеривался бросить, но руки дрожали.
Книжник не стал больше смотреть на муки Прони. Отобрал у него шкуру и кинул сам. Шкура легла на расстоянии вытянутой руки от Баши.
— Якши, Проня! — похвалил он, не оборачиваясь.
— Я всегда молодец! — отозвался Проня.
— Конечно, молодец, — согласился Книжник. Он очень правильно говорил по-русски, только когда злился, у него проскакивали трещинки в горловых звуках. И в этот раз проскочили. — Он, твой шурин, полная скотина, — обратился Книжник к Бусыге. — Дорога дальняя, путь неизвестный, а он каждый день — пьяный.
— Дыхни мне! — Бусыга подступил прямо к лицу Прони.
Проня выругался чёрным черемисским словом, нехорошо помянув Книжника, и дыхнул.
— Пьяный, — с тоской согласился Бусыга и стал искать на тюках лежащих верблюдов что-нибудь тяжёлое.
— Отсюда чую, самогон кавказской выделки, — определил Книжник, стоявший от них в пяти шагах. — Он, твой шурин, погубит караван.
— Не пил я! Сегодня не пил! — возопил Проня. — Вот те крест!
— Пил! — хрипло сказал Книжник. — Пил!
Верёвки под ногами спорящих стали дёргаться.
Караван-баши, попеременно двигая шкуры, стоя на них коленями, подобрался к тонущим в липкой грязи верблюдам, ухватился рукой за тюки. Тюки с янтарём висели на широких матерчатых вязках по бокам верблюдов, вязки проходили меж горбов. Баши, — откуда взялась сила у тонкого, старого мужика, — перетянул на свою сторону тот вьюк, что висел с другого бока. Не свалил его в грязь, а удержал между горбов. Ножом перерезал вязку так, чтобы тюк с его стороны упал на баранью шкуру. Шкура с ним стала медленно уходить в грязь, сворачиваясь краями.
— Тяните, урус шайтан!
Быстро потянули шкуру к себе, на сухое место и один тюк спасли. Точно так же на других шкурах вытянули ещё два тюка.
— Вроде хорошо пошло, — пробормотал Проня Смолянов, тягая волосяную верёвку.
— Сплюнь, сволочь! — посоветовал совсем злой Бусыга.
Проня сплюнул.
Тотчас произошло то, чего все, кроме Прони, боялись. Молодой верблюд, на котором остался всего один тюк с янтарём, почуяв лёгкость, решил самолично вырваться из холодной трясины и забился ногами, всем телом, разбрасывая вокруг себя грязь. Он сбил Караван-баши в сторону от уже намокших бараньих шкур. Баши немедля лёг на грязь, распластав руки и ноги.
Книжник, не слушая воплей Прони, ткнул ножом в ту бычью шкуру, на которой Проня обычно спал. Мигом привязал к ней аркан, замотал шкуру в комок и бросил её в сторону тонущего в солончаке Караван-баши.
Предводитель каравана, к ужасу Прони, полз на спине не к берегу, а к последнему тюку. Дополз, ухватил правой рукой тюк, а сам уже до бороды потоп в грязи. Кожаный свёрток попал как раз ему на живот.
— Делай волокушу! — крикнул Книжник вождю каравана, а Бусыге злобно проорал: — Подгоняй сюда верблюда! Окрути вокруг его живота верёвку, вяжи её с арканом волокуши!
Проню пошатывало. Он вроде добавил в себя зелья. Для храбрости. Только где он его берёт?
Обругав шурина, Бусыга крепко стянул верёвку от бычьей шкуры с арканом, привязанным к верблюду. Потом вгляделся в грязь, где в двадцати шагах от них томительно смертно ворочался их краснобородый проводник. Баши медленно, совсем медленно делал тонким ножом прорезь в толстенной бычьей шкуре.
— Харна кель![70] — донеслось от Караван-баши.
Книжник поднял верблюда и стал медленно тянуть животное от гибельной жижи. Верёвки натянулись. Бусыга закрыл глаза ладонями от солнца, оставив малый просвет между пальцами, и смотрел, как грязный куколь, кое-как свёрнутый из бычьей шкуры, пропахивает глубокий след в солончаке. На своём животе Караван-баши держал спасённый тюк с янтарём.
Книжник крикнул Бусыге:
— Бей! Верблюда бей!
Бусыга, оттолкнув подсунувшегося под руку Проню, схватил длинную палку с острым шипом на конце, которым погоняют верблюдов, и стал лупить тянущего куколь дромадера. Тот со злости так рванул по сухому песку, что его еле остановили в полусотне шагов от озера.
Баши ещё нашёл силы, чтобы самому разрезать куколь, ту чумолу из бычьей шкуры, в разрез которой он сумел просунуть руки и голову. В такой чумоле в древних землях Месопотамии спасались, если попадали в болото. И если было за что уцепиться или кому тянуть.
Грязный от бороды до сапог, Караван-баши, хоть и шатался, но упрямо сказал:
— Караван согнать и проверить тюки. Что плохо увязано — немедля увязать. Пойдём до ночи...
— А ты, что ли, мыться не станешь? — участливо поинтересовался Проня. — И верблюдов тех мы, что ли, спасать не станем?
Те два верблюда, что попали в солончаки, уже в голос орали, почуяв гибель.
— Пойдём до ночи, — упрямо и хрипло продолжал баши. — И в ночь тоже пойдём. Без роздыху. Надобно к утру попасть на Красную реку — Кызыл Су... Там и помоемся. А оттуда всего две ночи перехода до конечной остановки, до Атбасара.
Караван тронулся. Баши, прежде чем сесть на своего одногорбого верблюда, долго смотрел на Книжника, перепрягавшего своего коня. Потом спросил по-русски:
— А ты откуда знаешь, человек, спасший меня, про чумолу? Жил на болотах Страны знаний? В Сумере? Ты ведь не грек?
— Я есть серб. А про сумерские болота в книгах читал, — медленно ответил Книжник, вскидываясь в седло. — А ты ведь не татарин, ты чистый ассириец, так?
К разговаривающим медленно и осторожно подъехал Бусыга Колодин, учуяв напряжение между двумя самыми важными для каравана людьми. Он слышал, что в яркий красный цвет красят бороду далеко не христианские люди. Даже враги Христа. Неужели Книжник, только что спасший Караван-баши, тут же его и порешит? Он это может. По велению великого князя Ивана Третьего, когда проводник с красной бородой покинет караван, вести караван от Атбасара до Китая и далее станет Книжник. Что-то Иван-князь осознал или что-то ему такое донесли!
— Когда император Суров, Ассур Бани Баал Борг, ушёл с наших земель в Сибирь, то нашего... и вашего священного Белого Быка подлые и глупые люди сожгли... — отвечал Книжнику Караван-баши, умело соскребая острым стальным ножом грязь с лица, с бороды. — Живого священного Белого Быка! Ну, мы, ассирийцы, тогда взяли часть того огня, пока ещё Белый Бык тянул свою смертную песню на огромном костре... С тех пор мы и поклоняемся огню. А тебе, Книжник, я теперь должен. Я долг отдам. Я не отдам — отдадут ассирийцы. Помни об этом.
— Ладно, — ответил Книжник. — Само собой. Ты, Баас, давай переодень свой халат. Колом торчит. Надень русские штаны да русский азям, новый. Сапоги перемени. Всё легче будет...
— Поехали! — зло прикрикнул Баши. — Не по моей вере носить чужую одёжу... — Он отвязал верёвочку, что удерживала язык колокола на его передовом верблюде. Колокол тренькнул унылую Песню Пути.
Верблюды медленно выстроились в привычную линию и медленно двинулись туда, откуда приходит солнце.
ГЛАВА ВТОРАЯ
До реки Кызыл Су не доехали вёрст пять. Караван-баши вдруг начал чесаться, громко ругнулся и тут же упал с верблюда. Даже не шевельнулся.
Проня Смолянов спал на ходу, иногда всхрапывал. Бусыга ткнул его палкой-погонялкой, соскочил на песок. Книжник уже ворочал упавшего старика, одновременно разрезая на нём заскорузлую от солёной грязи одежду.
— Огня давай! — хрипло прошипел Книжник Бусыге. — Костёр давай!
Бусыга заметался среди верблюдов, ещё раз подопнул Проню. На Пронином верблюде болталась сумка, куда Проня должен был собирать сухие навозные лепёшки. Бусыга вытряхнул из сумки всего три навозных кусочка и пустой сумкой начал молотить шурина по морде. Где теперь, в ночной темноте, под узким серпом луны найдёшь кизяк? Для хорошего костра надо пять таких мешков с навозом. От же дела подлые!
Книжник уложил совсем голого Караван-баши на кусок плотной кошмы, стал ножом скрести с его тела присохшую солончаковую грязь. Тело начальника каравана медленно наливалось жаром. Он разлепил глаза, шевельнул губами:
— Каалкаман... — и снова впал в беспамятство.
— Где огонь? Где костёр? — заорал в голос Книжник. — Ведь умрёт!
— Нету...— виновато протянул Бусыга. — Нету огня...
— Вот же дурни, прости меня ваш бог! — проорал Книжник и метнулся к верблюдам, мучительно и в разнобой требующим снять поклажу, чтобы лечь. У ближнего верблюда Книжник срезал два мешка, в которых везли круги воска. Потащил их к телу Караван-баши, на ходу командуя: — Проня! Режь трёх овец! Шкуры снимай с салом, про мясо не думай. Шкуры мне, свежие шкуры! А ты, Бусыга, снимай поклажу, вали верблюдов и коней отдыхать!
Книжник быстро выгреб руками яму в песке, положил в неё круг воска. В середине жёлтого круга ножом вырезал углубление, срезал со своей рясы длинную узкую ленту и пристроил ту ленту в углубление. Заширкал кресалом, высекая огромные искры. Матерчатая лента не бралась огнём, слишком плотной оказалась ряса Книжника. Книжник длинным ассирийским словом помянул Бога Огня.
Проня Смолянов, прирезавший как раз третью овцу, держал её, брыкающуюся, за задние ноги, чтобы из горла стекла кровь. На вавилонскую матерность, похожую на арабский язык, Проня оглянулся. Увидел, что Книжник не может добыть огня. Правой рукой нашарил на поясе коровий рог, наполненный порохом, сорвал рог и кинул его под ноги Книжника. Тот сообразил, что к нему прилетело, и сыпанул чёрного порошка на ткань. Снова ширкнул кресалом. Огонь тут же ухватился за порох, подцепил матерчатую ленту и затрещал в воске, делая в центре жёлтого круга вощаную лужицу. Возле лежащего без движения Караван-баши стало светлеть, будто загорелась рядом пудовая свеча.
Книжник соорудил такую же «свечу» по другую сторону тела. Потом отцепил со своего пояса баклагу с водой и попробовал омыть кожу начальника каравана. Смыть липкую грязь не удавалось, получилось только снова её размазать.
— Проня! — рявкнул Книжник в темноту степи. — Обожди снимать шкуры с овец. Иди ко мне!
Проня прибежал на зов, держа в руке окровавленный нож. Бухнулся на колени рядом с неподвижным, еле дышащим телом проводника.
— Гляди! — Книжник плеснул воды на кожу Караван-баши, осторожно провёл ладонью.
Там, где на миг стало чисто, Проня ясно увидал маленькие красные точки, будто кто толстой иглой колол кожу начальника каравана.
— Это каалкаман. Мелкие красные вши. Они живут в солёной грязи. Кто попадает живым в ту грязь, они протыкают кожу и прячутся там, под кожей. Потом прогрызают вены или артерии и по ним растекаются в печень, в сердце... в мозг. Как по трубам...
— В человеке труб нет, — ясно произнёс Проня. — Человек наполнен кровью, как пузырь. Зачем врёшь?
Бусыга Колодин, что для скорости просто резал верёвочные крепления тюков на верблюдах, почуял, что у огня возникла плохая история. Подбежал к огню, услыхал:
— Ты всё равно умрёшь, Проня, — добродушно говорил Книжник. — Когда умрёт Караван-баши. Без проводника нам незачем идти далее, в Китай. Придётся вернуться в Москву. А там тебя Иван Васильевич самое малое — просто посадит на кол. Так вот, чтобы тебе три дня не сидеть на коле, смазанном свиным салом, я тебя быстрее угроблю. Я тебя в солончак суну. И ты изнутри почуешь, что у тебя в теле трубы есть. Ты недолго помучаешься, Проня. Меньше, чем на колу. Красные вши тебя за полдня превратят в сумасшедшую обезьяну...
— У меня хвоста нет...— начал защищаться Проня.
Бусыга сзади с великим удовольствием врезал Проне в ухо.
— Что требуется? — спросил Бусыга.
— Видишь, водой не смыть эту грязь. А смыть надо. Смыть быстро. Красные вши пока сидят под кожей, ещё не вошли в кровь. Надо грязь смыть, потом намазать тело свежим салом. Вшам дышать станет нечем, они вылезут наружу, — спокойно пояснил Книжник. И вдруг заорал: — Но надо вымыть тело до полной чистоты! Иначе грязь не подпустит сало к коже! Пусть Проня отдаст нам свой спирт, сволочь!
— Какой си пирит? Нет у меня си пирита! — заорал и Проня. — Я чачу пью!
— Это и есть спирт! — тихо пояснил Бусыге Книжник. — Виноградный спирт. Сумерское изделие. Древнее. Проня за три дня до выезда из Москвы купил тайком три ведра этого спирта у сотника «Чёрных клобуков», у Эрги Малая. Эрги Малаю личным разрешением великого князя тот спирт бочками возят из Дагестана. Там, в Дагестане, тот спирт и называют — чача.
— А что, Книжник, — так же тихо спросил Бусыга, — на этом походе мы без Прони сможем обойтись?
— Всё рассчитано так, — пояснил ласковым голосом Книжник, — что на Атбасаре, в той базарной замятие, нам не обойтись без Караван-баши. А после Атбасара, в китайских или индийских землях, вам не обойтись без меня.
— А без меня, значит, можно обойтись? — зло спросил Проня, отойдя на случай на пять шагов от огня. — Или без Бусыги?
— Кого-то одного из вас мне надо привести назад, в Москву, — с той же ласковостью в голосе ответил Книжник. — Для награждения за удачный поход или для наказания за неудачу. Я полагаю, что лучше привести в Москву Бусыгу. Он великому князю сильно понравился...
Проня проорал что-то мимо русского языка, достал нож и кинулся в темноту. Вынырнул он у огня, уже таща тороку. Бусыга заметил на тороке рисованную букву «В», значит, в ней зашит круг воска.
Проня развязал внизу тарного мешка незаметные завязки, и тут же наружу вывалился кусок бычьей кишки, тоже перевязанный тканой тряпкой.
— Кажи быстро — куда лить чачу!
— На живот старику лей! — засуетился Книжник. — Да потихоньку!
Из бычьей кишки на живот Караван-баши полилась прозрачная жидкость. В неподвижном ночном воздухе степи Бусыга уловил дразнящий запах хорошего самогона.
— Помогай! — крикнул Книжник Бусыге.
Они вдвоём, переворачивая тело старика, хорошенько обмыли его от макушки до пяток.
— Шкуры!
Ещё не остывших баранов притащили к огню и стали живо снимать шкуры. Так и завернули вокруг тела жирные свежие шкуры баранов, по красным кровавым точкам.
— Пусть полежит так, — сказал Книжник и принялся исследовать самогонный тайник Прони.
Хитрый купец заполнил самогоном круглый винный бурдюк дагестанского пошива. Потом облил его горячим воском. Получился восковой круг, ничем не отличающийся от остальных. Только внизу того круга имелась кишка, через которую можно было наливать чачу даже на глазах караванщиков. В таких круглых кожаных бурдюках везли и обычную воду, только те бурдюки воском не обливали.
Караван-баши вдруг выгнулся всем телом и принялся мычать и сдирать с себя бараньи шкуры.
• — Вши полезли наружу! — заорал Книжник. — Давай, Проня, ещё лей чачу!
Книжник ножом счищал с тела проводника жир, в котором при свете огня ярким красным цветом сияли и шевелились мелкие точки. Жир со вшами Книжник осторожно счищал в огонь, в огне трещало...
Смыли и счистили этот слой жира — и во второй раз завернули Караван-баши в бараньи шкуры...
Так прошла ночь, потом день, и только к вечеру Караван-баши очнулся от беспамятства.
Он попросил пить. Книжник подал ему половину оловянного стакана с чачей:
— Пей разом. Древнее лекарство!
Второй стакан, с водой, Бусыга держал наготове. Караван-баши слабосильными руками поднёс стакан ко рту, выпил. И остался с открытым ртом. В рот ему Бусыга влил воду — старик закашлялся.
Отдышался, обвёл себя мутными глазами. Его одели в льняную длинную рубаху, в длинный же русский вязаный азям и в прочные, из дерюги, штаны, подшитые оленьей кожей. Ноги обули в кожаные русские сапоги. Караван-баши начал ругаться и попытался содрать с себя надетое.
— Ты остался живым, баскарма[71], — сказал Книжник начальнику каравана. — Я тебя спас от красных вшей, рассчитался с тобой за спасённый янтарь. Твоя одежда вся во вшах. Хочешь, надевай её и помирай.
— Каалкаман! Красные вши?
— Ой, как сильно тебя ели! — подтвердил Проня.
— Тогда дай мне ещё этого лекарства и чего откусить, — сказал Караван-баши. — Потом я посплю, потом помолюсь своему Богу за вашего Бога и буду носить вашу одежду.
Проня подставил оловянный стакан под струю самогона и спросил:
— А когда поедем?
— А сейчас и поедем. Я все обряды и обычаи соблюдаю в движении. — Караван-баши косовато глянул на Книжника. — Если я остановлюсь, то умру... — Он повалился на бок и захрапел.
— Не умеет пить, — мрачно сообщил Проня и опрокинул в себя полный стакан чачи.
Бусыга подскочил к Проне и выдернул из его рук тайный бурдюк с самогоном.
— Правильно, — одобрил Бусыгу Книжник. — Нам тоже надо испить древнего лекарства. Наливай!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
К вечеру второго дня, после лечения Караван-баши, наконец перешли Кузыл Су. На восточном берегу реки встали на отдых.
Проня за целый день караванного хода прилежно набрал пять мешков сухих навозных лепёшек. Но баранину, варенную в казане на огне из помёта, есть отказался:
— Грех! — и ел, паразит, только сухари, моченные в чаче. Караван-баши привычно сел возле огня, смотрел, как Бусыга в бараний вывар сыплет с ладони дроблёный ячмень, крошит солёное свиное сало, лук, соль. Получался густой суп, сытный и полезный.
— На юге, — махнул в сторону Каспийского моря Караван-баши, — так делают в казане блюдо с названием «пилав».
— А! Плов! Ели! — отозвался Бусыга. — Только густоват тот плов. — Бусыга стал большой ложкой наливать варево в тарелки, прихватывая туда и куски баранины.
Все молча принялись за еду.
Проня подошёл поближе к огню, присел позади Бусыги.
— Вода в этой Красной реке отнюдь не красная, — пожаловался он. — Горькая вода. Но верблюды пьют. Лошади фыркают, но тоже пьют...
— Ты насытился? — подал голос Караван-баши, осторожно жуя. — Так иди в караул. Здесь не Кремль, стены нет. А воров хватает. Барымтачи. Скотские воры. Они выкрадут верблюдов, даже не помолятся...
— Почему я? Опять я?! — заорал Проня. — Я спать хочу!
— Караван-баши здесь главный. Ты мою учёбу забыл?! — Книжник вдруг отставил тарелку, поднялся в рост. — Его слово на походе главнее княжьего!
Проня тоже поднялся, повернулся, зашагал в темноту, туда, где иногда фыркали лошади и сопели верблюды. Пожаловался оттуда:
— А я зарок себе дал, не выпивать до Китая. Эх!
Караван-баши почистил песком пустую тарелку, вытер её куском шерсти, передал Книжнику. Тот брызнул на тарелку струйку чачи, протёр уже полотном.
— Отсюда остался один переход до Атбасара, — тихо начал говорить Караван-баши. — Вот тут, в этом месте, и делают набеги на караваны местные кочевники. Там, на Атбасаре, им не пограбить, потому что охрана нешуточная — бухарская охрана, военная.
— Я никак не могу уловить — чей это язык? «Атбасар»? — заговорил Книжник. — Ба Сар, понятно: «Богоданный царь». Это древний язык, наш общий. А что есть «Ат»?
— Я в пятый раз иду в эту сторону, — ответил Караван-баши, — но «Ат» пояснить не могу. Вроде как «рассыпавшийся»... Получается противобожие: «Рассыпавшийся Божий царь»... Да и у кого спросить? Здесь же ездят только купцы да воины, им названия стоянок нужны только для памяти.
— А может, надо говорить «Атбазар»? — внезапно крикнул из ближней темени Проня, хорошо слышавший в степной ночи, что говорят у костра. — В смысле «торжище»?
— Может, и так, — громко ответил Караван-баши и подкинул в огонь сухого навоза. — Вот эти навозные лепёшки в этих степях называют «кизяк». А монголы, народ, что будет на пути перед Китаем, они их называют правильно — «аргал», «сияющий открытый огонь». «Кизяк» же — это такие шарики, самодельные...
— Да, точно, — перебил Книжник. — Кизи Ак — это «глина, уголь, белый дым». Так писали древние.
— Древние люди здесь не ходили. — Караван-баши устроился лежать поудобнее. — Древние дороги остались на юге. Там все названия понятны всем: например, если «Троя», то есть «Торойя», значит, в том месте торговали рабами...
— Про Торойю я слышал и читал. — Книжник подложил под голову тороку с посудой и тоже прилёг. — Там рабов держали в подземельях. Это место сейчас под арабами, которые уже перемешали кровь с русскими, с ромеями, с арамеями... и зовутся «турками». Они про Торойю и не знают. Много чего уже забыли люди на долгом пути переселения народов... А скажи нам, мырза Караван-баши, кто будет главным на стоянке в Атбасаре? Воин или купец?
— Хороший вопрос. — Караван-баши зевнул. — Только и не воин, и не купец, а тот, кто именем бухарского хана собирает дорожный сбор — «дарагу». Вроде ханского баскака. У него высокое звание — «Дарагар великого бухарского эмира»! А с ним может быть полёта конных воинов. Большая сила в этой степи...
Книжник не успел задать другой вопрос. На свет костра из темноты степи полетели стрелы. Одна царапнула щёку Бусыге, другая упала точно в костёр.
— Шайтан! — вскочил Караван-баши. — Как я забыл поставить у огня знамя?! — Он ринулся к мешкам с грузом, сваленным в линию между костром и караванными животными.
А Книжник уже сорвал со своего пояса оставленный Проней рог с порохом, прямо голыми пальцами сунул в рог горящее месиво из костра и тут же подбросил рог вверх. Порох пыхнул там, в вышине, и на миг осветил кучу всадников на маленьких лошадёнках.
Бусыга подтянул к себе боевой русский лук и саадак[72] и стал посылать стрелу за стрелой в сторону нападавших. Там дико заорали, кто-то завизжал.
Караван-баши подбежал к костру, воткнул возле него палку с зелёным знаменем, где жутко скалился крылатый леопард. Стрелы из темноты полетели и в знамя.
— Плохо наше дело! — крикнул Книжнику Караван-баши. — Они не знают этого знамени и не боятся его!
Книжник теперь стоял на одном колене и тоже пускал стрелы в темноту. У него был странный лук — не обратного загиба, а прямой, только больно толстый. И стрелы порядочной толщины — в палец. Стрелы быстро и ровно срывались с тетивы и в полёте выли.
— Бог Всемогущий! — прокричал сквозь вой схватки Караван-баши. — Там, на той стороне, Проня! Один! Там бараны и лошади! — он побежал в ту сторону, где кучковались животные.
Оттуда вдруг донеся гулкий треск, будто разорвалось небо. Полыхнул пороховой огонь, и сразу завоняло кислым дымом. Потом раздался второй разрыв. Караван-баши грозно заорал, послышался разноголосый вой нападавших, вой не яростный, а побитый. Тупо застучали по песку некованые копыта. Брымтачи, нападавшие со стороны Прони, стали убегать.
— Проня из пищали бьёт! — крикнул Книжнику Бусыга. — Жаль, мы только две пищали взяли!
Саадак у Бусыги опустел. Он метнулся к тюкам со скарбом, стал во тьме шарить стрелы.
На костёр вымахнули три конника, у них в руках высверкивали сабли. Бусыге попалось под руку копьё, хорошее, длинное, от рожна до конца лезвия рука поместится. Он развернулся на ближнего разбойника и тут же всадил копьё ему под рёбра. Потом кинулся на второго, махавшего саблей. Тот отбился тонким и длинным ножом, кувырком поднырнул под степную лошадёнку, вспорол ей брюхо. Лошадь завалилась на бок. Всадник же повис на копье Бусыги.
Третий вор пытался завернуть коня, испуганного выстрелами пищали, чтобы скрыться в темноте. Возле него внезапно появился Караван-баши, ловко метнул аркан. Волосяная петля захватила горло разбойника, тот выронил саблю и упал прямо в огонь.
Над восточным краем степи стало быстро светлеть. Далеко, на южной стороне, ещё слышались крики убегавших ночных татей.
Проня появился у костра с тяжеленной пищалью на плече. За ним тянулась привязанная к поясу, рогатая, как ухват, подставка для стрельбы.
— Ты не ранен, Проня? — спросил Книжник, затирая воняющей мазью из серебряной плошки рану на лбу Бусыги.
— Я бы дал им себя ранить, как же! — похвалился Проня. — У меня пушка! Кто подойдёт, того я...
Караван-баши снял петлю аркана с шеи молодого парня, узкоглазого, одетого в драный халат. Тот захрипел, задёргал кадыком. Караван-баши влил ему в рот воды. Вор закашлял, что-то начал сипеть. Начальник каравана спросил:
— Тангут? Тенгриан? Кто ты есть? Вера твоя — кому?
— Тенгри, Тенгри[73], — обрадовался пленник.
— Пусть поест и отваливает, — сказал Бусыга. — Жрать хочет, у него брюхо к рёбрам прилипло... Такие голодные всегда воруют...
Проня скинул с плеча пищаль, подсунулся к пленному с миской уже остывшего варева. Тот прямо рукой стал таскать гущу в рот. Сопел и чавкал.
Книжник поднял саблю пленника, оглядел клинок:
— Вот же дьявол! А сабля-то из стали!
Караван-баши взял саблю, протёр рукавом азяма место возле гарды:
— Клеймо города Бад Тибира! Этого города уже нет. Он стоял возле Вавилона... Я хочу взять её себе… Память великая.
— На здоровье! — сказал Книжник. — Вон ещё валяется сабля. Даже две.
Пленник доел холодное варево, начал тыкать в павших воров.
— Давай забирай чего надо и уходи! — проорал ему Проня и помахал рукой в сторону безлюдной степи.
Тот понял. Содрал с убитых сапоги, дырявые, ношеные. Снял с мёртвой лошади уздечку из верёвки и пошёл к двум худым коням, умученно стоявшим неподалёку. Запрыгнул на одного, второго поймал за уздечку и поехал, не оглядываясь, туда, куда скрылись ночные тати.
— Давайте вязать тороки, — хмуро сказал Караван-баши, проводив долгим взглядом разбойника. — И оружие это, и порох, и заряды к нему — всё надо спрятать! — Он показал на лежавшую на жухлой траве пищаль. — Там, на Атбасаре, такое оружие не любят. Там вообще оружие не любят, если оно у чужих. А мы чужие.
Книжник примерил пищаль. Она доставала ему до лба. Кованый ствол весил около пуда.
— Лошадь зарезать да в брюхо ей засунуть, а? — спросил Проня.
— Я тебе зарежу лошадь! — озлился Бусыга.
— Да погоди ты! — вмешался Книжник. — Тут Проня молодец! Он сегодня всю ночь молодец! Режь, Проня, лошадь и суй ей в брюхо обе пищали и огненные припасы.
Бусыга оглянулся на Караван-баши.
— Грамотно будет, — подтвердил тот.
— А чего нам там бояться? — закричал тогда Бусыга прямо в лицо начальнику каравана. — Мы же купцы! Такие же, как все!
— Нет, — покачал головой Караван-баши. — Вы не такие купцы. Ты на Проню глянь. Похож он на татарского купца?
Книжник усмехнулся, обтёр свою короткую бороду рукой, проговорил весомо:
— Русские мы купцы. За это придётся нынче терпеть обиду.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Когда поднялись на поперечную гряду из остатков совсем старых гор, Проня ахнул:
— Ну прямо родные места!
Перед ними, и правда, был чуть ли не русский рай. Далеко, до горизонта, виднелись густые сосновые рощи, а тут, почти у края котловины огромных размеров, раскинулась светлая река, да к ней притекали речки поменьше. Вдали блестело озеро, с голубой водой и везде зеленели трава и кусты.
В верстах двух от того пути, по которому они пришли к Атбасару, виднелись во множестве загоны для верблюдов, лошадей и овец. Стояли между загонами или шатры, или юрты, отовсюду поднимались дымки костров, там лаяли собаки и весело кричали люди.
— Эх! — крикнул Проня и огрел свою лошадь плёткой. — А понеслись в рай!
Караван-баши успел перехватить за узду Пронину лошадь: — Стой где стоишь!
Снизу, из зелёной котловины к ним поднимался отряд конников, сабель в сорок. Кони у них были хорошие, высокие, крепкие, никак не степные. Всадники все матёрые, равнодушные, видать, очень опытные; На всадниках персидские медные шлемы с шишаками да железные кольчуги. А на переднем — шлем позолочен, сияет: бекмырза, сотник.
Из-за спины военного предводителя в позолоченном шлеме выдвинулся на низком коне человек с быстрыми глазами. Конники, намеренно и разом вынули сабли и взяли в круг московский караван. Первым заговорил человек с быстрыми глазами.
Караван-баши отвечал ему медленно, с достоинством военного предводителя большого войска. По левую руку Караван-баши занял место Книжник, накинувший на голову чёрный монашеский клобук. Поверх рясы Книжника значительно сверкал на солнце серебряный литой православный крест.
Караван-баши достал из-за пазухи длинный и узкий кожаный кошель, поцеловал серебряную печать на шнурке и сорвал её. Достал грамоту казанского хана и протянул её дарагару бухарского эмира, тому, с быстрыми глазами.
Сборщик пошлины развернул грамоту, быстро проглядел её, небрежно закрутил, сунул себе в кожаный кошель. Крякнул:
— Запасливые!
Караван-баши вынул список товара, который вёз караван и тоже передал дарагару. Список содержал письмена на русском, уйгурском и китайском языках. Две печати, восковая — московская и серебряная — казанская, подтверждали тот список. Список тоже скрылся в сумке дарагара.
Потом тот показал рукой в сторону зелёной низины. Там, куда дарагар повелел встать московскому каравану, желтел ровный, безлесый круг, огромная поляна, почти без травы, несуразная среди зелени. На той поляне валялось множество крупных камней, вроде как от разрушенной ограды или крепости.
— Пошли, погнали! — рявкнул по-русски Караван-баши.
Книжник вперил глаза в лицо дарагара. Тот даже волоском на бороде не дрогнул. Восточный человек. Много видел, много знает. Может, и русский язык знает...
Книжник чутка подзадел Проню концом камчи[74] по спине, шепнул, поворачивая коня на косую дорогу вниз, к развалинам:
— Молчи...
Караван-баши крикнул Бусыге, чтобы он вёл караван вниз, ехал теперь передовым. А сам, как положено, смотрел сверху на спуск. Книжник поспешил в хвост каравана, стал подгонять совершенно отощавших овец, которых не насчитать и десятка — всё, что осталось после Челябы. Повозки, уже малость расшатанные, вёл Проня. Молодые кобылы пошли за повозками, их гнать не приходилось, они чуяли хорошую пресную воду там, внизу.
Вооружённые всадники встали так, чтобы получился коридор, по которому проходил караван.
— Э! Эй, эй! — заорал вдруг бекмырза в позолоченных доспехах, показывая саблей на повозку, где лежала мёртвая лошадь.
Караван-баши подъехал к бекмырзе, коротко пояснил:
— Жертва Богу.
Бекмырза начал вдруг яриться и тыкать саблей в брюхо мёртвой лошади, крепко зашитое тонкой верёвкой. Книжник проворчал Караван-баши два слова на древнем языке. Дарагар насторожился, подъехал прямо к повозке. Они тут же заспорили с Караван-баши.
— Требует разрезать брюхо лошади и показать, что там спрятано... — пояснил Книжник озабоченному Бусыге. — Я велел сказать, что эту лошадь по русскому обычаю мы должны потопить в реке... Её нельзя разрезать, там, по русскому обычаю, зашит живой человек, сказал я... Жертва, значит...
Дарагар вдруг забесился, у него в словах проскочило русское слово «вор».
— Эк его, заразу, зацепило! Мерекает русскую речь, заррраза! — Книжник поднялся в стременах и проорал: — Проня!
А Проня Смолянов уже поднимался к ним, имея на голове шапку с бычьими рогами, а в правой руке — толстую, горящую свечу. Нукеры[75] бухарского эмира, конечно, повидали всякого, но бычьи рога на голове человека видели впервые.
— Жрец! — кивнул на Проню Караван-баши. — Пусть возле жертвенной лошади останется один ваш человек и даст клятву жрецу, что никому не расскажет о том, что видел. Чужую веру на Атбасаре уважают?
Дарагар кивнул остаться у повозки бекмырзе, а сам с нукерами отъехал на сотню конских шагов.
Бекмырза с сомнением посмотрел на подошедшего к нему Проню, крепко сжал рукоять сабли. Облизнулся. Видать, глотка пересохла от неведомого.
— Свечу задуй! — заорал вдруг Проня, сунув горящую свечу прямо под нос бекмырзе.
Караван-баши испуганно перевёл, что делать. Бекмырза дунул, да слабо. Огонь колыхнулся, но не погас.
Проня попятился на три шага, потом опять подсунулся со свечой к ошалелому воинскому предводителю:
— Дуй сильно, скотина!
Тот наконец дунул, загасил свечу. Проня тут же всучил ему в левую руку ту свечу:
— Теперь храни, пока не умрёшь! Зарок такой ты нам дал: хранить тайну!
Караван-баши перевёл слова Прони мелким, дрожащим от страха голосом. И подмигнул Книжнику. Книжник отвернул лицо от бекмырзы.
Проня ловко, засапожным ножом, взрезал три стежка на грудине лошади. Из разреза немедленно высунулась человеческая рука, сжатая в кулак.
— Орус шайтана! — заорал в голос бекмырза. — Бас кеттык, кель, кель! — Он повернул своего коня и погнал вниз, в зелёную долину, но свечу не выбросил.
За ним ринулся весь его отряд.
— Ты русский шайтан, — перевёл Караван-баши истошный вой командира охранной сотни. — Он обещал тебе, Проня, голову отрубить. А пока можно идти вниз.
— Моя голова, она ещё посидит на месте. А руку этого вора куда бы выбросить?
Чтобы надёжно спрятать пищали и порох да не попасться при возможном обыске, Проня придумал отсечь руку мёртвого барымтачи, которого вчера пришиб Бусыга, да тоже сунуть в брюхо лошади. Вот рука и пригодилась.
— Пока никуда не надо выбрасывать ту руку, — задумчиво проговорил Караван-баши. — Что-то в порядках Атбасара изменилось или наш караван уже ждали... Всеблагий Боже, Ахурамазда[76], дай нам выйти из этого зелёного круга — этого ада!
Пока топтались среди камней, пока расшпиливали караванных верблюдов да водили их поить, да потом гоняли пить лошадей и баранов, подошёл вечер. Сели наконец поесть. А со всех четырёх сторон за русскими купцами глядели постоянно меняющиеся нукеры. К вечеру вышла на небо полная луна и тоже зло глядела на людей, чужих в этой стороне Земли.
— Лошадь наша, жертвенная, начинает уже попахивать, — сообщил Бусыга. — Надо бы ночью утопить бедную животинушку.
Караван-баши встал от костра, вскинулся на неосёдланного коня и подъехал к ближнему караульному нукеру. Они обменялись словами. Караван-баши вернулся к огню и сообщил:
— Не разрешено ни топить, ни хоронить. Такой здесь закон!
— Пищали я уже спрятал, зарыл под камни. Порох тоже. Руку того, ночного ворюги, тоже зарыл под большим камнем. — Проня подумал и добавил: — А можно лошадь сжечь? Ведь поймите, братцы, они к завтрашнему дню от испуга отойдут, сами вскроют брюхо этой лошади, а там человека-то и нет! Тогда и нас вскроют! По нашим брюхам!
Караван-баши с сомнением покачал головой:
— Нельзя. Нам ничего нельзя, пока завтра не придут сверять список товаров и не получат от нас деньги — дарагу. И не дадут нам эмирский фирман[77] на продолжение пути. Нельзя здесь рубить деревья, встречаться с другими купцами, вообще ничего нельзя! Пока не получим фирман, ничего нельзя!
— Чужая земля, — пояснил Книжник. — Тут свои обычаи. За нарушение — смерть.
— Земля чужая, но люди, что сюда собрались, здесь не рождены! — возразил Проня. — Мало ли кому эти люди молятся да что у них за обычаи?
— Нет, — возразил Книжник. — Здесь обычай один — Атбасар. Так, Караван-баши?
— Так. Если кто из купцов помрёт, то хоронить его здесь нельзя. Увози подальше в степь, за один дневной переход и там хорони. Не оставляя знака на лице степи, где могила.
— Ну, так повезли это жертвенную лошадку в степь!
— Нельзя. Пока нам не дадут фирман эмира! — пробурчал Книжник.
— Тогда нас завтра всех зарежут, — обиделся Проня.
— Пока ещё завтра не пришло, — Книжник прилёг на кошму, — давайте думать как быть.
— У меня думалки нет, — зло проговорил Проня. — Я купец. Стану думать — проторгуюсь.
— Мало тебя в детстве отец учил, купец! Ремнём с пряжкой! — хохотнул Книжник. — Давай посиди тихо, не мешай!
Проня молча поднялся и ушёл от костра в темноту, к тюкам караванного добра. Немного погодя крикнул Бусыгу. Потом обиженно проблеяла овца, и ещё через какое-то время Бусыга громко позвал Книжника.
Книжник прихватил с собой горящую головню, прошагал к повозкам. Увидел, на что тыкает пальцем Бусыга, громко выругался московским лающим слогом. И проорал на всю долину:
— Караван-баши!
Караван-баши, когда увидел дергающийся живот мёртвой лошади да дикое мычание в брюхе, да торчащие из брюха два человеческих пальца, всё сразу понял.
— Овце крепко перемотали морду? — спросил Караван-баши. — Не заорёт овечьим голосом?
— Даже прошили морду! — гордо ответил Проня.
Караван-баши повернулся, побежал к рассёдланным коням.
И снова, теперь уже зло, потребовал у караульного позвать бекмырзу.
А Бекмырза как раз поблизости и пребывал. Никак не мог избавиться от русской обрядовой свечи. Даже не спал.
Когда бухарский сотник увидел в полутьме, как дёргается вспухший живот мёртвой лошади, как дрожат пальцы человека, торчащие из брюха, он закричал визгливым голосом, стеганул коня плёткой и умчался.
— Запрягай повозку, гони в степь, — сказал Караван-баши. Снял с головы русскую шапку московского кроя, утёр мокрый лоб. — Разрешил бекмырза избавиться от жертвы. Сам нарушил закон Атбасара! Невиданное дело! Когда рушатся законы — падает государство. Нет, не поеду больше караваны сюда водить!
— А русские караваны? Поедешь сюда с русскими караванами? — спросил Книжник.
— А сто рублей дашь?
— Дам.
Караван-баши поглядел вслед повозке, на которой явственно дёргалась мёртвая лошадь, на смеющихся русских купцов, Бусыгу и Проню, безбоязненно выезжающих в ночную степь, повернулся ко Книжнику и твёрдо ответил:
— Ладно. Мне и пятидесяти рублей хватит...
ГЛАВА ПЯТАЯ
— Ты, сволочь! — ругался на охранного нукера Проня Смолянов ранним утром. — Мне надо в кусты! Посидеть там с голым задом!
Нукер копьём преградил дорогу Проне, возжелавшему в тихом месте справить нужду.
Караван-баши и Книжник стояли на другом конце засыпанной камнями большой поляны. Ждали дарагара бухарского эмира. Тот, отчётливо было видно, то садился на коня, то покидал седло и снова отходил с бекмырзой в сторону от нукеров — ругались.
Кусты же, куда нацелился спрятаться Проня Смолянов, стояли в трёх шагах от края каменной площади. Густые кусты, вполне годные для утренних раздумий... За кустами журчала река.
Бусыга тоже хотел в кусты, но терпел. Он подманивал к себе единственного в караване коня, ведь, по расчётам, коню пора уже было обиходить четырёх кобылиц, чтобы на границе с Индией те разродились маленькими кобылёночками. Малышей потом Бусыга славно разрисует золотыми полосами, и станут они... кем они станут? Забыл уже...
Конь ну совершенно отказывался исполнять обязанность самца. Он вдруг ловко мотнул головой, да так, что Бусыга улетел в сторону нукеров. Те со смешками наблюдали, как русский конь брезгует русскими кобылами.
Книжник повернулся, убедился, что Бусыга с делом не справляется, крикнул издали Проне:
— Купец! Сядь за камень и делай своё дело! Не для тебя те кусты!
Проня погрозился кулаком нукеру, пошёл к повозкам и взял оттуда крепкую кирку, какой махают, когда рушат стены каменных городов. Походил под прицелом узких глаз эмирского воина, зашёл за большой камень и начал возле камня долбить себе ямку. Нукер хмыкнул, убрал копьё и отъехал от кустов, перестав их защищать.
Проня раз пять ударил по мелким камням, что валялись возле камня. Солнце било косыми, утренними лучами и в тех лучах Проне показалось, что на камне есть надпись. Или рисунок.
Проня воткнул длинную рукоятку в расщелину между камнями. Тяжёлый железный инструмент стоял прочно. Купец снял с себя длинный азям, повесил на кирку, снял шапку и пристроил её сверху. Вроде получилось, что сидит себе человек возле камня и думает думу...
Протерев ладошкой место, где показался рисунок, Проня и впрямь тот рисунок увидал. Умело выбили на камне неизвестные и древние люди вход в пещеру или врата. По краям той пещеры стояли два великана. А из пещеры выходили люди, связанные одной верёвкой.
— Рабы выходят из подземелья, — сообщил сам себе Проня. — Наверное, здесь тоже была Торойя...
После тех слов он пригнулся, и за спиной зевавшего во весь рот нукера тихо и ловко нырнул в кусты. Даже веточка не шевельнулась. А вот в кустах Проня не удержался, поскользнулся, и его с шумом потащило вниз, к реке. Он ухватился за корень куста, но куст вдруг весь вышел из земли, земля зашуршала, открылась яма, и Проня полетел в ту ямину...
Нукер быстро обернулся на шум, подопнул коня. Мельком глянул на фигуру сидящего человека, накрывшегося возле камня одеждой, плюнул в его сторону и выглянул за кусты. Ему с высоты седла хорошо виднелась и река, и крутой Спуск к ней, густо заросший. Через реку косо и быстро плыла нутрия, крупная речная крыса. Значит, она и шумела.
Нукер опять зевнул, вынул лук, накинул стрелу на тетиву, но крыса уже переплыла реку и скрылась под тем берегом. Он повернул коня от кустов, перемахнулся рукой с другими сторожами. Мол, всё тихо.
— Проня исчез, — шепнул Книжнику Бусыга. Он опять ходил за конём с мыслью его поймать, конь такую подлую мысль понимал и резво отбегал от Бусыги.
— Обалдуй этот, Проня, ох обалдуй. Но живучий. — Книжник поглядел на непослушного жеребца, погрозил ему кулаком и тихо посоветовал Бусыге: — Ты сухарь посоли и мне подай. Я его подманю и...
— Ну бы его к лешему! — разозлился Бусыга. — Этот скот меня пытается лягнуть, и всё в промежность! Как будто знает куда нельзя! Но он хочет туда бить! Не пойду к нему!
— Ты мне сухарь давай.
Бусыга подал Книжнику сухарь, хорошо натёртый солью. Книжник вынул из бокового кармана своего азяма каменный пузырёк с притёртой пробкой. Вывернул пробку, из пузырька пахнуло чем-то сильно похожим на запах моря в штормовую погоду и сильно прокисшим мёдом, если его полить солёной водой. Книжник капнул из каменного бутылька пять капель этой дряни на сухарь, пробку опять притёр, бутылёк спрятал.
С того края каменного круга засвистели, нукер шлёпнул коня луком по крупу и поскакал на свист. К русским купцам, верстах в двух, уже двигался дарагар с воинским отрядом.
— Отойди от меня, он твой запах не полюбил, — коротко сообщил Бусыге Книжник и начал медленно подходить к непослушному коню, держа на вытянутой реке сухарь с колдовским зельем.
Караван-баши сообразил, что за обряд начинается, и быстро ухватил двух кобылиц за уздечки.
— Лови остальных! — крикнул он Бусыге. — Привязывай покрепче! — А сам уже прочно вогнал в узкую каменную расщелину уздечки двух кобыл.
Бусыга ещё возился с остальными ремнями, когда услышал сзади:
— Берегись!
Он отскочил и пригнулся за камнем.
Жеребец, с налитыми похотью глазами, вскинулся как раз на первую из непривязанных Бусыгой кобылиц. Та пыталась отбрыкнуться крупом, подкинула задние ноги, но жеребец в бешенстве укусил её за загривок. Кобылица, дрожа всем телом, теперь покорно приняла нетерпеливое ухаживание жеребца.
— От же а? — Бусыга вывернулся из-за камня, осторожно пробежал к стоящим в отдалении Книжнику и Караван-баши.
Нукеры, что ехали впереди дарагара, заорали, засвистели. Жеребец, оприходовавший третью кобылу, на тот ор оглянулся. Из глаз коня будто посыпались искры. Он вдруг сорвался и понёсся в сторону десятка чужих всадников. Те ополоумели, закрутились на своих махоньких лошадёнках. Русский жеребец, нагло оторванный от своего личного дела, сшиб сразу троих узкоглазых всадников, коней их подлягнул и встал, дико поводя глазами и вовсю полосуя свои бока хвостом.
Караван-баши заорал в сторону дарагара, что «у русского коня пошла охота, лучше не подходить»!
— Гон! Гон! — орал Караван-баши.
А нукеры уже наладили луки, скоты. Бусыга, отругавшись как следует, перерезал узду у последней лошади и поволок её к бешеному коню. Конь, увидев лошадь своей стати, издал торжествующий ржач и встал свечкой. И так, на двух задних ногах, прошёл шагов пять навстречу русской красавице.
Дарагар велел своему воинству остановиться и не стал мешать последней любовной затее русского коня.
Караван-баши с дарагаром ходили и считали животных. Потом стали осматривать тюки. Дарагар с прищуром глаз проверял даже тюки с провизией, запасной одеждой, со всем дорожным хозяйством. Книжник просто резал завязки, для скорости. Ему тоже не нравилось, что Проня исчез.
Свара началась при показе товара. Воска оказалось на два круга меньше, чем указывалось в описи.
— Где ещё два круга воска?
Книжник глянул на Караван-баши. Тот отрицательно покачал головой. Рассказывать о красных вшах в Атбасаре не следовало. Книжник тогда огладил серебряный православный крест, начал тихо и чётко говорить на тангутском наречии, сдабривая его тенгрианскими божественными словесами.
— Ты говоришь, как мы? — поразился стоявший рядом с дарагаром бекмырза.
— Я но жизни сидел у костров двадцати народов, — отозвался Книжник и тут же перешёл на суровый воинский язык персиан.
Дарагар оттолкнул бекмырзу, повернул разговор на тангутский лад:
— Где два круга воска?
— Наш жрец, вон он там, далеко, молится у камня, — показал Книжник на одежду Прони, висящую пугалом. — Он за время пути много молился. Ему при молитве нужен свет от свечи... Он использовал тот воск, лепил свечи. Купец... — Книжник толкнул Бусыгу. — Купец ему разрешил.
— Тот жрец — непростой жрец, — сказал на русском Бусыга. — Он всегда приносит мне удачу в делах.
— Дарагар просит оплатить пеню, — подсказал Бусыге Караван-баши. — Одну десятую цены товара, который пропал из списка.
— Хорошо, — кивнул Бусыга. — Занеси в расчёт.
Дарагар пометил у себя на кожаном свитке арабские цифры.
— Теперь эти товары. Здесь что? — дарагар подопнул мешки с янтарём.
Был ли янтарь известен людям бухарского эмира или нет, в Москве так и не выяснили. Бухара входила в рыхлый и вечно воюющий Тюркский каганат. Туда, за Каспий, русские купцы и не ездили почти две сотни лет, ибо ограбят махом.
— Солнечный камень, — сказал Бусыга и сам раскрыл мешок, вытащил из него осколки янтаря.
Дарагар оглянулся на бекмырзу. Тот смотрел на янтарь, как корова смотрит на быка. Со страхом и вожделением.
— Как вы им торгуете? — быстро спросил дарагар. — На вес? На объём?
Сколько этот камень стоит в ваших пределах?
— Торгуем на вес, — так же быстро ответил Бусыга. — У нас он стоит рубль за пуд. Здесь ровно сто пудов.
— Пропустить этот товар дальше Атбасара я не могу, — тут же сообщил дарагар. — В списках товаров, разрешённых к торговле великим эмиром Бухары и Коканда, а также шахиншахом наших земель от Индии до турецких владений султаном Махмудом Белобородым, такого товара нет.
Караван-баши очень сухо проговорил:
— Великий хан Казанский и Астраханский взял с этого купца шерть, торговый налог. А чтобы не говорили, будто казанский хан вор и берёт деньги просто так, а не за охрану купцов, у великого хана в стороне челябинского прохода стоит конная ала[78] в пять тысяч сабель. Они могут и сюда прийти — на защиту купца.
Дарагар покачал головой:
— Какого товара в списке великого эмира нет, тот не выходит из этого места. Здесь Атбасар!
Книжник выступил впереди Бусыги, показав ему сзади рукой «не трясись!»:
— Великий князь Московский, государь и Ак Сар всех земель, в том числе земли Югорской, куда идут вон те ваши караваны, он дал этому купцу право торговать любым товаром, кроме того, что несёт смерть.
Дарагар внимательно слушал каждое медленное слово Книжника. У него первый раз дёрнулось веко, когда Книжник сказал «Белый царь» — это очень древнее понятие знакомо всем, кто жил на землях от Океана до Океана. Второй раз дарагар передёрнул щекой, когда услышал про Югорские земли. Их держал под собой Тюркский каганат. Какой такой московский князь на Югре?
— Твой господин и великий князь Московии врёт, — зло ответил дарагар. — Он не Белый царь, а земли Югры — наши земли.
— Когда ваши караваны придут назад, если придут, — Книжник снова показал на длинные караваны, уходящие из Атбасара на север, — караванщики тебе скажут, кто их там встретил: московские воины. На реке Бай Кем. Там, где в неё впадает Ишим.
У дарагара посерели щёки, а нос стал острым. Монах с ненавистным всем тангутам крестом о восьми концах, знал то, чего знать никто не мог. Дарагар рассмеялся:
— Ты есть монах и ты много читаешь. Ты прочитал в арабских китабах о тех древних землях названием Сибирь. Но в Сибири Большую реку уже не называют Бай Кем, «Божий Путь», её зовут просто — Обь.
— Конечно, наши братья-арабы писали о земле Югория в своих китабах — книгах. — Книжник вдруг так остро глянул на дарагара, что бекмырза ухватился за саблю. — Но даже арабы не ведают того, что ещё до патриарха именем Нух, ещё до Великого и Страшного Потопа, эту нашу реку мы называли «Ас» — Боготворённая. Об этом говорил высокочтимому пророку Мухаммеду Аллах — Бог всемилостливый и милосердный... Ты это знаешь, дарагар? И мы нынче пришли туда, как на старые, нами обжитые земли. Там сейчас встал полк московского государя. У полка пушки и ручные орудия огненного боя названием «пищаль». И там не наёмный сброд, дарагар. Там встали казаки. Ты их силу боя и силу крови знаешь. Или о том наслышан. Твои купцы, конечно, там расторгуются, если дойдут. Но платить торговую пошлину станут московскому Белому царю. Возьми здесь дарагу за наш янтарь, и мы спокойно пойдём своим путём. Если товар здесь новый и его нет в списках великого эмира Бухары, то по правилам торга всех купцов всех народов ты можешь взять двойную дорожную пошлину. — Книжник нарочно принародно и громогласно предложил дарагару крупную взятку.
Бекмырза зло смотрел на дарагара. Он бы тоже поучаствовал.
Дарагар бухарского эмира уставился в грамоту, писаную великим князем Московским. Он прочёл теперь то, что писано было по самому верху, полный титул государя, под чьим покровительством шли эти купцы — шли нагло, как тысячу лет назад ходили белые русские по нынешним землям тюркского каганата. Ведь их четверо человек всего при огромном караване! При таком караване тангуты ходят при сотне рабов и сотне воинов.
Бекмырза наклонился к уху дарагара и быстро шепнул три слова. Дарагар сунул московскую грамоту в свой кошель. Закашлял, но проговорил:
— Я пошлю гонцов с вашими грамотами к великому эмиру Бухары. Он пошлёт их далее, к великому хану Тюркского каганата. Потом сюда придёт ответ. Поэтому вам надо здесь остаться до весны, купцы князя Московии. Будете зимовать под охраной нукеров великого эмира...
Книжник заметил, как посветлел лицом бекмырза. Это просто замечательно, что бекмырза не может держать лицо воина!
Караван-баши внезапно поклонился в пояс дарагару:
— Да пребудет с нами твоя милость, дарагар, да пребудет милость к тебе великого эмира города Бухара! Это есть справедливое решение! Мы его принимаем.
Бусыга взопрел и дёрнул ртом — ставя язык на чёрную матерность. Книжник одним движением правой руки согнул спину Бусыги да ещё пристукнул. Пришлось ломать спину в поклоне. И орать:
— Я тоже кладу поклон великому эмиру и тебе дарагар. Ты мудро решил. Я честный купец и всегда стану тебя славить! Мы будем здесь в тихой благости до весны ждать решения эмира бухарского! Под назначенной тобою охраной!
Дарагар слегка склонил голову. Но Книжник заметил, что под жидкими усами эмирского баскака змейкой мелькнула усмешка. Так. Где же выиграл дарагар? И где проиграли они, русские?
Внезапно из линии нукеров донеся сдавленный вой, а потом совершенно испуганный визг. Нукеры завертелись, выстраивая морды коней в ту сторону, куда показывал испуганный воин. Некоторые подняли луки.
На гребне каменистого вала, что огораживал низину Атбасара, в проёме одной из трёх дорог, появилось ужасное создание. Огромная морда с загнутыми белыми клыками, торчащими из красного рта, имела маленькие человеческие ножки. Ножки семенили и несли лицо вниз. Создание являло собой такой вид, как если бы большой рыбе-сому смотреть прямо в морду. Только у сома нет клыков.
— Не вели нукерам стрелять, бекмырза, — поспешно произнёс Книжник. — Это идёт наш жрец.
— Да вон же он, ваш жрец! — заорал бекмырза. — Сидит у камня!
— Там лишь его одежда сидит, — невозмутимо ответил Книжник. — В той одежде он оставляет свою душу, а сам ходит.
Огромная морда вдруг и правда поднялась вверх. Это оказалась лишь маска, древняя маска древнего Бога. Проня стал спускаться в низину, подняв страшную маску над головой. Трое нукеров подшпорили коней и кинулись к Прониной одежде. Подхватили с рукояти кирки азям и шапку и кинули под ноги коня бекмырзы. Бекмырза поддёрнул узду, его конь сделал три шага назад.
Держа огромную маску чудовища над головой, Проня прошёл сквозь строй нукеров и очутился среди своих.
— Ты куда летал, Проня? — ласково спросил Книжник, уже точно зная, что проклятый дарагар понимает русскую речь.
Проня поставил маску на землю, опёрся на неё, душевно ответил:
— Опростаться летал. Здесь же Атбасар, здесь нельзя. Под Бухарой присел, посидел... Вот, видишь, бухарский Бог, древний, старый, немощный, тоже хочет посмотреть, как нас здесь принимают... Смотри, Бог, смотри... — Проня стал поворачивать маску во все стороны.
Нукеры по знаку бекмырзы кучей тронулись и понеслись прочь. Дарагар тоже развернул своего коня. За ним, оглядываясь, поехал и бекмырза.
— Где был, тебя честно спрашивают? — другим голосом заговорил Книжник.
— А под землёй был. Там, братцы, такой каменный дворец выстроен, под землёй, за год не обойти! Думал, заблужусь и сгину...
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Караван-баши и Книжник вертели в разные стороны маску страшного Бога, что принёс в долину шебутной Проня.
— Это не дерево, — сказал наконец Книжник. — Это металл. Но такого лёгкого металла я никогда не видел.
— Да, металл. Раскрашенный, — подтвердил Караван-баши. — Но нам этот Бог неизвестен. Поэтому отвернёмся от него, Книжник, и я послушаю тебя. Скажи мне, вы станете ждать здесь весну?
По договору, путь от Атбасара до Китая они либо искали сами, либо нанимали себе другого проводника.
— Мы бы подождали, уважаемый Му Аль Кем, только великий князь Московский ждать не может. Вот так. Хана! — Книжник для подтверждения своих слов провёл рукой по горлу, показал арабское: «Глотку перережу!».
Книжник назвал Караван-баши самым большим титлованием, которого удостаивались только самые знающие проводники караванов: Му Аль Кем — «Мудрец на Пути». За это Караван-баши поклонился Книжнику и с тоской в голосе проговорил:
— Мои сыновья уже сами водят караваны, мои внуки помогают моей жене держать огонь в доме и седлают ей лошадь. Я теперь свободен от невзгод жизни и могу не ведать заботы о семье...
— Сто рублей! Я тебе уже называл сумму...
— Я просил пятьдесят, но если ты настаиваешь, Книжник, я пойду с вами и за сто рублей. Чтобы вы попали в Китай.
Караван-баши завернул полу русского азяма вокруг правой ладони и так протянул ладонь Книжнику. Тот коснулся своей правой рукой ладони Караван-баши и тут же обернул свою ладонь полой своего азяма. Так из полы в полу передавался договор.
— Бухарские воины будут моей заботой, — сказал довольный Книжник. — Я полагаю, что они снимут с нас охрану, и мы всё же уйдём отсюда. А ты думай про путь на Китай!
— Да пребудет с нами милость наших Богов! — подтвердил Караван-баши. — Я сейчас сяду у костра и стану держать мысли о пути на Китай. Мне надо побыть одному.
— А я пойду схожу под землю с Проней, а Бусыга станет охранять твой покой. — Книжник направился от костра к злым псковским купцам.
Оставленные в охрану русского каравана, восемь бухарских всадников отпустили своих коней погрызть кусты, сами уселись в кружок. Посреди них едва горел костерок.
Проня ругался с Бусыгой:
— Надо было орать и орать! Надо было дать по роже этому дарагару! Мы с тобой должны преогромные деньги московскому князю, а ты кланяешься этому эмирскому баскаку и твердишь: «Подождём весны, подождём весны!» Мы подохнем здесь до весны!.. Чего тебе, Книжник?
— Не ори, — тихо предупредил Книжник. — До весны мы здесь не подохнем. Если же подохнем весной, то уже в Индиях! Теперь вот что, купцы. Бусыга берёт двух овец и тащит их вон тем воинам. Пусть жрут! А ты, Проня, поведёшь меня в ту пещеру, куда ты вчера провалился?
— Поведу, — согласился Проня. — Только как же мы из Атбасара выберемся? Живыми?
Бусыга уже волок мимо них двух овец на обрывках верёвки. Книжник придержал Бусыгу, достал из кармана плотный кошелёк, сыпанул из него на ладонь что-то вроде жёлтой соли. Сунул ладонь под морду одной орущей овце, потом другой. Овцы покорно слизали угощение. Мига два прошло — обе овцы забились, забились, тут же опали наземь.
— Режь быстро глотки!
Проня привычным махом вспорол ножом овечьи горла.
— Эй! — заорал Книжник в сторону нукеров. — Ет бай! Берши, берши!
Услышав про жирное мясо, которое просят взять, нукеры вскинулись, пошептались.
— Волоки им овец да поклонись на всякий случай, — велел Бусыге Книжник. — Только смотри не вздумай этого мяса отведать. Отведаешь — вообще ничего не увидишь. Уже до обеденного солнца.
Проня с большим интересом смотрел на маленький кожаный кошелёк в руке Книжника. Потом глянул на его лицо. Обычно простое и благостное, лицо Книжника просело так, что кости черепа могли изнутри продавить кожу. В глазах его бесилась тьма. Книжник наклонился над бурдюком с чачей и лил драгоценный напиток на руки, тёр их с песком, снова лил, снова тёр руки. Проня сглотнул слюну, поёжился.
— Пошли, — тихо позвал Книжника Проня, — покажу пещеру, которая, наверное, здешняя Торойя, тюрьма для рабов.
— Да нет, Проня. — Книжник отвёл чёрные глаза в сторону, потом снова глянул на Проню. В глаза его вернулась тёмная синь. — Это, Проня, не Торойя, это будет много хуже.
Заготовленные в Челябе, в Проходе мудрецов, смоляные сосновые факелы горели тихо и ровно, почти не давая дыма. Книжник двигался со своим факелом повдоль высоченной стены подземного зала, велев Проне стоять недвижно, чтобы не потерять вход.
Наконец Книжник наткнулся на проход в дальней стене. По неподвижному Проне определился, что тот проход расположен как раз напротив засыпанного со стороны реки тайного хода под землю.
— Ты здесь шёл? — Голос его прозвучал странно, будто Книжник говорил через толстую перьевую подушку.
Голос Прони, наоборот, разнёсся по залу громко и остро:
— Откуда я помню, где я шёл? Страху было — выше гор!
Книжнику не понравилась разница в звуках голоса в этом подземелье. Что-то опасное таилось в нём.
— На пять шагов назад отойди и скажи мне что-нибудь! — велел Книжник.
Факел Прони закачался, потом замер.
— Говори! — крикнул Книжник.
От Прони донёсся шелест. Потом послышалась тонкая нежность, словно журчал маленький весенний ручеёк. Книжник быстро зашагал вдоль стены назад. Шёл и в голос звал:
— Проня, Проня, Проня...
Проня наконец откликнулся:
— ... не пойдём, что ли?
— Проня! — заорал Книжник. — Слышишь меня?
— Да всё время слышу! Спрашиваю тебя, дальше не пойдём, что ли?
— Поворачивай, быстро иди к выходу. Быстро!
Сам Книжник почти бегом продвигался вдоль стены и уже почти приблизился к факелу Прони, когда услышал, что под ногами хлюпает вода. Вскоре она стала заливаться ему в сапоги, поднялась до колен. Книжник заторопился, но тут же столкнулся с Проней. Оба стояли у входа в этот огромный подземный зал. Книжник толкнул Проню и они побежали дальше, на воздух, а через короткое время уже тяжко протискивались в глинистом скользком проходе на свет дня.
Когда высунулись из земляной ямы, Книжник сразу глянул на речку. Она заметно обмелела. Вот оно! Река, судя по её берегам, в далёкой древности была много полноводнее. И будь она такой полноводной сейчас, они бы так и остались в большом зале и в воде. Навсегда. Книжник тотчас вспомнил лицо Бога на неизвестном лёгком металле.
— Му Сар Оаннес! — громко сказал он и засмеялся.
— Кто? — отдышавшись, спросил Проня.
— Да тот Бог, лицо которого ты притащил вчера на стоянку.
Проня с сомнением оглядел перемазанного глиной Книжника, свою одежду, с которой придётся возиться целый день, чтобы привести её в божеский вид и сумеречно выругался.
— Не лайся, — построжел Книжник, — а молись, что тебя не забрал к себе под воду этот древний Бог!
— Водяной царь, что ли?
— Водяной, водяной... Экая я дубина! Не мог верно перевести понятие «Атбасар»! Сразу бы перевёл — тогда бы бухарского дарагара махом поставил на колени. Впрочем, ещё успею! Пошли стирать одежду!
А от их стоянки уже кричали то «Проня», то «Китабара». Звали их. Потому что стоянку русских купцов опять окружили свирепые бухарские нукеры.
С великой ненавистью в глазах, но с подлым трепыханием в горле бухарский дарагар верещал:
— Почему они спят? Ты отравил их? — Он тыкал пальцем то в лицо Проне, то в сторону валявшихся среди кусков недожаренной баранины бухарских воинов.
— Не ори! — грубо рыкнул на дарагара Книжник. — Здесь страшное место. Почему ты поставил нас стоять здесь? Ты хотел убить нас! А воинов твоих мы не трогали. Они сами похватали наших баранов, сами их зарезали и стали есть...
— Мои воины не воруют скот на чужих стоянках! — тоже в голос заорал Бекмырза.
— А вот сегодня — своровали! — упрямо повторил Книжник.
Бусыга молча кивал головой, а Караван-баши стоял ровно, со скучным лицом. Он уже почуял, что не зря связался с этими русскими. На их стороне появилась негаданная сила.
Конники расположились обычным полукругом возле стоянки русских купцов, но сабли пока не вынимали.
— Ты отправил гонцов с нашими грамотами к бухарскому эмиру? — Книжник заговорил другим голосом, по-русски. — Нет? Это хорошо. Мы сегодня напишем эмиру Великой Бухары, что он совершил ошибку, повелев над древним храмом устроить стоянку каравана с животными! Ты отвезёшь ему наше письмо!
Дарагар на эти слова вдруг выдохнул и успокоился. Тоже сменил голос и язык. Заговорил, курдючник[79], на русском языке:
— Раб! Только моей властью ты живой! Я шевельну пальцем, и вы все здесь умрёте! А потому не смей командовать и болтать про ошибки моего божественного Повелителя!
— Садись лучше на коня и поезжай сам на берег реки! Вон туда. — Книжник подхватил за узду коня дарагара и услужливо придержал стремя.
Дарагар услышал насмешку в голосе Книжника, но забрался в седло. Книжник повёл коня за узду в ту сторону, откуда они с Проней недавно вышли. Бекмырза вынул саблю и тронулся следом. Книжник не протестовал против сабли, он подвёл коня дарагара к стене кустов, прикрывавших берег реки, и спросил:
— Видишь ли воду, бегущую с тихим журчанием?
Бекмырза встал рядом с дарагаром и тут же сдавленно хрипнул:
— Шайтана шаракшас![80]
Река исчезла.
Все четверо сидели у костра, под полуденным солнцем, уже мало гревшим землю, ибо осень пришла и легла на Великую степь.
— Это плохо, что они снова уехали совещаться, — устало сказал Книжник. — Думаю, что или сегодня к вечеру или завтра утром они порешат нас резать. Мы больно на них надавили. Моя ошибка.
— Отобьёмся! — сказал Проня и опять начал жевать кусок сала с сухарём. Он один ел сейчас, другим не хотелось. — Я пищали зарядил. Спрячемся вон там, за камнями, отобьёмся. Конникам не пробиться сквозь те камни и пищали. Верно говорю!
— Они и не станут пробиваться к нам. Угонят наших верблюдов, лошадей и весь товар заберут. А мы без воды и куска хлеба так и помрём за теми камнями.
Караван-баши кивнул Книжнику, мол, правильно говоришь, долго смотрел, как Проня жуёт, потом повернулся к Бусыге:
— Они, говоришь, забрали тела своих нукеров и все куски баранины?
— Да, — Бусыга смотрел мимо Караван-баши на Книжника, лежавшего лицом к небу и что-то шепчущему туда, ввысь. — Нукеры уже были мёртвыми. Но зачем они забрали баранье мясо?
Книжник поднялся с земли, сел тем же образом, как и Караван-баши, скрестив ноги.
— Сожрут они мясо. Кочевники всегда голодают, — сказал Книжник. — А нам наплевать!.. Ты знаешь местные сказки, Караван-баши? Там, в тех сказках, есть упоминание о Су Лу?
— Э! — оживился Караван-баши. — Слышал. Водные рабы! Су Лу! Говорят о них здешние сказки!
— Мы сейчас сидим на том месте, где шайтан знает, как давно стоял огромный дворец того Бога, чей лик приволок сюда Проня. Ешь, Проня, ешь больше! Ты заслужил, купец...
— Э! — Караван-баши рассмеялся. — Тут всегда была степь. Зачем быть дворцу посреди степи?
— Здесь не всегда была степь, уважаемый Му Аль Кем. Здесь было море.
— Дворец посреди моря? — удивился Бусыга. — Давай сказывай сказки!
— Ты, когда палец порежешь, кровь из раны на вкус пробовал? — спросил тогда Книжник.
— Было дело, — согласился Бусыга, и в горле у него пискнуло. Он побелел лицом.
— А воду морскую пробовал? Солёную, как наша кровь?
Бусыга закрыл лицо руками. Проня перестал жевать и сидел с открытым ртом.
:— Понял теперь, чей это Бог, маску которого ты нашёл под землёй? Наш это Бог, человеческий. Правда, только половины человечества.
Проня спросил сквозь набитый рот:
— А что, есть и другая половина?
— Есть.
— И что, поди, у тех человеков кровь сладкая?
— Не знаю. Не пробовал.
Проня живо перекрестился, кивнул и стал обрабатывать зубами баранье ребро. Бусыга уставился в огонь костра и замер в полной неподвижности. Караван-баши тихо спросил:
— Ты, Китабар, узнал, как точно называется это место? Не Атбасар?
— Да. Это не Атбасар. Правильно читать и говорить — Ата Ба Сар. «Отец Божьих Царей». Отцом всех Божьих царей на этой половине Земли был действительно Водяной царь, Му Сар Оаннес. «Мудрый царь, тот, который первым правил людьми и созданными сущностями». Правда, латины, кои нашли древние документы, упоминавшие об этом Боге, как всегда всё переврали. Они замазали другими буквами слово «Первый». Чтобы вытащить своего Зевса. Или Юпитера. Этим паразитам деньги нужны, латинам подлым... — Книжник что-то добавил зло, арабским языком. Про козлов, оплодотворяющих мышь.
Проня услышал, понял и захохотал. Спросил:
— А теперь он где? Водяной царь?
Книжник не ответил. Гладил бороду. За него ответил Бусыга:
— А может быть, сидит там, внизу и слушает, что мы здесь болтаем!
Проня глянул на серьёзное лицо Книжника, не выдержал, сложил ладони рупором, наклонился к земле и прокричал:
— Водяной! Эй, Водяной царь! Выходи, мясом угощу! — И тут же получил увесистую затрещину от Книжника.
Караван-баши хэкнул. Все вскочили на ноги. До них донёсся резкий непрерывный вой бухарских воинов. Потом они увидели, как конная ала из двух десятков воинов несётся в их сторону, сотрясая землю.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
На Бекмырзу было страшно смотреть. Его узкие глаза будто кто обрызгал соком макового зерна, они округлились. В правой руке сотника качалась сабля, в левой руке тряслась большая свеча, подаренная Проней. Два десятка нукеров теперь не кичились мужеством и силой, они пыхали страхом.
Бусыга уже сидел за камнями, там, где из расщелин торчали стволы пищалей. Караван-баши встал первым перед фыркающим конём сотника. По левую руку от него, чуть сзади расположился Книжник. Совсем позади пристроился Проня, его тело до шеи, будто щитом, прикрывала круглая маска древнего Бога.
Бекмырза орал на тангутском языке:
— Дарагар умер! Тридцать моих воинов тоже покинули этот мир! Вина за это лежит на вас, урус шайтан! Хэй!
Несколько нукеров вынули сабли, неуверенно подопнули своих коней. Остальные стояли, оглядываясь, ждали...
Позади русских, из камней, донёсся разливистый свист. Бусыга предупреждал своих. Караван-баши и Книжник тут же упали на землю. Проня отскочил вбок, пищали устанавливал он сам и знал, куда полетит огненное зелье. Из-за камней в сторону нукеров вылетел яркий язык пламени, потом сухо треснуло. Трое нукеров вылетели из седел, пять коней заржали, закрутились, понеслись в сторону от пугающего грохота, брызгая кровью.
Бекмырза уздой передёрнул своего коня поближе к Проне — заслонился от свинца. Опять заорал своим воинам.
Второй раз ударил выстрел, ещё два нукера навсегда покинули сёдла коней. Караван-баши отбивался от вялых нукеров трофеем, взятым при налёте барымтачей. Книжник орудовал длинным русским копьём.
— А-а-а! — заорал бекмырза и махнул саблей над головой Прони.
Проня подставил вместо щита тонкую маску Водяного Бога. Удар сотника, сильный и резкий, лишь погнул маску и скользнул вбок. Сотник не рассчитал, что «щит» Прони окажется таким крепким, и вылетел из седла вслед за скользнувшей саблей. Нукеры, те, кто не полез в сшибку, при виде упавшего сотника мигом завернули коней и помчались прочь от места рубки.
Караван-баши вытер свою мокрую саблю о полу халата лежащего на земле бекмырзы, пинком откинул саблю сотника подальше. Сотник лежал на правом боку, а в левой руке крепко держал Пронину свечу.
— Вот же язычник хренов! — перекрестился Проня. — Поверил ведь, а? Поверил в мою сказку!
Подошёл к лежащему сотнику Книжник, ниже правого локтя его тускло струилась кровь.
— Вам, урус шайтан, отсюда не уйти! — прохрипел Книжнику бекмырза. — Из Атбасара выходит три пути. Их скоро перекроют воины великого эмира. Молитесь своему Богу!
Караван-баши показал чистой саблей на южную стену атбасарской котловины. Там, через узкий пролом спешно убегали в степь оставшиеся в живых нукеры.
— Мы-то помолимся, — морщась, ответил Книжник. — Помолимся и уйдём отсюда. Аты не уйдёшь, бекмырза. Тебя свеча здесь держать будет! Ведь ты уже три ночи не спал. И больше никогда не уснёшь. Только умрёшь! Ты воин и понимаешь разницу между сном и смертью.
Подоспевший Бусыга помог Книжнику снять азям и заголить раненую руку. Сабельный удар задел кость. Плохо. Бусыга у самого плеча крепко перетянул руку Книжника куском кожаного ремня. Кровь замерла в ране.
— Принеси мою сумку, — велел Книжник Бусыге. — Там лекарство.
Караван-баши подошёл к Книжнику, так, чтобы лежащий бекмырза оказался между ними.
— Мы на неделю опаздываем выйти на Путь, Аль Китабар, — поклонился он Книжнику, говорил по-тангутски, чтобы сотник его понял. — Можно было бы идти сейчас прямо на восток, вдоль большой реки Иртыш, но нас настигнет снег и верблюды откажутся перемогать Путь. Потом сдохнут. Пропадём и мы. Надо идти на юг. На старую дорогу к озеру Баал Хаш. Но там мало колодцев или их уже засыпало время...
— Засыпало ли время колодцы на старом Пути? — Книжник подтолкнул ногой Бекмырзу. — Отвечай правду, или я кликну нашего великого жреца! Ты держишь его свечу, он свечу отберёт, и дух твой померкнет.
— Есть колодцы на пути...— Бекмырза поднялся с земли, потоптался, отряхивая пыль. — Но их стерегут нукеры бухарского эмира или сарбазы[81] великого хана Великого Тюркского каганата. Умру я, и вы тогда все умрёте... — Сотник побрёл к своему коню, в левой руке всё ещё держа свечу. Он стукнул по левой бабке коня, тот подогнул ногу, показал подкову. Стукнул по правой бабке. Подкова на правой ноге коня сидела косо, сбилась... потому сотник и не усидел в седле при рубке.
Караван-баши поднял с земли саблю сотника, поднёс её, с поклоном ему отдал. Сабля скользнула в ножны. Караван-баши быстро заговорил с сотником на восточном наречии, повторяя «туркмен, туркмен». Бекмырза нахмурился, потом ответил: «Кын бала, Кын бала».
— Проня! — заорал русскими словами Караван-баши. — Шапкой с рогами голову накрой! Потом иди к нам.
Книжник, которому Бусыга мазал рану вязкой гущей неведомой травы, шепнул Бусыге:
— Сундук с деньгами неси сюда, тот, маленький. Видать, скоро поедем отсюда. Свой лук тоже прихвати: этот сотник может и уйти от нас. Конь у него сильный да быстрый.
— У меня стрелы побыстрее будут! — Бусыга побежал рыться в груде тюков с хозяйством Книжника.
— Как я и думал, — повернулся к Книжнику Караван-баши, — нас здесь просто хотели пограбить и, по возможности — убить. Сотник мне сообщил, за некую плату, что бухарский эмир получил весточку от Махмуда Белобородого, турецкого султана. А весточка была про наш караван с янтарём. Слышал, бекмырза всё твердил: «Кын бала, Кын бала?» «Солнечный сын, солнечный сын?» Он, сотник, из народа туркмен, это свирепый народ. Ему поручили нас ограбить и забрать янтарь. Потом наш янтарь он бы лично отвёз в Царьград, султану Махмуду Белобородому. Сотнику хватило бы награды на большой дом, на сад и на двадцать молодых наложниц.
— А какую плату просит у нас этот туркмен-аскер? — спросил Книжник. Он заведомо назвал бекмырзу солдатом, ибо дело оборачивалось совсем в плохую сторону: когда два государства обрушиваются на маленький купеческий караван, дело — дрянь.
— Он просит освободить его от свечи. От обета хранить тайну о жертвенном человеке в брюхе лошади. В залог своей просьбы возвращает нам наши грамоты.
Бекмырза полез за пазуху халата и протянул Книжнику и грамоту казанского хана, и бумагу с перечнем товаров. Книжник осмотрел печати, они оставались целыми, и согласно кивнул.
Проня Смолянов, подошёл к разговаривающим, потряхивая маской древнего Бога и имея сильное желание той маской ещё раз напугать бекмырзу. Ведь поганец не струсил ударить саблей по лицу Бога!
— Нет, — вступил в разговор Проня. — Я не могу освободить его от смертного обета. Сам напросился, сам пусть и подыхает!
Книжник повернулся левым глазом к Проне и поощрительно подмигнул. Вслух попросил:
— Надо, жрец, надо!
— Тогда пусть возьмёт у нас деньги и расскажет до конца свою тайну. Он не всё сказал! — Проня говорил зло, напористо, так что Бусыга, сидевший поодаль, на тюках, наконец-то понял, почему он никогда не мог отдубасить за прегрешения своего шурина. Рука не поднималась, хоть ты плачь! Нутром своим силён был Проня, упрямством и просто звериной хитростью.
Караван-баши быстро переводил бекмырзе то, что говорят русские.
— От денег он отказывается, — сообщил Караван-баши. — Просит только освободить от обета. Сам готов заплатить, только отпусти его, Проня!
Проня замотал головой:
— Не могу!
— Обряд передачи смертного обета ему устрой, — посоветовал Книжник, снова подмигнув. — Но сперва пусть до конца поведает нам тайну султана Махмуда Белобородого, путь борода его порыжеет!
Бекмырза даже без перевода понял, что русские начали ругаться не об его судьбе. О чём же?
— Обряд передачи свечи можно сделать, — пояснил ему Караван-баши. — А для того надобно живого человека. Мне свечу русские передать не могут, я у них в найме, значит, не человек. Купцу нельзя, он здесь главный. Попу, — он указал на Книжника, — тоже нельзя... А твои люди мёртвые, им не передашь.
— Скажи, что всю тайну султана Махмуда Белобородого я им открою, только когда передам эту клятую свечу! Хоть своему коню, но передам!
Караван-баши сделал строгое лицо и перевёл слова эмирского сотника. Все посмотрели на Проню. Тот даже не задумался:
— Коню? Коню можно. Только его придётся отпустить в степь! Насовсем! Дурак же будет тот, кто возьмёт его себе!
Бекмырза засуетился. К лицу его прибыла кровь, он погладил своего коня по холке, сунулся лицом в гриву, постоял так малость, оттолкнул животное от себя и крикнул Проне:
— Кель тугай![82]
Бусыга пошёл ловить сотнику другого коня — из тех, что остались целыми после побоища. Нашёл, привёл и заорал, чтобы сотник не вздумал снимать со своего старого коня богатое седло, красивый тканый чепрак да украшенную серебром уздечку.
Проня положил на землю лицом вверх маску древнего Бога, встал на колени на жуткие клыки полурыбы-получеловека, начал моление. Молился, правда, недолго. Прочёл «Отче наш», встал с колен, велел бекмырзе держать свечу в правой руке. Достал из костра тлеющую головешку, раскрутил её до появления огня и зажёг свечу. Бекмырзу замутило: не спал три ночи человек, даже от вида горящей ляг ушки начал бы сползать к земле.
Бусыга поддержал падающее тело, потом повёл сотника к его старому коню. Книжник сказал сзади жутким голосом:
— Ставь свечу на седло. Крепко ставь! — его тоже мутило от потери крови.
Сотник кое-как укрепил свечу на луке седла, Бусыга тут же плёткой стал отгонять коня на дорогу в степь. Верный конь противился, ржал, не хотел покидать хозяина.
— Весомая жертва, — сообщил людям Книжник и осел на землю.
Бусыга бросил коня и поволок Книжника к тюкам.
— Ну, говори тайну! — велел Проня.
Бекмырза, как бы очнувшийся от дурмана, вскочил на чужого коня, повернул его вслед за своим, обернулся и крикнул:
— А в стране Син, куда вы идёте, там уже знают, что у вас надо отобрать камень «Солнечного сына»!
Бусыга поднял русский боевой лук, навёл его так, что наконечник стрелы смотрел на три пальца выше головы бекмырзы. Натянул тетиву. Бекмырза оглянулся, по натягу лука понял, что стрела попадёт ему точно в шею.
— Урус шайтан! Кем кара бак![83] У-у-у! — из руки сотника вылетел свёрток, на лету развернулся, сверкнул серебром.
— Не стреляй. — Караван-баши положил руку на плечо Бусыги. — Он печать дарагара выбросил... Считай, всё нам отдал, и даже больше...
Сотник ухватил узду своего коня и так понесся на подъём из атбасарской котловины, что в сторону русского каравана полетели камни из-под копыт.
Бусыга пошёл, подобрал брошенное. Действительно, в его руке тускло отсверкивала печать дарагара, эмира бухарского, большая, восьмигранная, расписанная вязью арабских букв. Книжник поманил к себе Бусыгу. Взял печать левой рукой, повертел, прошептал:
— При случае она нас спасёт... Пока собираемся, пока вьючимся, нарежь мне ровных кусков ткани, да мои чернила подай. Я на те куски поставлю эту печать, а вы рассовывайте их по всем тюкам. Сгодится крепко... — Он опять начал опрокидываться от боли навзничь.
— Стой! Стой! — придержал Книжника Проня. — Зовут-то для Бога тебя как?
— Хоронить... меня... надумал?
Бусыга резнул Проне по затылку. Проня даже не обернулся, продолжал трясти Книжника:
— А, это... хоронить, оно ведь быстро, а помнить надо долго!
— Верно говоришь. Молодец. В миру, в сербских горах, меня звали... Бео Гургом. Золотым... волком... — Он всхрапнул и отвалился на тюки.
— Надо уходить отсюда! — устало сказал Караван-баши. — Сейчас же соберёмся и пойдём на север, по следам караванов эмира бухарского. Этим запутаем следы. А потом, когда дойдём до реки Иртыш, повернём на восток. Возле той реки и зимой можно пройти. Будем жечь костры, пусть верблюды и лошади возле них греются. Другого пути для нас уже нет... На юге нас встретят нукеры эмира, пограбят и зарежут. Что-то сильно дорогим стал янтарь в этом мире...
— Услышал бы про наши беды великий князь Иван Васильевич, пожалел бы нас, — сказал Проня, снимая шапку с бычьими рогами. — Мы теперь для него — главная забота и надежда... Мы теперь его единственная казна!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Про то, что русский караван, ушедший через Китай в Индию, есть его единственная казна, Иван Васильевич точно подумал — когда примчавшийся в Москву от Нижнего Новгорода гонец сообщил ему, что полки, шедшие на Казань, у Нижнего Новгорода встали: ростепель. Так пришла неминучая погибель.
А как всё хорошо начиналось! Древлянские волхвы, жившие в особом посаде при Неглинной реке, неделю гадали-гадали и нагадали великому князю Московскому, что с середины греческого месяца октября установятся лютые холода, реки покроются льдом и можно шагать на Казань...
Сто возов тележного обоза по первому льду успело переправиться через Волгу у Нижнего Новгорода в Бор, где с незапамятных времён собирали дань, казнили и миловали свой народ черемисские князья. Но там обоз государя с голодным воем встретили казанские татары.
Крымский хан по первому снегу честно привёл в Арзамас, где утвердилась его ставка, и пять тысяч самых проголодавшихся своих людей. Через неделю можно было бы и навалиться на Казань. А тут — ростепель!
Вятичи встали со своими двумя тысячами воинов на Вятских Полянах, за три перехода от Казани: дороги перекрыла мёрзлая грязь. Ростепель! Пять пушек утопло, половина пороха и два десятка подвод с ядрами.
Всё! Казанцы со дня на день поймут, что Урус-князь Ивашка решился на невиданное дело — воевать зимой. И почнут выбрасывать во все стороны малые отряды. Налетят, вырежут русских, застрявших в грязи, и попрячутся за стены. Город брать — это не корову доить. Корову можно доить хоть в болоте, она понимает, что так надо. А город — это просто упрямый бык, у которого и рога есть!
— Что, Шуйский, обварился я на этом деле? — зло прищурился на конюшего Иван Васильевич. — И как нам быть? Без славы бросить всю затею и уйти в монастырь?
Шуйский ухмыльнулся, махнул гонцу, чтобы подождал за дверью.
Большие бояре, что сидят теперь по монастырям под крепкой стражей, перед резнёй Великого Новгорода прямо в лицо говорили Ивану Васильевичу, что пора бы тому отойти в монастырь, а оставить править молодого князюшку, Дмитрия Иоанновича. Юрке Патрикееву сразу после новгородского погрома за это башку и срубили! Другие заводчики жидовской ереси ещё сидят по ямам, ждут, когда Казань падёт. Тогда и их головы падут... А тут вот — ростепель! И сам, правда, про монастырь вспомнишь. Получить от Бога такой подарок, как весну в начале зимы?! Эк, ты Русь-матушка! Крепко любишь, да крепко бьёшь!
— Три Арских князя тебя ждут, великий князь, — сообщил Шуйский. — Я ещё месяц назад велел им к тебе прибыть за наградой. Сидят там, в переходе.
Великий князь удивился:
— Никаких черемис я не звал, награды им не обещал! Ты что, сбрендил? Награда... Я на Казань уже выкинул пятнадцать тысяч гривен! Весь «чёрный бор» с Великого Новгорода. Да на войну под Казанью уйдёт столько, да на после войны ещё столько же! Это весь ганзейский займ! А впереди-то у нас, по весне — Литва! Расходы будут просто немеряные! Кто Арских князей звал?
— Я звал, — признался Шуйский. — Я как-то не шибко верю старым волхвам. Они вон накаркали тебе мороз, а тут шуга пошла и скоро, поди, яблони зацветут... Так что я заранее озаботился позвать Арских князей поучаствовать в нашем деле. Сам их награжу, твоих расходов не станется, великий князь.
Иван Васильевич сообразил:
— Оружие им дашь?! Безбумажно и безответно?
— Оно так. И триста дойных кобылиц.
— Ну, Мишка! — рассупонил грозное лицо великий князь. — Потом проси меня чего хошь. Только после Казани!
Арские князья, горная да луговая черемиса, жили вот уже три сотни лет на своих землях, как будто в погребах. Татарам дань отдай и тут же русским дай — тоже как бы дань. Со всех сторон полный затвор! Теперь, когда русские татар вроде перевесили в силе, стало наоборот — дай сначала русским, а потом татарам. Две дани отдай, а сам хоть голый сиди в подполе и жди, кому ещё понадобишься. А оно так и есть: с понизовья Волги набегут гилевщики[84], и тот твой погреб разроют. Вольного народу больно много пригрели Дон-батюшка, да Волга-матушка!
Арские князья вполне здраво рассудили, что надо брать сторону русских. Уж сколько татары русских били, били, да и черемисы татарам в том помогали, а выстояли русские. Выстояли, и вот теперь, судя по всему, начнут бить ответно. Бьют же русские больно и смертно. От их бешенства не откупишься. Лучше быть с ними заодно...
У Арских князей были свои тропы да дороги до Казани и мимо неё. Так что они встанут по задкам города, на виду, с напольной стороны, и останется у казанских один выход — бежать либо прямо на русские полки, либо косо по Волге, а там крымчаки... Куда ни беги, добра не будет! Хороша задумка!
Восемь сотен боевых русских луков прямого натяга выдал Шуйский Арским князьям да двадцать тысяч железных боевых наконечников к стрелам, да тысячу наконечников копий, да триста сабель татарской выделки. Ну и деньгами отвалил несусветную сумму — шесть ведёрных бадей с серебром!
— Данило Щеня с вами пойдёт, блестящие воины! — возгласил черемисским владыкам Михайло Шуйский.
Тут поднялся самый старый из князей, чувашин, князь Алатырский.
— Мы не Блестящие Воины, конник, — обрушился он на Шуйского. — Мы будем Ар Ас — Сияющие Божьи Создания!
— Извини меня, князь. Это так! — тотчас поклонился Шуйский.
— И нам не надо воеводу с войском, мы сами себе воеводы! И войско у нас — наше!
— Данило Щеня пойдёт всего с тремя своими сотниками, без воинов, — пояснил Шуйский. — И пойдёт не чтобы вами командовать, а чтобы вас отстоять, ежели на вас вятичи навалятся. Вятичи же слепороды, а стоят сейчас большим войском в линию от Йошкар-Олы до Мамадыша. То есть за вашими спинами. Вот вдруг сзади и навалятся?
Самый старый из Арских князей обернулся к своим. Те горестно кивнули.
— Десять тысяч войска вятичей идёт на Казань, — заторопился врать Шуйский. — Да с ними идут шабры[85] ихние, марийцы. Во второй линии.
Марийцы воинами не были, это народ древней святости и колдовства, но Арские князья засуетились. Марийцы могли так наколдовать, что ни одна Арская корова не даст молока!
— Мы через пять дней выступим на Казань! — заторопился старый Арский князь. — Данило Щеня пусть идёт с нами! — и Арские князья скорым ходом ушли с обозами, полными военного добра, повдоль Оки на Волгу.
На третий день обозного хода Арские князья перессорились, переругались, ибо поделить ровно на троих шесть бадей с серебром никак не могли. А на пятый день того хода, у первых татарских стоянок, Данило Щеня с великой благостию принял предложение Арских князей возглавить их объединённое войско и честно поделил всем поровну шесть бадеек.
По великой распутице черемисы двигались ходко и ещё через три дня перекрыли все подступы к Казани с горной стороны Волги. С понизовий её казанских татар донимали татары крымские. Крымчаки грабили беглецов из города, почуявших, что русские Казань всё равно скоро возьмут, даже в зимнюю распутицу.
Данило Щеня прекрасно знал, что Арские князья — люди одного порыва. Сейчас дело идёт хорошо, казанцы валяются у черемисских ног, а если где казанцы воспрянут и замахают сабельками? Тогда и ростепель не поможет: побегут черемисы от Казани по лесам да увалам, хрен догонишь.
Поэтому Данило Щеня послал как бы совет вятичам — идти на Казань скорым ходом, иначе он даст слово черемисам, что половина города после осады достанется им. В пограбёжное дело и во власть. Вятичи, народ гневливый, тут же послали своего гонца к боярину с тремя словами, куда боярину идти... Не успел гонец передать те слова боярину, как повдоль стен Казани забегали люди в коротких шубейках, но в лаптях. Вятичи! Да и не две тысячи, а шесть!
— Узнали вятичи, что великий князь пожаловал черемис своей серебряной благостью, так решили поспешить, — пояснил Даниле Щене вятский воевода именем Ярый Волк. — Так что давай, распиши, что нам положено получить от великого князя Московского, а город Казань мы весь возьмём!
— Давай бери, — сощурился на вятича Данило Щеня. — Только сейчас, немедленно. Ибо уже завтра великий князь сам станет под Казанью и с ним будет двадцать бочек серебра. Московские ратники, разве не видал, уже на себе таскают под стены Казани пушки? Московские ратники уже получили по горсти серебра из тех бочек...
Вятский воевода Ярый Волк не дослушал Данилу Щеню, начал орать своим воякам, чтобы ставили лестницы и брали город голыми руками, да побыстрее.
А по вятским уже били казанские пушки. Тридцать пушек имела Казань на полевую сторону, могла и отбиться. Но вятские выли, лезли на саманные стены города, их сбрасывали вниз, а они лезли и лезли. Калечились, расшибались, но лезли...
Под казанский пушечный разговор ударила одна русская пушка, потом сразу три. Потом стали бить двадцать, из них три — огромные, злые, ядра у них в двадцать фунтов весом. Каменные ядра у тех громобойцев. Да глиняным стенам какая разница от чего ломаться? Казанцы стали выставлять на проломы деревянные клети, городились от московских копейщиков. Но подошли ещё русские пушки, числом пятнадцать стволов, и теперь все вместе продолжали бить безостановочно.
И так пять дней кряду, пока не ударил мороз.
К вечеру первого морозного дня гридни поставили княжий шатёр на Мокрой Гриве, в трёх верстах от Казани. Гонцы от русских полков встали в очередь перед великим князем — дать отчёт об осаде.
Первый же гонец, от пушкарей, с удовольствием выпил серебряную чашу дагестанской чачи и, прежде чем завалиться в спиртовом угаре, успел сказать:
— Великий государь... зелье кончается... огненное.
— Зелье кончается? — спросил Иван Васильевич у хохочущих гонцов. — Так я привёз... Катайте бочки, эй там, холопы! Подогнать сюда телеги с «зельем»!
Пятьдесят трёхвёдерных бочек с дагестанской чачей, личный подарок великому князю на войну от Эрги Малая, каракалпака, увезли гонцы под стены Казани. Русские полки разорались пьяными голосами и с воем пошли на приступ...
А вятичи, узнавши о хмельной даче великого князя своим московитам, совершенно озверели и тут же перекинулись через напольную стену Казани. Полгорода отбили, а выпить у мусульманских людей — нету!
Воевода Ярый Волк тогда собрал ведро женских украшений, да послал особых людей к Арским князьям за аракой. Араку тут же привезли в кожаных бурдюках, и вятские решили вторую половину города не брать. Обиделись на Ивана Васильевича крепко. Выпили и нарядились песни петь: «Аракажем каяна, по деревне шактана»! Казанцы стали им подпевать, чего теперь ножами сверкать? Посверкали и будет...
А поутру следующего дня мороз совсем раздухарился. Воевать в такую стынь ни тем ни другим людям резона нет. Мороз убивает...
К вечеру в шатёр государя всея Руси вошёл и тут же пал на колени хан Казанский и Астраханский. Ни «здравствуй», ни «прощай» не сказал, а сразу накинулся:
— Зачем меня в обман ввёл? Зачем на каждом углу кричал, что пойдёшь Литву воевать, а сам на меня накинулся? Да ещё и зимой! Я не подготовился воевать, а ты подготовился! Шубы пошил своим воинам!
— Выпить хочешь? — спросил у хана великий князь. — Не хочешь, дело твоё. Времени у Меня нет, сам видишь, война идёт. Самое главное теперь для себя проси, и расстанемся. Проси!
На коленях остался стоять казанский хан, запричитал:
— Ради своего Бога, Ибан-князь, повели вятичам выйти из города. Ведь сотрут в пыль! Твой теперь город! Вели вятичам!
— Э-э-э, брат! — Великий князь прошёлся по шатру, остановился у третьей печки, где потеплее. — Я тебя совсем недавно миром просил: «Отдай город!» Ты не схотел. Сейчас же я попрошу вятичей: «Отдайте город!» А они не схотят. Ты же их знаешь: хвосты собаки!
В шатёр мимо хохочущих стрельцов князя ворвался тысяцкий от Крымского хана:
— Всё, великий князь! Мы отходим на Низ! Замёрзли, как тараканы! Всё! Наш хан уже ушёл!
— Довольный ушёл ваш хан?
— Совсем довольный. Он потом тебе большое письмо напишет, какой довольный. Только нам на дорожку подай чего-нибудь, а то дорога длинная...
— Выпить, что ли? — поразился великий князь.
— Нет! Нам выпить нельзя, вера не позволяет. Нам отдай вот его сына! — крымский тысяцкий носком сапога шевельнул рёбра казанского хана. — Да дочерей его. Нам хватит.
— Забирай!
По знаку великого Князя гридни распахнули на стороны оба полога шатра. Казань там, в трёх верстах, горела в окружении чёрных, давно сожжённых посадов.
Подъехал к шатру Шуйский, злой, разобиженный. Матерился крепко, поминая «абызов»:
— Казанскую казну успели ополовинить, великий князь, — зло ощерился Шуйский на казанского хана. — Позавчера ещё ушёл обоз по реке Керженец к Уралу. С обозом ушёл казначей ханский, мырза Кызылбек... кого ты — помнишь? — обласкал деревеньками Тютюри и Собакино... Будет искать помощи у Синей Орды.
— Ну-ну, — сказал великий князь. — Тёплую юрту он будет искать, а не помощи. Ну-ну.
Пожар в Казани потушили, казну искать не стали. Забрали только из города на Москву Казанского хана, да жену его, да русских купцов и пленников. Конечно, московские стрельцы да рейтары, да вятичи кое-что себе прибрали. Данило Щеня получил звание казанского воеводы и тут же набрал из вятских да нижегородских людей плотников да каменщиков. К лету обещал великому князю вернуть прежний жилой вид города и просил дозволения начать обносить его кирпичной стеной.
— Э-э-э! — запротестовал было Иван Васильевич, да потом махнул рукой. — Если внуку доведётся опять воевать Казань, он и кирпичную стену проломит. Внуки всегда такие — дедово наследие рушат! Делай!
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Литвинство заполошилось, узнав о зимнем разгроме Казани. Выходило так, что оба московских перебежчика не врали, сообщая о готовности Москвы ударить по весне на Смоленск, Белгород, Чернигов и Полоцк. Да где же московиты столько войска наберут? И потом — весной войне не бывать: природа не даст! Грязь, леса и болота встанут против клятых москалей!
Пан Заболоцкий, каждую зиму живший в Италии или во французских тёплых пределах, теперь сидел злой и растрёпанный, в конце студёного декабря, в заледенелом Смоленске, ждал вестей от короля...
А короля Александра били словами польские и литовские шляхтичи, которых на чрезвычайный сейм собрал сам же король.
— Врут собаки! — орал прямо в лицо короля пан Замойский. — Одно дело москалям дойти зимой по Волге до Казани, а другое дело весной по суше до наших городов! Зимой бы дошли, конечно — оставив в снегах треть своих вояк помороженных, да треть в беглых. А по весне? Какой дурак по весне тронется из Москвы в нашу сторону?! Волки из Брянска по весне к нам не ходят, а тут — войска! Утопнут в грязи и в болотах все!
Король Александр собрал сейм в канун Нового года не по прихоти своей, а по двум письмам. Первое письмо он получил от Папы Римского, тоже теперь Александра, только Седьмого, в котором тот свирепо требовал перекрестить в католичество жену, московскую великую княжну Елену, иначе так королю с нею супружеских отношений не иметь!
А вот письмо от тестюшки родного, на сейме надо бы зачитать. Пока вон там, в углу, драка не началась.
— Паны добродни! — наконец поднялся со своего кресла король Александр. — Извольте создать тишину. Великий князь Московский пишет ко мне и к вам!
Экая сразу тишина!
— «Ты мне давал клятвенное обещание, что в городе Боровичи, каковой ты дал в кормление моей дочери Елене, в ейном замке, будет за три месяца после вашей свадьбы, поставлена домовая православная церковь. В Боровичи мою дочь уже половину года как не пускают, ни камня, ни дерева на строительство церкви не дают. Я понимаю, дорогой зять, что тебе от короля Казимира досталось худое наследство, казна твоя пуста и люди твои обхудели животом и деньгами. Посему я приду тебе на помощь по родственному разумению. Люди мои по весне привезут тебе и лес, и камень, и железо, и потребный инструмент. Вестимо, что по весне между нашими государствами дорог нет; и станешь писать мне ответно, чтобы я не спешил, а привёз бы летом всё требуемое. Только вера наша православная не велит ждать. Да и слово ты мне насчёт церкви давал не как вор и холоп твой пан Заболоцкий, а как есть — король, пусть и выборный. Я как тесть слово твоё удержу на должной высоте. Посему направляю к тебе своих людей с хозяйственными припасами для строительства храма через четыре дороги: Белгород, Чернигов, Смоленск, и через Полоцк. Какой-нибудь обоз, да дойдёт в нынешнее неуёмное на погоду время. Встречай их вежливо, отказа им не чини... Православный храм — не повод для драки...»
Дочитать письмо король Александр не успел.
— А-а-а! — заорал пан Замойский. — Через Чернигов на нас пойдут! Подбираются к Киеву? К матери городов русских? Мы им покажем мать!..
— Дурак. Ох и дурак, — сказал ближним шляхтичам король Александр. — Ведь половина из вас завтра же побежит к моей супруге, к Елене Московской, да и доложит, как вы тут её самое да отца её хаяли. А она баба русская, ответить сумеет...
— Долой короля! — уже орал пан Замойский. — Панове! Ратуйте! Выбьем из Литвы и короля этого, и жену его, московитку!
Пану Замойскому тут же не шутейно досталось по голове булавой. Пристава на сейме носили булавы не для красоты звания...
Получив в канун католического Рождества от короля Александра короткую бумагу, пан Заболоцкий велел выпустить из подвала московского гонца, да дьяка-пьяницу именем Варнаварец. Их донос о весеннем военном походе на Польшу и Литвинщину подтвердил своим письмом сам великий князь Московский. Пусть доносчики идут, куда похотят.
Сам пан Заболоцкий, направляясь каретным обозом в сторону Австрии, вычислял, сколько же войска и у кого теперь просить, каким государям кланяться, чтобы прикрыть польско-литвинское государство от весеннего похода русских. Размахнулся великий князь Московский. Сразу ему подай и Киев, и Смоленск и Белгород, и, может, и Краков ему подай! По направлениям, объявленным Иваном Третьим, ясно видно, куда будут нацелены удары русских полков...
А ведь зря он, пан, едет в такую стынь да в такую даль... Князья да володетели соседних государств откажут ему в предоставлении своих войск. И даже в деньгах откажут. За половину года взять такие крепости, как Великий Новгород и Казань, не каждому по силам. Иван Московский такие силы нашёл. И теперь запросто двинет их на запад, чтобы вернуть потерянные при старой замятие древние русские города. Возьмёт Иван московский те города, а потом кликнет рать идти далее... На Будапешт, на Вену, на Белград сербский! Только таким московским походом и запугаешь соседей... Запугать-то запугаешь, но тогда и венгры и немцы, да те же румыны, сами по себе городиться почнут. Ни одного копья у них не возьмёшь, ни одного медяка на войну с русскими. Эх!
А ещё есть такая затыка, что в земле польской и в земле литвинской сейчас чуть ли не половина людей русских. За кем они пойдут? За победителем и пойдут. За Иваном Московским... То-то! Куда ни повернись — везде хи ме ра[86].
Пан Заболоцкий решительно дёрнул за шнурок. Над ухом кучера звякнул колоколец.
— Разворачивай! — крикнул кучеру пан Заболоцкий. — Назад разворачивай!
Иван Васильевич, в простой крытой повозке, под охраной всего десяти рейтар, подкатил к позадкам усадьбы Шуйского. Десятский, немец Ванька Грубе, наклонился к зашторенному оконцу повозки:
— Тут люди кучкуются. Чернь вроде, но нищих и убогих нет. Одеты пристойно. Гнать?
Иван Васильевич приподнял кожаную шторку, поглядел наружу, выругался. Вот же Шуйский! И когда уймётся?
Позади огромного именья Шуйского, в дальнем углу сада, находилась древняя каменная палата в два этажа. Верхний этаж Шуйский велел прибрать под содержание жида Схария. А чтобы тому не являлась скука в томительной череде дней, нанял тридцать молодцов, давая каждому по алтыну в день. Замоскворецкая шпана да и вполне пожилые люди тогда с раннего утра приходили к дальнему приворотному тыну, прямо к старому зданию и хором начинали орать в окна палаты, туда, где томился Схария:
— Жид, жид, по верёвочке бежит! Верёвочка порвётся, жид перевернётся! Жид, жид...
Пооравши так, все шли в кабак, греться. Так было в кабаке тепло, что опосля обеденного часа к приворотному тыну возвращались только семейные. Им пить — беса тешить. Они тогда рассудительно орали:
— Сволочь, Схария! Выйди к нам! Зачем Христа распял? Сволочь!
Матерно лаяться Шуйский не велел, так что слова, что кричались в зарешеченные окна, считались на Москве ласковыми...
Иван Васильевич передал десятскому кожаный кошель. Там бренчали медные копейки, но кошель был увесист:
— Вели больше не приходить! Грешно менять рало[87] на оранье. Пусть отступятся...
Люди замоскворецкие, получивши кошель, поклонились в сторону закрытой повозки и пошли себе, прихохатывая.
Шуйский встретил государя во дворе, помог выбраться наружу. Снегу намело в усадьбе — до первых окон. Здоровенные молодцы в азямах со знаком Шуйского, чистили двор, баловались, посыпая снегом, кто зазевается.
— Не пойму, — вдруг сказал Иван Васильевич. — Вроде зима, холодно, а нам и снег, и лёд — всё забава.
— А когда мы плакали, великий князь и государь? — Шуйский заторопился открыть дверь в малую залу. — Для нас хоть как ты поверни погоду и природу, всё будет праздник.
— Да? — Иван Васильевич быстро глянул на Шуйского. — Смотри, боярин, как бы... не похороны!
Боярин Шуйский знал, про что недоговаривает Великий Государь. Зимний поход русских полков на Казань, удачный, победительный, всполошил всю Европу. Папа Римский срочно написал буллу, в которой иносказательно требовал от католических государей и народов остановить «скифское чёрное нашествие». Скифов дано нет, никто никуда не шествует, чёрные одёжи носят только монахи... Добраться бы с крепкой ратью до того Папы!
Иван Васильевич проследил, как по лицу Шуйского замелькали известные мысли — насчёт того, кого бы в Риме зарезать.
— А вот то, чего ты ещё не ведаешь: книжник Моребед, да Варнаварец, почали вести тайные дела повдоль наших границ, да и за границами. Много чего уже натаскали в мой кошель...
Шуйский от нетерпения стал постукивать каблуком по дубовым плахам пола.
— Стучи не стучи, а до западных государей дошло, кто два последних года подписывал разные письма, грамоты и уставы от имени Московского княжества...
Шуйский хохотнул. Всяк выходило, что войну против Великого Новгорода да против Казани, велела начинать Еленка-молдаванка, именем своего махонького сына Дмитрия. Она же, его именем, заняла огромные деньги под огромный рост у европейских жидов... В чём провинился сам великий князь Иван Васильевич, так это в том (и бумаги на то есть), что послал торговый караван в Индию. Но стоил тот караван не более тысячи рублей, а на Еленку-молдаванку да на тех, кто за ней стоял, легло полное беремя в двести тысяч рублей серебром! И кто такие деньжищи отдавать станет?
— Так не пора ли, великий государь, нам тот долг списать на того Антихриста, что проживает у меня в верхней светёлке, и на всех аггелов его?
— Пущай поживёт ещё... — крякнул великий князь. — Ещё месячишка три, до весны. Мало ли чего придётся нам сочинить такого... под этого Антихриста, куда потребуется ставить оттиск детского пальчика?
Гридни стали уставлять снедью стол, тут не до тайных разговоров. Пора откушать. Сели.
— Что с твоим ратным полком?
Шуйский по осени стал набирать полк по рейтарскому обычаю. Как бы солдатский. Несвычные к тяготной жизни мужики начали разбегаться, их ловили. А ведь таких полков надо бы собрать в Московском княжестве — двадцать!
— Как хочешь, государь, но давай эту войну проведём старым обычаем, а? Не держатся люди. Бегут, уклоняются. Боюсь я, что у нас нынче солдатчины не получится.
Иван Васильевич остановился жевать:
— Да? Не получится? А сколько же денег ты им роздал?
— Амуниция встала в рубль, да на руки — рубль. Того станется — два рубля каждому. В год. Много!
— Эх! — великий князь отодвинул тарелку с белым мясом птицы, запил кислым настоем луговых трав.
Шуйский на горький выдох государя потянулся к кувшину с вином, наполнил серебряный стакан, выпил махом. Крякнул и в злой голос спросил:
— По пяти рублей давать, что ли? Моим же крестьянским душам? Одной рукой беру, значит, посошный сбор, а другой рукой раздаю?
— Не ори. Тут правда твоя. Чего бесишься?
— Дак ведь ничего не получается, великий государь, с армией постоянной. Ты армию европейского устройства похотел, а у нас и полка не состроишь по ихним уставам.
— Это ты прав. Не построишь. А надо! Надо!
— Тогда ты меня послушай, великий государь, а потом хоть подсаживай в золотую клетку к жиду Схарии.
— Говори.
— Через мои руки прошла тетрадь дьяка Семена из Троицкой обители. Они там твои старые бумаги сортируют, готовят для уложения в шкафы, на вечное хранение. Тот дьяк, Семён, начитался тех бумаг, а он ещё и цифирь хорошо понимает, и обороты с ней. Так вот, беглых людей у нас во княжестве на прошлый год было три тысячи. Ну, кто куда бежал, это понятно. Старики, те в Литву — семейные, бессемейные — это их грех. Но две тысячи молодых парней ушли на Низ. На Волгу и на Дон. Гилевать. Значит что? Будут стоять противу тебя.
— Нет, не так ты говоришь, — перебил Шуйского Иван Васильевич. — Не только противу меня. Против всех!
— Какая разница? Но тот дьяк, Семён, он вот что вытащил из пытошных листов... Беглые и, вестимо, нами пойманные давали сказки: где были, кого резали, да кто у них вожаком...
— Говори, не томи...
— А так выходит, великий государь, что каждый беглый, сволочь гилевая, более чем три рубля за год не воровал, да через кровь!
— Не пойму, к чему ведёшь дело.
— Да к тому, государь, что давай мы указ твой пустим в понизовья Волги и Дона, что по пять рублей в год станем платить за явный, но военный разбой. И без последующей казни кнутом или батогом! А? За бегство и разбой простим, но пусть нам пять лет отработают на солдатской службе! Так и наберём до лета две тысячи солдат! Пять полков! А то и поболее. А им что купцов грабить, что литвинские города, а?
Иван Васильевич хитро глянул на Шуйского, потянулся к кувшину с вином, потом руку отдёрнул:
— А здорово ты придумал! Вот сейчас схожу побеседую с твоим постояльцем и вернусь. На ужин мне прикажи изготовить блинов с тёшкой, поставь на ледник водки крепкой, марийской, да заднюю ногу телёнка пусть потомят в печи, с травами, с кореньями, с перцем... ну, ты знаешь, как я люблю...
Шуйский поднял вверх брови. Только что перед ним сидел матёрый и телом и лицом государь, с волчьим оскалом на лице — и вот, нате вам, сидит уже сильно несчастный и даже как бы пришибленный человек. Хоть ты плачь, на него глядя... Истинно, государь театру польскую показывает!
— Жалко тебе меня? Вот так — жалко тебе? — плачущим, тихим голосом вопросил Иван Васильевич и нарочно дрожащей рукой поправил бороду.
— Вот те крест кладу, копеечку бы тотчас подал, ежели б не ведал, кто ты есть. — Шуйский хохотнул, однако не совсем уверенно.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Снаружи горницы, где обитался Схария, вдруг лязгнул засов, стукнулся о металл, дверь отворилась.
— Давай, давай, заходи! — пробасил грозный голос охранного рейтара и в горницу, озираясь, вступил человек... лицом как московский великий князь!
Схария лежал на лавке, в сумраке спальной ниши. Человек его не заметил. Метнулся тот человек в красный угол горницы, а икон там и нет! Но всё равно закрестился, закрестился, как за упокойника. Православный, свинья!
— Гостем будешь или как? — спросил Схария, вставая с лавки.
Человек резво обернулся, и Схария тут же сел на лавку. Как есть — Иван Третий, князь Московский...
— А ты кто будешь? — спросил Иван Васильевич сидящего на лавке длинноносого человека с проплешиной повдоль головы. — Встань, когда с тобой великий государь говорить изволит... Впрочем, сиди...
Схария почуял нечто тёплое внутри груди. Тепло потекло в голову, отдалось понизу рёбер. Аж в промежности щекотно стало. Что-то стряслось в княжестве Московском, раз его, великого князя, сюда, в благую тюрьму, втолкнули. А что стряслось? То, что входило в план умных людей, то и стряслось! Они уж поболее двух десятков лет грызут корни устоев веры и сам ствол этого грязного Московского княжества, кровавого и беспокойного. И богатого! Очень богатого! Значит, догрызли — пало княжество!
— Я буду новгородский человек. А зовут меня Захар Иванкович. А ты ведь великий князь Московский, так?
Иван Васильевич хватанулся за пояс, где обычно висел кинжал. Ан пояса-то нет, кинжала нет!
— Так... А пошто, Захар, ты у себя икон не держишь?
— Это не я, это конюший твой, Мишка Шуйский, икон не держит. Ведь я у него как бы в гостях... потюремщиком.
— Да, Мишка Шуйский... Ох, подлец! Все оказались подлецы! — Иван Васильевич закружил вокруг единственного стула в горнице, два раза стукнул стулом об пол. — Все кругом подлецы! Богодержавного своего государя поместили в тюрьму! Махом, не спросясь! Выпить у тебя здесь нет, Захар Иванкович?
Схария расхохотался. Ну, русские, ну, право слово, как те скоморохи. Выпить! Его скоро под топор положат, Ивана Васильевича, а он — выпить!
Иван Третий диким, потусторонним оком глянул на хохочущего человека, упал на стул, закрыл лицо руками. Из-под ладоней зашепталась молитва... или что он там шепчет?
— Выпить здесь нет, Иван Васильевич. И кормят меня грязно. — Схария прошёлся по комнате, его потянуло расправить плечи, выгнуться в пояснице. — Я здесь еду себе прошу приличную, без крови в жилах, так мне нарочно несут полусырую. Издеваются над человеком! И посему ем я, твоим повелением, между прочим, только сухой хлеб, да воду.
Иван Васильевич растопырил пальцы на правой руке, в ту щёлочку глянул на Схарию. Удивился:
— Как так — мясо да без крови? Без крови только голимый труп бывает. Если неделю полежит.
— Долго объяснять, Иван Васильевич, суть приличного, богоданного питания человека. — Схария вернулся к скамье, сел, поправил на себе тёплый, подбитый рыжими лисами халат. — А почто ты меня не слушаешь? Я сказал — твоим повелением меня сюда поместили, на сухой хлеб и на воду. Зачем поместили? — прозвучало хорошо, уверенно и даже грозно.
— Я повелел? — Иван Васильевич отнял руки от лица, борода у него издыбилась волосами во все стороны. — Память моя пока при мне, Захар Иванкович. Я сюда помещать не велел человека из Новгорода с таким прозванием. — Кого мне надо было поместить, так все поместились, только в моих тёмных подвалах или в могиле. А про тебя не ведаю.
Тут Схария начал нечто соображать. Не зря ему толковали люди, ближние к Марфе-посаднице, мол, Иван Третий живёт помимо жизни. В себе живёт. Умом слаб. Точно так и выходит. Схария ещё раз с удовольствием потянулся, спросил:
— А вот такого имени, как жид Схария, тебе не приходилось слышать в беседах о Великом Новгороде? Не слыхал?
— Схария? Жид? Такое имя я не слышал, а только читал. Попы мне писали, игумен Иоська Волоцкий, митрополит Симон... Мол, есть такой жид, веру православную порочит, да на перемену веры людей подбивает... Так ведь, Захар Иванкович, оно как получается? Мне в день приходит по десятку челобитных. Пишут все, кто писать научен или кто для писчего дьяка алтына не пожалеет! А на чём пишут, ты бы видел! Со смеху бы лёг, ей-богу! Ладно, на куске доски, или на куске полотна... Нет, бывает, пишут на бересте, на липовом лыке. Потому те писания я отправляю на растопку печей...
— Отправлял.
— Что сказал?
— Отправлял ты, Иван Васильевич, челобитные на растопку. Теперь как бы тебя самого на растопку не отправили!
Иван Васильевич дико глянул на Схарию, поднялся со стула и тут же сразу опал на него, как исхлёстанный банный веник.
Во дворе боярской хоромины Шуйского зашумели, заорали люди, зафыркали кони. Голос Шуйского перекрыл гомон:
— Посылай гонца к великой княгине Елене и государю всея Руси Дмитрию Иоанновичу! Скажи, что к вечерней службе я буду у её ног с добрым известием!
Тугим галопом вырвались на улицу кони...
— Вот, Иван Васильевич, и всё! — проговорил Схария. — Вот и кончилось твоё княжение...
Иван Третий простонал и ничего не ответил.
— А Схария — это ведь я и есть, — продолжал Схария. — Вот он я, перед тобой.
Иван Васильевич как бы и не слышал того, что проговорил жид. Ему, видать, голову обнесло жутким криком со двора. Сидел на прочном стуле, голову повесил, руки на коленях подрагивают. Дышит тяжко. Как бы не помер! Нельзя, чтобы здесь помер, на плахе ему место помереть!
Схария подскочил к обитой медью двери, повернулся задом, заколотил в дверь пяткой. Дверь тут же распахнулась. За ней стоял здоровенный немец, из рейтар. Рожа грубая, кулаки в черноморскую дыню.
— Was ist geit los?
— Dises man niht fertig!
— Warum?
— Er ist krank![88]
— Все вы тут больные. — Немчин начал прикрывать тяжёлую дверь. — Скоро оклемается. Отойди!
— Погоди, погоди, солдат! Крикни ко мне господина Шуйского!
Вот уж кого не надо было поминать, так это «солдата». Немец снова растворил дверь, саданул кулаком в глаз Схарии и дверь тут же захлопнул.
Очутившись у противоположной стены горницы, Схария подниматься не стал, так и остался сидеть, поджав ноги. Иван Васильевич не шелохнулся. Ушёл в себя, закостенел.
— Вот так бывает, — прокашлял Схария, — в момент поворота государственных дел. Сижу тут, получаю кулаком в глаз. А должен бы сидеть в Грановитой палате... Возле твоего трона. Виноват, возле трона, бывшего твоим.
Иван Васильевич молчал. Схарию со злости понесло:
— С вами, русскими, свяжешься, дерьма нахлебаешься по горло. Что за народ? Вас, как ослов, тянешь к хорошей жизни, тянешь, можно сказать, к порогу Царства вечной радости! К благополучию и процветанию. Нет, вы упираетесь! Вам в навозе тепло и светло...
Иван Васильевич очнулся. Пасмурно поглядел на Схарию, поглядел в окно. День кончился, начинался длинный, московский зимний вечер, когда спать ещё рано, а работать уже поздно. Остаётся одно дело — говорить промеж себя или внукам сказки сказывать...
— Что ты про русских говорил? — слабым голосом поинтересовался Иван Васильевич. — Чем тебе русские не угодны?
— Да всем! Добра не понимают, только зло...
— Да... зло... Тут я с тобой согласный.
— Как же ты можешь быть несогласный, когда всё зло от тебя и шло!
— Да, шло...
Схария резво поднялся с пола, забегал по горнице:
— Ты когда у своего отца, великого князя Василия Тёмного, власть перенимал, тебе, молодому дураку, советовали умные люди принять на твою землю католическую веру?
— Было...
— Вот! Добро тебе советовали! За твоё согласие тебе даже давали возможность забрать назад свои древние земли, Смоленск, Белгород, Чернигов, Полоцк... Кроме Киева. Почему не согласился? Всё тебе приготовили — заводи в Московском княжестве католичество и сиди потом тихо, властвуй себе. В стране тишина, покой, порядок. Войны нет, татары сидят присмиревшие, им против европейских войск идти — силёнок нет! Ни забот тебе, ни хлопот!
— Тут это, Захар Иванкович, такое дело... Те, древние русские города, не за просто так мне отдавали. Не просто в обмен на православную веру... То есть для народа, конечно, вышло бы, что за просто так. А мне за те города тайно пришлось бы платить... И за сто лет бы русским народам за те города расчёт не произвести...
— Платить! Конечно. А иначе как? Что, задаром тебе пасторов готовили, кресты на храмах меняли бы? А войска католические задаром бы стояли в охране твоего княжества? Вы, русские, больно охочи до шармака. Тот план чем был хорош? Тем, что лично ты и твои потомки могли бы, если уж очень припечёт, тайком и в старой вере обретаться. А платежи разве лично с тебя бы брали? Ни в коем разе! Мы бы твоим именем назначили мытарей, они бы и собирали дань с русского народа. Конечно, имелось тут и в твою сторону малое ущемление...
— О! — вскинулся Иван Васильевич.
— А как ты хотел? Почитай все европейские государи так живут, не ты один бы стал на пансионе сидеть.
— На чём сидеть? — у Ивана Васильевича даже глаза ожили.
— На равных выплатах. На гарантированных. То есть вот как, например, немецкие князья нынче сидят. Мы их, понимаешь, в раздрае держим. У них на неметчине сейчас тридцать княжеств... Ну, ты видел, какой это народ: дай немцам соединиться, они каждому в Европе под глаз отметину поставят...
— Да, хорошо наливается у тебя под глазом... немецкая отметина... согласился Иван Васильевич.
— Посему немецким князьям сейчас можно тратить только строго учтённые нами деньги. Только на своё платье, на еду, на войско, на утверждённые нами постройки... А всё остальное мы забираем.
— Да? — удивился Иван Васильевич. — А скажи мне, мил человек, вот если в той неметчине неурожай случится или война, всё равно немецкие князья пансион получат?
— Обязательно! Правда, потом за те годы с ихнего народа мы дополнительные деньги собираем... За неурожай, за войну, за всё народ рассчитывается. Без этого никак. Деньги, они счёт любят!
— В этом есть правда, — согласился Иван Васильевич. — Эх, где ты раньше был, а, Захар Иванкович? Такой бы советник мне был нужен!
— Все и всегда про нас жалеют. Да только вот поздно нас обнаруживают.
Иван Васильевич, кажется, даже ожил:
— Погоди, погоди, мудрец. Не спеши горевать! Ты мне лучше ещё ответ дай. Вот, согласен я теперь, что надо было веру поменять. Вера католическая собрала бы Московское государство до величины той, что имелась до татар клятых. А можно было мне тогда Царём объявиться?
— Хоть императором! Только плати! Мы тебе все права на царский трон выправим. Есть у нас люди великого ума и способностей. Нашли бы бумаги, что ты есть, например, прямой потомок Августа Цезаря...
— Кого потомок?
— Августа Цезаря. Это нами такой бумажный, хех, шпынь создан. Все европейские государи как бы от него произошли. Правил, мол, тот Цезарь, Римской империей...
— Так не было же такой империи! — Иван Васильевич в возбуждении духа соскочил со стула. — Это же вы придумали от нашей, второй, Византийской империи. Вместо неё выдумали Римлянскую империю! Это же грешно!
— Придумали, а она живёт! И здравствует!
— Да, пожалуй, оно так. Здравствует... да... Токмо на бумаге.
— А бумага — она есть наипервейший документ жизни! — воспарил тут Схария.
Иван Васильевич потрогал бороду, промолчал. Видать по лицу, что злобой наливается.
— Что-то ужинать не несут, — забеспокоился вдруг Схария. — Как бы про нас тут не забыли в суете государственного переворота.
— Не забудут, принесут!
— А ты откуда знаешь? — вскинулся тут Схария, его глаза подозрительно оббежали лицо Ивана Васильевича.
— А оттуда. Я же эти тайные тюрьмы планировал и создавал. Мои они. И мой в них распорядок.
Схария зашёлся мелким смехом:
— Точно, твои... Твоя это тюрьма...
Дверь лязгнула. Какой-то книжник вошёл в дверь, неся деревянный поднос с пищей. На подносе стояли две тарелки. На одной лежало куриное мясо без косточек, кусок чёрного хлеба, стоял оловянный стакан с квасом. На второй тарелке лежало одно мочёное яблоко. Схария живо схватил тарелку с курицей и тут же начал жрать, чомкая губами.
— Это мне? — грозно показал на яблоко Иван Васильевич. — Это мне, холоп?!
— Не кричи, — посоветовал между жевками Схария. — Он глухой и немой. Бери и ешь. Может, в последний раз.
Книжник тайным именем Радагор грозно глянул на Ивана Васильевича, толчком сунул ему деревянную тарелку с яблоком. Иван Васильевич со вздохом взял яблоко, откусил, стал безрадостно жевать. Радагор тут же забрал пустые тарелки, стукнул подносом в дверь. Вышел. Пленники опять остались одни.
Снаружи, под окнами, заговорили, заругались. Потом к обоим окнам поднялись шесты, на торцах шестов горели толстые свечи в слюдяных фонарях.
— Вот и свет дали. — Схария зло показал пальцем на заоконные фонари. — Твоя это придумка — вот так, через окно, светить своим узникам?
— Мишка Шуйский. Его выверты, — устало сообщил Иван Васильевич. — Сюда, в горницу, свет давать нельзя. Узники пожгут горницу и дом пожгут... Да. Теперь точно, мерекаю я, что кончено моё правление. До утра мне дожить не дадут.
— Ну, ты что, своих русских не знаешь? — опять развеселился Схария. — Они сейчас неделю гулять станут, да неделю после гульбы отходить... Да неделю ругаться, да неделю власть делить, деньги, твоё же добро... А этот срок ты ещё поживёшь. Да и за мной придут.
— Придут? За тобой? Казнить?
— Что ты! За мной мои люди придут...
— А вот за мной придут ещё до рассвета. По нашему обычаю, ни один казнимый князь не должен увидеть рассвет. Тогда в ад точно попадёт...
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Иван Васильевич встал, походил вдоль стены с маленькими окнами. Завздыхал:
— Есть в твоих словах правда, Захар Иванкович, есть... Что русские ленивы и безмысленны. Вот я, когда эту тюрьму строил, мог бы наперёд подумать, что самому в ней придётся очутиться? Мог! И мог бы придумать тайный лаз отсюда... Эх, оно, горе луковое!
— Ты меня зови-ка, Иван Васильевич, настоящим моим именем. Схарией зови. Литвинское прозвище про Иванковича мне надоело.
Иван Васильевич как бы и не слышал Схарию. Всё ходил, ходил. Потом опять упал на стул, закрылся ладонями. Вроде и носом пошмыгал.
— Ну, чего у тебя ещё загорелось на душе? — осведомился Схария. Он сожрал целую курицу, выпил шипучего кваса, хлеб был очень хорош. Захотелось беседы, спокойной, неторопливой, поучительной.
— А то у меня загорелось на душе, что вы, благородные и мудрые люди, не пришли сразу ко мне. Не рассказали всё то, что ты мне сейчас рассказал. Разве бы я не понял? Разве бы вам не поддался? А то, понимаешь, пришли твои люди к моим великим боярам, к Юрке Патрикееву, к Бельскому-сыну, к Стрешневу, к сотне других больших чином людей тайно, и тайно всё хорошее им выложили. И пошли они, те мои бояре, по вашему пути... Правда, большие выплаты получили от вас мои великие боярские роды. Так я бы один, за половину тех денег, согласился стать на вашу сторону! А бояр тех либо силой, либо могилой, но за вами бы повёл! Экономия денег вам бы получилась!
Схария внимательно поглядел на Ивана Васильевича. Спереди, сбоку. А у того вроде и слёзы по щекам потекли.
— Обидно мне! — пожаловался Иван Васильевич... Сказанное про обиду успокоило Схарию.
— Конечно, обидно, — согласился он, — что мимо носа протекают огромные деньги. На одного Патрикеева нами был определён пансион в тысячу рублей! В год! Да остальным по семь сотен рубликов... Патриарх твой, Зосима, тот на одни только пожертвования для монастырей выманил у нас почти пять тысяч рублей! А проверить — внёс он те деньги в монастыри, или в свой сундук, как проверишь? Придётся теперь забирать нам тот должок Зосимы монастырскими приходами, землями, да вкладами. Много в твоих монастырях драгоценностей?
— Мало, — вздохнул Иван Васильевич. — Мало, грешен. На свои войны я у них отнимал, да на всякие торопливые нужды... Не на свои — на поземельные! Где надо было семян прикупить, ибо недород приключился, а где лошадей хлебопашцам... Но не то горит у меня на душе. Великие бояре уворовали не из моего кармана, а из вашего, так пусть их... Горит у меня душа от того, что они воровали, но живы теперь будут. А я не воровал и помру. На пеньке свою голову оставлю.
Схария погладил свою проплешину. Вот же недоумок Иван! Деньги шли против него, великого князя Московского, а ему это совсем бестрепетно!
— А что ещё тебе на душе горит?
— А то у меня томится на душе, что вспомнил я жену свою, Софьюшку, и деток своих... Ведь над ними надругательство совершат. Как же я её не послушался, а? Не надо мне было Ленку-молдаванку, да выродка её, Дмитрия, на престол сажать!
— Да, тут ты себя винишь правильно, Иван Васильевич. Над женой твоей, Софьей, да над детьми, конечно, надругаются. Потом их повесят старым обычаем — вниз головой. Так ведь ты сам тот обычай поддерживал. Мог бы его и упразднить. Власть вам подавай, власть. Вот дубиной той власти ты по жене своей да детям нонче и бьёшь! Разве нет?
— Так это не я, это предки... Это обычай отчич и дедич! Нарушь я его — мне тоже прилетит! Куда ни кинь — всё клин!
— А ты меня послушай, меня... Вот погляди на Европу. Там нами давно расписано так, что все всё знают наперёд. Кто будет наследником, а кто просто князем с двумя коровами во дворе. Нам, ведь, Иван Васильевич, лишние заботы ни к чему. Нам тоже охота жить в тиши да в спокое, долго... Зачем нам брать под себя огромные земли без порядка на них? Вот Европу мы утишили, забрали под себя и теперь правим всей Европой, стоя позади тронов. В тени от них, от тех тронов. Нам власть нужна, деньги от той власти... А все беды от управления народами пусть решают короли. Нами поставленные...
— Ну... Европа. Я малость ведаю, как там короли да князи на престолы садятся. Что-то ты тут, Захар Иванкович, путаешь...
— Схария, сказал, ну!
— Схария, Схария ... А званием ты кто будешь?
— Схария буду, и всё. Звание тебе моё знать нельзя!
— Ладно, ладно, не гневайся... Мне твоё звание куда? С собой нести в могилу? Эх-хе-хе.
— Ты про королей говорил.
— Да... И вот интересно мне стало, видя твою беспредельную мудрость, спросить...
— Велю. Спрашивай.
— Ой, благодарю! Милостивец ты мой! Скажи, а вот ведь Европа — это ещё не вся Земля. На Европу могут и арабы налететь, те же турки, когда с силами соберутся. И мы э-э-э... могли бы налететь на Европу. Расколошматить её, ту Европу, земли себе прибрать, а вас — вон! Как испанцы вас шуганули... Эту каверзу как разрешить?
— А она уже решается, Иван... Решается, пока ты сидел на своём троне и думал, что ты есть пуп Земли...
— Не я... это...
— Помолчи! Я говорю! Так вот. Ты сидишь, турки сидят, арабы сидят. Все сидят! Им кажется, что они властвуют. А мы не сидим, мы работаем. В поте лица работаем. И скоро вся земля, все царства-государства и княжества, все они незаметно, тихо, мирно окажутся у нас на верёвочке. И тогда мы будем сидеть, а все остальные народы на этой Земле станут работать. На нас, на богоданный народ! Как это записано в наших святых книгах!
Иван Васильевич под ор Схарии стал немного хихикать. Потом не удержался, захохотал в голос.
— Чего?! — рыкнул Схария.
— То ли ты врёшь мне... то ли сказочку баешь. Ладно, поверю я, что вы... работаете. Об этом даже читал... в ваших книгах... Кирпичи сбиваете без соломы. Соломы вам было лень набрать, так написано, чего уж там. Сами и писали. А кирпич без соломы развалится, как труха от навоза! Так вот эту неправедную воровскую сборку кирпича без соломенного крепежа вы теперь во все стороны и толкаете! Поперёд своей пастушьей веры толкаете во все государства также бессоломенную католическую веру! На свою веру, значит, не надеетесь, а Деву Марию поперёд суете? Это как понять?
Схарию понесло. Тёмный мужик развалился перед ним на стуле, хихикает. А ведь имел под собой огромное богатое государство, хотя завтра и личной головы не поимеет. Схария выдохнул воздух, из него попёрло то, что давно накипело:
— Дуболом ты, прости меня твой Бог! Ведь Дева Мария — она кто по крови? Иудейка! А как по нашему обычаю передаётся наследование? Через мать передаётся! Через женщину! Теперь понял, как тихо-тихо, не токмо что власть государственную, а даже и веру свою можно навалить на всю Землю? Понял, дурак?
Иван Васильевич перестал хихикать. Глаза у него почернели.
— Э-э-э-э... Нет, нельзя...
— Да мы на твоём Великом Новгороде этот ход уже проверили! И на поляцком государстве давно проверили. Мы его и создали, то ляхетское государство, которое тебя нынче бьёт и в хвост и в гриву! Немцы только нам не поддались...
— Ещё испанцы вам не поддались, — встрял Иван Васильевич. — А до того и англы не поддались...
— Вчера не поддались, завтра прибегут! И англов, и немцев, и испанцев мы деньгами теперь завалим до такого высокого долга, что им по гроб своих государств с нами не расквитаться! Так что жаль, Иван Васильевич, что не доживёшь ты до того дня, когда все они скопом почнут завтра долбить Тору!
— Чего долбить? — изумился Иван Васильевич.
— Нашу богодуховную книгу. Так что...
— Слава богу, на русский язык твоя книга ещё не переведена. Да и вряд ли кому интересно читать, как пастухи выпасы делят: «От Иордана до скотского загона Афира симонского». Моей ладони вполне хватит, чтобы все ваши земли на ней поместились...
Схария аж задохнулся. Откуда этот тупой русский знает наизусть содержание племенной книги иудеев?
— Чего сопишь? — спросил Иван Васильевич. — Брюхо заболело? Так курицу тебе принесли вроде без крови?
Схария отмахнулся, задышал, задышал... Нельзя показывать слабости этому смертнику. Нельзя. Ибо за обретение земель Московии Сионский Приорат подписался выделить Схарии и его потомкам сто тысяч золотых испанских дублонов, да ещё навечно всему колену его — пятьсот тысяч десятин черноземной пашни за Киевом[89]. Со скотом, пахарями и правом устанавливать свою религию... Эти последние часы жизни московского князя надо правильно использовать: доход извлекается даже из трупа, как говорят боговдохновенные книги.
Схария выдавил усмешку на губах, повернулся лицом к Ивану Васильевичу, радостно заговорил:
— Вот! Понял, Иван, на чём мы строим свою стратегию?
— Чего строите, не понял. Я тебе про ваши пастушьи сказки, а ты мне про сраную тегию. Говори по-русски! Голова заболела...
— План свой мы на этом и строим, Иван. На людском понимании веры. Мы деньги даём за веру! Конечно, потом возвертаем себе те деньги с процентом... Ведь стань завтра на Москве католики — через месяц все московиты будут католиками. Оно так ведь вышло, когда вы потеряли Киев, Смоленск и Минск? Так! Пришли католики, православные храмы тут же превратили в костёлы, а все людишки как ходили по дороге в тот храм, так и ходят. Быдло! Скот знает только одну дорогу! А вот потом, уже послезавтра, мы уберём с храмов на твоих западных землях католические кресты и вывесим название молельного места: «Синагога». А дорога-то останется. Одна дорога! И потопают в ту синагогу люди, ибо другой дороги к храму нет! Не натоптано!
Иван Васильевич во все глаза смотрел на Схарию. Тот порозовел щеками, губы его стали как кровью помазанные. Ну-ну... Великий князь опустил глаза в пол, застонал.
— Ты чего, Иван? Чего? Заболел?
— Душой я исстрадался, мудрец, душой... Ты так ровно говоришь, как по писаному, и верю я тебе, что так оно и надо бы... Но теперь-то я один. Подсказать, направить меня, совет мне дать перед могилой некому. Скажи хоть ты!
— Чего сказать?
— Дак того... Может, мне, когда за мной придут, в твою веру сразу перейти, а? Минуя католичество, сразу! Помолиться бы сразу твоему богу? Ведь уйду неотмоленым, с чем перед Богом Вселенским предстану?
— Знаешь, я тебе сейчас расскажу, с чем ты перед Вселенским Богом предстанешь. Это, конечно, тайна, но там... по ту сторону жизни она тебе сгодится, ибо жалко мне тебя стало, неразумного и злого. На пятьсот цехинов жалко. На большие деньги...
— Давай говори, Схария, говори! Я бы по нашему этому разговору тотчас тебе звание князя дал и город на кормление... Добрый ты и очень умный.
— Спасибо тебе за звание удельного князя, Иван Васильевич, да только у меня звание, которое ста таких стоит. И по деньгам, и по приближению к Богу. Я от Бога нашего стою всего на две ступеньки ниже. А ты от своего Бога небом отделён, а может, и землёй. В том смысле, что можешь и в ад попасть... Только вот, словами в нашу веру не переходят. Надо подписать договор с Богом ножом... Ты сей обряд разве не ведаешь?
Иван Васильевич снова спрятал лицо в широких ладонях. Сидел, качался на стуле, мекал, бекал — переживал... Промычал:
— Ведаю.
— Так что из-за малости такой, как отсутствие ножа в твоей золочёной тюрьме, не принять тебе истинной веры. Да, я думаю, что ты нашей веры ещё и недостоин. Мы к себе не каждого подпускаем...
— А как же европейские короли? Они, наверное, все, хоть тайно, но уже в вашей вере? И познакомились с кривым ножичком? Своим нижним, детородным отростком?
— Да, — твёрдо ответил Схария явную ложь. — Все короли у нас обрезаны. Где надо.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Иван Васильевич опять то ли застонал, то ли заплакал. Безволие и горе делают человека волом — забитым, затасканным, на всё готовым...
Схария стал говорить, просто так, чтобы занять время. Тонким, холодным жалом полоснуло пониже сердца: забыли, что ли, про него? Ну, нет! И Ленка-молдаванка знает, что он здесь, и Зосима знает, патриарх Московский...
— Все европейские короли, — говорил Схария, — истово верят, что произошли от одной крови... История сия хоть и жуткая, но она есть суть всех династийных прав на ныне существующие королевские престолы. И даже суть права на Русские земли...
Иван Васильевич тяжко вздохнул, на миг убрав ладони от лица, но звука не издал. А лицо стало совсем сморщенное у него, отчаянное лицо. Лицо висельника!
Схария продолжал, увлекаясь своей значительностью:
— Меровей, основатель всех нынешних европейских династий, был рождён от двух отцов. Будучи уже беременной от своего мужа, короля Клодио, мать Меровея отправилась купаться в море. Утверждают, что в воде её силой взяло некое морское существо. — Тут Схария с чувством проговорил на латыни: — Bestea Neptuni Quinotauri similes. «Зверь, похожий на Кинотавра»[90]. И в жилах родившегося Меровея потекла кровь франкского короля и нашего Первобога! Истину тебе говорю: все короли мира имеют ту кровь еврейского Первобога! Все, кроме русских. Вот ты, например, той крови не имеешь... Значит, нет у тебя корня власти и жизни... Сухое дерево ты, в таком же сухом лесу...
— А твои короли, они имеют эту... голубую кровь? — вдруг спросил Иван Васильевич.
Схария замешкался. Откуда этот ходячий полутруп знает про голубую кровь? Это знание не для всяких...
— Королей у нас нет и не было! — занёсся Схария. — А были у нас цари! Царь и король — это разные звания! Царь — велик и могуч! Цари рождены Богами! Это написано в древних книгах! Нас поперёд всех родили, а потом мы уже плодили других! Кого хотели!
— И нас вы похотели родить? Нас, русских?
— Всю мерзость вашего племени да и всего славянства беззаконно породили рабы Богов. Боги устроили Великий потоп, чтобы вас всех смыть с Земли!
— Знаю, знаю, — отозвался Иван Васильевич. — Не всех смыло. Каюсь. За всех несмытых каюсь... Но вот я-то со своим великим княжением — откуда взялся? И дед мой, и прадед, и его прадед, мы всем своим родом Рюриковичей — откуда взялись? От несмытых Потопом рабов, что ли?
— Да, — грубо отозвался Схария, — от немытых рабов. — Сам он сидел в той горнице уже два месяца, несло от него... Грязной свиньёй несло.
Иван Васильевич вдруг загорелся в споре, встал, опять заходил:
— Ладно, я в это верю. Думаю, ты, как человек мудрый, понимаешь, что перед казнью жертва не врёт.
— Не врёт.
— Тогда какого же ляда мне мои книжники врали, а? Врали, что мы, русские, служили Богам как надсмотрщики, механики и жрецы! И тот морской зверь — Му Сар Иоаннес! Бог Водной Бездны, Бог Абзу!
Схария закачался на своей скамейке. От тебе нате! Как же его, Схарии, пастыри не сообразили про книжников русского князька?
Ивану книжников Софья привезла. Из Византии. Из Второй русской империи! Которую сейчас лихорадочно стирают из книг и с карт все университеты Европы — с помощью инквизиции! И с помощью больших неучтённых денег его, Схарии, племени!
— Врут! Ой, врали тебе твои книжники, Иван! И сейчас врут! — Схария в сильном возбуждении опять забыл прибавить отчество к имени великого князя. Ведь ещё шаг — и русский князь Ивашка точно утвердится во мнении, что русские, и правда, были не последними людьми перед Великими и древними Богами. Нельзя и допустить такого!
Схария решительным шагом опять направился к дверям, обшитым толстым медным листом. Может, и правда, русские после государственного переворота наладились пьянствовать, а на той пьянке забыли оставить место, ему, начальнику сего переворота! Эх, русские свиньи!
— Врали, верю... — Иван Васильевич заметил нехороший блеск в глазах Схарии. — Бросили меня сейчас одного мои мудрецы... У меня станется к тебе последняя просьба, мудрец не моего народа. — Я хочу... тебе тайну открыть, — просипел ему в спину Иван Васильевич. — Про мои клады будет та тайна.
Схария тотчас повернул обратно, сел на свою скамейку:
— А почему мне?
— А кому тут откроешься? Тому рейтару, что тебе оставил память под глазом? Подлому предателю Шуйскому? Я же тебя проверял в разговоре и вижу, что человек ты честный, решительный и терпеливый. Перед смертью кому, как не тебе, открыться? Но с условием... с условием, Схария, что ты меня спасёшь!
— Даю слово, что спасу!
— Перекрестись, а то не поверю!
— Так у нас по вере нет крестования по телу!
— Да... точно, нет крестования, а жаль...
— А вот клятву тебе я дать могу, Иван Васильевич!
— Нет, клятвы не надо. Мать твою я не знаю, отца — тем паче. Кем ты можешь поклясться? Был бы у тебя духовник, ну, так ты бы мог дать мне клятву. В обмен на его жизнь. Как положено. Чтобы его, если ты клятву порушишь, свиньи сожрали! Есть такой духовник?
— А много ли у тебя денег, чтобы своё спасение купить, а? Может, мне и клятву приносить — себе дороже станет?
— Серебра-то много. А золота в подземном схроне — пуды пудов и всяческие пуды!
Золото! Про золото московских великих князей в Европе давно ходили тайные слухи. Слухи те пошли после того, как Русь отбилась от татар, нанятых единоплеменниками Схарии для захвата добротного торгового пути через хранимый Москвой Волок Ламский.
Темник[91] Мамай запросил за труды свои кровавые золотом! Генуэзские братья Схарии то золото дали Мамаю наперёд и плакали. Перед тем как Мамая зарезать, его допрашивали про золото: «Куда дел?» Паскудный кочевник врал, но потом сознался, что три повозки с золотом так и остались на Красном холме, с которого он наблюдал битву на Кулишкином поле. А русский князь Дмитрий, прозванный потом Донским, нашёл то золото и начал его транжирить: Москву застраивать, русскому купечеству потакать. Не своё же тратил, паразит!
И вот теперь, похоже, следы того мамаева золота обнаружились... Схария умильно распустил щёки в улыбке, пошарил в своём халате, нашёл корочку хлеба, протянул Ивану Васильевичу. Иван Васильевич от той корочки отшатнулся, как от змеи. А у Схарии оба уха уже как бы повернулись, одно — на улицу, другое — на сени.
Иван Васильевич прокашлялся, повторил:
— Всё мамаево золото тебе отдам.
Схария внезапно посуровел лицом:
— Ладно, давай. Помогу тебе! Мой Бог — тому свидетель!
— Тогда запоминай. Первый схрон московских князей — под Воробьёвыми горами. Там, на уклонной улице дом стоит, на самом краю. Хозяина дома кличут Овсяником. К нему подойдёшь и скажешь: «Именем Московии и Царя небесного, веди в улей!»
Схария отмахнулся:
— Какой такой улей, если не о мёде разговор, а о золоте?
— А мёд, он какого цвета? Ты что, Схария, хочешь, чтобы о золоте говорили как о грязи? ...И, значит, поведёт тебя тот Овсяник под гору...
— Не полезу я, Иван, под землю за твоим золотом. Золото нужно брать без опаски, без копания в грязи, без крови. Понял? Такое золото у тебя есть?
— Да там же, пойми ты, пень трухлявый, лежит то золото, что дали подлому Мамаю твои же братья!
— Не может того быть! — внезапно проорал Схария. — Врёшь ты всё, Иван! То золото Димитрий клятый подло истратил!
— А зачем ему тратить было то золото, Схария? — Иван Васильевич остро и прямо глянул в чёрные глаза Схарии. — У Дмитрия Донского серебра хватало! Наши сурожские купцы за полный мордобой мамаевских пограбёжников отвалили Дмитрию Донскому да русским ратникам — пятнадцать тысяч гривен серебром! Тогда гривна стоила ого-го сколько! Пятнадцать коров дойных!
Схария побелел лицом. Он теперь сообразил, почему почитай двести лет сурожские купцы с кровью гоняли его соплеменников по берегам Каспийского моря да но берегам моря Чёрного, как паскудных пастухов. Москва обогатилась за счёт клятого Мамая и за счёт купцов русских, древним прозвищем «сурожане». Они до сих пор держат торг на Срединном море и даже пытаются прорваться в Индию. Ну, тут им каюк! Турецкий султан Махмуд Белобородый нынче мешками получает от соплеменников Схарии не медные кружочки, а золотые... За полное перекрытие для русских купцов всех старинных торговых путей.
— Погоди, Иван. — Схария стал говорить очень осторожно. — Ведь я то подземное золото, если выйму, так и верну его честно, по принадлежности. Моим однокровникам верну на общее дело. Лично мне тогда ни унции не достанется. А ты сейчас говори про то золото, какое хоть завтра я могу забрать себе и начать торг за твою жизнь...
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Во дворе тут заорали, послышался топот боевых коней.
Схария торжественно выпрямился, замер.
— Чего?! — проорал голос Шуйского на улице, под окнами горницы. — Чего там?
— Великая Княгиня Елена изволит спать укладывать государя всея Руси Дмитрия Иоанновича! Велено тебе быть к ней завтра до обеденного часа!
Шуйский весело матюгнулся, во дворе забегали, заругались, лошади устало застучали копытами по доскам конюшни.
Схария на глазах сошёл лицом. Побелел:
— Как же так? — зашептал он. — А я? А обо мне — когда?
— Ты, Схария, на Руси Великой живёшь. — Туго потянулся Иван Васильевич, до хруста костей. — Здесь правило, когда власть меняется, длинное. Длиннее боевого копья. А правило такое — сиди и не высовывайся. Понадобен станешь — вынут и доставят. Не понадобен пока, значит — жди!
— Как ждать? Я сколько сил и денег и труда положил, чтобы Русь твоя, подлая, во свет нашей веры вошла, а теперь ...
— Ночь пока на дворе. Не свет. Вернёмся, давай, к нашему договору.
— Эх! — Схария схватился за голову, упал на скамейку, покрутился на ней, снова вскочил.
— Вот то золото, — стал бубнить Иван Васильевич, — которое под Воробьёвыми горами, я отдам лично тебе. Ты потом им сам распоряжайся. Если желаешь, отдай своим однокровникам. Только память моего ближнего родственника, Дмитрия Донского, ради бога, не марай. Он ваше золото у Мамая забрал не пограбёжным обычаем, а по праву военной добычи... Меня же ты станешь выкупать тем золотом, на которое тебе укажет архимандрит московский, настоятель Успенского собора. К нему придёшь и скажешь: «Ихь бин кара шошка»[92]. И сразу не из земли золото получишь, а чистое, даже помытое.
— Это что, пароль такой? Чей язык?
— Древний язык... Но ведь и я не понимаю, на каком ты языке говоришь. «Пароль... пароль»... Значит, золото возьмёшь, там будет пудов сто...
Схария посмотрел на Ивана Васильевича, как чумной на мужиков с крючьями: сейчас крючья воткнут и поволокут в яму. Сглотнул, но спросил:
— Ты, Иван, может, головой тронулся? Какие на Руси сто пудов золота, а?
— А такие. Это наша, личная и тайная, великих князей Московских, казна. Хватит тебе ста пудов? За мою жизнь?
Схария уже и думать позабыл, что его пора бы уже и выпустить. Заходил по горнице, стал считать:
— Не хватит, Иван! Не хватит! Гляди: ты за последние два года наделал займов в Европе на целых двести пудов. Значит, давай ещё мне два схрона открывай! Этот, что в Успенском соборе, я отдам за твою жизнь, а два других пойдут на возмещение твоих займов! Только вот что я сам получу за заботу о тебе?
— А чего это ты так разорался про мои займы в Европе? Я их не делал, моей подписи там нет. Там подпись Соправителя моего, его пальчика махонький отпечаток. Отрубят мне башку, так пусть Европа с моего Соправителя денег требует!
Схария после тех слов лицом потёк:
— Вот оно как? Обманул ты, получается, своих кредиторов?
— Почему обманул? Я тут ни при чём! Ты-то почему страдаешь от того, кто совершил московские займы? Не твои ли там деньги?
Тут Схария заорал, брызгая слюной от полного возбуждения:
— Это наши деньги! Не короля Венгрии, не венецианских банкиров, не австрийских королей! Наши деньги Москва занимала! И они должны быть нам возвращены! Иначе Европа станет воевать твою Русь до скончания веков!
Иван Васильевич отуманился взором. Схария продолжал орать:
— Ни один король в Европе без разрешения из нашего кошля и медяка не вынет! Понял?
— Понял. — Иван Васильевич поднялся со стула, закряхтел, положил обе руки на поясницу. Скривил лицо: — То я сейчас понял, что за те займы, что брала Ленка-молдаванка, заберёт Европа всю мною собранную во трудах тяжких и праведных московскую землю...
— Враньё всё про займы Ленки и её младенца. По бумагам это проведено грамотно, не подкопаешься. Но мы и копаться не станем. Придём и всё заберём! Правда, Соправителю твоему и денег малость оставим, и Московской землицы...
Иван Васильевич даже лицом посерел:
— Ты, Схария, всё время говоришь: «Мы, наш, наше», а чьё это — «наше»? Вот я раз кому говорю — «моё», значит, это — всех русских земель. А твоё «наше» — чьи земли?
Схария торжественно прошёл туда-назад мимо Ивана Васильевича:
— А нет у нас земель! Мы везде и нигде! Нет у нас князей и королей, мы сами себе короли. Мы берём всё, что нам надо, но никогда нигде и не перед кем за это не отвечаем! И никаких документов не оставляем. Подписи ставят наши куклы — короли да князья. Они же казнят того, кого мы укажем, войну объявляют, своих дочерей замуж выдают... Всё только по устному слову нашему! Так будет всегда везде и впредь! Случись чего, тех королей и осудят. Вот!
— О! — восхитился Иван Васильевич. — Вот это да! Это и есть власть! Не чета моей! А скажи мне, мудрый и великий Схария, Папа Римский, наместник Бога на Земле, он тоже выполняет ваши команды?
— А то как же! Не выполнит — помрёт.
Иван Васильевич соскочил со стула, забегал по горнице:
— А скажи мне, Схария, вот что... Нет, не буду... Боюсь сглазить!
— Помни о восходе солнца, Иван, которого ты не увидишь! Говори последнее слово, где спрятана казна!
Иван Васильевич подскочил к Схарии, ухватился за его тощие плечи, потряс:
— А о том я тебе скажу, когда ты меня вытащишь отсюда да спрячешь хорошо, да потом вывезешь в Польшу — к дочери моей, Елене, под ейную защиту.
— На днях придут в Москву мои... придут купцы с норманнских пределов, из страны парисеев...
— Франки?
— Не франки, а наши люди, с бумагами от франков. Им велено меня оберегать и доставить по месту. Вот с ними и будем вести разговор.
— Понятно. Законно. Рад.
Под окнами вдруг громко и зло заговорили, что — не разобрать. Два раза прозвучало: «Резать будем!» Потом убрали шесты с догоревшими свечами. В горнице стемнело, хотя в маленькие оконца падал лунный свет, отражённый от снежных увалов на усадьбе.
Схария мельком глянул на лицо Ивана Васильевича. Лицо великого князя стало похоже на лик мертвеца, которого не спешили зарыть. Синее стало лицо.
— Схария! Послушай, не стучат ли топоры под окном?
— Тебя что — прямо здесь казнить будут?
— Нет... Сейчас гридни заменят свечи в фонарях. Опять поднимут фонари под окна. Могут поднять на шесте икону. Если поднимут Николая Угодника, то — все. Жить мне останется до рассвета. Потом отвезут на берег реки Москвы и там, на болоте...
Вот же скотство какое! Не успеет Схария вытащить из этого пенька тайну его личной казны! В дверь постучать? Опять в лоб получить? Как же продлить хоть на время жизнь этому Ивашке подлому?
— Ну, Иван! Говори! Где казна? Где спрятана?
— Не могу говорить... Язык высох.
По слабым сполохам, забегавшим по стенам горницы, стало ясно, что поднимают шесты со свечами. Схария теперь не слышал и дыхания Ивана московского. Ну и трус...
Иван Васильевич вскрикнул. У окна появились две свечи по краям большой иконы. Свечи освещали лик длиннобородого старца. Старец держал правую руку вверх, призывая внимать ему.
— Всё-ё-ё-ё, — выдохнул Иван Васильевич. — Всё!
— Как это «всё»? А твоя казна?
— Всё, Схария. У нас положено так — каждый умирает в одиночку.
Схария забегал по горнице. Иван Васильевич встал перед окном с иконой, начал медленно молиться.
— Иван Васильевич...
— Да пребудет Царствие твоё...
— Великий князь!
— Да пребудет воля твоя...
— Великий государь!
— Почто холоп отрываешь меня?
— Всё могу для тебя решить! Слово даю. Придут за тобой, я скажу, что за продление твоей жизни всех продам — и твоих и своих... Клянусь!
Иван Васильевич обернулся, не переставая креститься:
— А живых людей назовёшь? Не мертвяков? Не пророков твоего Отечества? Впрочем, Отечества у тебя нет.
— Живых, как есть живых! Всех!
— За мою казну?
— Да!
— Ладно... Но ещё я, Схария, хочу знать — каким способом ты меня из смертной темницы вытащишь? Когда сам в ней сидишь?
— А я буду орать, что ты — полукровка!
— Кто?
— Мол, ты половину нашей крови имеешь. От матери своей!
— Ты пёс, етит твою! Ты думай, что говоришь! Ты мою мать не трогай, с-с-скотина!
— А другого способа нет, Иван, — спокойно сообщил Схария, укладываясь на лавку. — Это самый верный способ. Документы заделаем, что мать твоя, Марья Ярославна...
— Мать не трогай, сказал!
— Правильно. Мать твоя совсем русская... О! Бабка твоя, Софья Витовтовна! Сделаем по бумагам так, что бабка твоя, Софья Витовтовна, есть чистых кровей иудейка! И находится под нашим законом. И все создания из чрева её, и потомки тех созданий тоже наши люди. И никто тебя не тронет, Иван!
За окном топтались люди. Шест с иконой качнулся, ушёл в сторону. Поматерились внизу, подняли второй шест. На нём, тоже освещённая свечами, блестела икона Девы Марии.
— А, всё едино теперь... «Дево радуйся!..» — забормотал Иван Васильевич. — Знак мне дают, что в Московском княжестве переворот на католичество уже произошёл... Всё едино теперь, и что бабка моя, Софья, иудейка, хотя она на самом деле полька. Чистых кровей. И что мне осталось жить чутка. Чутка осталось ждать: топор по шее или сабля по горлу... Согласный я, чтобы тебе и твоим людям за твою ко мне доброту всё моё личное богатство досталось! Только ещё у тебя в последний раз спрошу...
— Спроси! — Схария старался не глядеть на свирепый лик девы Марии со младенцем. Кто такой лик рисовал? Совсем русский лик. Того гляди, младенца положит рядом, а сама топор возьмёт.
— Схария, я желал бы во время казни, при собрании народа нашего... вспомянуть добрым словом тебя и всех твоих однокровников. И нашему Богу доложить о вашей доброте. Пожалеть, что не успел наш народ побыть под вашей властью в холе и неге... Восплачем мы там, на болоте, ох как восплачем!
— Тебя спасут, я сказал! Чего тебе ещё надобно?
— Надобно знать, как твоё сообщество называется, которое писем не пишет, подписей под указами не ставит, работает исключительно словом. Дабы мог я молитву в помин того общества совершить в свой смертный час. Как?
Схария оба уха как бы вытянул в сторону окон. Там поскрипел снег... Люди удалились. Потом снова подошли. Снег заскрипел сильнее. Много людей подошло. Лик Девы Марии закачался, ушёл из окна. Тёмное стало окно. Жуткое...
— Как? Ну? — тянул жидовские жилы Иван Васильевич.
— Сионский Приорат. — Схария ясно понял, что Ивану, московскому князю, точно, конец пришёл: ишь ты, плачет! Сам он уже мысленно был на улице и в боярской шубе ехал в Кремль, а оттуда прямо в кремлёвскую казну...
Иван Васильевич встал со стула, три раза ударил им об пол. Громко, нагло.
— Ты что гремишь?! — заорал Схария.
— А надоело мне всё! — проорал в ответ Иван Васильевич. — Воняет здесь, как в загоне у супоросной свиньи!
Дверь в горницу внезапно распахнулась. Здоровенный немецкий рейтар махнул великому князю рукой: «Выходить!» — и Иван Васильевич скорым шагом пошёл в коридор.
— А меня? — засуетился Схария. — Меня забыли!
В ответ ему, теперь в левый глаз, прилетел огромный кулак немца. Дверь захлопнулась.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Шуйский крутился вокруг великого государя со смешочками. Иван Васильевич стоял перед ним голый, гридни меняли на нём одёжу от исподнего до верхнего. Ругался:
— Ну, свяжи ты этого жида покрепче да сволоки в баню! Невозможно рядом с ним устоять! Ей-богу, я от паскудства того запаха чуть не завалил всю игру!
— Хай так побудет, — нагло отвечал Шуйский. — Пусть поймёт, почём фунт лиха... Впрочем, он и живучи в Новгороде вонял, как старый козёл.
— Ладно... Поесть чего — наготовили?
— А то как же! Пошли в едальную залу.
Великий князь обернулся, мотнул рукой книжнику Радагору идти за ним.
Уселись втроём. Дело назревало тайное, огромное. Радагор сидел напротив великого князя, щурился на свечу, что стояла промеж ними.
— Да убери ты свечу в сторону! — развеселился великий князь. — Свет, он тоже бывает помехой. Говори, чего подслушал!
Горница, в которой держали Схарию, имела двойные стены. Некогда там, в старом здании, размещался малый домовой храм бояр Шуйских. Пространство между стенами служило для вентиляции молельной залы, для притока воздуха. Ну и слушали особые люди, пребывая в том междустенном пространстве, чего вымаливает для себя боярский гость или на кого Богу жалуется.
— Сионский Приорат, — грубым голосом сказал Радагор. — Есть такая паскудная сущность. — У Радагора голос звучал грубо, хрипло. В московских застенках, бывало, такие тати, что по десятку человек за раз гробили, от голоса Радагора плакали, и все бумаги, что им подсовывали, подписывали, в полное признание вины.
— Это всё, что я выведал у этого скота?! — Иван Васильевич аж перестал жевать.
— А более и не надо, — прогудел Радагор, наливая себе ромейского вина в большую чашу. — За корень ухватились — ствол повалим.
— Это что же, опять тайный орден в Европе образовался? — спросил Шуйский.
— Да какой там орден! — Радагор хмыкнул. — Воровская шайка. Три копейки урвали, им и весело.
— А мне почудилось, что больно силён тот сион, или как его там...— Иван Васильевич задумчиво отрезал себе копчёного окорока, намазал тёртым хреном.
— Ты же всегда моим словам веришь. — Радагор отставил в сторону золочёный кубок. — Вот я тебе разверну крипту этого воровского сброда. На древнем, для всех одинаковом письменном языке «Си Он» значит «соль молчания». Это взято из описанного ещё нашими мудрецами из города Баб Илион древнего способа бальзамирования покойников.
Иван Васильевич вздрогнул и перекрестился. Шуйский хмыкнул и тоже наложил на себя двоеперстие. Радагор выбрал себе на серебряном блюде кусок томлёной в печи курицы, хотел откусить.
— Погоди ты жевать! Говори дальше! — разозлился Иван Васильевич. Ему не понравилось упоминание за столом покойников.
— Ну а понятие «Приорат» эти бестии прицепили к «соли молчания» ляд их знает зачем. Правильно, по писаному будет Пи Ри Ор. Литвины, паскудники, словом «ор» называют золото, то золото, что в шахте и ещё не добыто. «Пириор» — это как бы каторжные работы по добыче того золота.
— Чего ты мудришь? Ведь сам слышал, как жид сказал — «Сионский Приорат»!
— Великий государь! Ты же слышал его речь. Ты хоть половину понял, что он говорит? У него язык, как у всех пастухов, подвязан не к тому месту. Ему русские слова выталкивать, как камни во рту катать. Он не выговаривает «ад». И говорит — «ат».
— Вот! Ещё ада мне не хватало!
— Иван Васильевич, великий государь! В той шахте рабы золото и плавили, прежде чем нести на алтарь Бога. Алтарь называется «да». А предалтарная, чёрная и гибельная работа— «ад». Вот и всё.
— Что всё?
Шуйский расхохотался в голос:
— Да понабрали эти шпыни разных страшных слов и вот тебе название воровской шайки!
Иван Васильевич выпил полчары мордовской водки, скривился, ухватил ломоть осётра, макнул в уксус, заел жгучий напиток.
— Так что теперь, мне рукой махнуть на тот Приорат?
— Нет, держи пока в уме. А остальное — не твоя забота, великий государь. — Радагор достал стопку бумаг. — Я, пока слушал твой разговор со Схарией, исписал двадцать листов. По тем листам имеешь ты полное подтверждение вины твоих больших бояр в лютой измене. Так что совесть твоя и душа чистыми вышли из поединка со Схарией. Большой силы его признания. По ним я могу закатать в потюремщики хоть нашего хозяина, боярина Шуйского... — Радагор выпил вино, принялся есть кислый заедок.
Шуйский взвился над столом:
— Чего ты молотишь?! Как это — меня в потюремщики? За что?
А Схария точно сказал: «Шуйский весь план завалил». Насчёт польского похода.
Над столом образовалась вязкая тишина. Только Иван Васильевич скрёб серебряной ложкой в мисочке с грибами, заедал свирепую водку.
— Ладно, Мишка, потомив осатаневшего Шуйского, пробурчал Иван Васильевич. — То была тебе проверка. Хошь, меня теперь вызывай на поединок. Но ответь, ради бога, пошто ты трусил сам ехать в Смоленск, а? Пошто послал на верную погибель Варнаварца? Ведь его подлый пан Заболоцкий лично знает!
Шуйский два раза резнул кулаком по столу, встал, походил мимо. Сел на другое место, подальше от великого князя.
— Пан Заболоцкий лично на меня приготовил ков[93] такого свойства, что живым я бы из Польши не вернулся... Прости, великий государь!
Иван Васильевич глянул на Радагора. Книжник, ответственный в великом княжестве за каждый вредный чих противу власти, кивнул: правду говорит.
— Ну, так навёл бы на Заболоцкого своих лихих ухорезов! — разозлился великий князь. — У тебя полтысячи на конях, живут на твоём личном... пансионе. Рванул бы в набег на Польшу, зарезал бы Заболоцкого, да назад. Чего ты забоялся? Я бы в тот момент отвернулся...
— Радагор не велел.
— Пока этот шпынь Заболоцкий пригоден нам по внешним делам, — сказал Радагор. — У него два писаря есть... от твоих щедрот, великий государь, деньги получают. По пятьсот рублей в год. Потому мы пока всё знаем про дела польские да литвинские.
— Знатно... Шуйский, садись рядом, давай отчёт. Сколько, по моим расценкам, проел этот жид Схария?
Шуйский повеселел, сел, налил себе мордовской водки, с чистой душой выпил, крякнул и даже не стал заедать. Заговорил:
— За два месяца, как велено... по сто рублей в день.
— Мало. Пиши, давай, по пять сотен рублей в день. Да запиши ему походы в баню, да полную смену одёжи, да охрану... Чтобы через месяц проелся он как бы на двадцать пять тысяч рублей. А потом... Хех!
— К весне жида утопить желаешь, великий государь? — спросил Радагор.
— А что? Потребен он тебе?
— Нет. Подожду, когда названные им люди придут от франков, и всё — сади его в болото.
— Ещё какие будут мне указания? — развеселился Иван Васильевич. После паскудной игры в смертника его сильно тянуло выпить и похохотать.
— А такие указания, что надобно мне собрать три полка стрелецкого строя, — ответил без улыбки Радагор. — Да ещё человек двести шпигов на все постоялые дворы окрест Москвы. Татары твои перекрывают юг, а мне надо держать в полном затворе запад, все пути от Литвы и Польши. Раз навалился на Московское княжество Сионский Приорат, надобно сначала сдержать его осаду, а потом...
— Осаду? — побагровел лицом великий князь. — Какую, к ляду, осаду? Выдумываешь тут!
Радагор сумрачно и зло повторил:
— Сначала сдержать осаду этого тайного сброда, а потом — псов войны спускай!
Шуйский покивал головой:
— Я, великий князь, Радагора поддерживаю. И скажу тебе полную правду, почему я затрусил катить в Литвинщину. Пан Заболоцкий уже натравил на меня этих пейсатых... Забыл, как они извели твоего сына Ивана? И тебя хотели извести! Погоди, это только начало...
Иван Васильевич глядел в стол и тыкал своим кинжалом мимо куска мяса.
Радагор добавил:
— Ещё вчера надо было вокруг Москвы создать такое военное кольцо, чтобы не токмо что человек, чтобы крыса не проскочила...
Вон оно как! Опять крыса! Вот где выскочила байка старого московского купчины Матюшки Избыткова про крыс. Коих русские люди жгли в древности вместе со своими домами и со всем добром — лишь бы избыться от нечисти. Эге... Дело закрутилось серьёзное: нынешних крыс тоже надобно жечь по всей земле!
Иван Васильевич поднял глаза на своих ближников:
— Забирайте всё, что есть потребного вам. По военной разнарядке! Как при особом случае!
Шуйский поднялся, заходил мимо стола:
— По военной разнарядке, Государь, ни одного стрельца не получишь. Все стрелецкие дети уже повёрстаны. Людей со стороны в стрельцы не запишешь. А если по особой нужде набрать со стороны, то на три полка где денег взять? Да на шпигов, на тиунов кабацких, потребно в год...
— Одна тысяча рублей, — подсказал Иван Васильевич. — Да на три стрелецких полка в полной военной справе — десять тысяч. А на поход в литвинские земли потребуется пятьдесят тысяч на один месяц. — Иван Васильевич увлёкся в расчётах. — А ещё ты, Шуйский, требуешь с меня на пять солдатских полков почти двадцать тысяч рублей. Как быть?
— Надо, великий государь! Времена такие, что лучше рублём отбиваться, чем кровью. — Радагор снова налил себе густого ромейского вина. — Сионский Приорат, это всё же сила. Сволочная, бессовестная, тайная. Они всегда из-за спины бьют. Всегда своими фальшивыми деньгами и чужой кровью, купленной на те деньги...
Шуйский постучал ладонью по столу:
— Стой, стой, Радагор, поостынь пока. Слышь, чего хочу спросить? Я повелением великого князя торгую нынче с Ганзой архангельским жемчугом и такого спроса как нынче на жемчуг — просто не бывало. С руками рвут. Уже почти пятьдесят тысяч чешских талеров я засыпал в свою казну. — Тут Шуйский перекрестился. — И, дурак, те талеры не проверил...
— И не надо, — Радагор косо глянул на великого князя. — Треть мешков точно фальшивая. С подмесом свинца или олова.
Не вздумай печати с мешков рвать! Поставь ещё московскую печать на те мешки и гони их шведам, за железо...
Шуйский зашёлся стервозными словами. Иван Васильевич погрозил ему кулаком, зло пробурчал Радагору:
— Рано или поздно тот обман откроется. Смотри, поднимутся тогда против нас и шведы, и даны, и немцы... Может, татарам в Крым то серебро отправить?.. Отдавай те талеры в мою тайную кузню. На переплавку. Пусть из них льют серебряные вёдра да ковши на подарки крымскому хану...
— Это годится, — развеселился Шуйский. — Завтра и отдам. Но теперь пошлю своего дьяка в Ганзу, чтобы на месте проверял те талеры.
— Грохнут там твоего дьяка, — прервал Шуйского Радагор. — Пока сиди так, будто ты в неведенье насчёт чистоты денег... Крымский хан пусть репу чешет, если до него дойдёт.
— А мне тоже прикажешь чесать репу? — взвился Шуйский. — Я-то теряю свой доход!
— Я тебе, Мишка, возмещу твой убыток, — твёрдо пообещал Иван Васильевич. — Вот вернутся наши купцы из Индии — и возмещу!
— Вернутся они, жди! — разозлился Шуйский. Он встал из-за стола вышел на кухонную половину. Там начал орать на поварскую челядь, разбил с треском глиняное блюдо. Вернувшись, Шуйский налил себе водки, выпил, заел чесноком. Заешь тут чесноком, когда махом потерял пятьдесят тысяч талеров из-за скотского Сионского Приората. Чтоб ему...
— Ты, Шуйский, — Радагор повернулся к сопящему Шуйскому, — имей понимание, что они, эти шпыни франкские, которые придут за Скарией, придут и по твою душу. Тебя крепко подкупать станут! Насчёт тайного освобождения жида из твоей тюрьмы и насчёт тихого, но резвого убийства великого государя. Денег дадут много и сразу. Так что молись...
— Да я тогда им!
Иван Васильевич треснул по столу кулаком:
— Погоди ты! «Якаешь» тут! Дело куда круче, чем я полагал. Хорошо, что по весне решили на Литовщину не ходить... Летом, оно проще... Устал я.
Шуйский показал над столом огромный свой кулак Радагору, потом совершенно трезво заговорил:
— Государь, у стрельцов мы забрали на ратную службу тех сынов, коим по двадцати одному году исполнилось. Но в ихних семьях сейчас подросли другие. Озоруют, в шайки сбиваются, прохожих да проезжих задирают. Всё Замоскворечье от них воет. Предлагаю поверстать их как бы заранее, положив им за государев счёт одёжу стрелецкую, кафтаны, сапоги, пропитание, да по три рубля на год за службу. И пусть как бы учёбу проходят до исполнения призывного возраста. На всех дорогах, где им укажет Радагор, пусть встанут отрядами. Мальцам интерес будет хватать людей да в самоделишную войну играть. А?
— Мысль верная, — признал Иван Васильевич. — Но ведь много народу и покалечат... если эти молодые полки ты, Мишка, не возьмёшь под свою руку. «Стрельцы боярина Шуйского»! А? Как крепко звучит!
— Беру под свою руку! — поднялся Шуйский.
— Ну и сразу тогда бери их на содержание, — завеселел великий князь. — У тебя же доход растёт от продажи в Ганзу архангельского жемчуга, так что давай!
У Шуйского аж слёзы выкатились наружу. Видать, от ледяной водки:
— Великий государь? Как же так, а? Ведь в прогаре я останусь! Те ганзейские талеры велишь на вёдра да ковши крымскому хану перелить, другие пустишь небось на войсковые значки для молодых стрельцов... А мне как жить?
— Забыл я про твой убыток! — Иван Васильевич два мига подумал, кивнул Радагору. — Доставай бумагу и стило! Пиши: «Выдать безрасписочно Шуйскому пятнадцать пудов серебра старого Вавилонского чекана...» Написал? Дай подпишу. Вот так... Там, Шуйский, то серебро, которое я выменял вес на вес у купчины Копейкина за новгородскую виру. Вавилонское там серебро, деньги нашей Первой империи... Догуливайте, а я пойду. Завтра опять большое дело: уговорить старца Симона взять митрополичий посох вместо предателя Зосимы — это вам не Схарию утопить... Крепкий мужик!
— Государь! — удивился Шуйский. — Откуда Симон — и крепкий мужик? Ему за восемь десятков перевалило!
Иван Васильевич резнул кулаком по столу:
— Духом крепок Симон. Слово скажет, как копытом под дых...
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Москва затворилась. Зима во весь мороз свою силу кажет, тут бы самый раз великий зимний торг разводить, а окрест Москвы встали военные заставы. Ни проехать ни пройти. Кто пытается по краям да по оврагам прокрасться к городу, того ловят и волокут на правёж к Радагору. А у того под рукой страшный кат Томила — всё расскажешь, даже чего и в мыслях не держал.
Да ведь, главное дело, кто состоит при охране дальних подступов к Москве? Ребятня молодая, стрелецкие огольцы! Старые стрельцы, говорят, весьма благодарили Государя за своих молодых сынов, за их воспитание — и все расходы взяли на свой кошт. Так Москва получила свирепое и бесконтрольное войско.
А с юга шалили крещёные данияровские татары. Поболее трёх тысяч конников встали серпом окрест Москвы да зимним постоем по деревням, по сёлам. Мужики тамошние взвыли. Ведь надо прокормить двух коней да одного татарина. А он, татарин, свиней не ест, ему барана подай или лошадь! Разорение!
И тогда пошли по Московской земле слухи, будто всё это разорение затеяно, дабы уберечься от тайных воров, коих напустил на Московию жид Схария. Тот, собака, всем закрутил головы чародейством под именем «Тора». Новгород из-за того чародейства пришлось сжечь, Казань разбить. А жид Схария спасся яко крыса и теперь тайно обитается в пределах Москвы и посадов, совращает попов менять порядок молитвенного строя... Зайдёт, говорят, в храм, тихонько плюнет в тёмный угол — и храму конец: тотчас тенёта ползут по стенам, накрывают святые иконы, а прихожан разбирает хвороба.
Радагор за любой чёрный слух про жида Схарию, разнесённый окрест Москвы и далее, платил слухачам по алтыну. А сам носился на трёх сменных, чёрных возках, крытых чёрными кожами, внезапно появляясь то там, то тут. А встречь ему, на таких же возках, только под красными кожами, носился по дорогам Мишка Шуйский. У Радагора в конвое были головорезы Эрги Малая, вызванные из Дагестана. А за возками Шуйского неслась сотня молодших стрельцов. Нешуточные дела закипели вокруг Москвы!
Купцы, свои да чужие, поначалу взвыли.
Русские купцы встали пустым обозом поперёк дороги на Ржев, откуда ездили в сторону балтийского моря, и там злым и матерным ором встретили красный возок Шуйского:
— Проедаемся, бодлива корова! Дети плачут, жрать нечего! Товар гниёт!
За рекой Истрой, перегораживая купцовый путь, стояли молодите стрельцы, прикрытые тележным куренём. Там посверкивали огоньки запалов у пушек-гаковниц.
— Оральники! В домовину вам кол осиновый! — разошёлся Шуйский, вскочив прямо из возка на подведённого коня. — Орёте, орёте, а товар где? Пошто пустые возы кажете?
— Дак мы это... полков твоих забоялися.
— Кто с товаром — подходи! Монету давай!
Купцы крикнули своим приказчикам. Из снежных умётов по краям дороги повалили к возками крепкие парни, поволокли бочки, корзины, мешки с товарами, повалили их на пустые сани. Купцы затолкались, окружили Шуйского. Он вынул из кармана особые кузнечные клещи для клеймования. Купцы совали Шуйскому медные или серебряные монеты, тот мигом жал клещи. На монете появлялась отметина — кружок, в кружочке буква «Ш», а в стороны от кружка отходили бычьи рога.
Санные подводы, заваленные товарами, разворачивались в рыхлом снегу, сшибались. Замелькали дубины... Шуйский тогда вынул саблю, махнул. Из-за Истры сверкнуло пламя, нестройно ударили пять выстрелов. Свинец прошелестел над головами купцов.
— Всё, боярин, всё! — заорали купцы. — Пошли мы. Пошли ровно, тихо, в ряд!
На той стороне реки купцы чинно показывали молодшим стрельцам монеты с отметиной Шуйского, тишком совали десятским мешочки с медным звоном и катились уже с весёлым ором на Ржев, считая расходы «на дарагу», а главное, думая, как запугать ганзейские города небывалым воинским переполохом на Москве. Переполох тот обещался звякнуть в русских кошлях дополнительным серебром.
Красная площадь стояла в затворе уже вторую неделю. Начался месяц февраль греческим счётом. Рейтары ходили злые, их служба удвоилась, а жалованье — нет. Не война, а просто усиленное дежурство. За это не платят лишку. Более рейтар, до злобного гнева, бесились первые на Москве купчины, державшие лавки на самой площади. В лавки ходу нет, в Кремль ходу нет. Одни убытки...
Утром у себя дома купец первого разряда, доверенный негоциантов города Любеч, Ефим Коробей, стоял на коленях и читал по памяти Псалтырь, иногда подглядывая в большую чёрную книгу:
— ...да будут славословия Богу в устах сыновей Сиона, и будет меч обоюдоострый в руке их...
Ванька, купеческий холоп, из Кусковской волости, неслышно ходил в одних шерстяных носках по молельному приделу хозяина, менял свечи, вытирал пыль с огромных икон старомосковского письма, слушал моление хозяина:
— ...для того чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами... Чтобы сыны Сиона могли заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писаный... Ванька, посвети-ка мне вот сюда!
Холоп подставил большой подсвечник поближе к чёрной книге. Купец Коробей радостно выдохнул:
— Да хвалят имя Господа нашего, ибо Он возвысил народ Сиона надо всеми народами[94]!
По окончании этой молитвы Купец Коробей вдруг злобно выкрикнул под лампаду, в лик Николаю Чудотворцу:
— Жид не жид, мне какое дело? В Книге написано — пусть всем Царям и князьям пакостит, окромя меня! Ванька! Подь сюды!
А Ваньки под рукой не оказалось...
Радагор как раз поутру садился в чёрную повозку, когда перед ним пал на колени холоп купца Коробея прямо в шерстяных носках...
Через час, к началу заутренней молитвы, кат Томила сломал купчине Коробею вторую ногу в колене:
— Баяли мне, купец, что у Израиля всего два колена. Вот видишь, теперь ни одного... Давай дальше, кто тебе ещё говорил про сыновей Сиона, да как тех людей кликали, какие прозвания у них...
Кат Томила обнаружил у купца в довесок ко всем преступлениям ещё и нехватку крайней плоти на мужском естестве да недостачу двух круглых мужских причиндалов в мешочке, что висит в коже меж ног. Тогда все товары купца Ефима Коробея, да все его лабазы взял на свой учёт конюший великого государя Мишка Шуйский. Дом же купца со всеми пристройками, подвалами и припасами отошёл по особому указу бывшему холопу, а ныне сыну боярскому Ивану Кускову. А семья купца сгинула: Русь большая...
Великий князь Иван Васильевич поведал о вчерашней истории падения знатного купца Коробея старцу Симону, неделю назад доставленному в Москву и уже неделю дающему отказ в принятии митрополитова сана. Великий князь раным-рано пришёл к старцу в тесную келью Успенского собора.
— Это не есть моя тебе исповедь, святой отец, — тихо проговорил тогда Иван Третий. — Это есть мой тебе завет идти за мной до конца по этой русской стезе.
— Дак пошто идти ложью? — просипел старец Симон. — Неужели нельзя тебе править праведно? В согласии с обычаями наших отчич и дедич да по законам Святого Писания?
— Нельзя! — крякнул Иван Васильевич. — Ты, святый Отче, всю свою жизнь провёл в кельях да воевал с мышами, что грызли твои святые книги. А я всю жизнь провёл среди врагов внешних и внутренних! Кои грызли мои земли! И что ты думаешь — праведно грызли? Нет! Тайно, ложно и безбожно! Вроде извёл я тех ворогов. И вот только я вознамерился оставить железный меч, как тут же созрела внутри моего государства измена. Да не простая, а духовная. Что в сто раз пострашнее будет.
Старец Симон, коего уже неделю, с утра до ночи, уговаривали свои же церковнослужители принять сан, в ответ на те уговоры ругался чёрными словами. А потому ругался, что некоторых уговорщиков он знал как тайных последователей жидовской ереси и видел в их усердии злобу и тайный умысел. И вот теперь сам великий князь пристал к нему с подобными же уговорами! Нет и нет! Лучше в могилу живым сойти, чем воздеть на голову митру посреди брожения в лоне православной церкви. Будь ему на двадцать годков меньше, чем теперь, тогда, быть может, и повоевал бы за святую веру. А в восемь с лишком десятков лет воюют только за тёплый угол в дальнем монастыре, да за ломоть хлеба с солью и ковш воды колодезной!
— Лучше живым в могилу сойти, великий государь, чем взять грех лжи на душу!
— Даже ради того, чтобы избавить свой народ от духовной измены? Эх ты! — Иван рывком поднял старца, пристроил на скамью, подбитую медвежьим мехом для тепла. Сел рядом, затеребил бороду.
Симон прошелестел больным голосом:
— Насчёт измены духовной, великий княже, тут ты прав... Весь народ страдать за то не может...
— Я знаю, что я прав. Ибо верую по канонам моих предков до пятидесятого колена! Но вся подлость той измены в том, что её на православных Соборах не избыть! Так?
— Наша церковь не единожды вела схватки с такими злыднями... И те битвы выигрывала всё же.
— Битвы выигрывала, не отрицаю. Но в какой срок, святой отец? На века тот срок растягивался. А у меня времени нет. Собрал я Святую Русь сколько смог, а смог я много... да вот теперь заползли чёрные гады в её нутро и изгрызают его, чтобы растащить опять на лоскутья! И над каждым лоскутом вывесить не токмо что католический крест о четырёх концах, а вообще тот крест снять.
Симон согласно закивал лысой головой.
— Чингизовские татары вон, на что уж кровавые были собаки, а наши храмы не трогали... — с тоской сказал великий князь. — Даже в тех храмах сами принимали крещение. А нынче пришли на Русь святую похабные пастухи, коим вся радость — сытно жрать да сладко спать. Вот их вера! Ты же ихние библейские сказки читал?
— Читал, великий княже. А что иное читать, когда иного и нет?
— Нет, потому как сожгли они всё иное, праведное. Для ради утверждения одной книги на весь мир...
Тут великий князь в стенах самого что ни на есть святого собора громко и похабно помянул христопродавцев и матерей ихних... Старец Симон, бывший в миру поволжским рыбаком, смачно крякнул: хорош получился ругательный выверт у великого князя, до кишок продрал. Проговорил старец Симон:
— Вот так сказал бы разом мне всю правду, разве стал бы я кукситься? Скажи мне правду — чего от меня тебе надобно, государь? Ведь я долго не проживу, ибо сан митрополита потяжельше станется, чем вся твоя казна. На казну опираются русские народы ногами, а душами своими они опираются на нерушимый столп веры. И твоя душа тоже, вижу, требует опоры.
Иван Васильевич заговорил резко, зло:
— Месяц проживёшь? И то хорошо. Завтра устроим Собор настоятелей поместных храмов... Молчи, не перебивай. На том Соборе выберут тебя митрополитом всей земли Московской... Молчи, старец, молчи. Потом ты своим Православным Уставом проклянёшь ересь жидовствующую и велишь мне именем Господа нашего ту ересь искоренить. Казнённых мною бояр и прочих, загаженных в той ереси, тоже проклянёшь на века. Повелишь Дмитрия Иоанновича, нонешнего моего Соправителя, царского сана лишить и вместе с матерью его отправить в дальний монастырь на вечное забвение... Не крестись, не крестись, бумаги на те решения давно заготовлены, только читай их завтра вслух. Не сможешь читать вслух, поставлю тебе читчика — Радагора... Потом примешь решение возвернуть из дальнего монастыря жену мою Софью да сына моего Василия. Василия, именем православного московского народа, повелишь мне выбрать Соправителем. Я тотчас его повенчаю на государство. А потом... потом сиди в митрополитовых покоях со своими советниками, пей заморское вино, ешь блюда сладкие и выбирай, кого тебе на смену надо. Кого укажешь, того приму. Как? Согласный?
Старец Симон долго гладил свою длинную седую бороду, потом вдруг свирепо глянул в очи великого государя:
— А пошто выбрал меня? А не любезника своего, Иоську Волоцкого?
— А по то, что дай игумену Волоцкому надеть святую митру, так он почнёт избиение не токмо что жидовской ереси, он даже младенцев в материнской утробе креститься заставит. Бычья в нём кровь...
Старец Симон покивал головой, потом вдруг поднялся с лавки, медленно, раздельно заговорил:
— Через месяц, в день весеннего солнцестояния, я, великий государь, предстану перед Господом нашим, преблагим. Отмолить перед ним твои нынешние дела, дела грешные, я не смогу.
Но постараюсь... А посему вели меня похоронить в приделе храма на Кулишках, где предок твой, Дмитрий Донской, упокоил святых воинов мамаева побоища — Пересвета и Ослябю.
— Нет. — Иван Васильевич встал со скамьи, подошёл к огромной иконе Георгия Победоносца, три раза, с глубокими поклонами, перекрестился, гулко, на весь собор сказал: — Обет даю, здесь, рядом с Красным холмом да старым Симоновым монастырём, где упокоены рядовые воины Дмитрия Донского, я поставлю Новый Симонов монастырь. И в том, новом монастыре тебя упокоят с честью! Ибо ты, приняв в эти тяжкие времена сан митрополита, выиграешь для Руси не менее важную битву! Ведь в честь того, благоверного старца Симона, ты взял себе православное имя по крещению своему, так?
— Так.
— Значит, новый монастырь в твою честь назовём. Во славу тебе и в назидание потомкам! Ты крепость моего слова знаешь. Сказал — так тому и быть!
По впалым щекам старца Симона на огромную белую бороду потекли слёзы. Он их не вытирал. Прошептал:
— Быть по-твоему, великий государь... Быть по-твоему... Быть мне митрополитом...
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Из тайного придела Успенского собора вышел к алтарю, к беседующим, настоятель главного собора Москвы. Тихо сказал:
— Извини, великий государь, от Мишки Шуйского спешное донесение. Взяли людей Схарии. Которых он ждёт. Люди, три франкских купца, посажены во вторые хоромы Шуйского. С уважением и довольствием, как будто послы.
Великий князь неспешно поднялся со скамьи. Повернулся свежим, помолодевшим лицом к настоятелю:
— Там я велел возы со съестными да винными припасами к тебе во двор завести...
— Завезли, великий государь, я припасы прибрал в подклети...
— С ближних храмов и монастырей я тебе велел собрать... — Уже приехали, великий государь, попы да игумены, собраны здесь, у меня.
— Тогда на завтра, после заутрени объявляй Собор. Выберем митрополита на Русь Святую.
Иван Васильевич скорым шагом вышел из Успенского собора на крепкий мороз — как был, без шапки, без рукавиц. Рота немецких рейтар, державшая Успенский собор в тесном кольце, разом повернула головы на высокую фигуру — нарушение обычая и устава. Чего делать-то?
— Отворить Москву! — зычно проорал великий князь.
Отворить-то Москву отворили. Езжай куда хочешь и вези чего хочешь. Но на южных порубежьях Великого княжества так и стояли зимним постоем данияровские нукеры, да кружила вокруг московских посадов конная рать чёрных клобуков Эрги Малая. А все дороги на Запад так и остались под приглядом молодых да задиристых стрелецких отпрысков. Туда и сюда русские люди ездили опять запросто, а приходилось всем оружным заставам платить; платить понемножку да полегошку, а выходило по лукошку!
Крестьяне из тех волостей, что оказались под зимним постоем данияровских татар, а весной без семенного зерна, скота и без птицы, крепко помолились и отправили выборных в Москву. Те тайком, лесами да болотами, пробрались к Симону, к новоизбранному митрополиту всей Русской земли. Идти к великому князю Московскому, которого уже прозвали по всей земле «Грозным», им, выборным, до страха не хотелось.
Митрополит Симон принял ходоков на широком подворье Успенского собора. Сидел на простой скамье, в чёрной, кое-где латанной рясе. Кормил голубей... Солнце уже поворотило на весну, ноздрястый снег таял, по двору виднелись проплешины сырой, оголённой земли. Земля солнцу радовалась, исходила тихим благостным паром.
Читать жалобную бумагу крикнули молодого служку. Тот начал:
— «Великому и святому митрополиту...»
— Брось, — тихо велел старец Симон. — Читай самый конец. Чего им надобно, то и читай.
— «...и забрали под корм коням всю семенную рожь да ячмень, да всех коров поели, да баранов и коз, и птицу...».
— Стой пока, не спеши. — Патриарх повёл плечами.
— Зябко тебе, святой старче? — догадался самый смышлёный мужик из ходоков. — На вот, накинь мой армяк!
— Да не то чтобы зябко, а суетно мне. Войско, конечно, стояло правильно, по Указу великого государя, но нигде не прописали вы, во что вам обошлось содержание того войска.
— Дак ведь это... Мы, святой отец, — заговорил в половину голоса тот мужик, что укрыл своим армяком митрополита, — забоялись число выводить. Не наше ведь дело — убыток считать. Наше дело — прибыток с земли добывать. Это даже наши деды и прадеды не считали, за них государевы люди счёт вели.
— В нашей жалобе, — сказал предводитель ходоков, — дворы поименованы по хозяевам, урон ими подтверждён крестом от руки.
— Чернила принеси, перо принеси, — велел служке патриарх.
Тот мигом обернулся, принёс требуемое.
— Во скольких дворах стояли татаре?
Тут мужики разом вскинулись, разом посчитали... Старец Симон кивнул отроку. Тот подставил последний лист крестьянской жалобы, капнул на пустое место красных чернил. Митрополит подвернул на пальце золотой перстень, оттиснул на капле, подписал возле печати: «Быть по сему, воздать всё и всем, отданное на благо сохранения земель отчич и дедич!»
Крестьяне истово молились.
— Матвейка! — сказал служке митрополит. — Немедля повели моим именем запрячь десять подвод да нагрузи туда хлеба, да пшена, да соли. Да возьми ключи от моего сундука, вынь оттуда пять мешков серебра и десять с медной монетой. Чтобы оказалось там деньгой по рублю на жалобный двор, по этой вот, ихней бумаге!
Молящиеся подняли головы и так, с полным изумлением в глазах, уставились на старца Симона.
— Вот государь и расчёлся за свои военные походы внутри княжества, — безмятежно ответил на изумление ходоков старец. — Кесарево — людям, а что Богу... так я сам отнесу. Вот сейчас с вами управлюсь и к Богу отправлюсь.
Молчали ошарашенные мужики.
— А после завтрашнего дня чего у нас будет? — спросил митрополит у предводителя ходоков. — Никак середина весны?
— Равноденствие Солнца, — прокашлялся мужик. — Весеннее равноденствие.
— Ну, так послезавтра и помянете меня, грешного. — Симон подал мужику листы с жалобой, заверенные золотой печатью. Скинул с худых плеч армяк. — Ты, крестьянин, свой армяк-то забери, замёрзнешь по дороге!
На широкое подворье уже выкатились телеги с мешками разного добра, благословенного старцем Симоном. Мужики пошли со двора рядом с телегами, иногда тайком оглядываясь. Старец сидел, подставив солнцу свой лик, глядел на светило не жмурясь.
Трёх франкских купцов, что своим задержанием облегчили московскому люду прохожую и проезжую жизнь, неделю выдерживали на посольском дворе. «Согласно обычаю и ради привыкания к нашим погодам», — так пояснил им высокий, богато одетый боярин, хмурясь и близко к ним не подходя:
— У нас, извинения прошу, ходят всякие слухи о заразной болезни в ваших землях, так что не серчайте на наши действа.
Злиться купцам не пришлось. Каждый день ведро вина подавалось на стол, на троих! А уж поесть гостям несли столько, что приходилось отдавать половину охранным рейтарам. И чего это про русских трындят, что они злыдни бессовестные?
— А когда получим аудиенцию у великого князя? — третий раз вопросил княжеского боярина самый почтенный купец, лицом похожий на армянского, только носом побольше.
— Митрополит Московский вчера представился перед Господом нашим, — перекрестился боярин. — Теперь ещё неделю ждите, — и вышел.
Почтенный купец швырнул жареную куриную ногу во след боярину.
— Один раз он говорит: «Иван — кнез Московский имеет быть на охоте. Второй раз он говорит, что Иван — кнез Московский занедужил на той охоте, много выпил царской водки. Теперь вот кого-то Иван — кнез Московский хоронит! Я такого глумления над своей особой не потерплю!
Двое купцов смолчали. Один, пожилой и весьма медлительный, смолчал потому, что, окромя норманнского наречия, другого языка не понимал. Он поехал в дикую Московию, ибо получил двести золотых испанских дублонов. Кои тотчас, по получению, немедленно отдал этому орущему, ибо должен ему был как раз сто дублонов, да ещё столько же процентами на долг. Ему молчать хорошо — привезут в Московию, увезут, накормят да напоят.
Третий в компании купцов смолчал, ибо он как самый молодой говорить мог только по знаку того, злого и старшего, ложным именем «Мишель де Круаз», а на самом деле — Мойша из Пизы. Молодого франкского купца все звали Зуда, родился он в Новгороде, и там же крещён был как Зуда Пальцин.
Мишель де Круаз продолжал буйствовать:
— Я каждый день требую к себе позвать конюшего или, как тут у них, именем Шуйский! А его не зовут! Что здесь за порядки?
Зуда Пальцин кашлянул, тихо сказал:
— Я извиняюсь, патрон, но вот этот господин в богатых одеждах, что к нам заходит, это и есть боярин Шуйский.
Тотчас пустая глиняная корчага из-под пива разбилась об голову Зуды.
— А что молчал, скотина?
— Мне тобой и велено молчать... — прошелестел Зуда Пальцин. Как же ему не молчать, когда ещё месяца не прошло, как ему сделали обрезание по краю плоти да заодно сотворили из него евнуха. По пьяной и весёлой гульбе.
Вырезание сделали Зуде Пальцину за малый долг в десять рублей, которые он в срок не возвернул этому лихоимцу, Мойше из Пизы. Занимаешь золотишко — своим «золотом» и платишь!
Шуйский осторожно задвинул потайное окошечко, бывшее, если смотреть из гостевой комнаты, всего лишь частью специально удлинённого серебряного оклада тёмной, древней иконы.
— Этого парня мы возьмём в тихую работу, — сказал Радагор. — А тот молчун французский — довесок к этому, громогласному и наглому. Их товары у тебя?
— Там малый сундук с каким-то порошком, будто лекарство. И три бочонки из дерева бука с деньгами. С золотом.
— На великого князя заготовлен тот порошок, так думаю. — Радагор хищно глянул на Шуйского. — А золото тебе привезли. Как плату за Схарию.
— Понимаю, но хрен продамся за три бочонка! — отшутился боярин Шуйский. — А вот зачем они привезли целый ворох поношенного женского платья — ума не приложу. Воняет от него так, что... за версту не устоишь, упадёшь. То платье упаковано в огромную бочку. Неужто собрались тряпьём торговать?
— Нет. Не торговать. — Радагор о чём-то помыслил, потёр короткую густую бороду, добавил: — Схария уже неделю держит пост. Запросил себе воронку и крынку.
— Зачем?
— Пошли покажу.
Они поднялись по крутой лестнице на второй этаж, нагнулись и пролезли в пустое межоконное пространство, откуда неделю назад наблюдали словесный поединок между великим князем и заводчиком жидовской ереси на Руси. Вместо одного кирпича там был вделан в стену такой же по размеру кусок полированного хрусталя. Из потайного хода хрусталь прикрывала обычная тряпка, чтобы в случае чего в горнице у затворника не сверкнуло. Радагор убрал тряпку.
— Гляди.
Шуйский глянул, шёпотом выругался. Схария... свесился с лавки головой вниз, опёрся плечами на пол, а ноги держал вверх. Промеж ног у него торчала медная воронка. В неё он старательно наливал из кринки воду.
— Сбрендил? — спросил Шуйский.
— Нет. Видать, проходил подготовку в тайных школах ордена иезуитов. Так он промывает себе кишки.
— Зачем?
— А чтобы потом ему не гадить дней пять. Когда его уворуют от нас и повезут тайком, в той бочке под женским платьем в Литовщину или Польшу.
— Пусть воруют и пусть везут! — неожиданно сказал Шуйский. — Главное — знать, куда его в конце концов привезут!
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Никола Моребед всю зиму мотался по степям между Доном и Волгой. При нём в особом железном ларце находились золотая печатка великого князя Московского и листы бумаги, орлёные поверху, чистые.
В казачьих куренях Никола те бумаги заполнял как надо, а подписывали их казацкие писарчуки, люди грамотные, доподлинно знающие цену слова. Цена являла собой вид старинного серебряного динария в детскую ладонь величиной. И в степь бегать не надо за косяком лошадей в сотню голов: за такой динарий тебе самому столько лошадей пригонят с поклонами! За ту цену писцы выводили Моребеду такие подписи в треть листа — хан Батый испугался бы. Под той подписью много дела было обещано исполнить казаками для пользы и радости государя всея Руси Ивана Васильевича.
В кипчакских, татарских да ногайских улусах грамотные абызы и бии[95] тоже зарились на Николино серебро. Им, по нынешним временам, жить приходилось бедно. Нынешней расползающейся Орде требовались воины, и каждый воин теперь был сам себе и поп, и судья: у кого сабля, тот и абыз.
Потому грамотные абызы тайком от аула ставили свои подписи за весь свой род, да к тому же арабскими буквами. Никола Моребед, прежде чем поставить на письменный договор оттиск печатки великого князя, требовал, чтобы самый младший из кочевого рода оттиснул под арабской подписью свой палец. И только потом на бумаге появлялся оттиск герба Московского княжества.
В улусе сразу начинали выть, плакать и орать: кочевой народ, воспитанный ещё свирепостью чингизидов, увидев сверкающую золотом печатку царя, понимал, что попал под русский военный сбор и деваться ему некуда: тесно стало в Степи. С боков, по берегам рек стояли православные казаки, на севере распухала большой войной Москва. Убежать можно было теперь только на юг, в Крым, да только в Крыму выше раба не поднимешься. Ор стихал, когда Никола выбрасывал из повозки мешок, полный новочеканных серебряных кружочков разного размера:
— Пойдёте летом с нами на войну против католиков, денег получите вдвое. Да ещё и пограбите.
Пойдут кочевники в набег на Запад или не пойдут, Николу мало волновало. Ему был важен сам слух о войне, быстрый, как северный ветер, накрывающий знобящим холодом Европу. Тот слух донесётся до папы римского как раз к началу июня. Длинные ли у папы зубы, чтобы укусить свой локоть, Николу тоже не тревожило. Лишь бы клятые литвины не успели выстроить православный домовой храм для дочери Ивана Васильевича, нынешней королевы Литвы и Польши. «Не успеют, — убеждал себя Никола Моребед. — Папа запретил». А значит — война!
Вместе с Николой втянулся в опасную работёнку дьяк Варнаварец, да с ним два десятка вооружённых сербов, вызванных на Русь особым тайным повелением великого князя Ивана Васильевича. Варнаварцу надоело дышать пылью московских архивов. Ему больше нравилось тешить душу в глубинных рейдах тёмного свойства.
После рейдов горели костёлы, подло занимающие место на древних русских землях, да выли жёны шляхтичей, которые ещё полгода назад без разбору, за один косой взгляд, по-хозяйски рубили головы русским мужикам. Шляхтичей теперь принародно косили черногорские сербы, поминая своих родичей, зарезанных на Косовом поле. А окрест шляхетских сёл и поместий стояли на конях казаки, неподвижно, мрачно. От той их мрачности много быстрее неслась от Дона до Днепра чёрная весть: «Война!»
В зимовальных городках, вырытых в берегах донских притоков, прошлогодние беглые костоглоты из Московии чуть было не ободрали напрочь Николу Моребеда, когда он прочёл гилеванцам и сбродным людишкам грамоту конюшего боярина Шуйского насчёт собирания солдатского войска.
— А пошёл бы твой Шуйский раков кормить на дно! — орали Моребеду злые худющие парни, тряся топорами и обломышами сабель. — Мы здеся народ свободный! Нам трёхразового прокорма не надо! Сами едим, когда хотим. И солдатского тряпья не желаем!
Ватажник утеклецов подождал, пока ор утихнет, поскрежетал зубами и тихо спросил:
— Ты пошто сюда приехал один, ведьмак москальский? Голова у тебя лишняя? Если деньги привёз на солдатчину, так те деньги нам отдай по-хорошему, тогда с головой отсюда уедешь.
Никола Моребед, действительно, от ногайских улусов один поехал туда, где в земляных норах на речке Салке засели московские беглецы. Верхом приехал, да за ним на длинной свайке тянулась двуконная крытая тележка.
Варнаварец же со своими сербами уже переправился на правый берег Дона, искал старые половецкие вежи. Там с давних пор оставались кочевые угорские роды, не похотевшие идти в тесную Европу, чтобы жить среди венгерских теснин. У черногорских сербов да у донецких угров имелось много общих дел боевого свойства. Денег Варнаварец повёз им, соответственно, много...
Два старых казака, что сидели на конях поодаль от драных гилевщиков, разом покачали головами, когда с московским послом злобно заговорил ватажник голытьбы. Те казаки уже прижились здесь, почитай второй десяток лет обретались в степных окаемах при семьях, при конских табунах, при тестях — татарах да при зятьях — крымчаках. Новобеглых они не любили, новобеглые ломали им тихую, богатую жизнь, а потому казаки качнули чубами и поехали от непотребного сбора тихим шагом по глубокой лощине в сторону своего городка на Донском острове...
Моребед снял шапку, перекрестился, кивнул на крытый возок:
— Деньги там... Хотите, грабьте княжеского посла. Ответ за грабёж держать придётся уже без вашего хотения.
Кто-то их толпы послал Николу по матушке и тупые обломки ножей тут же взрезали кошму, покрывавшую возок. Там, и правда, зазвенели деньги. Никола Моребед стал медленно отъезжать от воющего радостью сброда, когда его опять нагнал ватажник:
— Нет, дьяк, ты постой, постой, тебе нельзя... ты всё видел... — а сам пытался топором достать Николу по голове.
Никола хмыкнул, отбил топор и вогнал длинный нож прямо в горло ватажника.
А с двух сторон к гилевщикам на рысях, с жутким воем, уже подходили кипчакские конники. Со стороны Дона, чтобы преградить единственную возможность спастись, тёмной конной лентой выезжали казаки... Через половину часа около полутора тысяч московских беглых, не возжелавших поверстаться в московские солдаты, кипчаки погнали к себе в дальние улусы. В рабы, стало быть, погнали. А мёртвых и раненых столкнули в реку Салку.
Казачьи старшины сошли с коней. Моребед сказал:
— Деньги тут, в мешках, сто рублей. Великий князь Иван Васильевич жертвует вам, казаки. Ему же надобно, чтобы вы не протирали шаровары на баштанах, а по началу месяца июня пошли бы на древний город Белгород, сиречь на Ак Керман.
— Не пойдём! — пробасил казацкий полковник.
— Ак Керман великий князь отдаёт вам на поток и разграбление на три дня, — медленно сообщил Никола Моребед. — С уговором — тамошних русских не трогать. Наши рати вам мешать не станут. Мы даже пушки отведём от города по такому разу...
Полковник крякнул, вытер лицо папахой. Как же он осрамился, не знал про московские рати! Видать, силён стал московский князь, если пойдёт военной силой на древний русский Белгород, что теперь есть татарский Ак Керман! Чтобы смыть смущение, полковник спросил:
— Родню с собой можно брать? Родни кипчакской у нас много кочует по степям. Им выгодно станет...
— Родню берите в войско, но за свой кошт. — Моребед запрыгнул в седло, ухватил свайку, что вела за конём пристяжных лошадей с повозкой. — Двоих провожатых мне дайте. Пусть покажут древний брод через Дон, по которому ещё татары ходили от Астрахани на Венгерские улусы. Знаете тот брод?
Казаки переглянулись, закивали. Тут попробуй соврать. Зажмут твои курени между уграми да московскими полками, и помолиться не успеешь. Моребед хмыкнул на такую готовность послужить.
— На той стороне наши люди уже составили договор с казаками из тех краёв. Рать от Москвы пойдёт большая, готовьтесь на пропитание воинской силы Государя забить тысячу быков, да баранов пять тысяч, да хлеба или пшена заготовьте возов на двести... Вина не надобно, на походе нельзя. Вам пришлют особого гонца, когда наши полки встанут в двух переходах от ваших куреней...
Казаки молчали. Вот ведь москали! Чуть чего — сразу им всё подай!
Тогда Никола Моребед вынул из седельной сумки тугой свиток бумаги, развернул его, показал:
— Грамотные есть?
К нему протолкался на худой лошадёнке волосатый мужик, видно, что бывший поп:
— Я москальскую письмовину разумею, — пробежал глазами по шести строкам написанного. Повернулся к своим. — Оплата за съестной припас, браты казаки, великим князем обещана строгая. В триста сорок московских рублей! Только... печать бы сюда ещё, а?
Печатка весело сверкнула на солнце. Приметив у молодого есаула на лбу кровь — поцарапали в сшибке, — Никола подъехал, помазал государеву печать той кровью и сделал на бумаге чёткий красный оттиск. Бумагу, не глядя, протянул полковнику.
Проводники нашлись тут же.
Никола Моребед теперь гонял коней повдоль границы с Литвой и Польшей от Дона до притоков Буга. Гонял три месяца, не таясь.
О его проведывании дорог, о заготовке войсковых припасов знали во всех литвинских и польских городах по ту сторону границы. В Киеве три раза собирали верующих в католические храмы на великое моленье об избавлении от страшных сил «Гога и Магога», что прописаны в Библии. Папа Римский, изошедший злобой на русские выверты возле Польши, велел своим кондотьерам[96] искать по осколкам сербского государства родственников этой продажной собаки — Николы Моребеда.
Нашли старика, служившего лодочником на пристани в городе Сплите. Вроде как старик приходился Николе Моребеду дядькой со стороны матери. Старика публично зарезали на камнях маленькой пристани.
К началу латинского месяца мая кое-как, со злобой и руганью, к городам Киев, Чернигов, Белгород и Смоленск стали собираться польские и литвинское полки. Весна грянула! Пахать надо, сеять надо! Какая война по весне?
По весне православные храмы в тех городах вдруг покрылись строительными лесами. Подрядные артели те храмы белили, красили, подновляли...
К восточным смоленским воротам, куда утыкается Старая московская дорога, по раннему утру примчался гонец, литвинский стражник:
— Идут! — заорал он. — Идут несметным обозом москали...
Налили гонцу водки, а через два часа его бил плетью сам пан Заболоцкий. По Старой смоленской дороге действительно к стенам города подошли русские обозы. Только на тридцати телегах в город привезли кирпичи крепкой царской выделки да на двух десятках волокуш доставили три сотни широченных дубовых досок, длиной по три сажени. Правили усталыми лошадьми чёрные русские монахи числом всего с десяток.
Ворота города распахнулись, мирный русский обоз начал втягиваться в город, подворачивая сразу к главному православному храму.
Бросив коня, к пану Заболоцкому продрался гонец в одеждах цвета королевской почтовой службы.
— Чего? — зло уставился на гонца пан Заболоцкий.
— Король требует вашего совета, пресветлый пан! К нему днями прибыли из Руси с личным письмом от Ивана Третьего дьяк Иван Иванович Телешев да подьячий Афанаська Шеенок. Московский великий князь разрешил им прямо на местах принимать на простой бумаге крестоцеловальную запись — присягу наших жителей на верность Москве.
— Так! Теперь точно война! — заорал пан Заболоцкий, смутив русских монахов, таскавших кирпичи под стены храма.
— Война, — согласился личный посланник короля Александра. — Только если мы воспротивимся той переписи.
— Э! — сплюнул пан Заболоцкий. — Не первый год москали всё пишут да пишут: сколько убежало, сколько прибежало. Езжай один к королю, скажи, что пущай, мол, пишут.
— Тут малость не так, — оглянувшись, сообщил пану Заболоцкому гонец. — Теперь москальские тиуны собирают от людей бумаги — сколько у них земли да сколько скота, да кто промеж них купцы, кто удельные дворяне, воины, беглые люди... Всем им личной грамотой Ивана Третьего обещано прощение, безоплатный приём обратно в русское подданство и защита от препятствий с нашей стороны. Вот так!
— Что на это тебе сказать? — Пан Заболоцкий задумался. — Московский князь Иван набрал огромный куль долгов у всех королей католического исповедания. Ему тот денежный куль не поднять. Вечный должник стал клятый москальский князь! Думал он на те деньги купить казаков, а своих беглых крестьян, что сховались на юге, между Волгой и Доном, поверстать в солдаты. И на том заработать. Не получилось. Нету у московского князя войска, даже чтобы себя защитить, а не только на нас кидаться! Эй, монах, подь сюды!
Русский монах, что тащил в собор сухую известь, ведро поставил на землю, вытер об фартук руки, подошёл, часто кланяясь.
— Вот заспорили с королевским гонцом, скоро ли вы, московские, пойдёте на нас войной? — Пан Заболоцкий достал из кармана русский медный алтын, вложил в руку мастерового монаха. — Отвечай, не бойся!
Монах зажмурил глаз, глянул на полуденное солнце, ответил, пряча алтын в прореху рясы:
— Я по-московски отвечу, великий пан: «Скоро только сказка сказывается, да не скоро дело делается!» — Он подумал два мига и добавил: — А московские полки до сих пор за рекой Окой стоят. Ждут полного сбора дворянского ополчения. К осени, люди бают, соберётся то ополчение... — монах поклонился, поднял ведро, пошёл своей дорогой.
— Вот так. Поезжай и доложи королю, что слышал, — предложил особому гонцу пан Заболоцкий.
На полном ходу к ним соскочил с седла полковник Швыдкевич, командир предмостного укрепления. А со стороны города неспешно подъезжал гетман Константин Острожский, третьего дня назначенный королём Александром командовать обороной Смоленска.
Пан Заболоцкий гневно сплюнул. Три тысячи регулярного войска уже почти месяц кормятся по смоленской округе, безбожно грабят общинников и свободных хлебопашцев, а обещанной московским князем весенней войны — нет! У смоленского народа за месяц вызрело такое лютое зло на поляцкую армию, что хоть с народом и воюй! И ведь придётся, если через неделю хитрые москали не придут с войском, пся крев!
Шесть монахов, сгибаясь, медленно пронесли мимо поляков огромную, дубовую доску. Не донесли — уронили, стали из своих драных поясов крутить вязку, чтобы ту доску тащить волоком.
— Ко мне только что гонец пришёл из-под Белгорода, — сказал гетман Острожский, снимая шерстяной плащ и надоевшую медную кирасу. — Жарко-то как!.. Доложил гонец, там случилась та же история. Пришёл туда московский обоз с брёвнами, досками, известью и железными гвоздями. За возчиков — чёрные монахи, кожа да кости. Хэх! Воевать с монашьими обозами мне интереса нет. Давай, пан Заболоцкий, хорошо отобедаем, а потом отпишем королю Александру, что тесть его, Иван Васильевич, обещанную заботу проявил, материалы для строительства храма своей дочери доставил... А войной и не пахнет! Травой пахнет и московским дубом.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
К вечеру, когда в Смоленском замке загуляли уже с пьяными драками между шляхтой, пришёл второй особый гонец от короля.
Король Александр велел войскам отходить от приграничных городов и дать народу вовремя посеять жито. Король подтвердил, «что обозы с московским лесом, кованым железом, известью и мастерами церковной кладки», как и писал его тесть, прибыли разом во все четыре города, и он, король, с теми обозами разберётся сам...
Далее в королевском письме шла таковская приписка, каковой и в аду не сыщешь: «А весной, паны добродни, нам войны ждать нечего. И летом ждать не надо. Ибо в государстве Ивана Третьего случился очередной переворот. Старые бояре казнены, везде сидят новые, родством худые люди; не воевавшие. Соправителем Ивана Третьего теперь венчан принц Василий, старший сын Софьи Византийской и великого князя Ивана Третьего. Софья Византийская взяла верх...»
На то подлое известие шляхта заорала вразнобой, но матерно. Много шляхетских судеб и ожиданий поломал только что этот клятый государь Московский! Чтоб ему собственной бородой подавиться!
Пан гетман Острожский, читавший, согласно сану, то королевское письмо, на ор толпы вынул свой турецкий пистоль и пальнул в потолок. Шляхта угомонилась, стала стряхивать известь, осыпавшуюся с потолка. Пан гетман читал далее, что король Александр начертал особым, отдельным листом указа: «Велю в Смоленске оставить гарнизон в тысячу пехоты да двадцать пушек. Остальным войскам велю начать полное передвижение по старой белорусской дороге, от города Смоленска на город Витебск и далее, приняв пополнение, идти на город Псков, на соединение с полками немецкими и шведскими. Там состоится большой военный, совет, где будет в нашу пользу решена судьба русских торговых городов. На август месяц, когда уберут хлеба, назначено генеральное сражение за возврат под нашу руку городов Псков, Нарва, Великий Новгород».
Шляхетство, до того чуть не плакавшее, тут же развеселилось. По себе знало: если пойти соединяться с немцами да шведами, получится та же драка, как междуусобица на сейме. Там, на севере, они поднимут между собой обязательную резню, ведь и немцы, и шведы тоже не прочь сами войти в города Нарва, Псков и Новгород. При таком раскладе разгорится меж тремя государствами нешутейная война. За каждый город начнётся вселенская бойня! ...Уууу! Хэйя!
Только отпрыск древнего шляхетского рода, имеющий в подвалах гору денег, чтобы купить ещё одну Польшу, князь Гандамир, отпрыск рода Гедиминовичей, сообразил, что власть на Руси теперь прочная, раз Соправителем Ивана Третьего венчан его старший сын, хоть и от второй жены, но ведь старший! На Русь московскую села теперь крепкая династия. Этакую династийную ветвь надо на корню отсекать! Гандамир потому и орал в голос, желая вразумить пьяную шляхту:
— Разве Московия — государство? Сегодня один правит, завтра другой! Что тамошний Ивашка похочет, то и творит! Да и не он творит, что похочет, а баба его! А пошли, Панове, возведём на Москве, своего короля, меня там установим в короли! Да установим там сейм! И пусть тот сейм отдаст мне в жёны ту Софью Византийскую! Вот я ей...
Пан Заболоцкий кивнул мятущемуся без выпивки личному охраннику. Тот подошёл ко князю Гандамиру, нагнулся, зло шепнул в ухо, чтобы замолчал. Пан Заболоцкий поднялся без кубка в руке. Злой, дёрганый.
— Панове! — мрачно сказал пан Заболоцкий, голос его прокатился по залу плотно и гулко. — Проше Панове помнить одно русское свойство. Сначала в чужие земли приходят русские монахи... Опосля, за монахами приходят пашенные русские мужики... Ну а потом приходят тоже русские люди, но уже с копьями, ножами и пушками. И земля та становится русской!
— Это так! — выкрикнул весело некий пан Смирницкий. — Сибирь точно таким способом русские под себя взяли!
Не обращая внимания на выкрик пьяного дурака, пан Заболоцкий мысль закончил:
— А потому смеха по поводу королевского указа — идти нынче на соединение со шведами и немцами — я не потерплю. Если не отбить к себе Новгород и Псков, хоть и совместно с чужим войском, можно и своё государство потерять...
В зале как стояла тишина, так и осталась. Сообразили, видать, шляхтичи, куда военное дело этого лета поворачивается. Но всё же, ох как неохота совместно воевать! У шведов, у немцев, у тех — дисциплина! Палочная строгость, а не буйная радость станет командовать в той войне!
Пан Заболоцкий тут же пошёл к выходу. Только он скрылся за дверью, как в зале заорали и зазвенели посудой. Пан Смирницкий, старший писарь киевского гетмана Острожского, силой усадил на скамью рядом с собой снова разоравшегося пана Гандамира. Шепнул ему на ухо:
— Зачем тебе, пан Гандамир, холодная да грязная Новгородчина? Давай летом, пока войны вести не указано, нападём на левобережную Украину, а? Казаки с того краю, я их план верно выпытал, нынешним летом отойдут на море Каспий, чтобы шарпать прибрежных жидов. Так что у нас, на левом берегу Дона, не война выйдет, а прогулка. Там государей нет, а земли там! Ой-ей!
— Пойдём! — орал пан Гандамир. — Клятву даю!
Это согласие Гандамира — идти летом сильным конным войском на левобережную Украину — пьяный пан Смирницкий той же ночью, по уговору, обменял чернобородому человеку на три золотых венгерских дублона. Чернобородый Варнаварец легко вскочил на коня и скрылся в узких улочках старого Смоленска.
По линии Смоленск — Белгород основную ударную силу составляли польские драгуны Гандамира. Если их, почти три тысячи конных, отманить за реку Дон, да устроить стычку с казаками, три года станут воевать за Доном радзивилловские драгуны. А на Смоленск и Белгород русским войскам путь откроется. Прямой путь...
Выждав ровно четыре дня, дьяк Иван Иванович Телешев внезапно запросил приёма у короля Александра.
У того как раз сидели в малой зале саксонские и немецкие полковники, выпивали, мерились полками да ружьями, спорили... Дьяк не поклоняясь подошёл к столу и положил перед королём огромный бранный лист. Внизу добротно читались подписи: «Великий государь всея Руси и великий московский князь Иван Васильевич Третий», а чуть ниже: «Соправитель и Великий государь всея Руси и великий князь Московский Василий Иванович Третий».
— Это что ты нам принёс, сволочь? — спросил немецкий полковник.
— Объявление войны, — по-немецки ответил дьяк Иван Иванович Телешев. Он знал пять языков, его языками не пугай.
— Через месяц я точно поставлю храм дочери Ивана Васильевича, моей жене...— не поднимая глаз от громадного листа, пролепетал король Александр.
— Через месяц половина земель Польши и Литвы будут нашими, — ответил дьяк Телешев и вышел из зала свободным шагом.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Великий князь Московский ещё раз просмотрел переводные листы тех бумаг, которые ему передали от имени купца из земли франков с именем Мишель де Круаз. Тот сидел нынче, как рак под мостом, под горницей Схарии.
Писал ему, великому московскому князю, рекомендательную грамоту франкский герцог де ла Сонье, писал благословление кардинал Испании Марк Антоний, имелось снисходительное письмо от Царя трёх Индий и одновременно пресвитера Иоанна.
— Ну? — спросил Иван Васильевич.
— Нет таких людей, великий государь, — ответил Радагор, быстро проглядевши длинное письмо, написанное латиницей. — Хоть мне кол на голове теши. Нет и не было в мире тех людей, что будто бы писали тебе эти письма.
— А печати? А подписи, а имена, что здесь упомянуты?
— Печати тебе, великий государь, кузнец твой, сириец, выльет хоть египетские. Подписи нужные я поставлю...
— Ладно! — князю чего-то недужилось, что-то зацепилось прямо под сердцем, дышать тяжко. — А что за лекарство этот купец привёз на продажу?
— Лекарство от всех болезней, — совершенно строго ответил Радагор.
— От всех? — поморщился великий князь.
— От всех. Там, в тех грамотах, явно прописано, сколько человек он вылечил, скольким князьям жизнь продлил, кого омолодил.
— Башку твою на пенёк! — заорал великий князь. — И как то лекарство называется?
— Мумий! — ответил Шуйский за Радагора и захохотал в голос.
— Ка-а-ак? — удивился великий князь.
— Мумий, — повторил Радагор и тоже хмыкнул.
Великий князь осторожно концом кинжала пододвинул поближе коробочку чёрного дерева, исполненную в виде махонького ларчика с крышечкой, откидывающейся вверх. Под крышечкой серел, отливая нехорошей желтизной, порошок. Пах тот порошок мышами и лечебными травами, если их подвесить в мышиный подвал.
— Они, великий князь, недавно затеяли большой гешефт. В нашем Великом Некрополе, в Египте, хозяйничают сейчас арабы. Так вот, покупают жиды у арабов забальзамированные тела давно усопших людей, потом эти сушёные тела перетирают на зернотёрке, потом ещё толкут пестом в ступе. И вот — готово лекарство! Про мумий, про засохших покойников, ты, верно, слыхал, это нынче как бы таинство, вот и пользуются теперь жиды тем таинством.
Великий князь глянул на Шуйского.
— Тут ты решай, великий государь, — отнекнулся Шуйский. — Я не могу. Я, видишь ли ты, куплен имями за три бочонка золота, что помогу обрести свободу жиду Схарии. Так что... ты меня, сволочного твоего предателя, теперь не слушай...
Тут не выдержал, расхохотался и великий князь. Вчера вечером они с Радагором видели и слышали, как прощелыга Шуйский торговался с «купцами» за жизнь пленника Схарии.
— Я, — орал Шуйский, — после такого предательства жить на Москве не смогу! Боюсь! Везите меня в свои земли! И чтобы там мне дом был большой и поместья, и десять тысяч крестьян!
Шуйский вместе с Радагором давно уже тайком взвесили те бочонки. Там оказалось почти четыреста фунтов золотой монетой. Если, конечно, чистой... Шуйского бы после спасения Схарии как человека многознающего и много имеющего жиды зарезали бы сразу за московской заставой. Золото — не такой товар, который отдают навсегда. Хоть бы и за жизнь Покровителя левой руки Навигатора Сионского Приората Сандро Филипепи[97].
Похудевшая в дальнем монастыре Софья выпила уже третий бокал фряжского[98] вина, и её потянуло слегка поругать родного мужа. За плохое житьё, за муки в лесном Горицком монастыре.
— Иван! — грозно заговорила Софья.
— Всё! Всё, до завтра у нас с тобой — всё! — заторопился Иван Васильевич. — Иди отдыхать! У нас тут сейчас военные дела начинаются!
Здоровенные гридни из внутренней палатной обслуги аккуратно вывели из залы и государыню Софью, и Василия-Соправителя. Радагор и Мишка Шуйский по голосу великого государя почуяли, что в нём загорается вятское бешенство.
— Вроде всё я сделал, всё предусмотрел, — густо заговорил великий князь. — Ан на душе склизкие жабы притулились. Холодно на душе-то... Никогда на Руси такого не случалось — идти войной аж на четыре города разом. Выдюжим ли, управимся ли?
Радагор начал свой утешительный сказ, как обычно сухой цифирью:
— Управимся, великий государь. Ты на этот год отменил натуральный оброк с пахотных людей, значит, простым людям военный поход станет в радость. Народ хлебом твоё войско не обидит. Полки ты одел-обул, двадцать новых пушек вводишь в дело... Да и древние русские города нас заждались... И люди тамошние тебе в подмогу встанут...
Иван Васильевич отмахнулся:
— Не то говоришь, книжник! По писаному говоришь... Не то... Душа у меня почто ноет? А, видать, душа моя старую сказку вспомнила: «Пойди туда, не знаю куда, добудь то, не знаю что...». Я-то всё вижу так, как это было бы двадцать лет назад. А в нашем мире всё изменилось! Какие-то безродные, безземельные шишиги расползлись по земле, как блохи собачьи, и правят целыми королевствами... Моего ближнего конюшего запросто купили.
Шуйский было «мекнул» — да получил от Ивана Васильевича затрещину по затылку.
— А выжига и вор кличет себя «папой римским» и командует мне почти с того края Земли мою веру поменять... Послал я караван людей с грошовым товаром в неизведанные земли и жду от них гору золота. Тоже с присказкой «Неси то, не знаю что...». Эх, я балда, да балдой бы меня! По моей лысой башке! Да раз десять!
Шуйский тут не выдержал, опрокинул в себя кубок с вином, пару раз кашлянул. Потом по углам пировальной палаты, сначала тихо, потом громче, громче, потом завиваясь к потолку, потом рванувшись через открытые окна во двор, завертелась, заиграла песня:
Тут, сразу в полный голос, вступил в песню и Иван Васильевич:
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Поход русского купеческого каравана на юг, по левому берегу реки Иртыш, да в зимнее время, получился совсем чёрным.
Сначала от Атбасара строго на север по широченной сакме, натоптанной за тысячу лет, пошли ходко. Под ногами хлюпала только редкая грязь. Да и дерева для костров хватало. А вот на древней горной возвышенности Кокше-Тау, разрушенной солнцем, ветрами и временем, Караван-баши велел поворачивать на восток:
— На этих камнях мы следа не оставим.
Повернули на восток. И сразу попали на старый, давно нехоженый путь.
— Солончак сожрал хорошую дорогу, — пояснил Караван-баши. — Но нам по ней надо идти. Другого пути нет.
Куда денешься? Так, по подмерзающему солончаку, шли десять дней! Верблюды шагали хорошо, без заминок, а вот кони... Кони стали упрямиться. Им каждый вечер требовалась хорошая вода, то есть чистая, несолёная. А где её взять, когда кругом одни солёные и гиблые озёра? Проня орал:
— Загубим конематок, какого лешего нам тогда идти дальше? — орал, а сам бегал с кожаными вёдрами по окрестностям, искал пресную воду. И ведь находил! Её от росы да от первых снежинок, да если искать с умом, достаточно собиралось в подмерзающих канавках и ложбинках.
Степь стала показывать свой норов, когда, по словам Караван-баши, оставалось четыре перехода до края соснового леса. Тот лес уходил к Алтайским горам, переваливал через них, и уже совсем к северу перерастал в тайгу.
— Нам бы побыстрее к тому лесу, — говорил Бусыга, кивком головы показывая на Бео Гурга, стонущего в бессознательном теле. — Чернеет у Книжника рука... Антонов огонь. Лекарства кончились, а болезнь разгорается. Плохо...
А однажды ночью пронеслась над степью отчаянная пурга, и поутру весь караван оказался засыпан толстым слоем снега. Проня всё утро радовался снегу, что не надо искать воду — вон, бери хоть лопатами!
— Восемнадцать коней, четыре стельных конематки и пятьдесят верблюдов, конечно, без водопоя не останутся, — согласился на Пронину радость Караван-баши. — Но останутся они без корма! К полудню на степь упадёт джут!
И точно. К полудню снег продолжал падать, но на самой земле образовалась толстая ледяная корка. Верблюды без травы терпели, им и снег пока не требовался, а кони стали пробивать лёд до прошлогодней травы. В кровь разбили копыта, а до травы не добрались. Джут. Погибель скотине.
На второе утро природа наслала на караван метель. Руку вытянешь — в белом мраке её не видно. Караван-баши бегал среди метели с острым ножом, рассупонивал упряжь, освобождал коней.
— Ты чего? — накинулся на него Бусыга.
— Телеги цепляй за верблюдов, а коней вяжи на длинную верёвку! Конематок не трожь, они сами пойдут. Живее, живее, карай баккаар![99]
Кое-как сладили. Топорная, неуклюжая упряжь охомутала верблюдов и они, бедные, с провисшими горбами, кроме поклажи на Спине поволокли за собой ещё и гружёные телеги. Понимали громадные животины, что сейчас падать и лежать — смерть вызывать. Орали протестно, но шли. Кони без тележного привяза оживились, даже забегали на длинных свайках из вожжей за конематками. Конематки лягались, отгоняли ретивых, но уже сильно отощавших скакунов.
А метель молола и молола. Ту повозку, в которой везли Книжника, оставили при конской тяге. Её тянули две молодые сильные кобылицы. Проня Смолянов на ходу развязал тесёмки крытой шкурами повозки, залез к Книжнику в воняющую тьму. Тот, укутанный в шубы, стонал, дышал быстро, от него несло жаром. Проня, тайком на груди нагревший в кружке снега, плеснул туда чачи и дал Книжнику выпить холодное питьё.
Бео Гург на миг пришёл в себя, прошептал:
— Спасибо... Извинись перед нашими, что так оно вышло. Берегите Караван-баши. У него опыт есть, он вас доведёт... — глаза Книжника закатились под лоб, он опять часто-часто задышал.
Проня вылетел из повозки, налетел на Караван-баши:
— Веди к людям, к людям веди! Слышишь? Книжник отходит...
— К людям и веду. — Караван-баши склонился с высокого верблюда к Проне, внезапно заорал: — Не путайся под ногами! Иди на место! Работай!..
Метель кончилась через день, неожиданно. Верблюды вдруг разом все вместе повернули к северу и, не слушаясь ударов острых палок, ходко пошли туда. Караван-баши привстал в седле, долго нюхал воздух, потом сообщил:
— Дым... Жильё...
В ложбине, тянувшейся перед лесом, вдоль него стояла юрта, кое-как укрытая драной кошмой и обрывками шкур. Судя по тому, что ни людских, ни скотских следов вокруг юрты не отмечалось, а дым шёл малый и тихий, в юрте умирали.
— Нас далеко слышно. Наш скрипучий и орущий ход. Но никто из юрты, по обычаю, не вышел встречать караван... — Караван-баши снял волчий треух, возложил правую руку на лоб и пробормотал молитву своему Богу.
Проня Смолянов соскочил с коня, рванулся бежать по глубокому снегу к косо повисшему пологу юрты.
— Стой! — жутким голосом остановил его Караван-баши. — Там может гнездиться чёрная смерть. Или оспа. Бери коней, топор и волоки сюда сухих деревьев. В лесу их много.
Проня побежал исполнять приказ, а Бусыга, долго ездивший вокруг юрты и в её окрестностях, повернул коня к Караван-баши:
— Другого жилья не заметил.
— Здесь, купец, Степь. Здесь деревней не живут... Ты сними шубу, шапку, обкури смолистым дымом лицо, одёжу, руки. Запали факел. Палкой открой полог юрты и осмотри там всё. Но внутрь не заходи.
Бусыга заторопился. В одних портках и в сапогах он подошёл к юрте, засунул внутрь факел. Откинулся наружу, проорал:
— Караван-баши! Там старик, но живой вроде, хрипит. Двое детей. Спят, или как бы того... совсем... не знаю... Женщина живая! Хочет выйти!
Наружу вышла женщина азиатских кровей, её шатало. Она протянула руки к людям и шёпотом стала говорить. Говорила мало. Караван-баши перевёл, всё сильнее и сильнее злясь:
— Говорит, одну Луну назад... две недели по-нашему... муж сел на коня, взял лук, стрелы, копьё, оставил им половину барана, вторую забрал сам и уехал. Там лежит совсем больной отец её мужа, старик, двое детей опухают от голода. Она для тепла сегодня подожгла самое дорогое — своё приданое...
— На охоту муж уехал? — спросил Бусыга, выбирая взглядом коня, который потощее...
— Нет, — ответил Караван-баши. — Он один жить уехал... Насовсем. Больных чёрной немощью в юрте нет. Человеческая там немощь — голод...
Тремя конями Проня Смолянов подтащил у юрте шесть сухих сосновых стволов. Бусыга накинулся на стволы с топором, рубить дрова. Караван-баши махом распушил вязку с котлом, мешки с мукой и дроблёным пшеном, потащил в юрту... Проня Смолянов порылся на повозке, достал свою заряженную пищаль и снова уволокся в лес. Немного погодя там раздался гулкий звук выстрела и дикий крик радостного Прони.
На третий день стоянки юрту основательно утеплили, благо у купцов шкур хватало. Бусыга пытался научить женщину варить кашу, но это учение она не освоила. Зато быстро и ловко, разделала тушу лося, убитого Проней и всё варила и варила лосиное мясо, выпаивая своих детей и старика крепким бульоном с невиданным в этих краях растением «лук».
Старик сначала выплёвывал лук, потом попросил целую головку и так, макая лук в соль да заедая крошками сухаря, съел целую луковицу. Попросил ещё... Дети же, ожившие, осмелевшие, нашли у зазевавшегося Бусыги крынку с мёдом и принялись таскать пальцами сладость. Бусыга тут же подвесил крынку с мёдом повыше, привязав её к решётке юрты выше своего роста. Дал женщине свою деревянную ложку и научил:
— Одну ложку в день! Каждому! Иначе брюхо заболит и не заживёт!
На удивление Бусыги, женщина про брюхо поняла и заботливо завязала горлышко крынки куском кожи.
Проня всё время ездил в лес. Вокруг юрты образовалась целая стена из сухих лесин...
А Книжник, языческим древним именем Бео Гург, тихо умирал. У него на правой руке краснота поднялась уже выше локтя, а чёрная кожа стала лопаться возле самого локтевого сгиба. Ногти слезли. К вечеру третьего дня Книжник уже не стонал, бульон не глотал, глаза у него закатились наверх, под лоб.
Старик долго смотрел со своей лежанки на чёрную руку Книжника, потом тихо заговорил. Сказал десять слов и отвернулся от людей, сидевших у огня посреди юрты. Порылся в своём шаболье и достал короткий кривой ножичек, лезвие которого было укутано в деревянные ножны длиной с указательный палец взрослого человека.
Караван-баши начал было остро говорить старику, показывая на головы Прони и Бусыги. Потом остановился, коротко сообщил:
— Старик знахарь. Велел немедля Книжника связать и ударить по голове. Вынуть ему сознание. А он, лекарь, ему, Книжнику, отрежет чёрную руку. Иначе к утру Книжник от нас уйдёт насовсем. Хоронить зимой его негде — придётся сжечь. Если ваше верование позволяет тело жечь — жгите в одном конском переходе от юрты старика.
— Да я ему!.. — заорал тут Проня.
За старика вступилась женщина. Караван-баши послушал её, покивал, перевёл:
— При хане Тохтамыше его дед ходил среди воинов хана как лекарь. И он сам ходил, как лекарь, среди воинов хана Елугея. Знатный он лекарь, из сильного рода. Зовут Болат Омар Улуй.
Бусыга поглядел на Книжника, ставшего просто мешком с костями, на его измученное серое лицо, на нос, превратившийся в клюв умирающей птицы. Сказал тихо:
— Пусть. Доверяем... А сознания лишим своим способом. Давай, Проня, лишай.
Проня мыкнул, выскочил из юрты с пустыми оловянными стаканами, а вернулся с полными. От стаканов в жаре юрты остро несло чачей. Проня, не спросясь, закинул назад голову Книжника, зажал ему нос и в открывшийся чёрный проём рта вылил половину стакана чачи. Другой половиной крепкого напитка Проня смазал левый, гниющий локоть Книжника. Тот похрипел, похрипел, задышал скоро-скоро и обмяк телом.
Старик поводил своим кривым ножичком над огнём, покосился на Караван-баши. Тот схватил вялую больную руку Книжника и стал держать ровно. Старик одним косым махом ножичка взрезал кожу вокруг локтя, а вторым махом углубился в остатки мяса на руке. Книжник выгнулся дугой и захрипел, завозил ногами. Бусыга упал ему на ноги, придержал их. Старик три раза ковырнул в локте, там, где локоть сгибался. Послышался тонкий противный скрип. Чёрная рука Книжника отпала от локтевого сустава.
Проня было вознамерился облить сочащееся кровью место отреза чачей, но старик только грозно хукнул. Промочил кровь старой тряпкой, вроде как детской повитушкой, и тут же выложил на кусок красной кости моток серых ниток — не ниток... Туда же положил что-то чёрное, гнилое. Сам обвязал культю куском старой ткани. Хмуро буркнул неясные слова. Не колдовские, слава Господу...
— Это он положил на рану паутину лесного паука. Паутина рану сошьёт...
Проня хмыкнул и тут же получил от Караван-баши по шее.
— А на паутину лекарь положил плесень. Плесень, она самая древняя на Земле живая сущность, — продолжал пояснять Караван-баши. — А то, что есть самое древнее, то есть на Земле самое живое... Самое крепкое к жизни, против смерти...
Старик тем временем рылся в кожаном туеске, знакомо пошитом. Проня подошёл, паразит, без зазрения совести взял из рук старика кожаную безделушку, аж охнул:
— Ну, браты, от же даёт наш лекарь! Это же мытная сума ханского баскака! Ей годов двести как станется. Сохранилась, гляди!
На сумке, шитой коробом из толстой бычьей кожи, там, где поверху плотно крепилась крышка на железных петлях, Проня углядел знак. На стёртой железке было написано «Кашира» русским черкающим письмом.
Старик отвернулся с сумкой от Прони, порылся там и достал узкую белую полосу материи, шириной в два пальца. Достал и уйгурскую письменную палочку, спокойно обмакнул палочку в кровь, сочащуюся из обрезанной руки Книжника. Начертал на ленте ряд непонятных значков и отдельно — знак змеи. А на хвосте той змеи нарисовал шар — не шар, колокольчик — не колокольчик. Потом обрезал ленту с надписью и повязал вокруг пострадавшей руки Книжника. Сказал вроде как заклинание.
— Пусть, мол, носит этот мой лекарский знак как заклятие от болезни, — перевёл Караван-баши.
А лекарь ещё пробурчал что-то и протянул Проне свою глиняную чашку.
— Три Солнца Безрукий встретит лежа, а на четвёртое Солнце выйдет сам посмотреть... — перевёл Караван-баши. — А ещё он хочет попробовать этот воняющий напиток. Проня, дай лекарю выпить нашего лекарства!
На четвёртый день, поддерживаемый Бусыгой и Проней, Книжник вышел поглядеть на солнце. Вернувшись в юрту, он выпил две плошки бульона и упал спать со здоровым храпом.
На десятый день караван тронулся дальше. У юрты оставили две телеги, трёх коней, а в женском углу — три мешка сухарей, топор, два ножа и боевой лук с тремя десятками стрел. Специально для лекаря, как особую плату, оставили керамическую баклагу с чачей... Женщине, тайком, Бусыга сунул кошелёк с арабскими монетами, показал на детей, мол, это для них. Женщина смутилась, но тут же стала снимать с себя драный халат.
— Полный ты обалдуй, Бусыга, — рассмеялся Книжник. — Она думает, что ты хочешь за деньги сделать ей ребёнка.
Бусыга тотчас перекрестился и выскочил из юрты.
— У её мужа, — сказал лекарь Книжнику, не называя сбежавшего мужчину своим сыном, — на шее, вот здесь, большой и толстый шрам. От копья. Я вылечил его... на свою старую голову. Если встретите того человека со шрамом... то пусть ему больше не поможет никакое лечение...
— Ясно как божий день, — туманно ответил Книжник и покинул юрту.
Вышел всё же московский купеческий караван, благословясь, по ранней весне, к озеру Нор Зайсан... Вышел с большим уроном. Только половина того каравана, что перешёл Уральские горы через проход у Челябы, ступила на древнюю дорогу в Индию, от озера Баал Кар до Тибета. Главное, сохранили купцы весь воск и весь янтарь, четырёх конематок и двенадцать русских жеребцов.
На переходе через пятый приток Кара Иртыша[100], уже в тёплые денёчки, на караван напали дикие, озверелые люди, человек эдак сто. По раннему утру налетели с двух сторон, но тут грохнули разом обе пищали Прони, а Караван-баши вдруг заорал злые слова про то, что едут они к китайскому контайше[101]. И если не довезут контайше подарки, сто тысяч китайских воинов войдёт в этот предел Степи.
Кочевники с воем отхлынули от русских купцов. Но, вероятно, огненного боя силу они уже знали, обычная боязнь их прошла, и при отходе в низину Кара Иртыша подлые кочевники пустили в караван сотню стрел — загубили пять коней и шесть верблюдов.
— Им до этого контайши, как нам до Луны, — непонятно сказал Книжник, ловко снимая одной рукой упряжь с загубленных животных. — Им пожрать охота. Пусть жрут убитых коней и верблюдов.
Проня взбесился:
— Эдак мы никуда не дойдём! — заорал он Книжнику. — По всей степи понесётся слух, что у нас можно тягловый скот убивать, чтобы пожрать. А нас трогать не надо!.. Дай мне твою жёлтую соль[102], дай!
— Может, всё же лучше трупы животных свалить в яму да сжечь? — предложил Бусыга. — Чтобы показать нашу силу?
— Можно, — отозвался наконец Караван-баши. В походе за ним было последнее слово. — Но тогда надо долго ждать, пока животные сгорят. Силы тратить на костры да на дрова. Дров здесь мало... А поджечь и уйти — тоже вредно. Мы уйдём, а барымтачи вернутся, прискачут на готовое, жареное мясо. Угости их жёлтой солью, Волк. — Караван-баши всё чаще теперь звал Книжника Волком.
Всем животным, павшим от стрел кочевников, взрезали глотки, в глотки Книжник самолично затолкал по щепотке жёлтой соли. После этого двенадцать переходов до озера Нор Зайсан русский караван прошёл тяжело, но беспечно.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
А там, окрест озера, вовсю разливалась весна! Скот стал разбегаться. Молодая трава прямо взбесила стельных конематок. У них уже виднелись на животах нужные отвислости. Приплод будет!
Искали своё лошадиное богатство Проня и Бусыга, верхом на уставших верблюдах.
— Мне не нравится, что в такой райской долине не живут люди, — сказал Проня Бусыге, когда они наконец увидели жеребцов и конематок.
— А мне не нравится, что очень много их здесь живёт, — ответил Бусыга, глядя через Пронино плечо.
Проня оглянулся. Поверху лога, уже вдосталь заросшего густой травой, ехал десяток всадников. Боевых, с копьями и луками.
— Сюда надо сто пушек брать. — Бусыга, осматривая всадников, с усилием натягивал трёхжильную тетиву на дугу длинного лука. — Да, поди, и ста не хватит.
Всадники, все плосколицые, грязные, на тощих низеньких лошадёнках, возбуждённо галдели, когда огромный конь русской породы вскакивал на очередную кобылицу, хватал её за холку, бешено храпел.
— Ты им давай ори, Проня, — посоветовал Бусыга, — арабским языком. Про смерть и всё такое прочее... Давай ори им про хана ихнего, Елугея, — а сам достал длинную красную стрелу с кованым, узким, трёхгранным наконечником из железа. Такая стрела прошибала насквозь лошадь с трёх сотен шагов.
Проня покладисто заорал, спугнув приладившегося к делу жеребца:
— Хан Елугей! Му Сар джаксы! Мен хан Елугей хана на[103]!
От крика Прони из свежей травы вдруг выпорхнули утки, большой беспорядочной стаей. С низкого холма высоко вверх, стремительно, в самую синеву неба, метнулся беркут. Беркут сделал полукруг над утками, пугнув их так, чтобы стая полетела к озеру. Над озером всю стаю можно хорошо обсмотреть и выбрать себе добычу, да не одну.
Кочевники даже не поднимали бесполезные луки. Их луки били на сто шагов, ни уток, ни беркута ихним стрелам в небе не достать. Бусыга же быстро плюнул, по плевку определил скорость ветра, поднял боевой русский лук, махом засек уже сложенные крылья беркута. Длинная красная стрела пропела, и беркут комком упал на землю под ноги степных коней.
— Верный выстрел! — обрадовался Проня. — Просто царский!
Бусыга уже упёр хвостовик второй стрелы в тетиву, резко повёл лук в сторону кочевников, выпустил стрелу — и тут же с головы конника, под коня которого упал беркут, слетела малахайная шапка.
— Э! — крикнул Бусыга, подготовив к бою третью стрелу. — Стрелы мои мне сюда неси, киркожак![104]
Степные люди загалдели, развернули коней и умчались от озера в сторону далёких гор. Шапку они так и не подобрали.
— Ведь войско сейчас приведут, не отобьёмся, — посочувствовал Бусыге Проня. — Стрел не хватит.
Бусыга собрал использованные стрелы, сунул их в саадак, заправил сброшенный чужой малахай за пояс, велел своему верблюду лечь, уселся между горбов. Тогда и ответил:
— Половину пути до Индии прошли. Повороту не бывать, значит, будем биться! — а сам смутно думал, что биться уже и сил нет.
По сказкам выходило, что этот самый Китай — ну прямо сказочная страна, тут на каждом шагу еда кучами, а пива — хоть залейся. «Пива бы, пива! — мечтал Бусыга. — И упасть бы поспать, не вполглаза, а просто бревном. Надолго и недвижно».
Проня подобрал убитого беркута, сунул в сумку и пожелал сам себе, чтобы такую красивую птицу они убили не зря. Выпить бы... Как-то сумрачно стало в их караване после тяготной зимней дороги. Вон и Книжник, всегда знающий злую шутку под любой случай, после потери половины своей руки стал тихим и как бы набожным. Уйдёт в сторону и что-то там вертит, что-то трёт, что-то вроде скребёт. Потом отрежет кусок старой кошмы и опять трёт. Бога себе выделывает, поди.
Такое случалось и по Прониной жизни. Иные купцы на дальнем пути мутнели разумом и, чтобы удержать сознание в равновесии, кто вдруг начинал песни петь, кто кидался на свой же острый нож, а кто и вообще — на своих же товарищей. Вон, опять Книжник сел на камень, ото всех отвернулся, чего-то там трёт куском кошмы...
Проня тихо, на кончиках сапог, подкрался к спине сидевшего на камне Книжника, внезапно заглянул тому через плечо. Увидел, заорал, метнулся назад, споткнулся о камень и больно резнулся затылком о твёрдую землю. Книжник полировал кошмой большой, размером с гусиное яйцо, кусок янтаря. А в том янтаре сидело и пялило выпуклые глаза такое чудище... да с когтистыми лапами...
Книжник хохотнул, спрятал янтарное яйцо с чудовищем в карман халата, проговорил мимо Прони, в волны большого, серого озера Нор Зайсан:
— Эх, Проня! Знал бы ты, что этакое чудовище, только величиной вон с ту гору, в этих местах было Богом. А может, и до сих пор есть ихний Бог!
— Богов развелось! — Проня поднялся, отвернулся спрятать смущение от негаданного испуга. — Один в воде живёт, другой в янтарном яйце... Третий, поди же ты, облаками от нас прикрылся. Пошли, поесть бы надо. А то скоро налетят на нас... молящиеся этому дракону!
На третий день стоянки русских купцов на южном берегу озера Нор Зайсан стало ясно, почему окрест не видно ни людей, ни скота. Они ещё не пришли.
А теперь пришли. И много.
Русские купцы выставили свои двадцать потрёпанных телег в полукруг, в курень, на крутом мыску озера, чтобы и к воде доступ был и к деревьям. Огородились ещё тюками с товаром. Проня плотно зарядил обе пищали. Огуляных лошадей привязали внутри, а верблюдов пустили пастись просто так, за куренём... Караван-баши поднял свой зелёный флаг с Грифоном, а Проня привязал к толстой оглобле круг с нарисованной головой Водяного Бога.
— А московского флага у нас нет. — Книжник глядел, как к озеру с двух сторон неспешно идут отары баранов и косяки кобылиц. А прямо в лоб на русский лагерь плотной, боевой десятирядной лентой надвигаются конники с изготовленными к бою пиками.
— Э! — махнул Книжнику Караван-баши. — Ты, Волк, разве забыл, откуда мы пришли на Великие равнины Итиля?[105] Какое полотно там, на Востоке, служило знаком единения для всех земель? А для остальных — смертью?
— Бар намайсол![106] — согласился Книжник. — Я всё покрашу, у меня же все краски есть! Только нужен для покрасочного дела злой обряд. Ты, Му Аль Кем такого обряда в своей вере не помнишь?
А воины уже подняли к небу длинные шесты с жёлтыми, бренчащими колокольцами поверху, чуть пониже колокольцев мотались по ветру привязанные конские хвосты — знак битвы. В центре боевого строя сидел на высокой тележке, под круглой крышей, толстый человек и что-то кричал тонким голосом сгрудившимся возле него.
К Бео Гургу подошёл Проня с большим горшком. Показал, что внутри. Внутри там лежал мёртвый беркут. Тогда Бео Гург сыпнул в горшок половину горсти яркой краски и вышел из-за ограды куреня. Караван-баши подошёл к нему с другой стороны с куском белой материи и на виду чужого войска засунул один конец ткани в горшок, а потом налил туда воды...
Кочевники ахнули, когда из горшка Проня потащил за крылья ярко-красного беркута. В когтях птица держала конец ткани. Проня развернул крылья беркута на ширину своих рук и так понёс небывало красную птицу вдоль куреня, за ней медленно поползала ткань кровавого цвета. С неё капали на зелёную траву густые красные капли.
Бусыга уже приготовил толстую железную иголку и тут же, пачкаясь в свежей краске, принялся пришивать к крашенине кусок синей материи.
— Послов двинули в нашу сторону! — предупредил Проня, быстренько заняв свою позицию, обложившись рогами с порохом, кусками свинца и запалив фитиль.
Новоделанный флаг растянули между двумя оглоблями, шагов пять в длину. Получился жуткий знак приказа к общему повиновению: поверху белая ткань, посерёдке синяя, а понизу — красная. Небо, Вода и Земля.
Послы, числом пять воинов, в медных шлемах, при хороших саблях, увидели тот знак и повернули коней назад, к толстому человеку в повозке под круглой крышей.
— Мы даже не решили — чьи мы купцы, — вдруг тоскливо произнёс Бусыга. — Московские или казанские? А?
— Московские мы купцы, — ответил Книжник, поправляя на ещё сочащейся ране повязку и ленту лекаря. — На переговоры пойдём мы двое, Караван-баши и я.
Проня услышал приказ, оглянулся на потемневшее от мелких волн огромное озеро, на далёкие-далёкие горы, выругался:
— Три раза бы помирал на Родине, чем один раз здесь.
Бео Гург повернулся к Проне, грубо приказал:
— Не подвывай! Тут смертью пока не пахнет!
Караван-баши возился со своим поясом, чтобы расстегнуть его и, как положено послам, избавиться от сабли, ножа и плётки. Бео Гург ловко перекинул левой рукой через плечо кожаную сумку с нужными бумагами, и они пошли по густой траве прямо на толпу всё прибывающих конников.
Шагов через сто Караван-баши сказал:
— Стой, Волк. Мы свой путь сотворили.
Толстый человек в повозке под круглой крышей завизжал. Бео Гург оглянулся. Да, со стороны их курень большой крепостью не казался, но вот зелёный флаг с крылатым леопардом да протянутая трёхцветная материя спереди куреня били в глаза сильно. Так прямо в глаза бьёт пушка, если смотрит жерлом тебе в лицо на расстоянии ладони.
Наконец на той стороне решили насчёт своих переговорщиков. Десять воинов на конях, с обнажёнными саблями, взяли в круг повозку с начальником, и повозка тронулась к стоящим русским купцам. Караван-баши немедленно что-то грозно крикнул на одном языке, потом повторил по-уйгурски, при этом два раза прозвучало «Хан Елугей!». Военная команда, сопровождавшая толстого человека, сошла с коней и оставила на сёдлах пояса с саблями. Пошла теперь пешком, ведя коней в поводу.
Сошлись. По обычаю, Бео Гург и Караван-баши первыми сотворили приветственные поклоны. Толстый человек под круглой крышкой сипнул носом. Видать, простыл.
— Мы купцы из страны Московия, — начал говорить Бео Гург на арабском, понимая, что этот язык кочевники здесь не знают, а Караван-баши переведёт его речь на уйгурский — общий язык для этой огромной и тёмной территории. — Мы идём с товаром в Индию, но идём через страну Китай, хотим узнать, что мы можем здесь купить, а что продать.
Когда Караван-баши начал переводить слова Бео Гурга, толстый человек опять заорал. Караван-баши повернулся к Книжнику и с ухмылкой сообщил:
— Волк! Мы не в Китае. Китай там, далеко на востоке! А здесь они называют себя Ман Голи, но у них много племён с другими прозваниями и у каждого племени свой хан. Хан Елугей недавно умер, и кто теперь правит всей территорией, неизвестно... А здесь, вокруг озера, правит этот, толстый. Контайша Зайсан.
— Скажи этому контайше Зайсану, что нам надо пройти по его земле. Ему мы заплатим за Путь, согласно обычаям Мирового базара.
После слов, переведённых Караван-баши, толстый контайша Зайсан кричал долго. Лицо у Караван-баши просело и кровь отлила.
— Дело худо. Вчера наш человек одной стрелой убил беркута и снял второй стрелой малахай с его воина, а это обида.
Такой страны, как Московия, они не знают в том месте, где заходит солнце. То есть за горами Аль Ур — Урал. Они знают только улус Джучи. Чингисхановский ещё улус.
— Ты им сказал, что мы давно вырезали за Уралом всех, кто нам не кланяется?
Караван-баши повернулся к толстому контайше и перевёл слова Книжника. Там, позади монгольского посольства, забесновались воины. Старец, что сидел позади контайши Зайсан и, видать, служил ему советчиком, поднялся в рост и что-то гневное крикнул отряду воинов. Те притихли. Старец с длинной густой бородой, побелевшей от времени, сошёл с повозки и, опираясь на длинный посох, сделал пять шагов к русским переговорщикам.
— Я знаю государство Московия, — тихо заговорил Старец на очень ровном арабском языке. — И что там давно правят урус кнез, тоже знаю. Что мне следует сказать о том толстом человеке? Только то, что сегодня кричит он, а завтра кричать будет другой. Он ещё не знает, что вместо сдохшего хана Елугея, нового хана уже выбрали. На шкуре белой верблюдицы подняли моего племянника... именем Урген Тай.
И Караван-баши и Бео Гург тотчас низко поклонились седобородому Старцу. Только вот имя нового хана Бео Гургу пришлось не по нраву. Это было тангутское имя, а тангуты — свирепый народ. Сначала стреляют, потом спрашивают, за что тебя убили.
— Однако за вами вот уже с начала весны идёт по этим землям нехороший слух, московиты. Злой ветер доносит, что там, где вы прошли, навсегда пропадает трава, а животные и люди умирают...
— О, мудрый дядя великого хана и многомудрый Советник повелителей! — склонился перед стариком Караван-баши. — Жизнь в степи бедна на события. И если кто ел трупы наших павших от холода и голода животных, это не наша вина. Ты видишь, только десятую часть животных нашего каравана. Но мы-то знаем, что трупы есть нельзя. Разве ваши люди этого не знают?
Бео Гург вдруг заметил, что Старец не слушает Караван-баши, а злыми глазами смотрит на руку Бео Гурга. Старец, вдруг сделал два шага назад, закричал:
— Нет! Впереди вас бежит праведный слух! Вы ограбили мёртвого целителя, великого целителя всей Степи, Болата Омара Улуя! — его тонкий указательный палец тянулся к полоске ткани, что самолично повязал на спасённую руку Книжника великий целитель Омар Улуй. — Это его знак змеи с колоколом смерти на хвосте! На священной белой ленте!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
— Тут ведь так: не хочешь жить — не живи. А мы хотим. Подумай над этим, Старец, — громко говорил Книжник, зацепив обрубком левой руки белобородого Старца за шею, а лезвием ножа в правой руке упираясь ему в ребро. Говорил он по-арабски, но слова его складывались в гибельную тональность.
Бео Гург волок Старца под защиту куреня, а Караван-баши стоял на месте и громко кричал в сторону всадников грозные, ругательные слова. Проня на всякий случай пальнул из пищали, свинец постриг траву прямо под ногами монгольских коней. Кони рванулись в степь, всадники на них завизжали и завыли. Толстый человек, контайша Зайсан, упал, спрятался за бортом повозки.
Караван-баши, увидев, что Книжник и Старец скрылись за тюками куреня, смело подошёл к повозке контайши.
— Ты большой начальник и мудрый человек, — сказал Караван-баши. — Ты понимаешь, что в этом мире можно ошибаться хоть каждый день. Я пришёл под твою руку без оружия, в плен. Я важный человек у русских купцов, моё звание Му Аль Кем. У тебя важный человек вон тот, седобородый, дядя нового хана этих монгольских земель. Его, ты видел, уважительно укрыли в нашем стане. Мы обменялись важными людьми, контайша Зайсан. До тех пор пока рождённая между нами ложь не превратится в правду.
Из всего сказанного лишь весть о новом хане заставила контайшу поднять голову над бортом повозки:
— Как зовут нового хана наших земель?
— Урген Тай, да пребудет с ним сила и пусть не иссякнет молоко у его кобылиц!
Здоровый, высокий воин, охранник контайши, больно уколол начальника русского каравана копьём в бок и прорычал:
— От кого ты узнал эту дурную весть о новом хане? Нам её не привозили!
— Да, да, — поспешно подтвердил контайша Зайсан, — Нам эту весть не привозили. И, шайтан вас забери, воины, свяжите этому пленному руки и ноги!
Здоровенный воин сразу накинул на голову Караван-баши волосяной хомут, но тот ловко продел в петлю руки и быстро снял опасную удавку с горла.
От русского купеческого куреня заорали. Орал Проня, как самый голосистый:
— Му Аль Кем! Му Аль Кем! Старец спрашивает, есть ли на шее у воина, который тебя колол копьём, толстый рубец на шее? Там, где левое ухо? — Проня орал по-русски. Кто здесь его поймёт?
Здоровенный воин старательно вязал сзади руки Караван-баши. Пониже левого уха на его шее багровел толстый рубец.
— Есть! — крикнул в ответ Караван-баши.
— Тогда наша война уже закончилась!
От русского куреня в сторону монгольского отряда свободно зашагали и Книжник, и дядя нового хана.
Здоровенный воин, что имел отметину на шее, крепко связанный, катался по земле и дико выл.
Контайша Зайсан не вылез из своей повозки, а так внутри её и сидел, угрюмо и задумчиво жевал полоску вяленого конского мяса.
— Мы ищем справедливости, о, великий наместник этих земель, — говорил жующему Бео Гург. —Поэтому просим тебя — отправь в ту сторону, откуда мы пришли, своих людей. Они обернутся за двадцать дней! И подтвердят наш рассказ о преступлении твоего воина с отметиной на шее. Он бросил умирать от голода свою жену и детей.
— И своего отца, великого целителя Омара Улуя! — добавил Старец.
Контайша Зайсан достал из своего мешка новую полоску копчёной конины и снова стал жевать. Он не отвечал.
Караван-баши, которому Проня принёс в широком горшочке кашу со свиным салом, мотнул Проне головой:
— Иди в курень. Там приготовься стрелять быстро. По-моему, разговоры кончились.
Бео Гург хотел говорить контайше далее, но заметил отмашку руки Караван-баши. Да, разговоры кончились. А кочевники эти... Что за народ? Бросили переговоры, расселись жрать... Хотя если подумать, им-то что, простым воинам? Им хорошо поесть — как награда. Сейчас поедят, потом раздербанят неизвестный караван.
Вдруг всё в стане кочевников взметнулось мигом. Замелькали сабли, вздыбились пики, по-над озером разнеслось кряхтение, хрипение, стон. Бео Гург лишь успел заметить, как голова контайши Зайсана, пока летела из повозки на землю, продолжала жевать. И снова стало тихо. Половина воинов лежала мёртвой у костров, их уже лишали сапог, халатов, оружия. Живые двигались быстро, смеялись весело... А ведь вместе только что ели!
Старец, не глядя вокруг, отпил мясного навара из пиалы, пояснил Бео Гургу:
— Мы бы отправили гонцов на запад, чтобы проверить, жив ли великий лекарь Болат Омар Улуй, и говоришь ли ты правду, Бео Гург. Но раз в ставке Орды выбрали нового хана, то новый хан, Урген Тай, уже позаботился о лекаре для себя. А на этих просторах лучше лекаря, чем Болат Омар Улуй — нет. Его, я знаю, уже везут в ставку хана. И мы немедля поедем туда...
— А с этим... что будет? — Бео Гург показал на валявшегося воина со шрамом на шее.
— Он тоже поедет с нами. Великий целитель Болат Омар Улуй сам выберет как наказать своего негодного сына. Так у нас положено законом степи...
Воина со шрамом уже повалили в повозку. Он только мычал, зато совершенно обиженным голосом заорал Проня:
— В гроб вас загнать, послов и переговорщиков! А на чём мы повезём наше добро?
— Не наше добро, а княжеское! — заорал и Бусыга.
Караван-баши мягко перевёл Старцу чёрные слова русских купцов.
— Мы сейчас же заплатим! За скот, за охрану, за подорожные привалы! — тут же заверил Старца Бео Гург.
— Вы заплатите, по обычаям степи, нашему новому хану, — ласково сообщил Старец. — Новый хан — значит, и новые цены: на животных, на охрану в пути, на пропитание, на тамгу — знак, что ставят на товары... Новый хан милосерден и добр. И он любит подарки из далёких стран...
Ох, как пошёл вывёртывать язык Проня, да как вывёртывал, подлец! Всех помянул — и богов, и ханов, и родственников ханов, и приплёл даже папу римского. И всё это без передышки, пока на пятьдесят новых, упитанных верблюдов они с Бусыгой вязали тюки, а на двадцать лёгких двухколёсных монгольских повозок грузили поклажу. Свои телеги, разбитые долгой дорогой, Бусыга напрочь отказался бросить. Сделал биндюги[107] из четырёх сносных телег, на них уложил все деревянные части телег переломанных. Умудрился даже придумать, как впрячь в тяжёлые биндюги по паре маленьких степных лошадёнок.
Баши опять возглавил московский караван, Проня и Бусыга ехали то с боков, то сзади, а вот Книжника Старец пригласил сесть вместе с ним в повозку контайши Зайсана, под круглую крышу из яркой материи.
— Мне придётся долго объяснять новому хану, моему племяннику, зачем вы приехали в нашу степь. Поэтому ты должен мне всё честно рассказать... Начни с того, почему тебя прозвали «Пчелиным Волком»...
— О, уважаемый Старец! Это просто детское прозвище. Знаешь, в наших краях, откуда я родом, за пчёлами, собирающими мёд, охотится такая большая, с мой мизинец, оса. Она ловит пчёл на лету, перекусывает их и питается собранным ими нектаром. Её ещё называют «шершень»...
— Да, — сказал Старец, — в детстве нас дразнили совершенно неожиданными прозвищами. Но зачем ты мне лжёшь?
Бео Гург скривил лицо и обиженно засопел. Старец усмехнулся. Да, белые люди не умеют врать. Обидела их Природа, не дала простой защиты от зла, чтобы в случае опасности изворачиваться, лгать, плакать и даже умирать.
А Книжник сопел не от обиды, не от унижения. Он просто выравнивал в себе закипавшую кровь. Старца можно будет в любой момент отправить выше Хан Тенгри[108], даже перед лицом самого хана. Но в далёких, неприступных монастырях святой Сербии, где его учили не только сдерживать кровь, но ещё и тому, что всё должно приносить пользу. Даже смерть. Смерть этого Старца должна принести пользу...
Книжник внезапно выпрыгнул прямо через борт повозки и пошёл рядом с ней быстрым шагом. Ноги всегда помогают сердцу выровнять ритм.
— О, знатный и мудрый Старец! — сказал Книжник с великим уважением в голосе. — Ты преподал мне большой урок. Под небом того края Земли, где заходит солнце и где я провёл почти всю жизнь, нет таких мудрых людей, что так верно понимают божественную Сущность Слова. Ибо сначала всегда есть звук. А звук, однажды родившийся, уже не умирает. Вот я обманул тебя, и мои лживые звуки про пчёл и осу-убийцу уже попали на Небо. А когда и душа моя попадёт туда, то...
— То там на твою душу налетит шершень, и погонит тебя в Нижний мир! — докончил за Книжника Старец. — Скажи, ты ведь есть «Охотник за золотом»?
— Да, о мудрейший... Мёд у пчёл жёлтого цвета. И золото — жёлтого цвета. Поэтому...
— Не продолжай. Я понимаю кеннинг!
Бео Гург оглянулся на свой караван. Проня радостно помахал Книжнику рукой. Знал бы Проня, куда вляпались они с караваном в этой голой степи непонятно чьего народа!
Кеннинг! Посвящённому нужно долго готовиться, чтобы научиться говорить о смерти — как о жизни, а о мече — как о цветке. О короле;— как о медном гроше, и о золоте — как о мёде... Но если в опасном и крайнем случае скажешь мимо смысла, о тебе самом станут говорить, как о корне травы. Ибо тот корень ты напитаешь своим бренным телом...
— Ты, мудрый Старец, посещал Аддубу в Царьграде? — спросил Книжник, легко запрыгивая обратно в повозку. Только в тайной школе знаний, в Аддубе, могли открыться избранным такие смертные знания.
— Нет. Я из народа Уй Тур. Я тоже — Волк. Меня учили в монастыре «Девяти лучей», что стоит...
— ... в городе Ла Хаса, на самом краю «Страны самодельно размножаемого живого мяса», — договорил Книжник. — На Тибете.
— Да. Это так.
Они надолго замолчали. Конники, что сопровождали караван, уже начали оборачиваться на повозку с круглой крышей, стараясь поймать взглядом разрешение на остановку. Старец не обращал внимания на всадников.
Караван двигался на юг, в сторону вершин Тянь-Шаня, и путь его как раз пролегал мимо древней горной гряды, уходящей на восток. Время, жара, мороз и ветер хорошо поработали над этой грядой. Книжник заметил рядом дорогу, причём колёсную или волокушную. Старец глянул в сторону той дороги, пробурчал:
— Дорога всегда кончается там, где она начиналась. Но нынче настали кривые времена. Они рождают и кривые дороги — бывает, без начала и без конца. Вот эта горная гряда, в которую ты упёр свой взгляд, называется Май Кабак... Однажды зимой с крутого склона здешней горы ветер сдул вниз отару баранов. А когда пришла весна и стало припекать солнце, то из курдюков тех мёртвых баранов потекло сало. Поэтому местные люди, пастухи, и называют эту горную гряду «Сальный склон». — Старец пристально глянул в лицо Бео Гурга.
Тот отозвался на взгляд словами:
— «Май Кабак» на кеннинге обозначает «край» — вход в золотоносную шахту.
— Ты прав. Ты действительно «Пчелиный Волк». А выход из этой шахты... тут, правда, не шахта, а туннель... Так вот, выход из этого туннеля будет, если мерить на жреческий манер, через тысячу стадиев.
— Сорок вёрст пути под землёй?
— Да, а в конце пути стоит древний город, где давным-давно жили монахи. Монастырь Тысячи Будд. Великий Потрясатель Вселенной, Чингисхан, повелел разрушить тот монастырь. Потому что оттуда не явился к нему мудрец, чтобы рассказать, как Владыке мира достигнуть бессмертия... Обидели монахи великого Чингисхана — за то и поплатились...
Бео Гург ещё раз глянул на горную гряду. Оглянулся на Бусыгу. Бусыга что-то чертил на деревянной дощечке, ведь ему было наказано рисовать в этой неизвестной стране пройденный караваном путь и все знаковые отметины, да пройденные расстояния.
— А теперь, — сказал Старец, — доложи мне, что везёт ваш караван, и что самое ценное в нём.
— Погоди, мудрейший... — Бео Гург покинул повозку, махнул Бусыге, заорал по-русски: — Вот эту горную гряду отметь! Нарисуй особым знаком «тысяча» и «золото»! Понял? — и легко догнав повозку, он снова уселся рядом со Старцем, заговорил: — Наш караван, о мудрейший, по указу Великого Государя всея Руси везёт на наши древние земли, в Индию, воск и солнечный камень. Ты увидишь это в ставке своего хана. Весь товар пропечатан тамгой великого эмира Бухарского, пошлина за провоз оплачена. И твоему хану мы оплатим пошлину, как положено...
Старец, полуприкрыв глаза, кивал, пока Книжник перечислял ему количество кругов воска и мешков с янтарём. Бео Гург потихоньку начал уводить рассказ в сторону, в ложь, дикую и несусветную, а старец всё кивал и кивал.
— Янтарь рождается в тот момент, когда начинается извержение вулкана, — говорил Бео Гург. — Камни эти падают в море, а вода там солёная. За неисчислимое количество лет соль всё разъедает и разъедает те вулканические камни...
Старец кивал, зажмурившись, спрятав глаза. Книжник врал, потому что и Старец соврал ему про монастырь Тысячи Будд. Ведь Бео Гург прекрасно знал карту древних месторождений золота на этой земле. Там, куда упиралась горная гряда с местным названием «Сальный откос», никакого монастыря буддистов не было.
Монастырь Тысячи Будд стоял выше таинственного и ужасного озера Лоб Нор — «Нора с мёртвыми головами». А то озеро они ещё не проезжали. К нему надобно сначала ехать на юг, а потом у древних Полей смерти повернуть на восток. По документам, край великой пустыни Гоби просто усеян мёртвыми головами — костяными «лбами». Туда не ездят благоразумные люди. Но мало ли где мог очутиться караван русских купцов-первопроходцев?
А там, куда Старец обманом поместил этот таинственный монастырь, там должен быть город Хара Хото. Людей убивали только за знание его имени!
Не простая страна — Китай. Много здесь тёмного и страшного творилось в далёком прошлом, о чём его жители и не ведают! Незачем им ведать, собирателям жучков и червячков... А со лживым Старцем надо кончать.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Через восемь дней пути караван русских купцов подошёл к старому городу с названием Бургур. Толстые стены ещё хранили город, но ворот уже не имелось, как и прочих деревянных изделий в домах, вроде оконных рам, калиток и колодезных крышек.
Ханские нукеры проводили русский караван на единственную площадь города, знаками повелели снимать поклажу с верблюдов.
Бео Гург, отмахнувшись обрубком руки от назойливого ханского копейщика, поднялся на крышу трёхэтажного глинобитного пустого дома. Сверху хорошо было видно, как город Бургур перекрыл брод через реку Аксу, за которой начинался единственный верный путь к древнему городу Каши. А оттуда уже можно выйти прямо к реке Ганг, в Индию! Ловко сел хан Урген Тай: на доходную денежную дорогу!
Бео Гург спустился вниз, вышел из ворот к ханской ставке.
— Это не хан, — вякнул Проня. — Это камень с глазами.
Прав оказался Проня: уж больно морда у этого хана была тупая. Барана от коня он, наверное, отличить сможет. А вот теньгу от алтына — вряд ли.
Хан Урген Тай заговорил. Будто камни переворачивал во рту. Караван-баши стал тихо переводить русским купцам рваную речь:
— Спрашивает, зачем хорошего и крепкого воина замотали верёвками? Это он о сыне твоего врача. А твой врач, Бео Гург, стоит позади хана.
Охранная сотня между тем взрезала верёвки у сына врачевателя Болата Омара Улуя. Отец подошёл к сыну, бросившему свою семью, корчащемуся на земле, и плюнул ему в лицо.
Хан Урген Тай заорал злобно на Великого Врачевателя. У Караван-баши сел голос:
— Хан говорит, что воин, который жертвует ради хана своими родственниками, даже отцом и женой, угоден хану.
— Батюшки светы! — проговорил Проня. — Спаси и помилуй от такого хана!
Воины охранной сотни вытолкали старика-врачевателя из толпы и уронили на лежащего сына... Десять дней в верёвочных путах проехать — помереть можно! Ан нет — не помер тот сын, скотина. Ещё и нашёл в руках силу, чтобы взять протянутый ханом нож и вогнать тот нож своему отцу в горло!
— Не будет нам здесь добра, — прошептал Бусыга в напряжённый затылок Бео Гурга, — чует моё сердце.
— «Кто не плавал морем — тот брезговал горем»! — зло отозвался свирепой пословицей Бео Гург на испуганный шёпот Бусыги.
Воина, зарезавшего собственного отца, люди хана с уважением подняли и повели в сторону юрт, разбросанных средь лугов.
Старец, что сопровождал русских от озера Нор Зайсан, теперь пал на колени перед ханом-племянником и стал ему толковать, что за караван он привёл, да откуда.
— Рассказывает хану про наш янтарь, — перевёл Караван-баши. — Что-то несусветное врёт.
— Нам бы дня три здесь продержаться, — невпопад отозвался Бео Гург. — А лучше бы неделю.
Старец заорал в сторону русских:
— Главный купец! Иди сюда!
Бусыга в сопровождении толмача — Караван-баши — за пять шагов от хана тоже упал на колени, да так и пополз к сапогам повелителя этой части степи. За ним зло сопел на четвереньках Караван-баши. Но хан рявкнул всего два слова, прыгнул на коня и умчался. Вместо него распорядился Старец:
— Встанете караваном здесь! — он показал на городскую площадь, на крепко сложенный из каменных плит колодец. — Вода в нём есть. Выходить за стены города нельзя! Вас будут крепко охранять. Великий хан устал, ваше прибытие его сильно взволновало, но завтра он будет готов к справедливой торговле.
Бусыга закивал, вполне довольный таким поворотом события.
— А сегодня дадите хану на ужин вон ту жерёбую кобылку! — старец показал как раз на ту кобылицу, которую Бусыга считал самой способной на рождение махонькой лошадки, ради которой затевался этот жуткий поход в неведомые земли. — Наш великий хан любит нежное мясо ещё не рождённых кобылиц.
Бусыга загорелся сердцем, зло спросил Старца:
— А ежели там, в брюхе, будет не кобылка, а махонький кобылёнок?
— Тогда зарежете следующую лошадь. Их, носящих плод, у вас целых четыре! Какая-нибудь да носит в себе кобылку...
— Не буду резать! — Бусыга в отчаянии поднялся с колен.
— А и не надо. Вон, уже идут наши мастера! — показал старец. — Они быстро управятся. Хоть с лошадью, хоть с тобой, подлая скотина! Стой на коленях! — и резко толкнул Бусыгу в загривок.
В брюхе махом зарезанной нукерами русской кобылицы и впрямь оказалась кобылка. На глазах Бусыги она вывалилась из распоротого брюха матери, осмысленно глянула на мир огромными глазами и тут же потянулась искать материны соски. А мать её уже разделывали кривыми ножами на огромные куски. Кобылочка недоумённо зашаталась, поскользнулась на окровавленной траве и упала... Кривой на один глаз ханский воин, походя, взрезал ей глотку, ухватился за задние ножки, взвалил её себе на плечи и пошёл за ворота города.
— Так они прирежут и остальных! — громко зашептал Бео Гургу взбешённый Проня. — Ещё неделя-другая, и она бы народилась! А вдруг остальные понесли жеребчиков, а? Пропал наш поход в Индию!
— Иди, вон, топись, — посоветовал Проне Бео Гург. — Колодец рядом.
Бусыга и Караван-баши в злом разговоре не участвовали. Они нашли старые корзины и теми корзинами таскали песок, посыпая им кровавые следы лошадиной резни.
Проня выругался чёрными новгородскими словесами, вытянул из-за пояса топор и стал рубить на дрова куски изломанных телег. Развёл костёр, приладил казан, кожаным ведром натаскал в казан воды. Пшена ячменного остался один мешок. Проня выгреб из туеска последнюю ложку свиного смальца, заправил его в кипящую кашу. И как идти дальше, если они вырвутся из этой тюрьмы под чужим небом?
Мимо задумчивого Прони Бусыга вдруг проволок огромный мешок. Мешок хрипел и дёргался. Бусыга скрылся с ним в саманных развалинах города Бургур. Оттуда послышался человеческий вскрик, потом стихло.
Проня выгреб из-под казана головешки, оставил одни угасающие угли. Пусть каша потомится. К нему вышел из развалин Бео Гург.
— Иди... Там закопать надо. Бусыга не справится. Иди ты.
В развалинах большого дома лежал и корчился, воняя телом и всем тем, что воняет при разрезанном брюхе, ханский воин со знаком десятского. Бусыга стоял к нему спиной и быстро рыл яму по размерам тела. Караван-баши мрачно глянул Проне в глаза и помахал своим длинным ножом, от ножа несло горелой кровью. Пытал, видать, Караван-баши своим ножом несговорчивого десятского.
— Узнали от десятского, что здесь у хана всего две сотни воинов, — сказал Проне начальник каравана. — Да ещё двести ушли за пять дней пути к востоку грабить кочевников. И что здешние люди, мергены, сильно этого хана не любят. Не горюй, Проня, раз есть здесь люди, которые не любят хана, то мы с ними запросто стакнёмся...
Поздно вечером, когда верблюды улеглись, а кони всё ещё искали хоть клочок травы, у дальнего стенного пролома что-то ярко сверкнуло. Пропало, потом три раза опять свернуло. Проня быстрым ужом скользнул от костра в сторону караванных тюков, где уже давно изготовил пищали к неожиданной стрельбе. Там, откуда сверкнуло, прошелестел шёпот.
Караван-баши встал в рост, поманил Бео Гурга. Они прошли от костра в ту сторону.
Тот, кто прятался среди руин, в руке держал бронзовое зеркало. Человек, низенький, телом плотный, а лицом ровный, не скуластый и на монгола не похожий, тихо и без суеты начал разговор с Караван-баши. Потом повернул лицо к Бео Гурту и попрощался арабским древним языком:
— На всё воля Всевышнего Бога, — и так же тихо исчез в развалинах.
Караван-баши стал искать подходящие слова:
— Это местные жители. Раньше разводили сады и растили овощи. Потом пришли монголы. За монголами пришли китайцы. Этот хан, что сожрал нашу кобылочку — и не хан вовсе... по закону. Это китайский наёмник, монгол. Ему велено согнать с этих земель здешних жителей. — Караван-баши покашлял, как часто кашлял теперь. Зимний поход вынул у него из тела много силы. — Местных жителей зовут теперь мергенами — «охотниками»... Земли у них нет, домов нет. Живут они вон, в камышах. Всё имущество у них отобрали, вот и живут мергены охотой, прячутся ото всех. Меня признали по персидской шапке, помнят ещё древнюю религию...
Я пока пойду полежу возле огня, а ты позови наших. Мергены сообразили, что возле нас смерть закрутилась, приволокли травы нашим коням, да местного гороху. Коней, говорят, покормите, товары и верблюдов бросайте, а сами на конях бегите за реку Аксу. Там уйгурские земли, там, мол, вас защитят. У них тут главным молодой Кан Торкей. «Кан» — повелитель воды. Если что понадобится, он велел пустить в сторону камышей горящую стрелу...
Пока Проня с Бусыгой таскали тощие связки озёрной травы, вроде сена, да пока разваривали в казане полмешка красных горошин, Караван-баши прилёг на кошму. Он сильно сдал в последнее время. Дорога силы даёт, когда к дому идёшь. А когда от дома удаляешься, она силы забирает... И Книжнику что-то нездоровилось, мозжило в том месте, где некогда болталась рука.
— Бросить караван и убежать мы можем, — сказал Бео Гург. — Только куда мы убежим? И какой народ нас примет? На Русь таким беглецам дороги нет.
Караван-баши согласно кашлянул.
Небо над ними усеяли звёзды, каких на Руси не увидишь. Месяц стал сползать к западу, скоро утро. А поутру и хан этот, скотский, пожалует. С ним двести воинов. Но бежать нельзя!
— Китайцы теперь в какого Бога верят? — спросил Бео Гург, следя, как с неба сорвались три звезды и, будто с крутой горочки, скатились на землю.
— Не знаю... — Караван-баши снова утробно прокашлялся. — Последний раз я был здесь десять лет назад. Тогда они верили в Дракона. Мол, на золотом Драконе к ним спустился с неба первый Император именем...
— Хуан Ди, — подсказал Бео Гург.
— Да, вроде того... Хуан Ди. — Караван-баши опять прокашлялся. — Мы тогда ходили здесь под флагом Казанского ханства, но с товаром от ганзейских купцов. Правда, нас вели не этой дорогой, а другой, что идёт по ту сторону большой пустыни именем Гоби. Там хорошо шли — везде военная стража, не разбойная, через каждые сто вёрст — древние гиссарлыки. Таможни, значит. Шайтан знает, сколько им лет и чьего они народа. Но не китайского и не монгольского... Там, правда, рек нет, но много колодцев. Воды хватало...
— Продали ганзейский товар? — спросил Бео Гург.
— Продажи не получилось... Поменяли на блестящие чашки, такие лёгкие. На кувшинчики прозрачные. На Фар Фор... А больше всего товара выменяли на белый порошок. Сто двадцать ваших русских фунтов этого порошка взяли за ганзейские стальные ножи, топоры и пилы!
— На опий, дураки, поменяли, — оживился Бео Гург. — Значит, ганзейский караван назад в Европу не вернулся?
— Не вернулся, — подтвердил Караван-баши. — Как раз у озера Нор Зайсан на обратном пути нас встретили три сотни монгольских, или каких там, воинов. Здесь никто не работает, все воюют. Да, встретили нас злые воины и всех перебили.
Бео Гург не стал спрашивать, как удалось уйти от резни самому Караван-баши. Это иногда бывает стыдно и говорить.
— Я купцам говорил, что после сделки надо сразу скрыться в долине реки Кара Иртыш и там петлять. Ты, Бео Гург, видал, какие заросли в той долине? А река всегда выведет куда надо. Не послушались, не стали уходить с торной дороги! Один купец там, ну просто от дурного народу, от подлого, в меня плевать начал, своим Богом Яхвой обещал, что я оплаты не получу... Так я ночью срезал у его верблюда один тюк, кинул себе на лошадь и ушёл в долину Кара Иртыша... Дня через три я вернулся к озеру Нор Зайсан, убедился, что купцов всех вырезали. Ну, я плакать не стал, а в тюке у того, кто в меня плевал, нашёл женские украшения. Украл, видать: украшения в этих местах не продают и не меняют. Вот, одно я сохранил. Вожу с собой, как талисман. — Караван-баши пошарил у себя в потайном кармане, достал золотую безделушку на тонкой цепочке.
Работа была изумительной тонкости. Древняя, вавилонская ещё работа — это Бео Гург приметил сразу. За оба конца золотой цепочки прихвачен серебряный полумесяц. А тот полумесяц обвивает дракон, очень хитро сложенный из драгоценных камней, впаянных в золото. Вот он, Золотой Дракон, на котором в Китае приземлился первый император Хуан Ди!
Бео Гург увидел, что к костру идут Проня и Бусыга, быстро произнёс:
— Я пока подержу у себя эту безделицу, через пару дней отдам.
— Не надо отдавать. При случае это можно обменять на наши жизни, Золотой Волк... — Караван-баши прилёг, постанывая.
Проня подошёл, первым плюхнулся у костра, выругался и тут же объявил:
— А тверской купец Афанаська Никитин нас всех провёл! Или, когда мы его обихаживали, он уже без ума находился? А? Сообразил же — послать нас в Китай! Чтобы мы здесь головами свихнулись!
— А ты чего скажешь, Бусыга? — спросил Бео Гург.
Бусыга покидал в костёр веточки и щепочки, мутно глянул на небо, уже освещённое ещё невидимым солнцем, пробурчал:
— Если в Москву вернёмся, тогда скажу.
— Если, если...— пробурчал Проня. — Возвращаться придётся по этим же местам. Ох, и ласково же нас тогда здесь зарежут!
— По этим местам назад мы не пойдём, — отозвался Бео Гург. — Дураков среди нас мало, а дорог в этой стране — много. Сообразил, на что намекаю?
Проня закивал головой, но по роже было видать, что не сообразил.
Издалека, от юртового монгольского аула донеслись дикие крики. Проснувшиеся ханские нукеры неслись к стоянке русских купцов, визжа от радости. От какой такой радости?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
Первым ворвался ханский сотник. Он кричал что-то непонятное, но одно слово — «хан» — вполне угадывалось.
— Бусыга, — позвал Бео Гург, — иди сюда. Караван-баши сильно устал, спит крепко. Скажи этому орале, чтобы послал к нам аксакал-толмачи. Аксакал-толмачи! Повтори!
Бусыга, злой от недосыпу и от невозможности вдарить кулаком по луноликой морде ханского сотника, крикнул тому три раза, что было велено. Сотник крутанулся на месте, наклонился, стеганул плёткой по угасающему костру и помчался к своим. Караван-баши открыл глаза и пробормотал:
— Костёр наш стеганул плёткой — это не к добру. А кричал он, что хану очень понравилась русская лошадь с кобылочкой в брюхе. Велит вечером зарезать вторую.
— Кого мы вечером станем резать, так это им, узкоглазым, пока знать не положено, — совсем спокойный от бешенства крови, Бео Гург широкой ладонью прикрыл глаза Караван-баши. — Спи, ты нам нужен совсем здоровым через три дня.
А тем временем в пролом ворот на тележке, запряжённой парой махоньких монгольских коней, уже въезжал Старец, давший команду ханским нукерам у озера Нор Зайсан прирезать китайского контайшу.
Старец подправил коней прямо к тлеющему костру, но из повозки не вылез. Врал оттуда, что под левой рукой хана Урген Тая две тысячи конников, да под правой — столько же, да ещё хан впереди себя держит главную Орду. За ханом Урген Таем стоят китайские войска, и числа им нет. Так что русским купцам надо хану подчиниться, весь товар отдать, а он уж сам, честно, купцам расчёт произведёт. Правда, китайцам воск не надобен. Камешки жёлтые, не золотые, тоже. Поэтому, если честно, то купцы ничего не получат от хана. Но если у них есть серебро, то пусть оставят себе по одной монете, а всё остальное отдадут хану и идут себе обратной дорогой...
Бео Гург ненькал в кулаке тот серебряный полумесяц, зажатый когтями Золотого Дракона, что взял у Караван-баши. И под наглые слова Старца про себя рассуждал: кинуться ли китайцы за ними в погоню через речную границу Аксу в государство Уй Гур или не кинутся? Времена нынче пошли совсем беззаконные: Империи нет, туда-сюда бегают с острыми железяками дикие люди, живут одним днём, за чужой счёт... Надо приманить сюда китайцев! У Бео Гурга будет что им показать.
Волк дослушал последние слова Старца, советника хана Урген Тая:
— ...А у озера Нор Зайсан наши люди укажут вам дорогу и продадут вам пять верблюдов. По серебряной монете за верблюда. И вы поедете домой с хорошими мыслями о нашем гостеприимстве.
Да. Хороший и точный намёк, чтобы сюда, на эти земли, никто больше не ездил.
Бео Гург вытянул из-под ноги крепко спящего Караван-баши малахай ханского десятника, погибшего вчера от пыток, кинул тот малахай прямо в повозку Старца:
— Ханский десятник вчера ночью к нам прокрался, хотел продать за горсть серебра вот это женское украшение... — Бео Гург медленно вытащил за цепочку серебряный полумесяц с Драконом. — Я грамотный, я знаю, что такие украшения можно найти только в могилах древних царей или цариц. Так?
— Ие-е-е-е... — от сильного испуга Старец затянул соглашательный тангутский звук. Значит, монголом он не был. И китайская кровь в нём не текла. Заступиться за него будет некому.
Бео Гург вдруг совершенно озлился и лицом и голосом:
— Ты шапку пограбежника забери да хану своему доложи, что мы прирезали вора. И руку за этой серьгой китайской царицы ты не тяни. Пусть сюда едут китайские судьи, тогда мы им и тело вашего вора отдадим, и ещё одну страшную вещь от ихнего Бога — Золотого Дракона. За неё китайцы станут месяц нас чествовать, а ваше сбродное войско вместе с ханом угробят. Быстро пошёл к своему хану!
Бусыга шлёпнул плёткой крайнего конька и повозка со Старцем понеслась из ворот города.
— Теперь чего? — спросил Бусыга у Бео Гурга. — Читать отходную?
— У Прони спроси, чего читать, — кивнул Бео Гург на Проню. — Он у нас в грамотеях ходит. С тех пор, как выпивать перестал.
Проня отмахнулся от шутки, тихо сказал:
— Ты, Книжник, велел мне иногда за камышами поглядывать?
— Ну?
— Там поднялась палка, на палке маленькая поперечина, вроде креста.
— Та-а-а-ак... Хватай свой лук, хватай паклю с жиром, найди укромное место и оттуда, в сторону того креста выпусти горящую стрелу. Быстро!
На заранее оговорённый сигнал в город проник через тайный лаз высокий, худощавый мерген с благородным лицом воина. Бео Гург сделал три шага навстречу молодому князю мерегенов:
— Спасибо, что пришёл по нашему зову, благородный Кан Торкей! Да пребудет у тебя сила в руках твоих до последнего натяга тетивы твоего лука, да будет твоя охотничья сума каждый день наполнена добычей!
— Мы скажем «спасибо» друг другу, Золотой Волк, на той стороне реки. Мы встретились с тобой, чтобы совместно перейти реку. Это — главное.
— Это — главное, — согласился Бео Гург. — Давай обсудим.
— Мы сначала то обсудим, что злых монголов хана Урген Тая злить не стоило. Они у тебя просили лошадь с нерождённым жеребёнком, так надо было ту лошадь им отдать. Нам нужно выиграть время до следующей ночи.
— Ту лошадь я дать хану Урген Таю не могу!
— Жаль. Но я понимаю, когда говорят «не могу». Я ранним утром послал гонца к китайцам. С известием, что ты нашёл у монголов Дракона на золотой цепи. Если они поторопятся, то будут здесь через день и через ночь. Но монголы за это время вырежут вас, заберут все ваши товары и сумеют доказать китайцам, что наказали вас кровью правильно.
— Если ты нам поможешь своими воинами, то мы с тобой вырежем этих монгол. И уйдём за реку в страну Уй Гур. И китайцы нас проводят с великой почестью!
Кан Торкей внимательно посмотрел в глаза Бео Гурга. То, что говорил ему этот огромный русский, с одной рукой, очень сильный и очень умный, не могло быть ложью. Русские купцы попали в крепкий капкан. Из такого капкана ложью не вырвешься. Только силой или только с помощью китайцев. Значит, этот русский хочет купить китайцев. У него есть чем их купить. Только вот китайцы — такой народ: они сначала заплатят, а потом плательщика зарежут. А его мерген китайцы тут же погонят на далёкие равнины реки Яну Цзы, на гиблые рисовые поля, погонят рабами...
— Мне будет достаточно, если ты, высокочтимый Кан Торкей, пошлёшь ко мне на помощь в эту крепость сто метких лучников с большим запасом стрел. Монголы не умеют брать крепости, и мы сможем её удержать до прихода китайцев.
Кан Торкей позволил себе снисходительно посмотреть в лицо русскому:
— Это была крепость, Золотой Волк. Сейчас это развалины. Монголы просто растопчут их копытами своих коней.
Бео Гург глянул на солнце. Оно приближалось к зениту. Монголы в полуденное пекло не станут гнать коней на приступ. Они расположились полукругом вокруг бывшего города Бургур. Монголы понимали: купцы никуда не полезут. Можно на солнце погреться и костры развести, погреть вчерашние остатки русской кобылицы да поесть.
Бео Гург спросил упрямого Кана мергенов:
— Есть ли у вас второй, незаметный путь через камыши в сторону реки Аксу? Такой путь, по которому твои люди отведут стариков, женщин и детей на уйгурскую сторону?
Кан Торкей пожал плечами. Но промолчал. Придётся парня обидеть:
— И ты с ними уйдёшь, благородный Кан мергенов. Каждая семья получит от меня... сколько стоит на уйгурской стороне земли дом с садом и огородом?
— Одну мину[109] серебром, — поспешил ответить предводитель мергенов.
Вот как! Эти люди знают старый персидский счёт и вес? Не привыкли к обманчивым китайским мерам? Или не захотели? Но цену этот парень назвал правильную. На Руси дом с огородом стоит столько же, хотя сейчас не время считаться. Сейчас время — спасаться.
— Сколько твоих семей спасают свою жизнь в этих камышах? — опять спросил Бео Гург.
Кан Торкей ответил без раздумий:
— Двести и ещё шесть.
— Бусыга! — крикнул Бео Гург задремавшему на весеннем солнце купцу. — Неси сюда три мешка белого звона!
Пока Бусыга отвязывал от тюков мешки с серебром, Бео Гург добавил для полной уверенности повелителя метких охотников[110]:
— А те воины, что будут с нами защищать крепость до подхода китайцев, получат ещё по полтиннику серебром. — Он вынул из кожаного мешка, споро развязанного Бусыгой, горсть тяжёлых, новочеканеных серебряных монет в половину рубля весом, — позвенел. — Ты должен идти со своими семьями. Если будешь воевать здесь и умрёшь, народ твой останется без отца. Я этого не хочу...
— И я не хочу, — твёрдо ответил Торкей Кан.
— Будешь на той стороне, предупреди вождя Уй Гур, что я к ним иду без злобы, а с радостью. И прошу у них помощи преодолеть путь в Индию...
— Уйгуры за это попросят у тебя серебро, — предупредил Бео Гурта предводитель мергенов.
— Там их страна, значит, будем поступать по ихнему закону. Спросят серебро — получат... А по нашим законам, — Бео Гург мигнул Бусыге, — главный предводитель народа за помощь в общем деле получает полный мешок серебра!
Бусыга подал третий кожаный кошель Торкей Кану. Тот мешок взял да не удержал. Тяжеловато и весьма убедительно весит русское серебро!
Полсотни бессемейных лучников, посланных Торкей Каном оборонять крепость, вдосталь поели конского мяса (зарубили для них самого старого коня), и теперь охотники осваивали, скрываясь в саманных камнях, углы прицела.
Десяток молодых мергенских парней вместе с Проней закатили в пролом бывших ворот длинные повозки, колёса повозок перепутали обрывками верёвок и кожаных поясов. Поверх телег накидали саманных кирпичей, их тоже перемотали верёвками. «Закрыли» ворота крепости.
Монголы не препятствовали укреплению старого городища. Они считали, что сидевшие в крепости огораживают сами себя. Куда им бежать с огромным караваном верблюдов, да ещё гружёных товаром? А собранных в одном месте, их легко выбить стрелами.
Солнце взошло, весёлое, радостное, совсем весеннее.
— Дым, дым! — проорал Проня, завидев условный сигнал, означавший что семьи мергенов благополучно перешли на уйгурскую сторону. Кан Торкей сдержал слово.
Монголы услышали крики, тоже увидели дым, а потому заорали и кучей понеслись к воротам старой крепости...
Проня подождал, пока десяток передних всадников окажется в тридцати шагах от ворот, и щёлкнул затравочным рычагом пищали. Фитиль чмокнулся о порох на затравочной полке, орудие дёрнулось и грохнуло так, будто старая крепость обвалилась. Проня немедленно передал опроставшуюся пищаль Бусыге на перезарядку, а сам уже выцепил взглядом кучку всадников возле шеста с болтающимся конским хвостом. Там находился сам хан.
Пищаль второй раз ахнула так, что чуть не выскочила из рук Прони. Шест возле хана упал, там дико заорали. Кони забесились, два монгола покатились кубарем с опрокинувшихся лошадёнок. Но хан, всадник в белом, грязном халате, завертелся на своём коне и отскакал подальше.
— Цел остался, собака! — заругался Проня, перенимая от Бусыги вновь перезаряженную пищаль.
Парень из мергенов медленно вёл луком за уцелевшим от свинца монгольским всадником в белом, скачущим в сторону от ворот. Тетива вжикнула — и всадник широко развёл руки, хлопнулся наземь.
— Ну, брат, — ударил мергена по плечу Проня. — Так мы с тобой всех завалим! А?
— Всех завалим! А! — подтвердил мерген.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Огненным боем били две пищали. Они положили свинцом двенадцать монголов. Остальных достали мергенские стрелы с бронзовыми наконечниками.
Значит, в крепости засело примерно пятьдесят лучников. Монголы не ошиблись. Опыт у них имелся. Пятерых молодых мергенов из полусотни монголы убили. Троих ранили, но те ещё постреляют.
Монгольская стрела досталась и Проне, стукнулась прямо в лоб над левым глазом. Лоб оказался крепкий, а наконечник стрелы совсем дрянной, из ломкого железа. Поломался наконечник стрелы об лоб псковского купца!
Все долго смеялись, а потом караванщик поманил Бео Гурга к себе в укрытие за толстую саманную стену, отделяющую городской колодец от «складского» навеса.
— Сейчас монголы посчитают своих убитых и выкинут белый флаг. Станут звать на переговоры. Говори, что по русскому обычаю противники встречаются на середине поля битвы. Убедить в этом сможешь?
— Смогу.
— Пусть от монголов едет главным на те переговоры тот подлый Старец. В своей повозке Его до прихода китайцев нам надо взять. Он ценнее хана Урген Тая. И ещё пусть едут двое — неважно, кто. От нас пойдёшь ты. Пешком. Монголы тебя считают важным господином... Выбери себе в сопроводители таких охотников, что стреляют хоть лежа, хоть через спину. Помни — монголы спрячут арканы и луки в повозку. Понял?
— Ловко... Понял я, что надо прикинуться дураками.
— Дураками-то дураками, но не безголовыми. Возьми в полон Старца. И, захватив повозку, гони к тому краю города, что зарос камышами. Тебя там встретят...
Монголы, и верно, запросили переговорить — почётно, в юрте, под ханским флагом. Бео Гург спокойно и даже вежливо обругал хана рогатой свиньёй, а всех его воинов сравнил с помётом тушканчиков... Так до вечера ездили к воротам крепости монгольские послы, но всё же согласились встретиться на середине поля, между крепостью и ханской ставкой. Там, на том месте и воткнули копьё.
А к тому времени два крепких парня из мергенов скинули с себя свои латаные монгольские халаты и надели новые халаты русского кроя. Полы тех халатов волочились по земле, рукава висели до колен. Зато халаты ещё ни разу не пачкались в дорожной пыли, поскольку Бусыга берёг их для Индии. А главное, под ними не угадывались прицепленные сзади к поясам колчаны со стрелами да короткие, но мощные мергенские луки.
— А пошли, охотники, сходим за добычей! — пригласил обоих Бео Гург и они втроём на четвереньках кое-как пролезли под завалом из телег и камней, выбравшись через воротный проём из крепости.
Монгольские переговорщики ехали навстречу им в тележке, как и договаривались. Правил тот парень, со шрамом на горле, кто на глазах своего хана зарезал отца. Старец сидел посреди тележки. Сзади него, развалилися огромный, как медведь, местный багатур[111]. За переговорщиками, на расстоянии полёта стрелы, разворачивались в линию монгольские всадники с луками.
Нарушение договора о равноправной встрече начали монголы. Они первыми доехали до копья, обозначающего место схода, и их возница начал разворачивать лошадей. Оплывший жиром багатур завозился в повозке, да случайно выказал длинный, боевой чжурчженьский[112] лук.
— Ну, не сволочь ли? — спросил у мергенов Бео Гург, наклоняясь к правому сапогу за ножом.
Из наклона, из-под низу, он метнул свой нож в горло жирного багатура. Тот захрипел продырявленным горлом и выпал из повозки. Мергены уже успели всадить по две стрелы в возницу со шрамом на шее, и Старец заорал, пытаясь ухватить вожжи, чтобы гнать коней в свою сторону.
Линия монгольских воинов сорвалась с места и пошла вдогон за повозкой, но ею уже правил... Бео Гург. Повозка с разгону залетела в камыши, Бео Гург расчётливо стукнул Старца пониже уха, а оба мергена поволокли пленного к потайному лазу в стене.
Сверху, со стены крепости, два раза громыхнула Пронина пищаль, прозвенели тетивы мергенских луков, и монгольская сотня стала с воем удаляться к ханской юрте.
Переговоры завершились удачно.
Весь день и всю ночь монголы таскали к обрушенным стенам крепости связки камыша. К ним, видать, подошло подкрепление: очень много всадников крутилось вокруг, сбрасывая с арканов камыш. Бео Гург не велел мергенам стрелять, стрел в крепости осталось мало. Да и пристрелить всадника, прикрытого плотной связкой жёстких стеблей, не так-то легко.
— Поджигать нас будут! — заявил ночью тот мерген, что ходил с Бео Гургом в переговорщиках. — Вижу, что кидают на камыш куски чёрного дыма.
Бео Гург никак не мог понять про чёрный дым, который кидают кусками, пока подсунувшийся под руку Проня не пояснил, что монголы нашли земляную смолу, застывшее чёрное масло, выходящее из-под земли. И вот теперь вместе с камышом обкладывают им крепость.
— Когда его подожгут, — сообщил Проня, — повалит такой густой дым, что мы ничего не увидим дальше своего носа. Куда стрелять, в кого целиться? Мы станем башки тянуть наружу, тогда нас и перестреляют. Ловко придумано!
— А когда загорится мокрый камыш, — добавил мерген, — дышать станет нечем, верблюды начнут беситься, перетопчут здесь всех, ворота проломят. Нас изувечат...
— Вы можете уходить отсюда. По своему тайному ходу, — ответил Бео Гург. — Бусыга, отсчитай воинам деньги. Они уходят!
Бусыга очумело глянул на Книжника, метнул взгляд на Караван-баши, но тот спал — совсем старика начало оттирать от жизни. Тогда купец вздохнул, взял кожаный кошль с деньгами, сунул, не пересчитывая, его мергену, хлопнул воина по плечу:
— Хороший ты парень. Жаль, водку не пьёшь.
Мерген часто-часто закивал головой, махнул рукой своим парням. Один за другим охотники скрылись в провале между камней. Тайный ход этот выходил в полуверсте от крепости, на острове посреди камышовых зарослей.
Едва солнце взошло на половину своего диска, как монголы начали обстрел завалов возле стен крепости горящими стрелами. Куски битума стали потихоньку схватываться огнём.
Бео Гург соорудил себе укрытие в проёме приворотной башни, натаскал туда крепких камней.
— Хоть пару врагов, но я этими камнями добуду, — сказал он Проне.
Проня ничего не ответил. Ветер как раз дул от реки Аксу, дул прямо в ворота крепости, и чёрный дым с тростниковым угаром медленно заползал внутрь. Монголы метались вокруг крепости, весело орали, стреляли на скаку по обрушенным стенам, забавлялись.
Вдруг Бео Гург почуял на своей левой щеке горячее тепло. Что-то дикое проорал Проня. Бусыга без слов тыкал пальцем в сторону камышовых зарослей. Бео Гург повернулся туда, куда тянул руку Бусыга и охнул. Огромный клуб огня, почти бездымного, с оглушающим треском, прорывался по старой, жухлой траве к реке, отгоняя от города враз ополоумевших монголов. То там, то здесь, то где-то совсем далеко среди языков огня мелькали маленькие, проворные люди. Они, видать, к такому огню имели навык и поэтому то падали навзничь, то становились на одно колено, но беспрерывно стреляли по мечущимся монгольским всадникам.
Огненный вал пронёсся мимо крепости, сбил своей всепожирающей силой маленькие огонёчки, подожжённые было у саманных стен, дорвался до реки Аксу, бешено прошипел на берегу и там угас. Монголы, а их осталось сотни полторы, если и раненых считать за воинов, сгрудились в реке. Туда их занесли пугливые кони, не терпящие огня.
А на уйгурской стороне в два ряда стояли пешие воины, около полутысячи. У них и крой шапок был другим, не монгольским, и луки много длиннее, а правые полы халатов приспущены, чтобы освободить плечо и правую руку. На оголённых плечах даже из крепости можно было рассмотреть цветную, боевую татуировку. У кого разевал пасть тигр, у кого орёл глядел бешеным оком, а у кого и звезда сияла о девяти концах. Монголам за реку хода нет!
— Эй, Урус багатур! — крикнули снизу.
Бео Гург высунулся из-за камня в своём укрывище. Кричал тот мерген, который сказал ему, что охотники уходят, бросают крепость. Вот они как ушли! Всем бы так уходить!
— Айда монгол бить! — крикнул ещё раз мерген и поспешил в сторону реки.
Ещё носились клочья дыма над приречной равниной, но сверху хорошо просматривалось, как мергены, рассыпавшись в полукруг, будто фазаны в камышах, сшибали стрелами монгольских всадников с коней. Одна кучка монголов, в середине которой мелькал белый халат хана Урген Тая, пыталась было выскочить на уйгурский берег. Оттуда тут же сыпнула туча стрел... Кони без седоков вырвались на уйгурский берег, а седоки поплыли разноцветными брёвнами посреди быстрой и холодной реки.
Уйгуры свернулись в две походные колонны и пошли в распадок, куда в предгорья уходила старая дорога. Над их строем поднялся бунчук[113] с тремя длинными лентами белого, красного и синего цвета!
Проня поглядел вслед уйгурской боевой колоне и вдруг накинулся на Бусыгу:
— Ну, что? Опять кашу варить? А? Мяса охота!
Бео Гург со своей высокой башни увидал, как мергены, пропылённые, прокопчённые, добивают раненых или угорелых «тростниковых свиней», подвешивают их на копья и несут в город. Крикнул сверху своим купцам:
— Наши меткие стрелки уже сходили на базар! Жарь мясо, Бусыга!
Толстый, с тремя волосками на бороде и по паре волосков выпустивший на усы, контайша китайской провинции Лоу Гань брезгливо вышел из своей повозки, морщась, сел на ковёр, покрывающий саманный блок, рукой загородился от сочного куска предложенной свинины. Отказался от угощения.
Во дворе крепости сидели возле костра только четверо русских. Из них один больной старик, а второй — без левой руки. Это хорошо. Ему, контайше, так и донесли, что с караваном идут через западный край китайской территории всего четверо русских купцов. И у них есть спешный разговор к управителю этой провинции.
Хорошо, когда всем надо увидеть его, контайшу этой паскудной земли, где одна серебряная монета считается богатством. Хорошо, что эту старую разрушенную крепость взяли пять сотен пехотинцев, копейщиков и лучников армии Великого императора Поднебесной империи. Хорошо, что этой армии не надо воевать с клятыми монголами, подрядившимися охранять эту пограничную территорию, да вот несумевшими справиться с четырьмя русскими купцами. Здесь где-то прятались в камышах подлые мергены, которые отказались платить дань контайше провинции Лоу Гань. Но камыш сгорел, значит, подлых охотников там уже нет. И это тоже хорошо. Монголов, убитых русскими купцами, надо заменить другими монголами, из другого племени. Кушать хочется всем, да не всем кушать даётся. Что совсем хорошо, ибо на недостатке еды строится сила власти.
Русский, тот, что с одной рукой, что-то крикнул. Второй русский, здоровый, жаривший мясо у костра, пошёл в развалины сарая и вывел оттуда Старца. Контайша помнил этого старца ибо Старец имел великое счастье два раза бывать в Императорском дворце. Его там, в Пекине, почитали за мудреца.
— Этот человек, — Караван-баши заговорил на китайском языке северных провинций, — при нас убил контайшу озера Зайсан. Ты, милостивый господин и повелитель, наверное, знаешь об этом преступлении?
Контайша провинции Лоу Гань кивнул и уставился на Старца. Тот внезапно заорал на южном диалекте приморских китайцев. Начал обвинять русских в разбое, но тут же сбился, торопливо стал показывать на Бео Гурта и повторять слово «Дракон».
Караван-баши, не понимающий квакающей южной речи, но услышавший слово «Дракон», крякнул с досады, медленно поднялся и кривым, персидским ножом резанул по глотке Старца. Удержав падающее тело, он уронил его мимо контайши, чтобы того, нечаянно, не залило кровью.
— Не то говорил этот старик, — пояснил китайцу Караван-баши. — Врал старик. Подло и много.
Контайша раскрыл, было, рот, чтобы крикнуть своих воинов, но Бео Гург сразу же вынул из кармана серебряный полумесяц на золотой цепочке и покачал им перед глазами контайши. Тот захлебнулся в крике. Полумесяц обвивал золотой Дракон, весь усыпанный драгоценными камнями.
— Мы забрали эту вещь у лживого Старца, который даже мёртвый хочет обнять твои ноги, милостивый господин и повелитель, контайша провинции Лоу Гань. Не верь ему, даже мёртвому! Эта вещь принадлежит твоему Императору. Доставь её во дворец.
У китайца задрожали руки, когда он протянул их к священному украшению древних цариц. Где царицы те упокоены, помнят только земля и время. Но если случайно могильная вещь вылезет вдруг на свет божий да попадёт в руки императора, император обязательно возрадуется и наградит контайшу.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Бео Гург краем глаза заметил, как трясутся руки у контайши, как он путает свои карманы, чтобы спрятать дорогую вещь. Сказал расчётливо важно, надменно:
— Милостивый повелитель! Крикни сюда своего писаря и ещё одного человека, понимающего толк в письменах. Надо заверить твоей печатью наши путевые бумаги и отдать в казну твоего Императора потоварный сбор.
У ворот, уже освобождённых от завала, переминались с ноги на ногу три китайца. Бамбуковая палка с куском железа, привязанным на конце — вот и всё их вооружение. Контайша крикнул злым голосом. Тотчас все трое кинулись бежать к трём повозкам, стоящим в полуверсте от крепости, чуть впереди длинного ряда китайских солдат. Над повозками торчали короткие палки с цветными шариками на концах. Красный шарик обозначал главного человека в этих местах.
Караван-баши пояснил Книжнику по-русски:
— Золотой Волк! Половину подорожного сбора китаёза хочет получить сам. Без свидетелей.
— А! — сообразил Бео Гург. — Конечно! Бусыга, ополовинь мешок с серебром! Да волоки сюда!
— Может, ему и пяти монет хватит? — пробурчал Бусыга. — Кидаемся мешками с серебром, а ведь ещё и половину пути не прошли! Пять монет — и хватит!
Караван-баши рассмеялся с горловым, кашляющим клёкотом:
— Прав купец. Пять монет русского чекана этому выжиге точно хватит. Ну и в Императорскую казну дашь десять монет. Не обеднеет китайская казна...
Бусыга поставил кожаный кошель с деньгами под правую руку Книжника. Книжник с расчётливыми паузами стал вынимать оттуда по одной тяжёлой монете и класть их в протянутую жирную руку контайши. Тот, получив монету, клал её в один карман халата, другую монету — в другой карман. Третью монету он прятал себе в короткий сапог. Правильно делал, разнося богатство по разным местам, чтобы серебро случайно не стукнулось, не зазвенело при чужих людях...
— Теперь давай сюда бумаги! — потребовал контайша, когда последняя русская монета исчезла в подкладе его шапки.
Проня тут же опростал футляр из кожи, в котором хранились письма великого государя всея Руси к эмиру Бухарскому, к императору Китая и к радже царства Бидар. Два листа китайской грамоты Проня протянул контайше.
В ворота крепости въехала повозка. Там сидели те, кого вызвал контайша. Вот тут Бео Гург не удержался и выругался на средиземноморский грязный лад. В повозке рядом со стариком китайской наружности сидел и правил лошадёнками вполне сытый и довольный... европейский человек в сутане католического попа!
Вот эта католическая зараза чуть было не сорвала весь жестокий и мучительный путь русского каравана.
— А! — заорал пастор Дрюк, когда прочитал в бумагах, что караван везёт сто пудов янтаря и столько же воска. — Желаете составить конкуренцию Святому Престолу на китайской земле, русские свиньи? Свои храмы хотите построить на нашей теперь земле? — орал пастор на смеси западной и южной «мовы», но вполне вразумительно.
— Ну, если сейчас из-под повозки жид вылезет, я за себя не отвечаю, — взбесился Проня. — Я их обоих поставлю вон к той стене и в лохмотья разнесу из пищали.
Бео Гург отмахнулся от Прони, в третий раз начал повторять контайше:
— Мы идём повелением нашего великого государя всея Руси Ивана Васильевича, да не в китайские земли, а в земли индийские, к венценосному другу нашего великого государя всея Руси, к царю города Бидар... Везём ему подарки нашего государя и немного своего товара, чтобы узнать, чем там можно торговать.
— Никакие товары вы там не продадите! — заорал в голос пастор Дрюк. — Это наши торговые пути, и мы на них никого не пускаем.
— А в Индии — тоже ваши пути? — спросил, прикрыв глаза, Караван-баши.
— Ив Индии тоже наши! — опять заорал пастор Дрюк. — Везде наши пути! Мы раньше сюда пришли, мы здесь теперь хозяева!
— Ладно! — Караван-баши то ли сильно устал, то ли, как положено Му Аль Кем, мудрому повелителю на Пути, держал себя в полном спокойствии. — Мы сейчас спросим правду у истинного хозяина этой земли... — Караван-баши перешёл на китайский язык, в котором часто зазвучало: Рустем Дагестан, Кульджа, Байдзын, Хун Чин, Пекин и «Сур, Сур, Рус, Рус»...
Контайша кивал, совсем до щёлочек прикрыв глаза. Слова Караван-баши ему не нравились, но слишком много понимающих людей сидело вокруг. И как раз тех, которые имели прямой путь от уличных ступеней этого Закрытого города к престолу императора Поднебесной империи. А Караван-баши перечислял, как в старое время русские отряды громили здесь китайские города, да какие города они же потом охраняли. Корпус руссов в десять тысяч копий охранял столицу императора. На двести ли[114] в деревнях вокруг Пекина до сих пор бегают дети со светлыми волосами.
Мудрец-китаец, совсем седой и малоподвижный, приехавший вместе с католическим пастором и до сих пор молчавший, в самый разгар словесной перепалки вдруг шевельнулся и показал, что ему надо бы отойти. Проня поддержал старика, провёл его за колодец, за низкую стенку. Старик облегчился, ясными синими глазами впился в синие же глаза Прони и тихо спросил на татарском языке:
— Син мэне аннысан?[115]
У Прони будто щёлкнуло в левом ухе. Он тут же ответил, а что ответил и сам не знал. Но ответил, видать, правильно, ибо много ездил там, где татарский язык имеет силу:
— Ин сэннэ анным, якши тугель…[116]
И пошли они перекидываться словами, из которых в голову Прони ясно попало только то, что тот католический поп — самый главный католик в столице Поднебесной. И всем истинным китайским мудрецам и чиновным людям надоел до колик в животе. Но католик сумел добиться у командующего Западной армией Империи, чтобы товар у русских купцов отобрать — в пользу миссии католической церкви в Китае, а самих купцов — утопить.
— Ну, тогда ему хана! — сообщил китайцу ошарашенный Проня и чиркнул себя большим пальцем по горлу. Но то, что сообщил китайский мудрец, стоило денег. — Ты меня обрадовал, — похвалил китайца Проня. — Теперь я должен тебе бакшиш[117].
— Нет, ты мне должен немного воска. Я знаю волшебный русский воск. Он даст мне силу благочестиво умереть.
Проня кивнул, и они отправились к месту переговоров. Проне никак нельзя было сказать Книжнику по-русски, что их в скором времени ожидает большой грабёж и погибель: тот католический поп русский язык, подлец, знал.
А переговорщики спорили уже до крика. Визжал католик, требовал гнать русский караван в город Хами, вглубь Китая, чтобы за Великой стеной, не спеша, прочитать документы русского государя, да со всей великой почестью отказать ему в праве на продвижение русских купцов через Китай в Индию или куда бы то ни было.
— Ты попроси этого милостивого китайского господина распорядиться, чтобы его отряд пошёл бы отсюдова, — шепнул Проня Книжнику. — Чего им на жаре стоять? Пусть идут к себе в лагерь. Холодной воды попьют.
— А что, Проня, не боишься ты в Аду греть своё гузно на горячей сковородке? — удивился Книжник, уже догадываясь, о чём Проня тихо шептался со старым китайцем.
— Не боюсь.
Караван-баши быстро перевёл контайше просьбу русских купцов. С одной стороны, просьба, конечно, наглая: не пришлым купцам командовать чужими войсками. А с другой стороны, китайские воины уже полдня стоят, им надо дать надлежащий отдых, им попить охота, да и поесть тоже.
Контайша прокричал приказ гонцам, сидящим у ворот города. Те с радостью сорвались и побежали к военному отряду. Скоро там затренькали бамбуковые доспехи, пятисотенный отряд вытянулся и двинулся от крепости на восток, в свой лагерь.
Бео Гург повернулся всем телом в сторону католического пастора. Тот, вытянув шею, наблюдал, как ровно уходят от города по выжженной равнине китайские воины. Потом католик заорал на контайшу ругательно.
Тогда Бео Гург проговорил тёмным голосом:
— Ты бы, ксендзово отродье, отошёл от нас, а? Я желаю тайно говорить с многомудрым властелином территории Лоу Гань.
Старый китаец, давший хороший совет Проне, тотчас отодвинулся, присел на солнечной стороне городской стены. Хоть весна уже показала людям свою тёплую радость, и трава позеленила почву, а всё же солнце лишь светило, но грело плохо...
Проня новгородским воровским приёмом рванул вниз сутану на католическом попе, да так, что она спутала его руки. Католик завизжал. Контайша отвернулся. Проня донёс клятого выжигу до колодца, сунул его головой вниз. И держал так, пока ноги святого отца, противника деяний русского купечества на пути в Индию, перестали дёргаться. Тогда Проня вывалил тело из колодца. При молчаливом согласии своих товарищей, он принёс початую баклагу с чачей и той чачей смочил халат противника православной веры, а потом влил ему в горло сколько вошло. Баклагу купец сунул в глубокий карман рваной сутаны и положил «утонувшего пьяницу» под навес.
— За эту неожиданную казнь надо много платить, — сказал контайша. — Сначала вам платить мне, а потом я буду платить большим людям там...— он кивнул на восток.
— Назови цену, — ответил Караван-баши. — Но учти, что он напился пьяный и только тогда утонул. А святым отцам пить непотребное зелье — большой грех. За согрешившего человека всегда платят меньше.
— А пить это зелье начальнику большой провинции Поднебесной империи — не грех? — выказал свой интерес контайша. — Мне — не грех?
Проня с радостью налил контайше в лаковую чашечку свирепой до жжения чачи...
Пили до самого вечера. Съели за тем столом трёх тростниковых кабанов.
Китайский мудрец, получив от Прони огромный круг русского воска, устроился при отдельном костре и очень быстро начертил на плотном листе датской бумаги, выданной ему Бео Гургом, распоряжение императора Поднебесной империи о полном разрешении русским купцам ходить в любую сторону Китая с любым товаром. И особенно в Индию. Потом Караван-баши на оборотной стороне того листа начертал перевод распоряжения на тюркский язык, а Бео Гург тщательно переписал всё, что требовалось, на арабский. Бео Гург шлёпнул на переведённый текст две печати эмира Бухарского. Вышло хорошо, даже замечательно! Оставалось шлёпнуть печать контайши.
Контайша увлечённо пересчитывал большие серебряные кругляши, переданные ему Бео Гургом в железном ларце. Теперь, после хорошего ужина, считалось, будто эти деньги есть достойная оплата за погибель католического попа. За его самоутопление в старом колодце по пьяному делу. Контайша, сам будучи в состоянии утонуть в баклаге с чачей, не замечал, что пересчитывает ганзейские талеры.
Ведь стыдно за жизнь пройдохи в сутане платить русским серебром!
— Ну, ставь свою печать, милостивец, и расстанемся с миром, — предложил Бео Гург.
Контайша вдруг начал отнекиваться, что, мол, его печать находится при войске, а войско теперь далеко, значит, русским купцам надо ждать в крепости, пока контайша с бумагами съездит к войску, поставит там печати, а потом заверенные бумаги с особым гонцом вернёт русским купцам.
Проня глянул на старого китайского мудреца. Тот зажал свою бородку в кулак и дёргал её, а другой рукой хлопал себя по карману халата, показывая тем, что нужную печать контайша держит при себе.
— Обманет, — сказал Проня Бео Гургу. — И даже сила тут уже не поможет.
— Бог поможет, — ответил Бео Гург. Он медленно достал из кармана своего халата нечто размером с кулак, но без костяшек. Это «нечто» было завёрнуто в кусок тонкого льняного полотна. Бео Гург спросил совершенно пьяного контайшу. — Вам, китайцам, законы, письменность и государство дал Дракон?
— Дракон, Хуан Ди, — согласился контайша. — Но он давно улетел... — и китаец заплакал безо всякого притворства, со всхлипами.
— Да, улетел, — согласился Бео Гург. — Но Драконы просто так не улетают. Они заботятся о своих, вынянченных ими людях. Те Драконы, я знаю, они всегда в тайных и недоступных местах оставляют свои яйца. Чтобы, когда вдруг падёт несчастье на китайскую страну, из того яйца вылупился бы новый Дракон и стране помог, — и Бео Гург культей махом сдёрнул льняную тряпочку с предмета в правой руке.
Контайша не закричал, он просто завыл. Упал на землю с ковра и положил голову под ноги Бео Гурга. В правой руке Книжник держал прозрачное янтарное яйцо, через которое с невыразимым бешенством смотрел на мир большими открытыми глазами махонький дракончик! С открытой пастью, с когтистыми лапками и с угрожающе подвёрнутым хвостиком.
Бео Гург снял с китайца его шапку с красным шариком и положил в ту шапку янтарное яйцо с дракончиком внутри.
— Это есть подарок нашего великого государя вашему императору, — сказал Бео Гург в шевелящийся от животного ужаса затылок испуганного контайши провинции Лоу Гань. — Ставь нам свои печати, дурак!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Всё было бы просто замечательно. Получили китайские печати, перешли пограничную реку Аксу, заплатили подорожный сбор уйгурскому князю. Попировали с ним, с князем, у красивого водопада, что раскидывал брызги на жёлтые пески самой жуткой в мире пустыни Такла-Макан.
Предводитель мергенов, Торкей Кан, под это пиршество да под десять серебряных рублей нарядил в защиту каравана сорок своих метких охотников, молодых, бессемейных. Каждый ехал на крепком монгольском коне да вёл в поводу по две вьючных лошади. За старшего в том охранном отряде был назначен весёлый парень, с трудным для русского уха именем — Ойял Тогой Тайхой.
— Будешь у нас Тихоном! — решил Бео Гург.
— Буду, буду! — засмеялся Тихон.
Он за эти три недели ловко научился главным словам русского языка. А однажды так вытянул чёрной руганью Проню, что тот немедля намочил голову в ледяном горном ручье. Да и было за что, ведь Проня пнул непослушного молодого верблюда. «Молодых верблюдов пинать нельзя, людей пугаться станут», — такой смысл был в бешеной ругани Тихона.
Караван из полусотни верблюдов вытянулся на широком тележном пути от уйгурского города Учтурфан на город Каши — святой и таинственный древний город, неизвестно кем основанный, но славящийся своим гостеприимством. Вдруг на первой же стоянке каравана Караван-баши упал с верблюда.
— Ты ушибся, ушибся? — подбежал к нему Проня.
Глаза Караван-баши больше не слушались хозяина и закатывались.
— Он не ушибся, — мрачно сказал подошедший Бео Гург. — Его жизнь ушибла. Подсказала ему жизнь, что старик слишком долго глядит на белый свет. И пора бы посмотреть в полную темноту. Эй, воины! Остановка от солнца до солнца!
Караван рассупонили, верблюдов и лошадей отправили пастись. Над Караван-баши натянули войлочную палатку. Старик дышал часто-часто, уже не принимая ни воды, ни чачи...
Старый уйгур шёл по дороге, увидел за поворотом большой караван, разворачивающийся в табор. По раскинутому чёрному пологу он понял, что здесь беда и поспешил подойти.
— Я киркой тебе за день выбью яму в свой рост! — горячился Проня. — Потом уложим туда старика, потом помолимся, и яму я укрою так, что ни один китаец не найдёт.
Бео Гург отрицательно качал головой. Поднял сухое, разом постаревшее лицо к Проне:
— Старик иной веры. А я не знаю обряда, каким отправляют таких людей перед лицо ихнего Бога. Понимаешь?
Старый уйгур подошёл к чёрному пологу, проговорил приветствие.
— Тихон-мерген, — позвал Бео Гург весёлого охотника.
Старый уйгур и Тихон-мерген говорили недолго. Тихон потоптался, потоптался, но всё же сказал:
— Вы, ребята, шли бы отсель, — за ним закрепился явно Пронин, псковский нагловатый выговор. — Старик пока тут посидит, он у мёртвых сидеть умеет.
Когда отходили от чёрного полога, Тихон-мерген шепнул Бео Гургу:
— Он посидит и нам на время Караван-баши возвернёт. Чтобы тот свою последнюю волю высказал и объяснил, как его упокоить. Вот так.
У Книжника волосы зашевелились на голове. Уйгурский старик знал тайну древней тибетской магии! Он умел открывать уста мёртвых или едва живых! Не зря шли через Китай в Индию!
Наконец народились две кобылочки и один кобылёночек. Огромные русские лошади облизывали приплод, торжествующе поводя по сторонам тёмными глазами. Тихон-мерген тотчас поставил десяток своих воинов охранять место счастливого материнства. Его воины тоже отчего-то радовались, будто это их кобылы ожеребились.
Проня, от самой Москвы не терявший въедливой подозрительности, спросил Тихона нагло и прямо:
— Вам-то какая от наших коней радость?
— Дурак ты, Проня, — ответил русскими словами Тихон-мерген, и правильно ответил, как Проня и учил его. — Большой дурак! На этой нашей земле если и травинка вырастет, надо радоваться...
— Комар уродится на вашей земле, да тебе же в глаз и вопьётся, тоже надо радоваться? — взбесился Проня на «дурака».
— Я тебе сказал про всю Землю, Проня. Она большая, и не наша или ваша, а просто Земля. Иди, тебе машет Золотой Волк.
И Бусыга, и Проня, и Бео Гург слушали то, что чисто и внятно, при широко открытых, но ничего не видящих глазах говорил Караван-баши. Говорил ровным, тихим голосом, так, как никогда не говорил. Проня перекрестился. Ему показалось, что слова изо рта умирающего начальника каравана выходят сами, минуя язык:
— ...меня нельзя закапывать в землю. Меня нельзя бросать в воду. Меня нельзя бросать посреди Пути, на добычу зверям и червям... — Караван-баши замолк.
Старый уйгур тотчас обмакнул птичье перо в каменный пузырёк, что висел у него на поясе, и тем пером провёл по губам Караван-баши. Раздался голос:
— ...меня надо принести туда, где есть Дахма[118]. Положить меня под стену Дахмы и уходить.
Старый уйгур забеспокоился, не стал использовать птичье перо, а просто влил в сухой рот начальника каравана несколько капель тайного настоя. Караван-баши вдруг открыл глаза. Большие, бешеные, нездешние. И голос его пошёл наружу тоже злой, не его голос:
— Я начальник каравана говорю вам. Когда пойдёте из Индии назад, не ходите старым путём, каким идёте сейчас. У старой крепости поворачивайте на восток, ищите древний Путь паломников, по которому из Китая давно ходили в Тибет... Но идите по нему не в Тибет, а в Китай...
— Зачем нам идти вглубь Китая? — перебил умирающего Бео Гург.
А тот и не слышал вопроса. Голос его звенел. Казалось, вот-вот порвётся тот голос:
— Идите обратно Путём паломников и спрашивайте, где горы Алтай. Идя мимо этих гор, вы попадёте домой, — голос у Караван-баши стал грубым. Он ещё раз повторил «домой», и глаза его захлопнулись тёмными веками.
Проня протянул руку, хотел пошевелить Караван-баши. Старый уйгур локтем отбил в сторону Пронину руку, зло прошептал три слова. Бео Гург вытолкнул Проню из-под чёрного полога:
— Хочешь вместо старика искать его Дахму, балда псковская?
Проня оглянулся. Та часть охранного отряда, что не сторожила коней, стояла полукругом у чёрной палатки к ней спинами. В палатке тихо заговорил старый уйгур.
— Верблюда начальника каравана! — шикнул из темноты Бео Гург.
Молодые мергены будто знали, чем кончится такое тайное волшебство. Перед ошалелым Проней они быстро провели к чёрному пологу старого верблюда Караван-баши.
То, что потом увидел Проня, колотило его неделю. Неделю не мог есть мужик! Караван-баши при закрытых глазах, не сгибая ног в коленях, вышел из-под чёрного полога. Мёртвый вышел! Старый уйгур возле его верблюда согнул спину и встал скамейкой. Бео Гург легонько поддержал Караван-баши. Тот ступил на спину согнутого колдуна. Бео Гург перекинул тело начальника каравана между горбов и стал прикручивать его верёвками к верблюжьей спине так, чтобы упокойник не упал. Уйгур-колдун взялся за узду верблюда, свёл его с дороги в прогал меж двух низких холмов и три раза ударил острой палкой. Потом ту палку он всунул в мёртвую руку Караван-баши, а сам быстро вскарабкался на дорогу.
И верблюд пошёл, пошёл прямо, не выбирая где кусты, а где камни.
— Господи, пронеси меня, грешного! — закрестился Проня.
На плечо Прони опёрся Бео Гург. С него стекал пот, как с крыши дома во время дождя!
— Надо ждать, пока верблюд не повернёт вон за ту правую сопку, — тяжело выдохнул Бео Гург. — Там стоит Дахма... Проследи, а? Я устал... полежу.
Проня кивнул, согласился, но тут увидал, что молодые охотники освобождают от поклажи молодого крепкого верблюда и, постоянно кланяясь, подводят его к старому уйгуру. Верблюд покорно улёгся на дорогу, колдун влез на него и велел животному подниматься.
В Проне взыграло купцовское нутро:
— Куда ты, старик? Верблюда нашего — куда?
Ответил Проне не старик, а Тихон-мерген:
— Проводит мёртвого в Дахму. Верблюда заберёт себе. Его обычай, его обряд. Или ты сам проводишь своего мёртвого в Дахму?
— Провожу, — упёрся Проня. — Я старика уважал. Лошадь мне подгони...
Тихон начал было протестовать. Но тут подал голос Бео Гург:
— Дай Проне лошадь, Тихон. Проня по крови предков из той же породы. Они раньше поклонялись огню алтаря Дахмы...
Сложенная в стародавние времена из хорошо тёсаных валунов, Дахма на десять человеческих ростов широким конусом поднималась к небу в пустынной тишине гор. Она была похожа на жерло вулкана. Старый вулкан Проня видел, когда ещё отроком ездил с отцом в страну Италика. Там они за немалые деньги поднимались к жерлу вулкана именем Везувий. Жутко было смотреть вниз и знать, что в любой миг оттуда, как из преисподней, вырвется пожирающее пламя.
Из каменного жерла Дахмы вдруг вырвался к небу огненный язык и тут же опал. Верблюд, который вёз тело Караван-баши, два раза оступился, чуть не кувыркнулся, но удержался на спуске к старой, хорошо набитой дороге.
Уйгурский колдун, не оборачиваясь, два раза резко махнул от себя рукой. Проня тут же стал разворачивать коня на узкой бровке горного хребта. Холодный ветер донёс сладкий запах горелой плоти, а потом он увидел, как огромные птицы, раза в три больше русских орлов, хватают клювами куски обгорелых костей с опалённым мясом и улетают повыше, чтобы их не тревожили во время трапезы.
Краем глаза, уже на повороте, Проня заметил, как старый верблюд с телом Караван-баши вошёл в низкую арку каменной башни Дахмы. И снова над конусом взметнулся вверх радостный язык пламени...
Когда Проня вернулся в табор, к нему подошёл озабоченный Бусыга. Час назад из города Каши вернулся караван уйгурских крестьян. Они ходили относить дань своему князю.
— Крестьяне говорят, что чёрные духи закрыли перевал. Никому не пройти в Индию.
— А... духи... — Проня смачно сплюнул, добавил: — Ты, Бусыга, давай побольше пиши про духов в свой кондуит для государя Ивана Васильевича. Он тебе за этих духов отвалит... посохом по хребту. Ох, и отвалит! Он духов любит поминать своим посохом! Особливо когда те неизвестно куда девают государево серебро!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
А в караван-сарае города Каши русских купцов уже ждали. Особый посланник уйгурского князя велел им не мыться, а сразу ехать ко князю в летний дворец. Дело, мол, есть, и дело большое.
— Караванщики шепнули, что здесь виноград растёт, — торопливо говорил Проня, всё же наскоро меняя свои измазанные штаны на новые, льняной вязки. Заодно и переобулся в красные сапоги. — Вино из того винограда — такое, что не напьёшься!
— Сейчас напьёшься, — подхлестнул Проню по заду новых штанов Бео Гург, — досыта напьёшься. Поехали!
Ехали долго, половину дня. Дорога шла по красивым местам. С правой руки круто вверх поднимались высоченные горы Тань-Шань, а по левую руку до горизонта виднелись одни пески пустыни Такла-Макан.
Доехали наконец до того места, где в пески вдавался каменный язык, через который прямо в пустыню шумно скатывалась широкая река. Там, где река текла через пески, росли деревья, виднелись красивые маленькие домики посреди садов. Между грядками с весенней зеленью ходили чудно разукрашенные птицы и во всё горло орали «кукареку!».
— Ну, просто рай, и всё тут! — сказал Проня.
— Тут и был тот рай, про который тебе церковный батюшка читал библейские сказки, — буркнул Бео Гург. — На месте этих песков в далёкие от нас времена была та библейская страна счастья.
— Ну, теперь вместо попа ты мне давай рассказывай сказки! — хохотнул Проня.
— Это в Библии одни сказки, а я всегда говорю правду.
Проня опять хохотнул и тут же оборвал смех. По хорошо выбитой в камнях тропинке, где каждая ступенька была отполирована не за один век, мимо них прошла вереница старых женщин, закутанных по глаза в шерстяные покрывала. Женщины несли на руках крепко спелёнатых детей. Тропинка та, Проня заметил сразу, спускалась с неимоверной высоты, с почти отвесной скалы.
— Там наверху Тибет, — хмуро сообщил Бео Гург. — «Страна живого размножающегося мяса». В смысле — людей. Вот видишь, несут тех размноженных. Несут крестьянам вымоленных ими детей.
— Сюда, сюда! Идите сюда! — звал русских купцов особый посланник уйгурского князя.
Пришлось поворачивать коней не ко дворцу, а мимо него, к тому месту, где замерла кучка людей в богатых одеждах.
Подъехали. Покинули сёдла. К русским тотчас запросто подошёл высокий уйгур, на волосах которого сиял золотой обруч с непонятным шишаком надо лбом.
— Князь, князь! — зашептали остальные.
— На колени, что ли, падать? — разозлился Проня. Сегодня с утра его прямо раскаляло бешенство.
— Кланяйся в пояс, ниже не надо, — подсказал Бео Гург и первым отдал поклон уйгурскому князю.
— Да, не надо ниже! — Уйгур хорошо говорил на тюркском языке, целиком вворачивая арабские присказки и поговорки. — Приветствую гостей из далёкой для нас Московии!
— И мы рады встрече с тобой, великий князь, на благодатной и богатой твоей земле! — ответно поклонился Бео Гург.
У нас мало времени, гости. Сегодня утром мои крестьяне по моему приказу равняли землю здесь. Тут был небольшой холм, он мешал мне красиво посадить апельсиновые деревья. Вот что нашли под тем холмом. Гляньте сюда, может, вы скажете, чьей крови был этот человек?
Из обложенной толстыми камнями могилы крестьяне князя уже вынули на поверхность гранитную домовину, тёсаную к днищу на скос. Бусыга зашмыгал носом. Проня сказал, сам себе удивляясь:
— Гроб!
По знаку князя крышку с домовины сняли. Там лежал в полной сохранности тела высокий мужчина с русыми волосами на голове и в бороде. Тлению подверглись только пальцы рук. Они, видать, касались крышки домовины, а ткань рубахи, штанов и кожа сапог не испытала влияния всепожирающего времени. С правого бока мужчины лежал длинный меч в кожаных ножнах, а на груди, под правой рукой — короткий кинжал с золотой рукоятью.
— Хэх! — не выдержал Проня. — Так это же наш, русский! Совсем как Венька Буряга, ушкуйник хренов! — за что заработал от Бусыги крепкую затрещину.
Князь неожиданно погрозил Бусыге плёткой, и тот немедля поклонился ему.
— Вот отчего я вас побеспокоил, гости, — сказал князь уйгур, давая знак, чтобы крышку домовины надвинули. — Когда мне доложили, что к моему городу едут высокие светловолосые люди, я решил подождать с упокоением этого воина. Если это ваш человек, то я должен спросить разрешения у вас — каким обычаем мне хоронить его прах? Или совсем не трогать?
— Пусть ещё раз уберут крышку, — попросил Бео Гург. — Я заметил на пальце его правой руки кольцо, знак власти и силы.
Люди князя шарахнулись в стороны. Проня поплевал на ладони и кивнул Бусыге. Они вдвоём запросто подняли хорошо тёсанную гранитную крышку и держали её на весу, пока Бео Гург снимал с указательного пальца упокоенного человека перстень непонятной работы.
— Накрывайте! — скомандовал Бео Гург.
Проня и Бусыга надвинули крышку.
— Грабить я не позволю! — зло заорал уйгурский князь.
Бео Гург отмахнулся от того крика, хорошо протёр белый тяжёлый металл перстня, и в центре его, там, где перстень расширялся, все увидели красный круг, весело блеснувший на солнце.
— Ио То! — радостно возгласил Бео Гург. — Красное золото. Красное золото на белом полотне! Сие есть знамя и полный кастовый знак народа Ниппон![119]
— Серебро уж больно тусклое, некачественное серебро на перстне, — не выдержал и сказал Проня.
— Это не серебро, псковский ты купчина, — совсем развеселился Бео Гург. — Это металл большой редкости. Название ему — платина. В этом металле спрятана жизненная сила этого воина. Или, как говорят, — душа. Возьми перстень, великий князь уйгур, и спрячь его в самом дальнем углу своего хранилища казны. Придёт время — и за перстнем придут воины народа Ниппон. Я их знаю. Они из нашей касты. — Бео Гург протянул платиновый перстень уйгурскому князю.
Тот отшатнулся:
— Зачем воинам народа Ниппон мои земли?
— Они не за землёй придут, великий князь народа уйгур, они придут за своим путеводным знаменем. И ты, отдав им перстень, получишь то, что много дороже серебра и злата. Ты получишь защиту своей земли! Ведь ты защитил их знамя!
Советник уйгурского князя тихо спросил:
— А что нам делать с телом?
— А тело укройте землёй и посадите над ним сад. Плоды этого сада принесут вашему народу только радость и пользу!
— А вино из винограда у вас здесь есть? — вдруг спросил Проня. — Давно хотел попробовать вино из местного винограда. Чтобы жизни возрадоваться.
— Два меха с вином тебе хватит? — спросил уйгурский князь.
Над летним дворцом князя поплыли звонкие удары по меди. Всех созывали к обеду.
Через восемь дней, когда до вершины перевала, а значит, и до блаженной Индии оставалось два дневных перехода, Проня упал на камни:
— Не могу больше, братцы! Воздуха нет. Голова замирает и кружится.
Бео Гург отмахнулся: останавливаться. Мергены стали снимать поклажу с верблюдов. Двигались они неуверенно, высота почти в три версты их тоже подкашивала.
Бусыга упал на камни рядом с Проней:
— Надо постоять здесь пару дней, отдохнуть.
Тихон-мерген, уже давно не смеявшийся, два раза вздохнул, потом сказал Бусыге:
— Чем дольше здесь стоишь, тем больше отдаёшь жизни. В горах жизнь — это движение.
Один Бео Гург, несмотря на свой возраст, а ему уже пошёл пятый десяток, ходил быстро, говорил отчётливо. Он подошёл к лежащему Бусыге и произнёс только одно слово:
— Пора!
Бусыга внимательно посмотрел на двух молоденьких кобылиц: они тоже причахли на горной высоте, не резвились, часто вздыхали. Бусыга тяжко поднялся, нашёл свой тюк, помеченный буковой «3» — «зебра». Достал из него хорошо увязанную бочажку с особой жёлтой краской и три кисти нужного размера. Попробовал кистью взболтать краску — растёртое золото не дало ей загустеть. Он спросил у Книжника:
— Ты что, один собрался идти через перевал?
— Меня проводит Тихон-мерген. Случись чего, он успеет вас предупредить.
— А чего там, на перевале, под облаками, может случиться? — поинтересовался Проня, на четвереньках — от слабости — подобравшийся к говорящим.
— А ты забыл, чем грозился на становище Атбасар заколдованный тобой бекмырза бухарского эмира? Что они нас и в Индии достанут... Что, Бусыга, готов рисовать?
Молоденьких кобылиц крепко стреножили, привязав их ноги к кольям, вбитым в землю. Матерей этих кобылиц увели в сторону, в глубокую лощину и там прихомутали к тяжёлым камням. Бусыга вздохнул, перекрестился и первым же мазком кисти опробовал свой навык краскомаза на новых штанах Прони.
— Полтинник за новые штаны мне отдашь! — отозвался Проня на такую проделку шурина. — Давай покажи, какая здесь страна Африка.
Проня держал перед глазами Бусыги большой лист бумаги с рисунком зебры, а Бусыга старательно выводил яркие жёлтые полосы на тёмной шерсти молоденьких кобылиц.
Ранним утром на поляну, где высохли и теперь резвились полосатые «зебрушки», сотворённые из русских боевых лошадей, выпустили ихних матерей. Первая же кобыла, увидев полосатое чудо со знакомым, Но неприятным запахом взбесилась и стала лягать чадо. Еле отбили.
Тихон-мерген между тем приготовил пять коней, во вьюки уложил побольше красного распаренного гороха, чтобы от доброго корма кобылки крепли, да и свои кони чтобы не упали на горном перевале. Бео Гург отвёл в сторону Бусыгу и Проню, сказал одно:
— Если я не вернусь с перевала, Бусыга поведёт караван назад.
— Не поведу! — тут же начал отнекиваться Бусыга. — Ежели вернёмся в Москву, да с тем же товаром, с каким из неё вышли, меня Иван Васильевич на кол посадит!
— Не посадит, — успокоил купца Бео Гург. — Только голову отрубит. А это быстро и неболезненно... Если перевал минуем нормально, Тихон-мерген за вами примчится. И тогда досыта погреемся в Индии... Ну, не плачьте, я пошёл!
Пять коней, ведя на привязи махоньких полосатых животных, совершенно странных для здешних мест, в стране великих гор и огромных камней, вышли на тропу к перевалу и тотчас скрылись за камнями...
Очень заметным знаком, что вот она — вершина перевала, а дальше уже начинается благостный спуск в Индию — служила высокая пирамида из мелких камней. После неё караванная тропа пошла вниз и Бео Гург повёл всю связку животных туда, где увидел прогалину, уже свободную от снега.
Тихон-мерген задержался. Он ходил возле «обо» — пирамиды — и укладывал в неё свои подношения — благодарность Богам за хорошо пройденный путь наверх. Услышав громкие голоса там, за камнями, на троне вниз, охотник достал из-за пояса лук, передвинул колчан повыше к левому плечу и с ловкостью камышового кота заскакал среди камней.
Бео Гург понял, что в Индию им не спуститься, когда из-за камней выехали на хороших арабских скакунах четверо всадников в подшитых металлом кожаных нагрудниках. Сзади тоже слышался топот коней.
— Садам алейкум! — поздоровался с Книжником самый старший в отряде всадников, десятский.
— Ва, алейкум ас-салам! — отозвался на приветствие Бео Гург, понимая, что словами этих бойцов не взять. Это арабы. Тяжёлые воины, сметливые, неторопливые, жестокие до самого конца. Но ведь слово ничего не стоит. Надо попробовать пробиться и словом: — Я по обету, данному мною Аллаху, Богу всевышнему и милосердному, веду вот... подарок от моего Великого государя всея Руси Ивана Васильевича, его другу, радже Парамарушу, царю города Бидар...
— Это что же ты ведёшь? — спросил десятский.
— Это звери, называемые в Африке «зебра».
— Давай, давай, каза ба, — протянул десятский...
Это «давай ври» заставило Книжника улыбнуться. Свою жизнь теперь он мог сверить по счёту. На счёт «десять» его в этой жизни уже не будет. Интересно, сколько ещё у арабов людей там, внизу? Устроят ли они погоню за караваном? Если устроят, то, действительно, Иван Васильевич, государь Московский, заточит для псковских купцов колья тоньше иголки.
— Я ведь раньше жил в Африке... — продолжал десятский. — Этих зебр повидал. Мы на них учились стрелять... — он выхватил тяжёлый крис и отмахнул голову сначала одной крашеной под зебру кобылке, вторым махом сбрил голову и другой. Поскрёб кривым мечом полосу на дергающемся теле кобылки. На мече остались следы жёлтой краски.
— Красить животных для обмана наш Бог запрещает. И по нашему закону в Индию нельзя привозить кобыл. А ты привёз. Знаешь, как за это преступление у нас казнят?
— Знаю, — улыбаясь, ответил Книжник. — Ведь меня по всему свету зовут Бео Гург, «Золотой Волк».
— А-а-а-а! — заорал кривоватый араб, пытаясь удержать коня на месте и не соображая, что его конь бесится от стрелы, попавшей точно в промежность. — А-а-а-а-а! Это тот, кто везёт в Индию солнечный камень! Ловите его! — сам кривой араб ловить никого уже не мог, он кулём вылетел из седла: Тихон-мерген стрелял точно и очень метко.
Бео Гург почуял, что его монгольская лошадка проседает, ей, видать попали копьём в брюхо. И ему, Книжнику, тоже сзади попали копьём. Похоже, пробили позвоночник. Голубое небо над ним схлопнулось, а горы прорычали арабское ругательное слово. Всё в этом радостном мире стало сходиться в одну белую точку...
Пока глаза ещё видели, Бео Гург заметил, где торчит голова Тихона-мергена, и в ту сторону с последней силой бросил плоский камешек. С камешком он возился последние три дня, там имелась важная короткая надпись. Потом дикая боль ударила в голову и закрыла глаза Бео Гурга. Белая точка поморгала и растворилась в черноте.
Султану Махмуду Белобородому, владетелю Порты Великолепной, в прекрасное тёплое утро, когда роса только—только усыпала серебряными капельками все розы в саду перед гаремом, верный секретарь, хоть и евнух, доложил:
— Гонцы к тебе, о великий султан! Пришли из самой Индии!
Махмуд Белобородый не хотел упускать такого счастливого утра:
— Я приму гонцов в розовом саду!
Евнух попятился задом и захлопнул дверь почивальни великого султана. Юная наложница, что всю ночь не давала успокоиться крови султана в самой промежности, теперь спала, ибо султан ночью устал от этой дуры и влил в неё два стакана вина с настойкой гашиша. Больше она не взойдёт к нему на ложе, ибо не проснётся.
В розовом саду Махмуд Белобородый поцеловал сначала белую девственную розу. А потом надолго припал губами к розе красной, кровавой. Роковой, чувственной!
Позади султана кашлянул евнух и секретарь:
— Гонцы из Индии, о, великий султан!
— Я не помню, что за дела у меня в Индии, — сказал в сторону секретаря Махмуд Белобородый. — Напомни мне об этом деле!
— Дела в Индии не у тебя, о великий султан! Дела там у арабов. Помнишь, два месяца назад к тебе приплывал на трёх страшных боевых кораблях мусаттах сам великий Эль Му Аль Лим, главный араб над морями и океанами. Он тогда велел...
— Мне никто не может велеть! — взвизгнул Махмуд Белобородый.
— Он велел, — терпеливо повторил евнух и секретарь, — чтобы ты не пускал русских купцов в Индию и чтобы ты забрал у них товар — солнечный камень именем янтарь.
— Зови гонцов, — едва сдерживая в себе злость, проговорил Махмуд Белобородый. Он точно был уверен, что его секретарь работает на этих клятых арабов. И он, секретарь, не может любить и уважать своего султана, ибо султан для арабов — полукровка, туркоманская свинья!
Два гонца, воины из племени вазизов, тоже туркоманы, вошли в сад, держась каждый за угол грязного мешка. Они поклонились великому султану и опрокинули мешок. Из него выкатилась, вся обсыпанная мелкой солью голова Бео Гурга.
— Вот! — радостно сказали гонцы. — Велено доставить тебе от арабов, что перекрывают перевал Гиндукуш! — Это главный человек, кому арабы запретили открывать путь в Индию! Его голова очень дорого стоит, великий султан!
Султан Махмуд не стал смотреть на голову человека, которого уже нельзя ни о чём спросить. Он посмотрел сначала на белую розу, потом сорвал красную, уколовшись об её шипы. А уколовшись, заорал:
— К этой голове, собаки, должно быть приложено сто пудов солнечного камня! Вы его украли?.. Вы! Вы! Секретарь, секретарь!
Всего полдня пытали гонцов в Круглой башне на краю Истанбула. Великий султан понимал, что нельзя в покраже солнечного камня обвинить арабов, охраняющих перевалы, ведущие в города Индии. Значит, надо обвинить в этом своих воинов. Но, обвинив гонцов, великий султан не избавлялся от своего обещания положить через год мешки с солнечным камнем к ногам Эль Му Аль Лима! А ведь через месяц Глава всех морей и океанов бросит якоря своего чёрного мусаттаха в гавани Истанбула!
Выход был, и выход, как всегда, очень простой. Пытанных и ломаных гонцов сбросили с Круглой башни. Потом позвали евнуха — секретаря.
— Пусти по базару слух, что мне через месяц нужен солнечный камень, — султан Махмуд Белобородый говорил ласково и нежно целовал красную розу. — Сто пятьдесят пудов солнечного камня из моря Балтики. Я хочу обложить им свою спальню для четвёртой жены. И заплачу золотом.
Через месяц сто пятьдесят пудов солнечного камня были погружены на огромный чёрный корабль мусаттах, принадлежащий лично Эль Му Аль Лиму. Между мешками с янтарём сунули и мешок с просоленной головой Бео Гурга.
Солнечный камень с большой спешкой и с двойным пересчётом гешефта на станбульский базар привезли жиды. Пять человек. Они навсегда исчезли в кривых улицах Галаты[120] ещё до того, как в порт Истанбула вошёл огромный чёрный мусаттах.
Зато новая, четвёртая, жена султана Махмуда Белобородого получила от самого главного арабского морехода невиданный подарок — огромную морскую раковину. Если приложить её к уху, то там сразу зашумит море!
Книга третья
ВСТРЕЧАЙ НАС, РОДНАЯ ЗЕМЛЯ!
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Часа в четыре пополуночи, когда ещё московские петухи горла не драли, во дворе Михаила Степановича Шуйского, со вчерашнего дня — воеводы большого полка, началась сумятица. Конюхи выкатили из сараев три возка, крытых чёрной кожей, да из другого сарая две колымаги немецкой работы, видом как глубокое перевёрнутое корыто, именем фургон. Фургоны те были крыты драным отрепьем.
Шуйский глянул в просвет облаков. Луч восходящего солнца сверкнул по чистому небу, да поцеловал золотые кресты колокольни Сретенского монастыря. Главный колокол будто этого и ждал, ударил. Длинный, тягучий низкий звук накрыл спящий город.
— Всё! — заорал Шуйский. — Дали знак! Выводи!
Из малого потюремного домика в углу огромного подворья, гридни вывели на крыльцо купца из Пизы. Тот зевал, не прикрывая рта. Шуйский отвернулся, он смотрел, как его люди, взявшись по четыре, несут в полотняных носилках три бочки. Носилки тяжёлые: понятно, что в бочках не вода питьевая. Бочки с золотом. Их закатили в первый возок.
На крыльцо вышли и Зуда Пальцев, обрезанный новгородец, и тот, молчун, немец ли, сканд ли. Гридни затолкали обоих в первую колымагу.
— Большую бочку давай, кати! — распорядился Шуйский. — Ту, что воняет? — уточнил гридень.
— Ту! Да поживее! Время не терпит.
Выкатили широченную немецкую бочку, в каких немцы хранят зерно. От бочки несло запахом мочи, гнили и навоза. Её загрузили во вторую колымагу. Шуйский, взяв Мойшу из Пизы под локоток, повёл садиться рядом с воняющей бочкой. Купец вырвался, непонятно выругался и полез в первый кожаный возок, поближе к своему золоту.
— Как ваша милость пожелает, — сказал Шуйский и запрыгнул на кучерское место первого возка. Оглянулся. Щёлкнул длинным бичом да и заорал кучерской клич: — Эй! Бер-р-р-регись! Разбойнички! Гр-р-р-рабят!
Поезд из трёх повозок и двух колымаг вылетел через задние ворота Шуйского поместья, завернул влево и пошёл в сторону Можайского шляха.
Десять вёрст от Москвы отмахали быстро. Кони шли ровно — сытые кони, из шуйской конюшни.
А вот через десять вёрст приключилась остановка. По краям дороги вдруг появились широченные канавы, заполненные водой и уже заросшие склизкой травкой. А впереди, поперёк дороги, виднелся вал из лубяных коробов, видать, наполненных землёй. Позади вала прыгали в малиновых кафтанах молодшие стрельцы из шуйского полка. У некоторых в руках дымились фузеи[121].
Через вал перескочил стрелецкий сотник Колька Смыгин, его отец считался самым богатым стрельцом на Москве.
— Куда прёшь? — заорал Колька, бросая косые взгляды на своего бывшего полковника: мол, правильно ору?
Купец из Пизы немедленно вылез из переднего возка, протянул сотнику большую бумагу:
— Вот, господин стрелец, грамота вашего государя на беспошлинный, безостановочный мой проезд из Московии в польские земли. Так что вели раскидать короба, да мы поедем. Торопимся очень! Торговое дело!
Колька Смыгин снова коротко глянул на «кучера» Шуйского, хмыкнул и ответил купцу с беспричинно обидным лаем:
— В сие время, купец, проезд разрешается токмо что при бумаге с красной печатью! А у тебя, вишь, печать синяя! Заворачивай!
— Как же так? Это как же? — Мойша из Пизы даже толкнул кучера, Мишку Шуйского. — Ты что мне говорил?
— В той стороне уже вовсю идёт война, купец! — громко сказал Колька Смыгин. — Туда со вчерашнего вечера можно ехать только военным людям да войсковым обозам. А ты, сволочь, заворачивай! Кому приказано!
От лубяного вала пять фузей саданули картечью поверх лошадей. Лошади забесились. Шуйский завернул свою чёрную повозку влево, прямо в канаву. За ним тронулись другие повозки.
Здоровенные лошади с храпом преодолели глинистую преграду и вырвались на степную равнину. Колымаги же, запряжённые парно, застряли в грязи широких канав. Стрельцы захохотали. Потом от них кто-то переусердствовал, дал выстрел прямо над колымагами. Кони испугались, дёрнулись и вынесли наконец колымаги из канавы.
Пизанский купец кинулся к Шуйскому:
— Обмануть надумал, да? Сейчас как сыпну тебе в лицо мумийного порошка, всё лицо слезет!
Шуйский отмахнулся от пустой угрозы. Радагор при великом государе испробовал ту заразу на собаке. Собака выпила молока с порошком и попросила ещё. Её даже не пронесло. Обманка, дурно пахнувшая, а не лекарский порошок!
— Садись внутрь быстрее, — шепнул купцу Шуйский. — А то стрельцы ещё передумают. Молодые, горячие, крови ищут и денег!
Купец шмыгнул в повозку, лошади тронулись.
Через три версты купец из Пизы высунулся из повозки и потребовал остановки:
— А почему обратно в Москву едем?
— В Москву не едем, — стал объяснять Шуйский. — Едем теперь мимо Москвы, на город Тулу. Не доезжая Тулы, повернём в польскую сторону, там старая дорога есть...
— А там — опять стрелецкая засада! Обвести меня хочешь, кучер? Останавливай обоз и давай сюда новгородца!
Зуда Пальцев, испуганный, с глазами полными слёз, точно подтвердил купцу, что если сейчас поехать вброд через реку Пахру, то и выйдет путь на Тулу.
— Нас уже ищут, — вполне серьёзно добавил Шуйский. — Скоро вокруг Москвы не протолкнёшься от вооружённых наймитов Ивана Третьего... Думай быстро, купец! Едем или не едем?
Мойша из Пизы забрался в повозку, тронулись, поехали. Лошади пошли ровным, скорым ходом. Зуду Пальцева два гридня просто забросили на ходу в колымагу, он ударился о второго пленника и захлюпал носом.
Зуда давно торговал, на Москве бывал и вокруг Москвы ходил. Торговал с короба шведскими иголками да всякой мелкой всячиной вроде медных напёрстков, колечек со стёклышками и цветных лент польской работы. И он точно знал, что после брода через Пахру на город Тулу надо поворачивать вправо. А если повернуть налево, то попадёшь в самое страшное на Москве место — Болото!
Кони прошли пахринский брод и повернули налево. Зуда Пальцев в голос зарыдал.
Иван Васильевич в то раннее утро молился. Молился один в Успенском соборе, аж с полуночи. То каялся, то, воззарившись на свирепый лик Спаса Нерукотворного, обвинял Бога в делах грешных:
— А сына моего, первенца, пошто дозволил отравить Еленке молдаванской? Этакий бы государь вырос для Руси! И телом был здоров, и разумом не обижен! И Божественные поучения исполнял со тщанием... А жену мою первую, Марью Борисовну, кто извёл? Небось Господь ты наш безгрешный, думаешь, она от родин скончалась? Эва! Все так думают, вся Москва и всё порубежье. Только я тебе скажу истину, уморили её злым питьём бесовские латинские лекари. У меня о том и бумаги есть. Храню в тайне, умирать стану, приду сюда в собор, встану перед тобой, а позади поставлю потомков тех бояр, кто лекаря того, Симеху, подговорил мою Марьюшку опоить смертным отваром. Ты меня знаешь, я человек свирепых кровей, не постесняюсь тут вас всех... топором в храме!
Настоятель Успенского собора, спрятавшись под парчовым покровом алтаря (не успел из храма в придел укрыться), исходил мочой и потом. Он никогда не видел своего государя таким грозным. И грозным на кого? На Бога! Страх так и гнал из настоятеля разную жидкость: чуялось, что вот-вот через поры кожи закапает и кровь...
— А Еленку молдаванскую, думаешь, это я благословил на брак со своим сыночком Иванушкой?.. Я ведь по лику её сразу увидал, что змея она и больше никто. Мои послы, что в Бессарабию ходили на предмет сватовства, потом, под дыбой сознались, что отец её, Дмитрий, король молдавский, только так, по подсказке католиков подлых, обещал мне помогать против крымских татар и против турок. Православным уставом крестился. Твоим уставом! А сам, вишь ты, после замужества доченьки своей велел моим полкам отойти от его границ подальше, чтобы на него не обиделись татары и поляки... Продал меня мой сват... Ничего, я до него ещё доберусь! Не я доберусь, тако внуки мои до его страны дотянутся!
Молчание надолго повисло под высокими сводами огромного Успенского храма. Настоятель, пока великий государь пил из чаши вино да гулко кашлял, сумел-таки из-под алтаря на четвереньках перебраться за царские ворота. А там в ночную вазу успел слить нижнюю жидкость. Потом он снял обмоченные сапоги, переменил шерстяные носки и сам упал на колени перед малой алтарной иконой Вознесённого...
— Угробил я много народа, — говорил государь прямо в лик Богочеловека. — А вот что же ты, Спаситель, не можешь свою веру соединить, да разом дать одну веру всем народам? Одну веру! Не можешь? Вот ведь как деется: сегодня я на Болоте троих посажу в воду, а завтра двинусь на Калугу, там у меня уже военный стан раскинут. И будет нынешним летом война! Лихо будет всем народам от Нарвы до Крыма. Ибо одни верят в мать твою, блаженную девственницу, а мы верим в тебя. Вот так и сойдутся завтра в кровавой резне не люди, нет... Мать твоя пойдёт против тебя, Господь ты наш всеблагий... Нет, нет, раз это мы войной наступаем, значит, это ты, Господь всеблагий, завтра пойдёшь супротив своей матери-девственницы... Выдумают же евангелисты... Девственница, а родила... тебя, грешного...
Иван Васильевич допил вино из огромного кубка, что-то свирепое хотел добавить, да тут к нему неслышно, в одних носках подошёл настоятель Успенского собора:
— Гонец к тебе, великий государь! На Болоте тебя уже ждут...
Три рейтарских сотни закованных в кирасы немецких солдат, да три сотни стрельцов кремлёвской стражи, взяли на берегу в квадрат то пространство, где встал великий государь со своим наследником и Соправителем, великим московским князем Василием Ивановичем. Великая княгиня Софья Византийская сидела в открытом возке, подальше от воняющего Болота, при особой охране.
Река Москва делала в этом месте загиб, который по весне заполнялся водой. Потом вода сходила в низины, а в Болоте вода так и гнила до середины лета. Очень удобное место каждый год творила Природа для древнего, свирепого способа казни.
Заранее уже, с прошлого дня, на Болоте сколотили широкие мостки, чтобы все любопытствующие могли видеть Государево правосудие. А от мостков подручные ката Томилы теперь тянули на середину большой вонючей лужи три плота. Бегали по плотам, шестами мерили глубину Болота.
На той стороне Москвы-реки воинской охраны не имелось, но там иногда проезжали сквозь огромную толпу любопытных конные воины Эрги Малая. Тогда замоскворецкая толпа и не дышала — ждала казни тихо и прикаянно.
Бешбалда тихо говорил мужикам:
— А за то и казнят, его, Схарию, что ведь этот гад пять стран прежде обгадил. Придёт, обернётся давним жителем и начинает всякие поносные речи говорить. Мол, вы не так живёте, не так молитесь да не тому богу... А народы-то везде одинаковые. Что мы, что, скажем, литвины. Им бы от весны до весны прожить. Ну, они и слушают этого Схарию. А он им соловьём заливается, что будет, мол, у вас впереди светлое будущее...
Здоровенный мужик, лодочник с московского перевоза, церковный староста Бутырского прихода, тихо спросил:
— Светлое будущее, это как понять? Как Царствие Небесное?
— Какое там Царствие? Только светлое будущее. Так ведь мы каждое утро встаём и нас всех ждёт светлое будущее целого солнечного дня, ибо солнце светит и трава нас радует, и река течёт и кущи зеленеют... Ведь так?
— Да, оно так, — подтвердил лодочник. — Ещё радость благая, если внуки возле тебя курлычут и здоровье есть, и амбар полный...
— Амбар твой полный, это, брат, только твоего ума да дело рук твоих дело! Будешь трудиться, амбар всегда тебя порадует!
— А чего он ещё творил, этот жид? — спросили Бешбалду из толпы.
— А ещё что? Собирал возле себя тех, кто в вере слаб или обижен чем, и тихо так, ласково, как паук паутинкой нежной, опутывал слабоверных. Да не тонкой ниточкой, а серебряной. И в такие долги людей вгонял, что после расчёта с ним те люди брали суму и шли просить подаяние. Или топились, или вешались...
— Да ну-у-у-у?! — не поверил кто-то в толпе.
— А вот сейчас ты все его преступления услышишь, — усмехнулся Бешбалда. — Сейчас государевы бирючи прокричат...
— Ты это чего, а? — накинулись сзади на неверящего. — У Бешбалды племянник стал воеводой большого полка, а ты ему не веришь? — послышались вскрики и тумаки.
И тут же над рекой раздался разбойный посвист, рейтары мигом раздвинулись, образуя коридор. В тот коридор ворвались все в пене лошади из конюшни Шуйского, тёмно-коричневые, донской породы. Они тащили за собой три чёрных возка и две немецких колымаги.
Шуйский осадил передний возок, скинул надоевший ему кучерской азям и пошёл кланяться великим государям. Под кучерской рванью на нём оказался надет шитый золотом боярский кафтан с выпушками из бобровых шкур по низу, да на плечах сидел бобровый воротник, а малиновая шапка была оторочена сибирскими белым соболем. Бо-о-о-о-гато!
— Боярин Шуйский, Михайло Степанович, воевода большого полка Великим государям всея Руси Ивану Васильевиче да Василию Ивановичу челом бьёт! — во всю мощь горла, на всю реку прокричал первый московский бирюч.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Колокола на Москве отбили шесть часов пополуночи. Утро настало. Четыре бирюча с лужёными глотками, разошлись по краям помоста и стали в очередь читать судебную грамоту.
— Жид Схария, известный в городах Пскове, Великом Новгороде, Торжке, Вышнем Волочке и на Москве как купец Новгородский Захар Иванкович, опутал долгами многих честных людей, собирал их тайно и вёл с ними богопротивные беседы, доказывая, что те люди долгами обросли потому, что верят в Господа нашего! А переняли бы веру католическую, по иному жить стали и долгов бы не Имели!
Второй бирюч притопнул ногой, начал читать далее:
— Тридцать самых родовитых бояр да ближних людей тех бояр, тот Схария постоянно снабжал деньгами польского да чешского чекана. Одному великому боярину Патрикееву платил по семь тысяч рублей в год!
Толпа на этом берегу ахнула:
— За что?
— ...семь тысяч рублей в год на избегание Православных обрядов и приучение к тому своих людей! Да ещё более двухсот бояр из древних родов к той противоправной смуте приручил деньгами. Бояре те здесь перечислены поимённо... Читать имена? — Бирюч повернулся к великому государю, чтобы спросить.
— Не надобно, — отмахнулся великий государь. — Народ мой и так всё знает! Давай далее!
— Да в ту же смуту втянул жид Схария московского митрополита Зосиму! — заорал громогласный глашатай. — И восемьсот монахов, перечисленных здесь поимённо... народ их тоже знает. И стала расползаться по Руси зараза, именуемая «ересь жидовствующая»! А та зараза была пущена, дабы свергнуть с престола государя нашего, великого князя Московского Ивана Васильевич Третьего, и весь род его!
Народ завыл яростно.
Выступил вперёд третий бирюч, заорал:
— И пошло проклятое поветрие от того учения, что распространял по Руси Великой жид Схария. Отец дрался с сыном, ибо они оказывались разной веры! Родные сёстры рвали друг у друга волосы и наряды, ибо каждая считала, что сестра её верует неправедно! Бывало и такое, что мать своего младенца, крещённого по уставу православной церкви, бросала в горящую печь, ибо после крещения принимала его за дьявольское отродье!
По обеим сторонам реки народ вдруг замолчал. Потом стали слышны всхлипы, бабы завыли в полный голос. Бирюч читал то, о чём люди знали, да молчали, боясь то ли гнева Господня, то ли жидовского верования Схарии про то, что ни рая ни ада нет, и после смерти, окромя могилы, никуда не попадёшь.
— Великий государь Василий Иванович! — с поклоном обратился к Соправителю боярин Шуйский. — Поезжай, Христа ради, встань рядом с матерью. Мало ли чего...
Боярин Шуйский, получив под управление большой полк, предал своих молодших стрельцов под державную руку Соправителя. Молодшие стрельцы, по знаку Шуйского, взяли коня Василия Ивановича в полный квадрат и так, торжественно, прошагали с фузеями через плечо сто шагов до повозочного поезда Софьи Византийской.
Сам Шуйский под широченным рукавом боярского кафтана передал Ивану Васильевичу серебряный стакан с чачей. На левом виске государя билась вена. Бесился великий государь.
— Это — да, это надо. — Иван Васильевич разом опрокинул стакан крепчайшей чачи, занюхал рукавом.
Четвёртый бирюч уже орал:
— А на Великом Новгороде злейший преступник совершил самое злое деяние! Обратил псковичей и новгородцев в свою веру, и те пошли на нас войной. Брат на брата пошёл войной! А ближайшей помощницей жиду Схарии в том кровавом и злобном деле была Марфа Борецкая, вдова посадника.
Из толпы рейтар вытолкнули к помосту совсем спившуюся бабу, одетую в драные обноски некогда дорогого наряда. Московский люд опять зло взвыл. Он ещё помнил, как два года назад эта Марфа, верхом на коне, неслась по улицам к выезду на Псковский шлях и молотила кнутом налево и направо, калеча баб и детей...
Сзади на своём сером ахалтекинце придвинулся к великому государю Книжник Радагор:
— Прости, великий государь, но Марфу надо бы оставить вживе... Ей недолго уже осталось... Пусть в земной жизни ещё помыкается, а жизни небесной ей и так не видать.
Иван Васильевич поднял правую руку. Бирюч споткнулся на слове и замолчал.
— Кричи! — велел Книжнику великий государь.
— Марфу-посадницу, в знак самого жестокого наказания, Великий государь всея Руси и великий князь Московский Иван Васильевич, велит земной жизни не лишать, а водворить обратно на проживание в усадьбу бывшего воеводы Патрикеева, казнённого за преступления против нашей церкви и государя! — проорал Книжник не тише бирюча.
— А-а-а-а-а! — заорали бабы по обеим берегам Москвы-реки. — Помучаешься ещё, сука драная!
Стрельцы в тёмно-синих кафтанах кинули обмороченную Марфу на телегу и вывезли за рейтарский охранный квадрат.
Иван Васильевич снял свою великокняжескую шапку, тяжёлую от золота и дорогих камней, отёр рукавом пот со лба. С утра непривычно припекало солнце. Михайло Степанович Шуйский поддёрнул узду, его конь встал совсем рядом с государевым битюгом. Воевода большого полка протянул в своём широченном рукаве ещё один стакан чачи. Государь махом опростал стакан, занюхал опять рукавом и сказал:
— Хорош! Будя! Да поедем отсель!
— Бирюч пусть покончит с приговором, — шепнул сзади Книжник Радагор.
Бирюч орал:
— За вышеуказанные преступления, за потворство врагам нашей церкви и за посев жидовской ереси в наших пределах, жида Схарию казнить древним обычаем! Жида Мойшу из Пизы за попытку лишить жизни нашего великого государя, путём отравления, казнить древним обычаем. Новгородского купца Зуду Пальцева, тайно перешедшего в жидовскую веру и служившего послухом врагам нашим, казнить древним обычаем.
Гридни Шуйского между тем уже столкнули с колымаги на землю широкую бочку. Кат Томила поднял свой знаменитый хлыст, примерился и:ударил. От удара крепкой кожи, с вплетёнными в неё проволоками и железными шариками, бочка громко треснула, помедлила и развалилась на доски. На земле осталась лежать куча вонючего тряпья.
Шуйский махнул ближнему рейтару. Тот, отвернувши нос, ткнул в кучу боевой пикой. Тряпьё разлетелось в стороны, и на свет перед народом показался жид Схария. Подручные ката Томилы тотчас ухватили его и поволокли на плоты. Одни перетянули руки преступника сзади знаменитой московской вязкой. Другие тут же связали Схарии ноги, прикрутили к ним огромный камень в дерюжном мешке.
— Слово! — заорали москвичи. — Последнее слово! Пусть скажет!
— Говори! — рыкнул Иван Васильевич.
Схария глянул на Болото, на толпы москвичей, не перекрестился ни католическим, ни русским обрядом. И молитву не прочитал и мольбы не проорал. Ухмыльнулся прямо в страшную рожу ката Томилы, произнёс:
— У меня золото и бриллианты. А вы мне тут... завидуйте!
Кат Томила вдруг зарычал, аки лев, схватил Схарию за плечи, поставил на край плота и поддал ему ногой. Тело плюхнулось в густую жижу. С того берега грозно выкрикнул Бешбалда:
— Пошто так? Ведь не выплывет!
Схария выплыл. Над водой показалась его голова, он отплёвывался, дёргался, крутил шеей.
Сажание в воду по старому русскому обычаю считалось такой же щадящей казнью, как и сажание на кол. И медленно сползая по смазанному свиным салом колу, и стоя по горло в воде, полной пиявок, казнимый мог прожить ещё сутки, а то и поболее. Мог и с родными поговорить, высказать последнюю волю, раздать завещание. Мог и выпить, если приспичит. Палаческий расчёт был в том, чтобы из воды торчала токмо голова казнимого — когда руки и ноги крепко связаны, долго не простоишь: пиявки кровь отсосут, и всё — утоп. Сам утоп, никто тебе на башку не давил. Хорошее, доброе общественное наказание!
Между тем гридни выволокли из чёрной повозки Мойшу из Пизы. Тот веретеном вертелся, старался выскользнуть. Когда не получилось, начал орать:
— Царь, а царь! А твой Мишка Шуйский вор! За три бочонка золота тебя продал! Хотел с тем золотом уйти в Польшу и оттуда тебя воевать!
— Царём обозвал, молодец! — похвалил купца великий государь. — А и правда, Шуйский, три бочонка с золотом где?
А гридни Шуйского, одетые в азямы родовых цветов великого боярина уже тащили на носилках три бочонка с золотом и поставили те носилки под ноги коня великого государя.
— Один бочонок откатите под коня великого боярина Шуйского! — велел гридням государь.
Бочонок с золотом откатили Шуйскому.
Иван Васильевич глянул на солнце, солнце стояло высоко. Отмахнул рукой. Мойшу из Пизы связали как положено и столкнули в Болото в трёх шагах от Схарии. Он тоже вынырнул и, отплевавшись зелёной тиной, снова принялся орать, теперь уже откровенные непотребства.
Кат Томила глянул на государя, шевельнул своим страшным кнутом. Иван Васильевич помотал палачу пальцем:
— Пусть орёт. Давай дальше.
Выволокли Зуду Пальцева. Он откровенно плакал.
— Парень с дуру мимо жизни пошёл, — повернулся к великому государю боярин Шуйский. — Разреши, я тут сам...
Государь кивнул. Народ уже начал расходиться от Болота, интересного осталось мало.
Пока кат волок перевязанного Зуду Пальцева к помосту, подъехал и Шуйский. Голова несчастного русского иудея оказалась на уровне конских стремян. Шуйский наклонился к парню, размазывавшему сопли по щекам.
— Стыдно тебе? — спросил боярин Шуйский.
— Стыдно, — сознался Зуда Пальцев. — Мне бы сейчас бежать куда подалее, я бы святую жизнь начал...
— Не начнёшь, — уверенно ответил Шуйский. — С такой душой лучше сразу уйти куда надо. — Он махнул правой рукой, в ней сверкнула сабля, и голова Зуды Пальцева грохнулась на помост.
Один из подручных ката Томилы пинком столкнул голову в болотистую жижу, другие два поволокли безголовое тело по плотам и бросили его между Схарией и Мойшей.
По знаку великого государя рейтары начали расширять квадрат возле Болота, вытесняя москвичей: всё, можно идти по домам.
Гридни Шуйского в это время вытащили скукожившегося немца или дана, что-то лопочущего на своём языке.
— А этого... этого отпускайте, — велел Иван Васильевич. — Пусть едет в город Рим, к ихнему папе, и пусть там всё, что видел, расскажет без утайки. Про дела жидовские и про их конец весёлый... Радагор, переведи да обеспечь... — Великий государь тронул своего битюга.
Матёрый огромный конь, балуясь от долгого стояния, так толкнул головой коня Шуйского, что тот едва устоял на ногах. Кони заржали и затеяли драться.
— Этого ещё тут не хватало! — Иван Васильевич перетянул своего битюга плёткой, за одним махом попал и по спине боярина Шуйского и, кусая губы в бешенстве, тяжело поскакал за коляской Софьи Византийской.
Берега Болота уже опустели, только посередине гнилой лужи торчали две живые головы, отчаянно ругавшие друг друга.
Радагор подозвал бессловесного немчина, сунул ему узду коня, за которым на привязи шёл запасной конь, потом вложил в дрожащие руки свёрнутые охранные грамоты, кошель с мелкими деньгами и на датском языке объяснил, куда ему надлежит ехать. Немчин всё кивал и кивал головой.
— Не вздумай свернуть к себе домой! — крикнул на прощание Радагор. — У нас болот много, везде тебя найдём и в воду посадим.
Немчин пришпорил дарёного коня.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Боярин Данило Щеня, получивший высокое назначение — передовой полк, в начале греческого месяца июня встал в двух переходах от города Белгорода. Четыреста стрельцов при двадцати пушках — оно, конечно, сила большая, но великий государь не дал Щене конного дворянского ополчения. А без конницы артиллерия в степи, что комар на лбу — прихлопнут разом! Не собралась ещё сборная армия воевать.
Со дня на день, так предупреждали воеводу Щеню доводчики из Польской земли, пойдёт за Дон огромная сила, две с половиной тысячи драгун и улан пана Гандамира. Ибо те казаки, что подписали договорной лист с Радагором за печатью великого государя, на ту печать плюнули. Вот так: «Тьфу!» И отправились со своими родственниками, татарами да калмыками, грабить прикаспийские города. Сомнут теперь поляки русский передовой полк и на пушки не глянут!
Данило Щеня велел стрельцам огородиться телегами, во все стороны расставить пушки и глядеть в оба. Посередине куреня ему поставили шатёр, и он до вечера лежал в шатре, мучаясь разными мыслями. Ведь передовой полк он на то и передовой, чтобы его первым и сбили.
К вечеру за шатровым пологом послышался грубый голос, видать, там ругался человек, много куривший вредной травы никоцианы.
— Воеводу мне подавай! — орал голос. — Воеводу бачить желаю!
Данило Щеня скатился с походной перины, крикнул наружу: — Хай войдёт!
В шатёр ввалился сам себя шире, будто немецкая пивная бочка, явный казак немалых чинов:
— Пан воевода! Будь по здорову! Я казачий полковник Секач! Дай мене тэбя обняти! — Данилу обхватили две огромные руки и сжали так, что не выдохнуть.
Данило всё же выдохнул:
— Царскую водку пьёшь?
Объятия полковника тут же рассупонились, он оставил Данилу стоять у входа в шатёр, в три шага оказавшись у походного стола, сам определился с водочной бутылью и налил себе полковша царской водки монастырской выделки. Данило запоздало крикнул гридням, чтобы несли в шатёр чего поесть. А на походе чего поесть? Так, свиные копчёные окорока, рыба вяленая, стерлядь да пироги ржаные с курицей.
Данило только плеснул себе в маленький походный серебряный стаканчик, как у шатра кто-то резво остановил упряжную лошадь, быстро прочёл молитву. Гридень подсунулся под полог, доложил:
— Отец Паисий к тебе, воевода. Настоятель Белгородского монастыря.
Святой отец, не тоньше казацкого полковника, вошедши благословил «вкушающих пищу» и тут же получил в руки серебряный стаканчик с водкой. Повертел его в руках, сомневаться не стал, отставил стаканчик в сторону и плеснул себе водки в большой ковш.
Выпил, крякнул, поискал глазами чего постного.
Данила Щеня тут совсем развеселился:
— Мы на походе, святой отец, по законам матери нашей церкви, постного не держим. Только мясное тебе угощение!
Гридень занёс в шатёр пяток куриц, жаренных на вертеле. Отец Паисий перекрестил куриц, разломил одну и утешился, поедая куски белого мяса. Прожевал, сказал напористо:
— Что же это деется, а, воевода? Тебя второй день город ждёт, а ты, будто набедокуривший малец, в степи спрятался. Немедля выступай к городу Белгороду!
— Обожди, святой отец, не путай государеву диспозицию. Лучше скажи нам — кавалерия пана Гандамира за Дон отошла?
— После обеда отошла вся! Весёлые пошли, задиристые!
— Ну, тогда и нам пора! Сейчас мы примем ещё по единой чаре за победу русского оружия и пойдём в степь! — сипло рыкнул казачий полковник.
Воеводу Щеню разобрал смех. Священник тянет его в город, а казачий полковник неизвестного куреня — прямо в степь!
— Давай командуй мигом! — Полковник опорожнил ещё полковша, утёр усы. — Вели, чтобы половина твоего войска с тобою во главе шла под Белгород, прямо ночью. По ночи прохладно будет идти, да и батюшка тебя проводит по нужным дорогам. А вторую половину своего войска доверь своему самому сметливому сотнику, он пойдёт со мной. При десяти пушках пойдём, как весной договаривались!
— Карагачев! — крикнул через полог шатра Данило Щеня. — Подымай своих стрельцов. И пушкарей подымай. Негаданная работа у нас образовалась!
Почти две тысячи лёгких улан пана Гандамира да почти восемь сотен тяжёлых драгун, одетых в медные кирасы на груди, да в медных же касках, прошли длинной лавой через город Обоянь к Дону. Переправились тремя бродами через Дон и тремя потоками вышли к Кривой балке, встречая на пути брошенные казачьи городки. Пан Гандамир велел те городки поджигать, да саманные избушки не брались огнём. Ну и нёс с ними: если казаки, и правда, пошли угоном на Каспийское море, то половина хозяев этих хатёнок уже не вернётся.
Уже под утро у Донца, крупного притока Дона, передовой объезд обнаружил старика, ставившего крапивную сеть поперёк малой протоки. Старика выволокли на берег:
— Кому крестишься? — спросил старика пожилой драгун, дравшийся ещё с русскими полками при начале правления Ивана Третьего.
— А кому попадётся, — ответил старик. — Бывает, что и кусту.
Драгун перетянул старика плёткой, ещё спросил:
— А куда казаки подевались? Неужто нас испугались, утекли, побросав и скот, и семьи?
Драгунский офицер знал, что спрашивать. В донских протоках, на всём огромном степном пространстве между Доном и Волгой имелись такие затинные места, куда можно армию спрятать. А бабы, дети да старики, да скот казацкий — все они найдут укрывище в глиняных пещерах — дикий народ.
Старик говорил тихо, как будто трухлявому пеньку сказку рассказывал:
— Казаки пошли угоном на Каспий. С калмыками. А скот ихний и семьи — тута, недалеко. В пещерах да в ложбинах...
Не врал старик. Значит, можно себе земельку прихватывать.
Пан Гандамир, выехав на крутояр Донца да поглядев оттуда в сторону могучей Волги, подумал, что если набрать по югу Польши ещё пару тысяч кавалеристов, то можно считать, что эта земля, от Белгорода до самой Волги, войдёт в его княжество. А народ — пусть и православный — всегда вылазит сразу, едва где-то князь сядет и в колокол звякнет...
Пан Гандамир махнул рукой, чтобы рыбака отпустили. Лодку его, правда, пару раз стукнули топором по днищу, чтоб затопла. Но старик вытащил из камышей камышовый же плот, лёг на него, заработал руками и ветхую плавучую посудину скоро понесло вниз по Донцу.
Под утро над рекой голоса хорошо слышны. Драгун, выпоровший старика, в досаде крикнул ему вслед:
— Чтоб ты утоп, казацкая морда!
— Утонуть можно и в земле, польский клоп! К обеду тебя в ней и утопят!
К пану Гандамиру подскакал улан из тылового охранения. Говорил через слово,.так торопился:
— Стрельцы... две сотни... при десяти пушках... уже на Кривой балке!
Пан Гандамир лениво отмахнул: «Походный порядок!»
Драгуны развернулись и пошли ровной лентой обратно на Кривую балку. А по краям драгунской линии, забирая в стороны, носились уланы.
Пан Гандамир из глубокой низины увидел на трёх возвышенностях Кривой балки десять русских пушек, фитили у пушкарей дымились. По обе стороны пушечного строя суетились стрельцы, пытались встать поровнее, чтобы удержать при выстреле тяжёлые старинные пищали.
Ну, вот же русские дурни! Не подумали, а куда им отступать, куда бежать? Позади, в двух верстах, широченный Дон, и броды через него отсюда далеко! А десять захваченных пушек — это хороший повод похвастаться перед королём Александром своим неожиданным походом.
— Уланы — в охват флангов, драгуны — за мной! Бить будем москалей прямо в лоб! — скомандовал пан Гандамир, вынул саблю и пришпорил своего коня.
Конь рванулся и вынес пана Гандамира на возвышенность впереди драгунской лавы. Ни пушки, ни пищали не отозвались выстрелами на атаку драгун. А все польские конники увидели, как, уже поднявшись на косогор Кривой балки, пан Гандамир хотел круто завернуть коня, да тот скользнул по глине и завалился на бок, под жерла пушек.
Те, что выскочили сразу за польским князем наверх, просто ошалели. За русскими пушками стояли восемь казацких конных полков! Тут же застучали выстрелы казацких ружей. Русские пушки наконец дали по три залпа, да и стрельцы опростали дула пищалей.
Вся конница пана Гандамира, заваливаясь на крутых склонах огромной Кривой балки, просто скатилась назад, на колючую траву степи. Позади них вдруг раздался свирепый и дикий вой: «Алллалала!» Не меньше трёх тысяч татар и калмыков начали от Донца сходиться в дугу с тыла поляков. Полетели одиночные стрелы, потом стрелы тучами стали закрывать солнце.
— Ты вели своим пока не стрелять из пушек да пищалей, — сказал сотскому Карагачеву казачий полковник Секач. — Пущай поберегут заряды. Надо и нашей родне нонче малость заработать...
Поляки выскальзывали из седел, сбрасывали пояса с саблями, тянули руки вверх...
Через два дня шатёр воеводе Даниле Щене расстарались поставить на высотке, прямо напротив главных ворот Белгорода. Пушкой со стены не достать шатёр, но всё же неуютно.
Люди с низких, саманных стен города что-то весёлое кричали воеводе. Он вышел глянуть на боевой набор города и ухмыльнулся. С этой стороны против русских торчало восемнадцать пушек, но пять из них были корабельными, для осадного боя не пригодными. А остальные тоже — так себе, старые пушки, времён польского короля Казимира.
Сбоку, из-за речки, на своём тарантасе подкатил к шатру отец Паисий:
— Чего ждёшь, воевода? Чего мнёшься? Не видишь, горожане наши тебя зовут в город войти? У них пироги в печах перетомились!
— Иди в шатёр, там тебе гридень нальёт, чего потребуешь.
Утро случилось пасмурное, туманное. Данило Щеня чаще смотрел не на город, а туда, назад, где река Дон. Не видать русских стрельцов. Неужто побили их гандамировские драгуны? Тогда всё! Это же надо, а? С двумя сотнями стрельцов идти брать укреплённый город! Сейчас драгуны налетят с тылу, превратят в кашу и воеводу, и его пушки, и его стрельцов. Ну, воевода, не жди государева гнева, лучше сразу сам вешайся!
Из-за широченного шатра послышался конский топот. Гридни, что жарили сбоку от шатра барана, даже не крикнули. Прямо на Данилу Щеню выехал казачий полковник Секач, едва не вывалился из седла:
— Шо-то у мэнэ брюхо прихватило, воевода. Вели ковшичек водки той, крепкой подать, а?
Подъехала повозка. С неё два казака сбросили под ноги воеводы разодетого в красное поляка. Поляк как упал на землю, так и остался лежать, согнувшись. Данило Щеня тут же узнал пана Гандамира. Спросил грозно:
— Били его, что ли?
— Стрела татарская у него в спине, — буркнул казак.
— Так чего сюда привезли? Вон, на краю войскового построения стоит малый шатёр. Там лекарь, туда его волоките!
Пана Гандамира снова повалили на повозку, тронулись на край русского войска.
Подъехал белый лицом сотник Карагачев. Правая рука на перевязи из татарской шали.
— Ну? — спросил Воевода Щеня.
— Треть поляков, благословясь, ухайдокали.
— А остальные где?
Тут из шатра вышагнул казачий полковник Секач. Поднёс Щене и сотнику Карагачеву по ковшичку водки, тут же, у костра, отрезал им по куску баранины с вертела:
— А остальных ляхов далеко в степь угнали. Родственников наших больно много тебе помочь решило. Вот в расчёт за то поможение мы и поквитались с ляхами. Правда, оружие ляхов себе забрали, а одёжу и коней — ляд с ними! Помогать надо родственникам-то! Выпили, а? За победу русского оружия!
Данило Щеня подневольно выпил царской водки, заел горячей бараниной. Сообразил всё же спросить сотника Карагачева:
— А твой отряд где? Где артиллерия?
— Позади едут. К обеду поспеют, — его стало клонить с седла, рана в руке, видать, всё же случилась нешуточная.
Гридни из обслуги подскочили вовремя, придержали сотского.
— Волоките и его к лекарю. А то лекарь каждый час интересуется — скоро ли война?
Что-то в городе стало не так. Солнце поднялось уже высоко, туман рассеялся, притащились пушкари, ходившие с Карагачевым, привезли на длинных телегах пушки, лафеты катились на привязи. Стрельцы, вот же блуд их забери, все как один, приехали на низеньких татарских конях. «Войско пешего строя» называется! Но что-то не так.
— А где твои казаки, пане полковник Секач? — крикнул в лицо полковнику Секачу воевода Данило Щеня.
— А шо, не слышно тебе, как они в городе неверных лупят? — Полковник отрезал дамасским тонким кинжалом переднюю ногу барана и вернулся в шатёр, к бочонку с водкой.
Воевода Щеня ворвался в шатёр сразу за ним, заорал:
— А моему войску что прикажешь делать, а?!
— Хай пока отдохнут, отобедают. Город, пан воевода, он никуда не убежит. Так что завтра по раннему утру и ты в город войдёшь под своими знамёнами. Як побэдитель. Мы с отцом Паисием так и решили, да и русские горожане нас поддержали... Им тоже пограбить трэба инородцев. Вот лучше на, возьми, выпей...
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Данило Щеня и Михайло Степанович Шуйский встретились под Смоленском, куда воевода Данило придвинулся от Белгорода ускоренным маршем, реквизировав у поляков все повозки и лошадей. В Белгороде остались стоять гарнизоном двести стрельцов да малораненные казаки обещались помочь, ежели что.
Не успел Щеня. Гетман литвинский Константин Острожский, уже сел на город Смоленск и за какую-то неделю значительно укрепил его стены, подвёз продовольствие и припасы. Всех русских из города выгнали в чистое поле — подальше от еды, поближе к работе. За стенами остались одни только польские вояки. Город затворился.
— А что говорят доглядчики, сколько ещё полков польских да литвинских подходят к границам? Собираются ли они стать в оборону или пойдут нас атаковать? — спросил Данило.
Дьяк Военного приказа, имевший дело со шпиками и с допросами населения, покачал головой, потянул:
— Не ведаю...
— Ну, ступай, ведай, — отмахнулся от него Данило Щеня.
Когда дьяк покинул шатёр, Михайло Степанович Шуйский звезданул плёткой по скамейке:
— «Не знаю». «Не ведаю»... Совсем варёные у тебя люди!
— Варёные, — согласился Данило. — Ты бы мне лучше Николу Моребеда привёз. Он эти места знает.
— Я тебе и Николу привёз и тут, недалеко, под Ельней, оставил сорок тысяч дворянского ополчения. Вот указ великого государя, возьмёшь их под свою руку.
Данило Щеня положил государев указ на стол, не развернув. Откинул полог шатра, выглянул наружу. Шатёр стоял в версте от Смоленска, а перед самым городом бродили толпы горожан — очищали, старинный ров, наваливали вал против русской конницы...
Дворянское ополчение под его команду выделили... Эхма! Данило знал, как воюет дворянское ополчение. Только кто дрогнет, так все и бегут. Нужна самая что ни на есть подлая задумка, чтобы ударить разом и всю оборону литвин поломать! А вот что там у них позади первой линии обороны? Позади Смоленска? Поляки встали? Можно и увязнуть на пару лет, гоняясь вокруг города за поляками.
Михайло Степанович Шуйский всё выглядывал из шатра, кого-то поджидал.
— Торопишься или как? — спросил Шуйского Данило Щеня. — Обедать что, не сядем?
— Давай быстро по стаканчику, и я поеду. Вон мои охранные стрельцы уже гоношатся, меня ищут.
Выпили без радости, просто так.
— А ты теперь куда? — спросил Щеня, наливая по второй.
Михайло Степанович выпил и вторую, что-то пожевал, ответил раздумчиво:
— А меня государь послал на самое гиблое место: держать линию Великие Луки — Себеж. Там, видать, немецкие полки литвинам на подмогу встанут, да, говорят, даны проснулись, войны захотели. Ну, прощевай!
Шуйскому подвели коня, он помчался в сторону Велижа, по старой купеческой дороге. За ним вытягивались на лёгких конях татары данияровского набора, потом пошли тяжёлые кони охранной сотни русского дворянского ополчения.
В шатёр теперь мог зайти и Никола Моребед. Зашёл. Спросил:
— Чего закручинился, боярин?
— Смоленск одним ударом не взять. Шуйский привёл дворянское ополчение, да оставил его у Ельни, на случай литвинской атаки с любого места ихней границы. Вполне грамотно поставил, но у меня — приказ не Ельню оборонять, а брать Смоленск! А нынче у литвин командует гетман Острожский, у того характер совсем русский. Скомандует атаку, сомнёт моих двести стрельцов и попрёт на Москву. Вот ежели бы...
— Вот ежели бы кто позади полков гетмана Острожского двинулся по Днепру на Киев, — подсказал Никола Моребед. — Да с визгом, криком, с пограбёжем и пожарами, так?
Данило Щеня крикнул страже в шатёр никого не пускать. Поманил Николу за стол, налил из бочонка густого вина:
— Говори!
— А чего говорить, ты и так знаешь. Атаман Секач — при великой власти. У него почти три тысячи казачьего войска... Гоняет за Белгородом, по степям... крымчаков ждёт. Они ему обещали прийти с тремя тысячами конных. Придут, конечно, не три, придут пять тысяч... — Никола выпил крепкое италийское вино, выдохнул воздух.
А Данило Щеня уже рвал замок на железном сундуке, проворачивал на крышке потайные запоры. На пол из сундука полетели тяжёлые сурядные[122] мешки, шитые для крепости из трёх пластов грубой ткани.
— Пять, восемь... десять! — считал Данило Щеня. — Здесь венгерским золотом две тысячи монет! Седлай коня, бери кого хочешь и через три дня чтоб передал эти мешки лично полковнику Секачу! Пускай казаки да крымчаки идут валом повдоль Днепра, до самого Киева! Обожди! Киев, это строго накажи Секачу, Киев не трогать! Вокруг города пущай резвятся, а на Великий город даже глаз не запускают. Мы Киев когда — то без боя сдали, без боя должны и вернуть. Наказ государя! А что окрест пограбить, то им найдётся. Православных они и так не тронут, а за католические храмы я молиться не обязан!
— А бумагу мне к полковнику? — спросил Моребед.
— На грабёж? Не токмо что я, сам великий государь такую бумагу не даст. Ты и так полковника Секача наклонишь... Давай!
Через полчаса сотня лично отобранных конников Николы Моребеда скрылась за клубами пыли по торной дороге на Белгород.
Данило Щеня теперь в одиночестве выпил большую кружку вина, свистнул. Сторожевому стрельцу, просунувшему голову в шатёр, и сказал:
— Потихоньку созови ко мне десятских. Пушкарей — в первую очередь!
Поздним вечером, оставив во тьме гореть костры, а свой шатёр — нагло торчать супротив главных ворот Смоленска, заставив бегать меж ними десяток нарочных, изображая воинскую суету, малое стрелецкое войско Данило Щени быстрым маршем отступило к городу Ельне...
Кошевой атаман Секач с сомнением посмотрел на десять мешков с золотом. Подопнул три. Зазвенело чистым золотым монетным звоном.
Казаки взяли городок Изюм, что за Белгородом, на пути крымчаков. Но кошевой атаман, на случай, в центральном большом доме ночевать не стал, остановился на краю городка, в маленьком домике. Сунул мешки в бочонок из-под водки, крикнул хлопцев, чтобы упрятали бочонок в полковничью телегу.
— Благодарствую! — сказал теперь полковник Секач, искоса поглядывая на Николу Моребеда. — Ужинать останешься или сразу поедешь назад?
— Пока не расскажу, за что тебе великий московский государь отсыпал такую прорву денег, никуда не поеду! — ответил мирным голосом Моребед. — Вели мою охранную сотню накормить, каждому по чарке водки. Да коней чтоб не обидели. Пусть насыплют им зерна.
— А ты кто такой?! — наконец проснулся казак в толстом полковнике. — Я тебя первый раз вижу, бумагу от Москвы ты не привёз, значит, иди-ка ты парень отсель, а?
— Ты меня в десятый раз видишь, полковник! — голос у Николы подсел, не голос стал, а бычий хрип. — Когда ты той осенью под государевы деньги, мною данные, да под личную роспись, порубал полтысячи беглых от Москвы, да полторы тысячи продал калмыкам, ты мне в верности кланялся и даже до донских бродов проводил. Когда я литвинскую конницу князя Гандамира на Косую балку заманил, ты с той засады поимел булаву кошевого атамана! Сейчас, ежели меня послушаешь и пойдёшь скорым набегом до Киева, великий государь Московский тебе отдаст булаву гетмана Острожского. Сообразил, бычья башка?
— О! — заорал полковник Секач. — Свету в горенке мало! Не признав бо я тэбе, пан Никола! Звиняй менэ, старого! Эй, хлопцы, таскай сюды, шо у нас есть для дорого гостя!
Рано утром гетман Константин Острожский долго водил подзорной трубой по пустому полю, стоя на самой высокой башне Смоленска. Ушли русские! Сбежали! Его подстолий, правая рука гетмана, нетерпеливо говорил:
— Пане гетман! У москалей пушки! Они с ними идут в день всего по двадцать вёрст! Вели выслать вдогон конницу. Порубаем всех. Слава будет!
— Ты русских видел, ты русских знаешь? Они у татар сто лет учились против нас воевать.
— Это как же так?
— А вот так. Идут они, пятятся потихоньку, а ты за ними с сабелькой наголо да задрав штаны, торопишься...
— А задрав — зачем?
— А мешают торопиться... И вот ты их догнал, вот ты их сейчас и порубаешь. И тут с обоих флангов заходят на тебя полков по десять конницы и позади тебя — тоже конница. Татарская. И вот тут штаны тебе уже вовсе не нужны. Ничего тебе не нужно.
— Это почему? — обиделся подстолий.
— А на што штаны телу без головы? ... Вели выслать в стороны по десятку улан, пусть проскачут к Ельне вёрст на десять. Да мне кого-нибудь словят, языкастого...
К вечеру того же дня уланы привели к гетману двоих калик перехожих. Русских, в драных одёжах, старых и немощных. Оказалось, идут они через Смоленск на Киев поклониться Святой Софии и возле неё упокоиться.
Гетман велел подстолию, чтобы принёс католическое распятие. Калика, тот, что ещё хорошо видел да языки знал, покачал головой:
— Нет, пан добродний. Мы на Смоленском соборе кресты православные видим, запах ладана отсюда чуем. Мы в ту сторону помолимся. А католическую приправу с крестом убери, она нам душу чернит. — Калики встали на колени, точно повернувшись в сторону Смоленского собора, начали креститься.
Гетман вынул из сапога плётку, саданул по спине старика помоложе:
— Запорю насмерть, схизматы чёртовы, ежели тотчас не скажете мне, сколько войска у Данилы Щени!
Старец, кому крепко досталось плёткой, поднялся с колен, печальными глазами посмотрел на гетмана Острожского:
— Счёта мы не знаем, но на привалах слышали, что под городом Ельней у русского воеводы Щени начинает собираться понемногу дворянское ополчение... Самое никудышное. Может, к осени наберут тысяч десять. Двадцать тысяч на Руси нынче не прокормить... Видишь, мы уже побираемся и умирать идём?
— На тех ополченцев смотреть смешно. У них всё оружие — дедовское да копья времён Батыя. Кони под ними крестьянские, — вмешался слепой старец. — А пушки у воеводы есть, мы их встретили вчерась. — Слепец, не переставая креститься, попросил: — Великий пан! Дай копеечку! Два дня не ели!
Тут вмешался гетманский подстолий:
— А чего же вы позавчера, у своих, у русских, не попросили копеечку? Или хлеба? Мимо же шли?
Слепой старик дождался, пока на звоннице Смоленского православного собора ударит первый колокол. Последний раз перекрестился, тяжело охая встал, потом хмуро ответил подстолию:
— У них у самих жрать нечего... Всё окрест разорено. Война... Пойдём мы, пане гетман. Нам Киев надо увидеть по обету, чтобы благоверно помереть.
Гетман Константин Острожский радостно саданул плёткой по голенищу своего сапога, быстро прошёл через сени, в дом. Подстолий сунул в котомку слепому старику несколько медных монет и тоже скрылся в сенях.
Калики перехожие вышли со двора и повернули в сторону от собора, на край города.
— Больно саданул сволочь Острожский? — спросил слепец, доставая монеты и совершенно зрячим образом их пересчитывая.
— Больно не больно, а дело наше, Никола, сделано. Обманули злыдней. Пора бы и корчму найти.
— Этот гетман самый злейший наш вражина. И самый опытный. Он, верно, тоже послал в наши пределы каких-нибудь нищих. Или беглых. Считать нонче умеют все!
Два «польских купца» и шестеро «цыган» под утро на телегах вернулись от Ельни и доложили пану гетману, что двести стрельцов Данило Щени и двадцать пушек с припасами (а припасов-то на пять выстрелов), остановки в Ельне не сделали, пошли далее, к малому городку Дорогобужу.
— Там река есть, — пояснил один из «купцов». — То ли Сельня, то ли Ведрошь. А в трёх верстах от неё течёт другая река, не знаю, как называется. Вот они, русские, там и обустраиваются, меж двух рек. Ополчение сборное...
— Кони под вояками старые, умученные, крестьянские кони, — встрял старый цыган. — Кормятся от поля, траву жрут прямо с корнем...
— Один наш человек, литвин — прислужник у дворянина. Велел передать, что ополчения собрано всего чуть больше десяти тысяч дворян, ибо по деревням да сёлам больше зерна на прокорм нет...
Шпиги литвинские получили по русской полтине каждый и ушли, довольные.
Гетман распорядился подстолию:
— Писца мне!
В ранний час, когда солнце показало свой край над городом, по письменному приказу пять с половиной тысяч литвинского войска да с ними полторы тысячи конницы двумя колоннами двинулись на Дорогобуж. Везли немецкие и шведские пушки, сорок штук, да десять орудий сняли со стен города.
В самом Смоленске гарнизонной стражи, вместе с пушкарями, осталось триста местных ополченцев. К обеду к воротам города примчался гонец от Киева, свалился у запертых ворот Смоленска. Ему влили в рот жидовской водки, спросили, чего он так торопится?
— Окрест Киева двадцать тысяч казаков и казанских татар! Где гетман? Пускай поворачивает войска на Киев!
С западной стены города сбежал пушкарь, глаза выпученные:
— Казаки!
Неспешно вкруг Смоленска двигались казаки вперемешку с татарскими лучниками. На главном православном соборе города вдруг забили, заиграли все колокола разом. В той несметной и жуткой лаве, что обтекала город, половина конников сняла шапки, стала креститься. Татары вынули луки и послали по пять стрел в город.
Через неделю в Европе стало известно, что на Митковом поле, у реки Ведрошь, сорок тысяч русских войск за полтора часа лишили короля Александра самого сильного войска, а заодно оставили литвинскую армию и без гетмана Острожского...
Потом победители двинулись на Литву, к пограничным городам. Казачьи полки и крымская конница переправились через Днепр и встали у города Новгород-Волынский. За ними остался вокруг Киева угольно-кровавый след. Польша пискнула и на сейме перестали орать.
А коней крестьянских под ополченцами никто так и не видел! Кони были рослые, сытые. И ополченцы тоже рослые, сытые, при крепких пиках и острых саблях. И сильно злые. «Против такого войска воевать — себе грыжу наживать», — передавали потом по литвинским да польским землям последние слова гетмана Острожского.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Русское дворянское ополчение раньше, бывало, как август месяц, рвалось с поля по домам. А тут — никто! Тяжелораненых увезли, а дворянские полки растеклись повдоль всей границы с Литвинщиной, между делом прихватив себе Чернигов и ещё с десяток городков и стали там обустраиваться на зимние квартиры.
— Русские свиньи! — демократично ораторствовал на сейме пан Заболоцкий. — Забыли, как надо культурно воевать! Зимовать они собрались! Будто татары расселись на нашей земле...
Король Александр стукнул по столу чугунным молотком по железному блюдцу. Сказал мрачно в наступившей тишине:
— Русские полки расселись уже на своей земле. Треть жителей нашей страны да с третью земли перекинулись под руку Ивана Третьего. Давай, пан Заболоцкий, иди, мани их обратно...
Сейм, больше сотни шляхтичей, зло заворчал на королевские слова. Король Александр выругался по-русски:
— Я чуть не из милости просил у вас дозволения дать мне построить маленький домашний храм своей жене Елене...
— Так схизматский же храм! — заорал вдруг депутат из города Львова. — Как можно?
— Ну, а ты тоже иди теперь, выгоняй казаков и татар из своих польских окраин... — Король поднялся со своего места в зале сейма, вышел в свою личную залу, умылся из кувшина и кивнул слуге, чтобы налил в хрустальную чешскую рюмочку сладкой наливки.
Слуга, пока наливал, шепнул королю, что к нему есть важное дело у самого Ушера, жида с прозвищем Левиг. Король Александр аж швырнул в слугу хрустальную рюмку и проорал в голос:
— Зови сюда эту лысую обезьяну!
Ни покою, ни отдыху! И днём, и ночью война! Елена, принцесс московит, в спальню не пускает и обещает наследника не рожать. Русские бабы, они и так могут... А тут ещё принёс чёрт Левита! Кредитор хренов! Начнёт сейчас возврата денег требовать... Молоток бы тот сюда, чугунный, да по башке ему... Денег, денег, денег!
— Ну что тебе надо, старый верблюд? — спросил Александр семенящего к столу лысого жида.
Тот промолчал, сел в огромное кресло и потонул в нём. Молча смотрел на короля маленькими крысиными глазками. Александр проорал прямо в те глазки:
— Денег у меня нет! Война! Не жди денег! Иди себе, а то пока дойдёшь, гетто закроют!
Жидов в Вильно, по опыту Чехии, Моравии и Саксонии, держали в гетто. Выпускали на улицы города только в первую стражу, по восходящему солнцу, а обратно жиды должны были войти через ворота гетто по списку ровно в шесть часов пополудня, ранним вечером. Кто не вошёл, изгонялся из города, без семьи, без имущества. Раньше, говорят, таким невозвращенцам вообще башки на месте рубили...
Левит протёр слезящиеся глаза, снова молча уставился на короля. Александр взял графинчик с настойкой, прямо из горлышка сделал три хороших глотка. Денег в Вильно, в вонючих жидовских бочках больше, чем в Литовщине блох. Прячут деньги — не найдёшь...
— Ми дегжали совэт и тот совэт решиль, что на московского блудня Ивана надо нападать за дэньги. Он должен пяти коголям Ойропы его двадцать тысяч старых г...гггивен. Посылай туда посольство. У Ивана денег нет, вернуть нечем. Значит, пять коголей собегут тебе агмию и на следующий год ты сможешь вегнуть назад все утегяные нынче земли... А если твоя жена, дочь московского Ивана, не пгинесёт наследника, или будет дочь, то мы в момент рождения младенца подложим вместо дочери — сына. У евгеев сыновей много — Левит положил перед королём мятую бумагу — список посольства в Москву.
Осатаневший король Александр прочёл список, коряво написанный латиницей, про себя ругнулся, но всё же спросил:
— А кто это «мы»? Что за «мы» распоряжаются в Европе?
Жид выкарабкался из кресла, засеменил к выходу, обернулся:
— Сионский Приорат, — и скрылся за дверью.
Посольство из трёх государств, Литвинского, Венгерского и Саксонского, Иван Васильевич решил принимать не в Москве, там вовсю расстраивали Кремль, ставили стену, возводили каменные государевы покои. Посольство он решил принимать в Калуге, как бы на походе, доказывая тем самым, что война только взяла разгон.
Да тут ещё великая беда приключилась: книжнику Николе Моребеду в Смоленске воткнули нож под левую лопатку. Он там занимался чисткой веры, вышвыривал католиков из бывших православных храмов.
— Католики Николу зарезали, — ответил на то известие великому государю Радагор, младший Книжник. — Больше некому. На Смоленск сейчас идёт казачий атаман Секач. — За Николу он вымоет улицы города поганой кровью.
— Не надо бы, а? — сказал Данило Щеня. — А то сорвутся... с гвоздя подлые паписты. У них земли мало, им собраться недолго.
Михайло Степанович Шуйский топнул ногой, лязгнул саблей об ножны:
— Пускай Секач идёт, и пускай Смоленск помоет.
— Доиграемся, пся крев, — мрачно ответил великий государь. — Литвины и так озверели. Собирают летучие отряды и тех русских, что к нам перешли законно, по клятвенной росписи, режут. А дома их жгут.
— Ну, зима минует, тогда я до Кракова дойду! — мрачно пообещал Шуйский. — Ох, дойду!
Великий государь велел к прибытию посольства в Калугу спешно, с одной лишь печью, поставить достройку к дому калужского воеводы — большую, высокую, чтобы все переговорщики там поместились. В старом кирпичном арсенале купеческие товары велели убрать и тоже спешно поставили одну кухонную печь, пробили узкие окна, из досок сделали перегородки, чтобы посольским можно было ночевать несуетно, по два человека в горенке. Калужане наотрез отказались пускать в свои дома католиков. После них что? Дом сжигать? Ведь дом в скверне пребудет!
Стрелецкий сотник подбежал к окну, выкрикнул:
— Едут... с-с-собаки!
В тесноте посольские в первый же день выложили Ивану Васильевичу три претензии, которые он должен удовлетворить, иначе... худо будет.
Первая претензия: наказать грозно своей дочери, чтобы немедленно переходила в латинскую веру!
Вторая претензия: все большие города — Белгород, Трубчевск, Клинцы, Чернигов, Смоленск и Невель — вернуть под державную руку короля Александра. Земли окрест городов, где живут предатели Литвинской земли, переметнувшиеся в Московское государство, пусть останутся под теми предателями.
Третья претензия: через месяц опосля подписания договоров и отбытия посольства вернуть долг в сто двадцать тысяч старых гривен и пятьдесят тысяч русскими рублями. Серебро доставить прямо в город Вильно.
У боярина Шуйского на эфесе сабли запрыгала рука. Данило Щеня притопнул ногой. Великий государь как пригорюнился, когда началось чтение претензий, так и остался сидеть, когда чтение кончилось. Все в большой горнице молчали.
Радагор скосил глаза и увидел, что Шуйский перемигнулся с толстым посольским из литвин. Вспомнил — это Нарбутович! Ай беньакша![123] Можно будет заломать это посольство!
Великий государь откашлялся, что-то кашлять стал он часто в последний год, наконец заговорил:
— Если станете требовать, чтобы в бумагах было прописано «претензия», я с вами говорить не стану. Уйду.
— Станем писать «требование», — поднялся пан Собесский, молодой князь, но уже глава польского посольства.
Молодой, да дурной... Великий князь махнул на него рукой, поднялся, чтобы уходить.
Старый польский писарь, бывавший в десятках таких посольств, пробурчал:
— Пишу: «прошение». Годится?
Иван Васильевич кашлянул, сел и начал держать ответ:
— На первое ваше ко мне прошение отвечаю: дочь моя Елена по праву древнего супружеского обычая мне уже не принадлежит. Все её капризы должен исполнять её муж, сиречь король Александр! Пусть хоть плёткой загоняет в католичество, его право. Только вот Елена имеет за собой, по древнему нашему обычаю, возможность ухода к отцу со всем своим приданым, с деньгами и подарками от мужа и других лиц, и с наследником во чреве.
Русский дьяк, что в углу вёл скорописью содержание переговорных дел, хохотнул и сломал перо.
— За перо мне заплатишь полушку! — заорал на дьяка великий государь.
Дьяк лёг красным от смеха листом в кучу бумаг.
— На второе ко мне прошение отвечаю: старые русские города, что вы перечислили, взяты под мою державную руку, поелику то наши старые русские города и о том все летописи — и ваши, и наши — пишут с полной правдой.
В зале зашумели.
— Молчать! Трескоеды! — шумнул великий государь, обзывая всех посольских именным прозвищем саксонцев, у которых треска считалась самой дешёвой и вечной едой. — Мне нынче донесли, что моих людей, чьи дома и земли пока не отмечены пограничной линией и формально входят в вашу территорию, подлые воры убивают, а их дворы жгут! Неделю назад кошевой атаман Секач двинулся из польских земель с тремя тысячами казаков и пятью тысячами крымских татар в те мои земли по моему приглашению. Там он станет постоем на зиму, чтобы совершать охранные деяния.
Европейские послы соскочили со скамеек, на которых сидели:
— То нэможно! То нэможно!
— Моя земля! Кого хочу, того гостить зову! Ничего, погостят казаки в моей земле, вам же прибыток. Они платят ровно.
— Да, да, — скромно подтвердил Нарбутович. — Обрез от сабли по шее у них ровный...
— На третье ваше ко мне прошение, — возвысил голос великий государь, — отвечу так. Гривны занимала у европейских государей моя сноха Еленка молдаванская, регентша моего внука и бывшего Соправителя, сиречь внука Дмитрия. Сейчас их рядом со мной нет. Они за предательство и подлые дела пролив моего государства от власти отстранены, заперты в дальнем монастыре и скоро помре... С них и требуйте долг!
— Да там же твоей рукой подписано! В заёмной грамоте! — вскочил с места худой человек, по лицу вроде поляк. — Вот она, эта грамота! — он быстро достал из своего кошля бумагу, развернул, показал сидящим.
— Да, подписано. Под отпечатком пальца младенца Дмитрия подписано, что это его рука оставила отпечаток. Читай! Грамоте учен?
Вроде поляк, а нос длинный, толстый... Прочитал ясно: «Великий государь всея Руси руку приложил». И снова заорал:
— Внизу твоя подпись!
— Экий ты дурак! — врезался в разговор боярин Шуйский. — Ты погляди, где подпись Ивана Васильевича поставлена? Понизу отпечатка детского пальца. Это так наш государь подтвердил, что палец к грамоте приложил Дмитрий, а не сын пастуха! И всё! Государь несёт ответственность за чернильный отпечаток детского пальца, а за деньги он ответственности не несёт! Государи, если на себя берут обязательство, то подписывают своей рукой роспись сразу под текстом... А поверху договора ты читал?
Поляк или кто он там, ухватился за верх листа.
— Есть там упоминание, что великий государь Иван Васильевич те деньги занимает?
— «Великий государь всея Руси, великий князь Московский Дмитрий Иоаннович, в присутствии матери своей, великой княгини Елены Молдаванской, да в присутствии дьяка Дворцового приказа, да при послах немецких, литвинских...»
— Ну и где там я поверху прописан? — спросил великий государь. — Нигде! Так что денег я не занимал! В монастырь к Еленке молдаванской вас проводят, ежели требуется. Туда езды месяца три, да обратно столько же. Но она и сын её вроде уже помре...
— Вроде пока нет? — засомневался воевода Шуйский. — Но ежели оно тебе надо, то будут помре. Хоть через неделю...
Посольские притихли. Вот варвары же, а? Русские варвары, собаки свинские... Но как же теперь деньги получить? Ведь никак?
— Нам доподлинно известно, что ты всё войско супротив нас собирал на наши же деньги! — заорал поляк или кто он там был. — На наши деньги нас бил!
— Я вас, Панове, бил... — тут великий государь откашлялся, — на деньги, которые мне принесли города Псков, Новгород, Казань. Скоро мне принесут деньги мои города Белгород, Смоленск, Чернигов. Их я тоже пущу на войну.
— По вопросу о долге в старых гривнах станем потом заседать, великий государь, — поднялся Нарбутович. — А теперь там ещё остаток заёмных денег на пятьдесят тысяч русских рублей. Эти деньги когда можно получить?
Великий государь махнул рукой боярину Шуйскому, чтобы отвечал, а сам закашлялся и сел.
Михайло Степанович Шуйский поднялся, протянул руку. Писчий дьяк тотчас вложил ему пачку листов четвертичного размера.
— Этот займ в пятьдесят тысяч рублей, господа посольские, Московское княжество и великий государь не совершали. Это личные займы. И их надо, для доходчивости пояснения, поделить на два.
Двадцать пять тысяч рублей некий гражданин Великого Новгорода занял под скорое замужество знакомой вам Марфе Борецкой, вдове новгородского посадника. Замуж она собиралась за вашего литвинского князя Манасевича. Да тут негаданно Манасевич помре, и осталась Марфа Борецкая при большом долге её кредитору, именем Захарий Иванкович, а по-настоящему — жид Схария. А чтобы долг тот отработать, баба-дура поддалась уговорам жида и стала поднимать на Руси Великой войну противу государства и православной церкви. Войну ту мы остановили, а должок Марфы Борецкой так на ней и остался. Великий государь и наше великое княжество, повторяю, к тому долгу отношения не имеют. Частное лицо взяло деньги у частного лица... Хотите, так идите на Москву, там вам каждый встречный покажет её дом...
Поляк с длинным толстым носом вдруг спросил:
— А Захария Иванкович это может подтвердить?
— А вот это уже относится ко второй части долга, — скучно протянул боярин Шуйский. — Вторые двадцать пять тысяч рублей Захарий Иванкович, пока сидел у меня в тюремном замке... он их проел.
— За три месяца проел двадцать пять тысяч рублей? Врёшь ты, боярин! — заорал поляк.
— У тебя на руках бумаги с подписью жида Схарии. За каждый кусок хлеба там стоит его роспись...
Дьяк, что писал ход переговоров, наклонил лицо к бумаге. Это он мог хоть ногтем поставить любую подпись на любом документе. Великий государь Иван Васильевич Третий возле себя обалдуев не держал.
— Но как же так? — удивлялся поляк. — Почти по пятьсот рублей в день проедать? Короли так не едят! Желаю видеть Схарию немедленно!
— Немедленно не получится, — подпустил сожаления в голос боярин Шуйский. — Пока гонец отсюда домчит до Москвы, да пока кат Томило найдёт в Болоте нужное тебе тело, времени много уйдёт...
— Схария мёртв?
— Государственный преступник, гражданин Великого Новгорода тайным именем Схария, месяц назад казнён на Болоте. У тебя в бумагах всё есть, прочтёшь перед сном, — ответил Шуйский и сел.
— Нет, погоди! Ты что, боярин, думаешь, я поверю, что человек, а тем более такой скупец, как Схария, мог столоваться на пятьсот рублей в день? Ты украл эти деньги!
Боярин Шуйский глянул на великого государя. Иван Васильевич махнул рукой. Шуйский поднялся и веско произнёс:
— Прошу собравшихся учесть, что ел у меня в охраняемых хоромах не простой меняла, а великий человек!
— Кто? — поинтересовался Нарбутович.
— Схария был левой рукой при Навигаторе огромного, тайного и для всех европейских народов опасного ордена — Сионского Приората. Мы, конечно, от великого уважения его и кормили, как короля... А он наши счета подписывал!
Поднялся шум. Про эту организацию слышали. Поляк продрался к креслу, где заорал прямо в лицо великого государя:
— За смерть Схарии ты ответишь! После того как вернёшь нам деньги!
— Не хотите по-честному уладить спор? — спросил государь.
— Честно только крысы размножаются! — крикнул поляк.
— Это да, про крыс ты правильно сказал, — подтвердил Иван Васильевич и поднялся.
Шум прекратился.
— Послы идут к себе, там им от меня угощение будет, по итогам первого дня переговоров. Расходимся...
Посольские заторопились к выходу. С утра не ели и купить еду в Калуге негде! Хоть иди с топором на жилые дома!
Шуйский подмигнул Нарбутовичу и показал, в какую дверь ему одному пройти.
В столовой горнице калужского воеводы стоял накрытый стол. А на том столе... не хватало только что жареных соловьиных языков. Соловьи распевались во множестве клеток, висящих по стенам. Красиво распевались, заслушаешься. Но Иван Васильевич велел калужскому воеводе птичье пение остановить. Разговор предстоял непесенный.
Воевода калужский служил за столом виночерпием — разливал между тремя высокими людьми водки разные да и себя не забывал.
Иван Васильевич моргнул Михайле Степанычу Шуйскому сказать речь. Тот поднялся с серебряным ковшиком водки, пожелал здоровья пану Нарбутовичу, умнейшему человеку, и предложил с ним выпить из одного ковша — золотого, украшенного дорогими каменьями, да с картинами русских битв по ободу. Величайшая честь!
— Оно мне как-то невместно, — сказал Нарбутович, закусив водку горячими грибами, тушенными в сметане. — По первости всегда за царя пьют!
Вот где посол литвинский Нарбутович проскочил мимо языка своего. Царём обозвал великого князя!
— Дело поправимое! — рассмеялся Иван Васильевич. Перенял ковшичек, полный водки, у калужского воеводы, первым отпил три добрых глотка и протянул тот ковшик Нарбутовичу — допивать.
Нарбутович выпил водку, хотел ковшичек на стол поставить.
— Э-э-э! Нельзя! — прикрикнул великий государь. — Ковш идёт тебе в подарок от меня! Прячь себе в камзол! Забыл, как русские гуляют?
Пока Нарбутович ел разварного осётра и прихлёбывал уху из чашки, Михайло Степанович Шуйский сел напротив него, ласково сообщил:
— Ты не откладывай, присмотри себе поместье под Киевом. Там после наших казаков поместья, поди, подешевели?
— Есть там земля с садами да с пашнями. Пана Гандамира земля. — Нарбутович оторвался от осётра, вытер руки о полотенце. Понял: началась посольская работа.
— А сколько та земля стоит? — спросил Иван Васильевич, недавно сам подписавший бумагу об отпуске домой, в Польшу, без выкупа, калечного князя Гандамира: ноги у того после татарской стрелы не ходили.
— Ну, семья Гандамира просит, если в русских рублях, то три тысячи серебром. За пашню в три тысячи десятин, да за две тысячи пашенных крестьян. А усадьба сгорела — казаки постарались.
— Новую построишь. Главное дело — земля, — хохотнул Шуйский. — Денег на усадьбу ты от нас потом получишь.
Иван Васильевич сделал знак рукой воеводе калужскому:
— Вели прямо сейчас, тайно, из моей казны... Шуйский, иди! И ты тоже... Покажи, откуда вынуть три бочонка серебра и переложить в карету пана Нарбутовича.
Великий государь и посол от Литовщины Нарбутович остались одни. Нарбутович, хоть и выпивший, мысль держал:
— Великий государь! Всем там, в Европе, наплевать насчёт личного долга какому-то жиду в пятьдесят тысяч рублей! То дело и дьявол не разберёт! — Нарбутович перекрестился. — Но как же насчёт долга Еленки молдаванской и твоего бывшего Соправителя — Дмитрия? Все государи в Европе знают, и при том их особые послы присутствовали, что деньги в Европах занимал ты сам! Тут-то как быть?
— А очень просто, — ответил Иван Васильевич. — Моих земель в ваших краях ещё много осталось. И на тех землях живут мои люди. Мне всегда, стало быть, нужен повод, чем Европу задирать!
— Стало быть, опять война?
— Опять. Давай выпьем.
— Давай, великий государь. Теперь всё мне ясно. Отчего бы и не выпить? Только война, она денег требует. А у тебя денег-то и нет — разведка доносит. Как будешь воевать?
— А займу! Пока есть где занять!
В бывшем купеческом лабазе послы увидели длинный стол под льняной скатёркой да бегающих вокруг стола гридней. Посольские расселись, кто где смог. Не ели с утра, в брюхах урчало. Гридни быстро расставили перед каждым но оловянной тарелке и исчезли из зала.
Ждали, ждали... Ни гридней, ни еды...
Поляк, злой и красный, выскочил в узкий коридор, поймал парня, таскавшего по спальным каморкам перины и подушки:
— Где наша еда?
— На тарелках, — ответил парень. — Благословлением государя Ивана Васильевича...
А вернувшийся к утру в посольский дом краснорожий, с утра уже выпивший, Нарбутович принёс с собой указ великого государя Ивана Васильевича, чтобы послам ехать назад. Посольство отменяется до лучших времён, ибо великий государь заболел мелким кашлем.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
— Вон там начинается старая дорога паломников из Китая в Тибет, — Тихон-мерген показал Бусыге ложбину между двумя невысокими горными хребтами.
На огромную долину, где русские купцы остановились со своим караваном, слева, если брать от севера, выходил торный путь. По нему и сейчас шли чьи-то два каравана, лошади, верблюды. Паломники из Китая, Монголии и даже от Байкала, шли в Тибет, несли туда свои подарки и просящие молитвы. Кто хотел вымолить ребёнка, кто побольше скота, кто от старой жены избавиться. Стоянка здесь, на равнине перед крутым подъёмом на тибетское плато, была обязательной. Не потому, что так велели Боги, а потому, что надо было запастись топливом.
Проня бегал вдоль отверстий в земле, шахтных ям. На три версты тянулись эти ямы. Иногда вдруг в отверстии появлялась черноволосая голова, выставляла перед собой чёрный от угля мешок. Угольные это были ямы, в них сидели китайцы и долбили чёрный камень. К такому добытчику кидалось сразу несколько людей из других караванов, они отталкивали Проню, потом и друг друга. Совали чумазому копателю две китайские металлические монеты с дыркой посередине и забирали мешок.
Бусыга заметил, что на возвышенности, напротив линии угольных ям, сидит в коляске толстый китаец и черкает у себя на бумажке. Видать, владелец этих угольных шахт считает свою мзду. За ним маялись двадцать китайских воинов, с луками, с копьями... Видать, тем, кто под землёй уголь рубит, денег достаётся только на еду. Надо думать, это рабы. Иначе зачем бы тут воинам маяться?
Подбежал Проня, выругался:
— Не подпускают меня к ямам, сволочи! И все с ножами! Давай, Тихон, налетим на них с твоими стрелками, отберём весь уголь!
— Налететь можно. — Тихон оглянулся на своих мергенов, согласившихся провожать и охранять русский караван. — Только нас здесь просто затопчут. Это паломники. Им только ихний Бог — повелитель...
— Чего делать-то? — спросил у Бусыги Проня. — Может, без угля обойдёмся?
Тихон-мерген покачал головой:
— Нам по старой дороге до города Хара-Хото идти десять дней. Да ещё через ущелье Тысячи Злых духов. Там, говорят, месяц на одном месте крутится. А месяц без огня не выживешь!
Последние слова Тихон-мерген сказал совсем зло. Он местный житель, знает, что срочно надо, а что и подождёт. И потом, у него отряд людей с оружием. Возьмут да отойдут от русских в свою сторону. Тогда ложись и помирай... Сходили в Индию, екера мара ок саны![124]
Тихон-мерген тем временем обошёл потихоньку ряд паломников, тех, кто из Китая. На Тихоне была надета русская одёжа, диковинный здесь русский боевой лук высовывался из саадака. Сапоги себе он выбрал жёлтые, с каблуками. Каблуки опоясывали серебряные шпоры с колёсиками. (Проня ещё во Пскове на спор выиграл их у польского кирасира.) Китайцы дивились воину, почтительно с ним говорили.
Что-то у Тихона сладилось. Он крикнул повелительным голосом Бусыге:
— Эй, русико кан! Неси сюда, чем звенишь!
Проня взорвался:
— Убью падлу!
Бусыга подхватил из кучи вьюков малую железную шкатулку с русским серебром, подошёл к Тихону-мергену, поклонился. Поклонился и китайцам. Протянул Тихону шкатулку с деньгами. Тот шкатулку пешком (унижение большое в тех местах!) отнёс на возвышенность к толстому китайцу, открыл пред ним. Китаец покопался в ней, взял десять рублей, гад, да два рубля серебряных кинул под ноги своим воинам. Воины бегом спустились с высотки, встали в линию возле ям и вытянули, копья вперёд.
Тихон-мерген забрал шкатулку из рук китайца и что-то прокричал теперь своим воинам. Они пошли вдоль ям, стали собирать мешки с углём. Набрали сорок мешков. Паломники, остановленные китайскими копьями, молчали, не двигались. Китаец прокричал вроде того что «хватит!». Его солдаты опустили копья и пошли назад. Возле угольных ям снова началась толчея.
Тихон-мерген и не думал отдавать Бусыге шкатулку с деньгами. Он снова стал ходить между караванными стойбищами, что-то торговал. За ним шагали его охотники. Охотники принесли так же три мешка с травой, хорошо пахнувшей, два мешка из кожи, пахнувшие неприятно, потом уже сам Тихон пригнал к стоянке двадцать овец. На спину каждой овцы был привязан небольшой тюк, будто овца — тоже вьючное животное.
— А в них что? — спросил Тихона Бусыга, удивляясь человеческой выдумке в далёких краях. Вьючные овцы! Обхохочешься!
— В тюках соль. В прокопчённых мешках масло коровье, топлёное. А тут вот трава, называется «чай». Нам есть надо! Без еды мы не дойдём до города Хара-Хото!
Проня не выдержал:
— Я что — траву должен есть? А баранов кому?
— Нас сорок человек. Двадцать баранов нам на пять дней еды. А потом будет голод. Тихий, обычный в этой стране голод.
— Похудеешь, Проня, жена не узнает тебя худого!
— Плохо шутишь, Бусыга. Не дойду я до жены! И ты не дойдёшь! Пропали мы здесь, в Китае чёртовом. Нет, ну надо же было послушаться помирающего, обморочного человека, а? Он бредит, а мы уши развесили! Ну, Афанаська, ну, Никитин, вот так соврал! — Проню начало колотить что-то вроде озноба.
Через два дня хода по безлюдной дороге среди скал, кончились дрова. Тихон-мерген слез с коня, походил по ложбинам между скал, крикнул:
— Нашёл! Глину нашёл! Давайте сюда пустые мешки, собирать будем!
Глину собрали в пять мешком, принесли на стоянку. Воины Тихона уже натаскали туда кучи свежего верблюжьего и конского навоза.
— Теперь ищем плоские камни и начинаем дробить уголь! Пока только из пяти мешков!
Нашли камни, стали дробить уголь. Проня суетился, бил так, что кусочки угля улетали далеко, куда падали — не видать.
— Ты тише бей, — подошёл к нему Тихон. — Уголь теперь — это наша жизнь.
— Скажи ещё, что и навоз теперь наша жизнь! — буркнул Проня.
— И навоз — тоже наша жизнь.
Бусыга присмотрелся, как ловко воины Тихона берут кусок глины, потом столько же угля, потом добавляют на ладонь немного навоза и лепят из этого всего шарики величиной с куриные яйца. Бусыга раза три обмишурился, то навозу переложит, то угля. Если состав подбирался ровно, то шарики выходили плотные, прочные.
Большое поле этих одинаковых шариков усеяло стоянку с южной стороны горной гряды, под солнцем.
— Теперь ночь и день будем отдыхать, а потом пойдём с радостью! — сообщил Бусыге Тихон.
Подошёл Проня, спросил, показывая измазанные в навозе руки:
— А руки мыть после такого дела не положено?
Тихон-мерген крикнул, чтобы воины принесли торбас с водой. Сам полил Проне на руки. Тот помыл руки, умыл и лицо, и бороду, сел рядом с Бусыгой и стал плакать:
— Живот у меня болит, Бусыга, вот я и боюсь того, об чём предупреждал нас тогда купец Афанасий Никитин. Что есть здесь, в Китае, такие мелкие червячки, которые человека убивают медленно.
— А! — сообразил Бусыга. — Ты чачи выпить хочешь? Так пей. Вон она, в торбасе, на моём верблюде!
Проня поднялся, вынул из кармана китайскую чашку чёрного лака, непонятно где украденную. Налил полную чашку чачи, выпил махом, завалился на бок и захрапел.
— Он раньше был крепкий, ничего не боялся, — сказал Бусыга. — А тут будто душу потерял.
— Нет, не душу, — значительно проговорил Тихон. — Это Проню его дух потерял... У нас у каждого есть свой дух. Он нас бережёт. А тут страна другая, обычаи другие, Пронин дух заблудился и Проню потерял. Это ничего. Сейчас новая Луна выйдет, тогда дух своего Проню найдёт. Они, духи, по Луне узнают, кто из нас где ходит, где живёт.
Бусыга покачал головой, но возражать не стал. За этот поход он столько всего нового про жизнь узнал, что и жить стало грустно. Может, и его дух, его, Бусыгу, потерял? А вдруг не найдёт?
Чтобы сбить чёрные мысли, Бусыга попросил Тихона рассказать, как они станут проходить ущелье Тысячи Злых духов и насколько это опасное дело?
— Я там ни разу не бывал. — Тихон сел напротив Бусыги, поджав ноги как принято. — Говорят, что дорога, по которой мы сейчас идём, раньше хорошо охранялась, на ней стояли большие дома для паломников и загородки для верблюдов. Всегда можно было на ней купить еду для людей и для животных. А когда Чингисхан взял под себя эти земли, то велел награбленное серебро и золото везти к нему в Пекин этой дорогой. И вот, когда большой караван вошёл в это ущелье, вдруг поднялся страшный ветер. Да такой, что верблюдов поднимал в воздух! И каравана не стало. Один только охранник, простой воин, успел залезть в пещеру, откуда и видел, как Злые духи кружили в воздухе верблюдов и коней, как во все стороны летело серебро и золото. Этот воин был доставлен к самому Чингисхану, тот его выслушал и велел казнить. «Чтобы, — сказал Чингисхан, — не было свидетелей моего поражения от духов». А дорогу он закрыл.
— Всякое я видел и слышал, но чтобы ветер носил в воздухе верблюдов, это — сказка, — сказал Бусыга. — Я думаю, что те всадники и поделили между собой Чингисово богатство.
— Послезавтра станем проезжать через это ущелье, сам посмотришь, — пожал плечами Тихон.
На следующий день Проня проснулся весёлым и даже счастливым. Кинулся помогать, потом убежал на реку и там резал большим косым ножом траву для скотин, вязал её в тюки. Хлопот на день хватило.
Тихон-мерген сказал всем, что от ущелья Тысячи Злых духов до города Хара-Хото идти пять дней. Верблюды потерпят, а такую прорву коней, сотню голов, голодом морить нельзя.
К вечеру насмерть уставший Проня улёгся рядом с Бусыгой и стал смотреть, как мергены, поставив в круг пять казанов, налили в них воды, обложили кизяком — теми засохшими шариками. Тихон сказал:
— Топят иногда просто сухим навозом — «аргалом». А вот эти шарики очень удобны для перевозки в сумах. «Ки» — глина, «Зи» — уголь, «Ак» — белый столб дыма. Такой состав придумали очень давно.
Тихон с одного бока навалил на шарики сухой травы, малых веточек, собрал кусочки негодной ткани. Потом достал из кармана кремень и кусок железа. Ширкнул. Сухая трава послушно загорелась, потихоньку схватились и веточки, потом Проня с удивлением заметил, что и кизяк разгорелся так, как дрова в русской печи не горят. Прошло совсем мало времени, а в казанах уже кипела вода!
— Век живи, век учись! — сказал Бусыга. — Вот если бы у нас на Руси леса не было, как бы мы там жили?
— А не жили бы! — ответил Проня, наблюдая, как воины сыплют в казаны сухой чай, потом подбалтывают в туда немного муки, солят и наконец в каждый казан запускают по три ложки топлёного масла. Проня учуял запах от казанов и отвернулся: — Я это скотское пойло пить не стану!
Через полчаса он выхлебал две кружки этого густого пойла, слегка воняющего навозом, и сказал:
— Вот это суп так суп!
— Это монгольский чай! — пояснил Тихон-мерген. — Мы за счёт него только и живём. Мяса на каждый день не напасёшься.
Уже смеркалось, подступала ночь. Костры горели всё ярче и ярче. Кони, что паслись на той стороне ложбины, на траве у реки, вдруг забесились, стали испуганно звать людей. Бусыга вскинул голову. Огромное облако... не облако — тело, круглое, как оловянная тарелка, медленно прошло над освещённой стоянкой, потом издало краткий, но свирепый вой, за один миг поднялось в тёмное небо и там скрылось.
— Это... это... что? — спросил совершенно потрясённый Проня у Тихона-мергена.
Тот имел спокойное лицо, будто видал такую страшную картину каждую ночь.
— Мы же идём к ущелью Тысячи Злых духов, — ответил мерген. — Вот духи и смотрят, кто идёт да зачем. — Тихон поднялся от костра, пошёл к своим воинам — делить их на стражи. Кому караулить сейчас, а кому до утра.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Ущелье Тысячи Злых духов действительно могло нагнать страху на обычных людей. Горы, между которых проходила древняя дорога, как бы разошлись в стороны, чтобы освободить место огромным глыбам камней, наваленных беспорядочным образом. Каждый такой камень был величиной с башню кремля и имел неповторимый вид, будто его отдельно тесали и пилили, как бог на душу положит, сотни каменотёсов. Таких огромных каменных изваяний по всему ущелью было расставлено не меньше тысячи.
Русский купеческий караван шёл, извиваясь между этих мрачных камней, в полной тишине. Только гулко ботал колокол переднего верблюда, да Проня иногда ширкал кремнём, зажигая фитиль своей огромной пищали. Фитиль всё время гас, непонятно от чего.
Заблудиться среди этих чёртовых камней было невозможно. Из-за них хорошо виднелись горы высотой с версту. Две горные гряды как шли параллельно друг другу, создавая ложбину, так и шли. Но вот эти ужасные камни просто мутили головы и людям, и животным.
Где-то далеко впереди зародилось непонятное шуршание или шипение. Мергены из охранного отряда тут же соскочили с коней. Один пробежал с длинной верёвкой вокруг изрезанного камня, торчащего косым столбом, и через эту верёвку воины мигом пропустили узды коней и крепко привязали их к камню. Верблюды, заслышав шипенье, тотчас легли. Тихон-мерген тоже ухватил верёвки, стал бегать от верблюда к верблюду, привязывать верёвку к тюкам, соединяя животных таким образом.
— Чего сидишь? — крикнул Тихон Бусыге. — Хватай верёвку, вяжи верблюдов!
А Проня уже носился между лежащими дромадерами с длинной вязкой из старых ремённых вожжей. Обкрутил вожжи вокруг другого камня, крепко привязал. Упал рядом с Мергеном и Бусыгой.
Остальные охотники тоже попрятались. Шипение нарастало.
— Так змея шипит, когда на тебя ползёт, — успел ещё сказать Проня.
И тут их внезапный стан обнесло холодным воздухом, наполненным песком. Вздохнуть нечем!
Проня рывком стянул с себя матерчатый пояс, стал дышать через него. Не дышалось! Вот она, смерть! Тихон-мерген носком сапога выбил из песка большой камень, ткнул лицо Прони в углубление от камня. Пошёл первый вздох!
Бусыга тоже лежал лицом в маленькой ямке. Хитрые степные кони уткнулись мордами в промежности друг друга, а верблюды, видать, привыкшие к пустынным налётам ветра, только загнули свои длинные шеи к телу.
Ветер начал утихомириваться, песок уже не так больно лупил по телу сквозь одежду. Бусыга приподнял голову, осмотрелся. Слева от него, в сотне саженей, на горном склоне, качался от бешеного ветра огромный плоский камень. Покачался, покачался и встал на место. Ветер внезапно стих.
Что-то вспомнилась Бусыге в тот момент, когда он увидел качающийся камень, детская сказка. Как разбойники прятали в пещере награбленное добро, а саму пещеру закрывали тяжеленным камнем.
— Арабская сказка, — сказал Бусыга, поднялся и начал отряхиваться. — Тихон! Ты мне две длинные верёвки оставь! — и Бусыга толкнул Проню, поволок за собой.
Огромный плоский камень вблизи точно оказался дверью. Он прижимался к наклонной горе своим весом, и тяжесть его не могла бы подчиниться и сотне людей, если бы они стали оттаскивать камень голыми руками. Вверху камень суживался и вроде как отходил от скалы.
Бусыга подал Проне ремённые вожжи:
— Встань на меня и попробуй закинуть вожжи вон в ту расщелину поверху камня.
Проня сообразил. Быстро залез на плечи Бусыге и запросто накинул вожжи. Внизу собрались все охотники. Тихон-мерген крикнул:
— Чего там?
— Скоро увидим! Готовь верблюдов и лошадей! — крикнул в ответ Бусыга, и они с Проней стали спускаться, тщательно расправляя длинную вязку вожжей.
Тихон подогнал верблюдов и лошадей прямо к самой подошве горы. С сотней коротких верёвок, привязанных к животным, возились часа два.
— Пошёл, понукай! — крикнул наконец Бусыга.
Камень вдруг качнулся, отошёл от скалы и начал медленно заваливаться вниз. Бусыга тотчас перерезал одну вожжу, дико крича:
— Гони скот отсюда. Гони!
Огромный камень кувыркнулся всего один раз, а потом просто съехал по склону в долину, ударился о стоящий кривой столб. Столб скрипнул, но удар выдержал. Там, где стоял тот камень, людям открылась пещера.
— Пошли, — сказал Бусыга. — Пошли все! Я думаю, там и лежат сокровища Чингисхана!
По всей пещере валялась посуда из золота и серебра, деньги и много человеческих костей. Пещера от самого входа расширялась и уходила во тьму горы. Туда же вела дорога из костей животных.
У края пещеры собрались все воины Тихона-мергена. Они молчали. Бусыга поднял серый от пыли человеческий череп, протянул Тихону:
— Они здесь сначала ели сырое мясо своих коней. Потом стали резать друг друга. Просто так, оттого, что выхода не было...
— Ты это богатство заберёшь себе? — спросил Тихон-мерген.
— Нет, Тихон, мы это сокровище себе брать не станем. Оно твоё. Эта земля не наша и мы сюда не за этим золотом шли. Нас ждёт другое золото, то, за которое мы заплатим честно.
— Эта земля тоже не наша, — Тихон говорил осторожно, выбирая слова. Его люди стояли толпой, сжато, напрягшись. — Это китайская земля. Мы не можем забрать эти сокровища себе.
— Можете, — уверенно сказал Бусыга. Нас и наши семьи так долго мучили китайцы... Сколько ваших людей погибло? Сколько слёз пролили ваши матери, жёны и сёстры от подлых китайцев? Сколько стоят эти слёзы?
— Дорого стоят, — сказал из толпы воинов молодой парень.
— Не можем! — упрямо стоял на своём Тихон. — Если мы заберём эти сокровища, то как же мы будем охранять вас по пути до Алтая? Мы дали слово!
— А сделаем так, — Бусыга оглядел края входа в пещеру. Они от времени потрескались, трещины змеились, уходя под потолок пещеры, вглубь, в темноту. — Плиту, которую мы уронили, нам назад не поднять. Но Проня понимает толк в порохе. Он и закроет эту пещеру. А когда вы станете возвращаться назад, вы заберёте эти сокровища и увезёте к себе, на свои земли. Годится?
— Ладно, годится, — ответил Тихон. — Может, заберём, а может, и нет.
Пока Проня набивал порохом два огромных рога, отломанных от черепа быка, валявшегося в этом урочище с неизвестных времён, Тихон-мерген отсчитывал каждому воину по десять серебряных монет и по десять золотых. В дороге деньги всегда пригодятся. Русские купцы тоже набрали по паре горстей монет, рассовали их за подклады халатов.
Проня вбил один рог быка, полный пороха, в трещину возле входа, а второй — вверху, там, где трещина была за долгое время размыта дождями либо прорезана ветром. Из острого конца каждого рога торчало по ружейному фитилю. Проня ширкнул кремнём, запалил фитили, и все, не сговариваясь, кинулись от пещеры вниз, по крутому склону. Только укрылись, как наверху грохнуло.
Когда пыль рассеялась, куски камней ещё катились вниз, а Проня уже довольно сказал Тихону:
— Засыпана ваша казна так крепко, что целой китайской армии не раскопать!
Хохотали громко и долго. Потом решили сварить монгольский чай. Надо было бы уходить сразу, да вот устали все, намаялись. Время шло к вечеру.
В слабых сумерках стан купцов, вдруг будто крышкой от кастрюли, накрыло что-то круглое серое. Пару раз оно качнулось и опять мигом ушло в облака.
— Ай! — заорал Проня и откинул полу халата. На землю у костра высыпались уже не круглые золотые деньги, а куски раскалённого золота.
У Тихона-мергена оказался прожжённым кожаный кошель. Серебро так и осталось в кружочках, а золото превратилось в круглые окатыши.
— Хорошо, что мало взяли. Он нас не убил, а пока только предупредил, — сказал Тихон в наступившей тишине.
— Кто?! — ошалело спросил Проня.
— Злой дух этого ущелья. Так что, Проня, мы сюда больше не вернёмся.
Через пять дней пути вышли туда, где обе горные гряды вдруг расходились в стороны и каждая шла по своему направлению. В той долине на малой высоте стоял город... Хоть стены вокруг него были очень толстые и даже ворота виднелись, только таких городов ни Проня, ни Бусыга никогда раньше не видели. И мергены не видели. Из-за стены выглядывали не крыши домов, не острые шпили, не ступенчатые или округлые храмы. Там, за стенами, стояли пять высоких башен, и каждая кончалась поверху глиняным или каменным колоколом.
— От же! А?! — выкрикнул Проня. — Колокола! В половине года пути от матушки Руси и на тебе — колокола!
Лошади почуяли воду и понеслись к маленькой речушке, что текла в полуверсте от города. Верблюды тронулись за лошадьми.
Я не знаю, зачем Бео Гург, царство ему небесное, — тихо проговорил Тихон-мерген, — велел вам идти сюда, в Хара-Хото. Здесь жизни нет. Это брошенный город...
В воротах города со скрипом открылась калитка.
— Есть здесь жизнь! — бодро сказал Проня. — Видишь, приглашают нас зайти в гости! — и зашагал к калитке.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
— Мы здесь давно обретаемся, — монах говорил на странной смеси языков. — Есть у этого монастыря закон, чтобы в нём всегда жили люди. Не меньше чем три человека.
Переводил слова монаха Тихон-мерген и часто пожимал плечами, сомневаясь, что переводит правильно.
— Вы зачем сюда пришли? — спросил самый молодой монах. По виду ему можно было дать лет восемьдесят.
— Переведи, — тронул Тихона Бусыга. — Мы пришли с миром.
— С вами сорок воинов. Воины не ходят с миром, — вступил в разговор третий монах. У него лицо не загорело под пустынным солнцем или от рождения имело такой белый цвет. — И потом в этом краю Земли все знают, что дорога, по которой вы пришли... по ней давно не ходят. А вы пришли. Чего вам надо?
Бусыга посмотрел на Тихона. С какой стати покойный Бео Гург направил их сюда?! Тут было два выхода: вырезать монахов или связать и запереть их в каком-нибудь подвале. Потом, найдя золото, монахов выпустить. Только вот беда — золото здесь можно искать сто лет. Пять дней назад, в ущелье Злых духов, та круглая летающая тварь легко это доказала, мигом расплавив всё золото в карманах людей. Конечно, можно честно сказать монахам, что они пришли за золотом. Но тут снова возникнут вопросы: «А это ваше золото? А кто велел вам его забрать? А что нам будет за это?»
Бусыга вздохнул. Во всяком случае, пока дёргаться не надо. Ждать надо. Ждать. И говорить.
— Мы хотели краем вашей земли...— начал пояснять Бусыга.
Но старый монах внезапно оборвал его, заговорил зло и напористо.
— «Край нашей земли не здесь», — перевёл Тихон и умолк. Он снял свою шапку и начал вытирать вспотевшую вдруг голову обрывком ткани. — Говорит он полную несуразицу... Говорит, что край их земли там, где заходит солнце. Там большой океан... Так он говорит, я не знаю, верно ли я перевожу...
— От ты! — разозлился тут и Проня. — Он говорит об океане, который Атлантический...
Монах заулыбался, услыхав последнее слово:
— Атлантик, Атлантик!
— Там край их земли, — договорил Тихон-мерген. — Давай помолчим, а? До меня пока эта мысль дойдёт... Давай сварим чай, их тоже покормим, а, Бусыга?
— Ну, скажи ему, — обрадовался Бусыга знаниям монахов. — Коротко так скажи, что, мол, мы хотели пройти в Индию, торговать, да нас чуть не убили на перевале. И мы пошли назад. А потом скажи, что мол, указали нам, наверное, неправильную дорогу. Нам надо попасть на Алтай... А уж оттуда мы попадём домой.
— Алтай, Алтай! — возрадовались вдруг монахи и приняли приглашение поесть.
Монахам заварили монгольский чай в их казане. Казан оказался очень старым. Проня пощёлкал по нему пальцем, зашептал:
— Бусыга! А казан-то у них стальной. И сталь получше, чем на моём ружьё!
— Чепуху не городи, — ответил уставший, полусонный от чая Бусыга. — Ещё вдруг встанет между нами с монахами вражда — сначала насчёт казана, а потом и насчёт того, чтобы загнать в город сотню лошадей и пятьдесят верблюдов.
Монахи согласились укрыть в городе животных и всех людей, но отказались их кормить.
— Короом дене бес, — сказал Тихону самый старый монах.
А тот, что был бел лицом, добавил:
— Тулу бечи ериер иик. Бес! — и показал для убедительности пять пальцев.
Бусыга всё понял и безо всякого перевода: еду монахам приносят люди, живущие в земле. Они принесут им баранину только через пять дней.
У костра сидели три монаха и Бусыга с Тихоном.
Когда-то бабка Бусыги пришла во псковские земли из Литвинской земли, выйдя замуж за деда. Она знала много разных сказок, где героями были то Дракон, то Бык. Уже пожив на свете до времени, когда сам Бусыга стал искать себе невесту, бабка та призналась ему, что слушал он и не сказки вовсе, а историю вражды двух верований на Земле. Воевали Дракон и Бык, но Бык победил. «Это было давно... А потом пришли католики и за знание таких сказок про Быка и Дракона отправляли людей на костёр, ибо каждая новая вера хочет изничтожить старую».
Наказала бабка помнить те сказки про Быка и Дракона и ушла на Небеса, ибо была святой женщиной. И вот же как бывает! Пригодились её сказки!
— Они спрашивают, — перевёл Тихон, — в кого ты веришь?
— Я верю в Быка! — ответил Бусыга. — Его теперь власть над этой половиной Земли. Как не верить? Только я верю тайно. У нас сейчас все верят в человека, рождённого от Духа Святого.
Монахи переглянулись. Самый старый сказал:
— А мы верим в Дракона. Но те, кто приносит нам пищу раз в месяц, они тоже верят в Дракона тайно. А так, для других, они тоже верят в человека. Человека, который родился от луча, в цветке лотоса.
— Поэтому к вам в монастырь не приходят люди? — спросил Бусыга. — Из-за веры в Дракона?
— Нет. Про старую веру люди уже забыли. Да и те, кто помнил, они ушли. Пришли новые люди. Чингисхан перемешал всех людей на этой половине Земли. Говорят, он сам сюда приезжал, в город Хара-Хото. Хотел узнать тайну бессмертия. Но те монахи, что здесь служили, отказались открыть ему тайну... Вечной жизни для человека нет, есть жизнь долгая... Тогда Чингисхан приказал своим воинам стереть город Хара-Хото с лица Земли.
— А почему воины не выполнили приказ Чингисхана? — Бусыга понимал, что только вмешательство свирепой, нечеловеческой силы могло остановить разрушение города. Интересно, кто же встал на защиту города: Бык или Дракон?
— Рассказывают, что когда три тысячи воинов Чингисхана подошли к городу, — пояснил старец, — город накрыла небесная сила.
— В виде оловянной тарелки, круглая такая? — уточнил Бусыга.
— Да. И все воины были сожжены так быстро, как быстро человек может моргнуть.
Значит, город защитил Бык. Эль Энки, Му Сар Иоаннес... У него много имён. Сколько народов — столько и имён... Бык сжёг захватчиков. Дракон не играет с огнём, он просто превращает людей в глину, в землю или в камень.
Бусыга наклонился к костру, стал ворочать раскалённые шары кизяка. Зачем же всё-таки послал их в этот город Бео Гург — человек, знающий, где спрятано древнее золото?
А монахи и Тихон-мерген что-то обсуждали между собой, простое и мирное. Монахи кивали, Тихон повернулся к Бусыге:
— Монахи уже старые. А по обычаю — нельзя оставлять город без монахов. Спрашивают, не дам ли я им пять человек из своих воинов, чтобы те стали сначала учениками, а потом и монахами. Им откроются тайны верований и все людские тайны.
— Пусть ответят сначала, зачем им последователи, если никто не ходит в этот город, не посещает их моления? Нет верующих, значит, нет и веры! И спроси про золото, которое они охраняют. Это золото Дракона или Быка?
Тихон-мерген спросил, стараясь не смотреть в лицо Бусыге:
— А откуда ты знаешь, что монахи стерегут здесь золото?
— Помнишь, в момент смерти Бео Гург кинул тебе камень с нацарапанными знаками и ты принёс тот камень мне?
— Конечно.
— На камне было написано: «Хара-Хото. Золото». Мы ведь и в Индию шли за золотом. Нам, собственно, всё равно, где его взять.
— Но почему же ты не взял золото в пещере ущелья Тысячи Злых духов?
— А ты видел, как его стерегут?
Монахи оставили купцам такой ответ, что пока не будет решён первый вопрос, то и на второй ответа не будет. Только никто из охотников не согласился. Кому охота всю жизнь голодать в пустыне? Без вина, женщин и внуков?
Проня, когда ему рассказали, что монахам нужны пять добровольцев для продолжения их дела, спросил:
— Бусыга, а что они нам дадут за набор учеников?
Бусыга без смеха ответил:
— Золото!
Проня кивнул, взял два кожаных ведра для воды и пошёл к реке. Натаскал воды в три казана, развёл огонь, но малый. Потом в один казан с водой поставил свою оловянную миску, донышком кверху, на неё водрузил второй казан, поменьше и пустой — так, чтобы их стенки не касались друг друга. Он надёргал из своей старой рубахи множество льняных нитей и всё это хозяйство разложил на огромном плоском камне чёрного цвета, лежащем рядом с башнями.
Пока грелась вода, Проня начал тереть янтарь на камне до состояния мелкого порошка. Вокруг него собрались все — и монахи, и воины, и Тихон с Бусыгой. Бусыга догадался, что затевает Проня, но зачем ему в свечи янтарь?
Расколов огромный круг воска на куски, Проня поставил их топиться на «водяную баню». Смешав растопленный воск с тонким порошком янтаря, он намочил льняные фитили в чаче и присыпал их порохом. Тщательно промял лён, чтобы тот впитал в себя горючую смесь, и стал быстро катать свечи, толщиной не более младенческого мизинца.
Накатав таким образом двадцать свечей, Проня расставил их по кругу в центре чёрного камня, нашёл лучинку и от пламени костра поджёг ею фитили всех свечей. Свечи сначала горели неровно, некоторые гасли. Потом они вдруг стали разгораться, во все стороны полетели мелкие искры, запахло необыкновенным ароматом воска, моря, неведомой смолы.
Бусыга сообразил про задумку Прони и уже командовал:
— Тихон! Десять человек твоих воинов пусть толкут янтарь в мельчайший порошок! Проня делает фитили изо льна! А мы все станем плавить воск и катать свечи.
— Народу много, всем работы не достанется! — Тихон был доволен и хотел, чтоб каждый поучаствовал в общем деле.
— Отправляй сейчас же три десятка воинов на охоту. Я по мясу соскучился! — решил Бусыга и пошёл к монахам, стоящим у свечей с недоумёнными лицами, чтобы их обрадовать. — Тем людям, которые принесут вам завтра пищу, вы покажете, как зажигать свечи и научите их своей молитве. Потом к вам начнут приходить люди через день, всё больше и больше, потом...
— Потом у нас не останется воска и вот этого жёлтого божественного камня, — прервал Бусыгу старый монах.
— Мы к вам вернёмся через год и опять принесём и воск, и божественный камень янтарь. А вам пока этого хватит! Учитесь катать тонкие свечи! Очень тонкие. Тогда надолго хватит! Ну, а из местных людей вы всегда спокойно, с расчётом, выберете себе учеников. Так?
— Хорошая у тебя задумка, русский человек, — ответил самый старый монах. — Ты спрашивал нас про золото. Мы скажем ответ тебе завтра, когда увидим, поможет ли людям огонь твоих свечей.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Назавтра со стороны большой равнины, что раскинулась в Китае между предгорьями Тянь-Шаня и рекой Янцзы, в город Хара-Хото пришли люди. Восемь человек. Четыре женщины, два ребёнка и двое мужчин. На мужчин страшно было смотреть — согнутые спины и огромные, раскоряченные руки, а сами маленькие, дохленькие.
Пришедшие, не обращая внимания на стадо верблюдов и сотню лошадей, пасущихся на реке у города, тихо вошли в калитку, прошли мимо чужих им людей, как мимо статуй, и приблизились к алтарному камню, на котором накануне все катали свечи.
Алтарный камень был продолговатым, очень прочным, чёрного цвета, с белёсыми и красноватыми прожилками. Проня вчера бил по нему молотком, под вздохи монахов, но не смог отбить ни кусочка.
Тихон-мерген доложил Бусыге, что пропитание монахам эти «земляные люди» доставили. Но в город не внесли. Видать, так положено. Там две овцы, китайский горох в двух корзинах, а в одной корзине — зерно, именуемое «рис». Всё на месяц жизни.
— Спасибо твоим охотникам, — так же тихо ответил Бусыга. — Я видел, они добыли пять косуль. А тебе отдельное спасибо, что ты догадался тогда у паломников купить соли. Не помрём.
Монахи вышли к своим прихожанам из передней башни, наверху которой древние строители посадили огромный колокол, правда, видать, без языка. Дела у монахов нынче складывались плохо. Они, трое, стояли по другую сторону чёрного алтаря, прятали свечи от прихожан и выслушивали их горестные просьбы.
Тихон-мерген переводил:
— Крестьянин просит, чтобы поле давало больше риса... Женщина просит, чтобы больше ей не рожать — детей кормить нечем... Монахи заволновались. Погляди-ка на ребёнка!
Бусыга внимательно посмотрел на мальчонку годиков двух, прячущего голову в юбке матери. По велению монахов он вытянул голову наружу, и Бусыга охнул: половина головы у ребёнка была затянута пузырём. И ясно было видать, что под этим пузырём катается гной.
Монахи могли помолиться и пообещать крестьянину, что рис у него на поле станет гуще, а женщине, наоборот, могли обещать, что её родительское поле ничего больше не родит. Но вот как избавить мальца от гнойного пузыря на голове?
Проня возился в стороне, у сложенных тюков, он той беды не видел.
— Проня! — позвал Бусыга. — Иди сюда, глянь!
Проня отмахнулся, он что-то тяжёлое ворочал там, в тюках. Бусыга скорым шагом сам подошёл к Проне. Увидел, что Проня куском замши начищает до блеска здоровенное, больше локтя, позолоченное изображение Будды.
— Где взял? — громко и зло поинтересовался Бусыга.
На голос повернулись все охотники, а Тихон-мерген встал сзади Бусыги.
— Украл! — ответил Проня и тут же спрятал Будду в мешок.
— Ври больше! — не согласился Тихон. — Таких Богов украсть нельзя. Они тогда тебе зло принесут. Ты его тайком выкупил у паломников, на угольной стоянке. Много отдал?
— Десять рублей серебром! — загорячился Проня. — А что? Придём в Москву пустые, как там докажем, что до Индии мы всё же дошли?
— Всё золото, что у меня расплавилось в ущелье Злых духов, отдаю тебе за этого Будду! — предложил Бусыга.
— Нет! — упёрся Проня. — Ни за какие деньги не отдам. Это моя жизнь в Москве! И твоя!
— И моё золото возьми, только продай Будду Бусыге! — мягко попросил Тихон. Он уже сообразил, зачем Бусыге Будда. — Дальше, по дороге на Кош-Агач, на Алтай, я тебе куплю пять таких божков. Клянусь Небом!
— А этот из бронзы сделан! Он очень старый и позолоченный! — не сдавался Проня.
— Какого захочешь, такого и получишь. — Тихон-мерген сделал суровое лицо. — Богом Тенгри тебе клянусь!
Что-то Проне не понравилось, как за его Будду тут уцепились. Наверное, сильно надо, раз Бусыга кидается платить огромные деньги, а Тихон клянётся своим Богом. Но если Тихон обещал пять таких божков, то согласиться, конечно, можно.
— Договорились, забирайте! — Проня сунул мешок с Буддой в руки Бусыги.
В это время от алтаря донёсся к ним отчаянный рёв ребёнка.
— Это чего? — удивился Проня. — Режут ребёнка в жертву?
— Пошли, сам увидишь.
Они втроём подошли сбоку алтаря. Ребёнок орал от боли, наверное. Его голову осматривали монахи, сохранявшие каменные лица. Китайцы, люди из земли, теперь оглянулись на чужестранцев. Лица их не изменились.
Бусыга, читая ритмичную и вдавливающую молитву «Отче наш! Иже еси на небеси!», поставил Будду в центр алтаря. Поводил над ним руками. Самый молодой из монахов быстрым шагом ушёл внутрь храма и вернулся оттуда с пучком свечей. Монахи стали расставлять свечи вокруг Будды.
— Фитиль подожги и в рукаве спрячь! — посоветовал Проне Бусыга. — Потом, будто от твоей руки, и снизойдёт на свечи огонь.
Проня сбегал к своим тюкам и тут же возвратился. Из его левого рукава тянулся тонкий дымок.
— Быстрее, а то сам зажгусь!— прошипел Проня.
— Ом Мани Пад Де Хум! Ом Мани Пад Де Хум! — запел буддистскую молитву Тихон-мерген, его тут же слитным хором поддержали воины.
У Бусыги даже выступил пот на лице. Получилось гладко, ровно, как будто так и заведено здесь было тысячу лет назад. Проня подходил к свечам, поджёг три. Монахи тут же брали зажжённые свечи и размножали огонь вокруг Будды. Ребёнок с ужасной головой перестал хныкать.
— Это у него не болезнь, — быстро сказал Проня. — Это его матери надо надавать ремнём пониже спины. Такое бывает у коней или у бычков, если их сильно бить по голове. Берём ребёнка и идём в сторонку! Я только сейчас тут... возьму и вас догоню...
Китайцы со страхом смотрели, как здоровые, высокие люди (только Тихон-мерген был на вершок[125] ниже) взяли под мышки маленького ребёнка и понесли в дверь, ведущую в первую башню с колоколом.
Проня вошёл в абсолютно пустую и круглую изнутри башню, где на равных расстояниях были прорезаны узкие оконца наружу. Ребёнок дико кричал в чужих руках. Слышно было, как на улице воины сдерживают тоже заоравшую мать.
Бусыга держал ребёнка, Тихон наливал в чашку чачу. Проня достал короткий нож, обмакнул его в чачу и тут же полоснул по оплывшему пузырю на голове ребёнка. Ребёнок внезапно перестал кричать. И на улице смолкли женские крики. У ребёнка показался наружу абсолютно здоровый и целый глаз. Бусыга тут же своей ладонью крепко надавил ему на веки, а Проня смыл чачей гной с настоящей кожи на голове. Потом достал из кармана кожаный мешочек, туманно сообщил:
— Бео Гург, покойный, этим порошком место отреза своей руки пересыпал...
Он посыпал серым порошком проплешину на голове мальчонки, и его понесли на улицу. Мать с воплем радости схватила своего сына.
— Поясни ей, — велел Проня Тихону, — пусть этим порошком каждый день посыпает голову ребёнку и даёт пить чай. Насыпь-ка ей чаю, Тихон, пару горстей...
Проня ушёл за гору тюков и там прилёг. Ну, на такое дело купцу решиться — ребёнка резать! Лучше уж схлестнуться в поножовщине с турками или персами на ихнем базаре!
Бусыга ещё посмотрел, как монахи раздают каждому паломнику по две свечи, поясняя, как их разжигать. Огарки свечей вокруг Будды монахи осторожно собрали в глубокую тарелку из неизвестного металла, унесли куда-то... Бусыга оглянулся, поискал, где побольше солнца. Передвинулся на два шага и сел, прислонившись к тёплой стене башни. Вот ведь страна! Вроде лето, июль, должно быть тепло. Тепло есть, конечно, но только вдруг как поднимется от земли нечто вроде незримого льда — и сразу тебя бьёт озноб, будто стоишь ты зимой на Руси-матушке в голом виде да в чистом поле...
В большом закуте, который монахи отвели для караванного скота, между башней и высоченной толстой саманной стеной, мергены освежевали пять степных косуль, джейранов, и теперь спорили, как же приспособиться их пожарить. Из другой башни неожиданно вышли монахи, двое несли решётку в аршин шириной и почти в сажень длиной. Что-то там с ними, с монахами, заспорил Тихон-мерген. Бусыга встал, пошёл к спорщикам.
— Это железо! — утверждал Тихон. — На бронзе можно жарить мясо, на дереве можно, но на железе нельзя! Оно дорогое!
Старый монах улыбнулся и положил железо на четыре камня, вовремя подсунутых другими монахами. Что-то сказал специально для подошедшего Бусыги.
— Говорит, у них такого железа много. Разного. Если надо, так бери. — Тихон-мерген перевёл слова монаха и с беспокойным лицом кивнул своим воинам укладывать куски мяса на решётку из ценнейшего на земле металла...
Скоро от мяса пошёл сытный дух. А Бусыга снова поёжился. Вот будто у огня сидишь, а всё равно холод достаёт. Что там, под землёй, никак лёд лежит? Этот вопрос про лёд он попросил перевести Тихона для монахов.
Монахи переглянулись. Самый старый сказал:
— То, во что верили твои предки, всегда живёт в твоей крови. Твои предки верили в Бога Быка, и в момент полной Луны твоя голова всё вспоминает. Это называется «память предков»...
— Да, моя бабушка мне рассказывала...— Тут Бусыга споткнулся говорить. Не то скажешь — и тогда золото, что здесь должно быть, испарится.
— Тебе говорила твоя бабушка, где живёт древний твой Бог Бык?
— Да, говорила, но мне, маленькому, было смешно. Она говорила, что он живёт в воде.
— Она правильно тебе говорила, — ответил старый монах. — Когда твой Бог победил Дракона, он стал жить в озере Баал Кар.
— Байкал, — перевёл Тихон.
— Да, так иногда говорят. Раньше это озеро называли Ла Му, «Место, где спрятался Мудрый».
— Там, где живёт великий Бог, всегда должна быть чистая вода, хорошая рыба, крепкие берега, — продолжал старый монах. — И чтобы иметь чистую воду в озере Баал Кар, твой Бог распорядился устроить так, чтобы вода собиралась в чистых горах Тань-Шаня, потом выпадала росой на пески пустыни Гоби, процеживалась через них и далее, по огромным... трубам текла в озеро Баал Кар. Я вижу, как иногда тебя знобит. Здесь всех знобит. Это там, внизу, под землёй, вода охлаждается и начинает двигаться к озеру. А через эти башни выходит в небо лишнее тепло. И тогда внезапно становится холодно...
Да, в походах наслушаешься сказок пострашнее бабушкиных...
Когда поели и все стали укладываться для отдыха, монахи поманили Тихона и Бусыгу за собой. Тихон-мерген за эти дни стал вполне свободно говорить на древнем наречии. А Бусыге тот язык так и не дался.
В третьей башне, куда они вошли, на полу был нарисован квадрат. Простой чёрный квадрат. Монахи велели встать внутрь квадрата Бусыге и Тихону и сделали то же самое. Квадрат в полу стал опускаться вниз. Послышался далёкий шум воды, потянуло сильной прохладой.
Опускались они недолго, от поверхности земли саженей на десять. Тут квадратный кусок пола остановился и перед ними открылся высокий коридор. Монахи поманили Бусыгу и Тихона за собой. Бусыга всё же оглянулся — не уехал ли вверх тот квадрат? Нет, стоял на месте.
В коридоре ничего не светилось и факела не горели, но стоял лёгкий сумрак, можно было разглядеть и шов на своём халате. Бусыга разглядел и то, что из длинного коридора в стороны ведут проёмы. Без дверей.
Подошли к первому проёму. Бусыга внутри себя помянул чёрта. Огромная комната была засыпана золотым песком! Нет, не песком, а такими крупинками вроде зёрен ячменя. Так в русских деревнях, на ригах, собирают в кучи провеянное зерно, прежде чем его засыпать в амбары.
— Тебе надо такое золото? — спросил старший монах.
Бусыга только часто-часто закивал головой.
— Ну, так готовься его грузить.
— Сколько... можно... грузить? — спросил Бусыга, не в силах оторвать взгляда от этого жёлтого металла.
— Вес на вес будем торговать, — отозвался второй монах. — Вес воска и солнечного камня — на вес этого золота. Согласен?
— Да, — прохрипел Бусыга. — Весы у нас есть...
— И у нас есть, — хмыкнул монах. — Но мы достанем свои весы только тогда, когда к нам сюда, в монастырь Бога Будды, теперь станут приходить по десять паломников в день. Ты согласен?
— А куда я из колеи денусь? — ответил Бусыга поговоркой на русском языке.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Двух недель не прошло, а в город Хара-Хото стали приезжать паломники от самой реки Янцзы. По двадцать человек в день!
Бусыга и Проня сидели на толстой верблюжьей шкуре — от земли несло просто морозным холодом, и тёрли камни янтаря, с застывшими в них разными жужелицами. Тёрли грубой мешковиной, конской шерстью, а потом шкурой овцы. Напоследок натирали льном. Выходило красиво. Но бесполезно. В порошок растирать камень они не собирались. Проня верно подсказал Бусыге, что дома они сделают из золота оправы для украшений, а внутрь вставят эти гладкие камни с жужелицами. Потом поедут в Крым, на Карасубазар[126] и за большие деньги продадут те украшения!
Тихон-мергнен присел возле них, полюбовался янтарём.
— Надо уходить, — сказал Тихон. — Зима торопится сюда. — Двадцать дней хода отсюда до Кош-Агач. Вам надо успеть застать там караваны, что идут от Байкала в вашу сторону. Одним там нельзя ходить...
— А может, ты согласишься нас проводить до самой Москвы? — не удержался Проня. — Денег бы за это получил мно-о-о-го! И воины твои в обиде бы не остались.
— Нет, — отказался Тихон. — Мои воины не пойдут так далеко. У них нет уверенности, что оттуда, куда ты нас зовёшь, удастся вернуться... Я бы пошёл, у меня такой характер, а воины не пойдут. За Кош-Агач — уже не наша земля, — и ушёл. Из башни вышел монах, помахал им рукой подойти.
— Готовься, — толкнул Проню Бусыга. — Сегодня взвесим золото, а завтра уйдём.
У монахов в Хара-Хото уже появилось десять учеников. Парни, которым исполнилось но пятнадцать лет, теперь служили монахам, как преданные рабы. Научились даже свечи катать. За две штуки этих свечей паломники отдавали ягнёнка! Так что ни с одеждой, ни с пропитанием у монахов теперь заботы не имелось.
Обмен стали вести так. Проня выкатывал из мешка круг воска, писал на нём номер и вес. Этот круг Бусыга взвешивал на своём безмене, потом ученик, прихватив пустой мешок от воска, укатывал тот круг внутрь башни, а возвращался с мешком, в котором пересыпались одинаковые зёрна золота. Бусыга взвешивал то золото на весах, и вес золота всегда оказывался удивительно равным весу воска. Потом точно так же поменяли на золото сто пудов янтаря. Вышло почти двести пудов золота. Огромный вес, хоть и в маленьком объёме. Хорошо иметь дело с честными людьми!
Мергены-охотники застрелили сорок сайгаков, за две недели засолили и закоптили мясо. Оно крепко отдавало запахом навоза и горьким дымом, но в долгой дороге было незаменимым. В начале августа решили уходить из города Хара-Хото.
Вечером накануне ухода ни монахи, ни ученики не вышли посидеть последний раз у костра.
— Это нехорошо, что с нами не прощаются! — покачал головой Тихон-мерген и велел своим воинам удвоить охрану, а сам пошёл проверить ворота.
Ворота не открывались, как раньше. Тихон вернулся к костру, спокойно сообщил:
— Нас заперли. И заперли крепко — на железо. Снаружи ворот. Думаю, ночью прилетит... этот круглый Дракон, или кто он есть, и нас поджарит...
— Да мы же честно рассчитались с монахами! — Проня обиделся чуть ли не до слёз.
— Да, — помедлив, сказал Бусыга. — Точно, с монахами мы рассчитались честно. Только вот они с нами рассчитались не своим золотом, а Божьим. И тот Бог, уж я не скажу какой, но он своё золото вернёт. Они, Боги, народ свирепый... Проня, пойди там, у ворот, поройся, как бы чего ищешь. Посмотри, не сможем ли мы ворота разбить.
Проня прошёлся до ворот, покрутился, пнул их ногой, вернулся к костру:
— Прочно. Я не знаю, что это за дерево, но это просто камень-дерево. И там, между створами ворот навешен теперь... замок из железа!
— Попались, — высказал свою мысль Тихон.
— Давай, мы берём по пищали, а Тихон берёт своих воинов, — завёлся Проня. — И пойдём тех монахов...
— А где ты их найдёшь? Ты видел, сколько здесь под землёй ходов? — Бусыга встал. Его взгляд упирался в огромный чёрный камень алтаря. — А! — махнул рукой Бусыга. — Всё равно помирать. Так помирать честно!.. Тихон! Прикажи своим воинам положить на алтарь мешки с золотом! Пошли таскать!
За половину часа все мешки были перетасканы к алтарю, где Проня и Бусыга высыпали из них золото прямо на гладкий камень... Когда последнее зёрнышко жёлтого металла упало в большую кучу, чёрный алтарь стал оседать в землю. Был он высотой в аршин, а сейчас торчал из земли только на вершок. Бусыга махнул рукой, и все отошли к костру. Люди ждали.
И вот наконец, когда солнце зашло и на небе просияла луна, над башнями города Хара-Хото сгустилась огромная тень, внезапно упавшая с неба. В темноте края её размывались, но тот, кто видел её в ущелье Тысячи Злых духов, тот её узнал.
— Ты меня прости, Тихон, — прошептал Бусыга. — Может, я тебя чем обидел? И ты прости, Проня.
— Бог простит. И ты меня, Бусыга, тоже прости...
Тихон вдруг толкнул обоих кающихся грешников: груда золота на алтаре вдруг сама по себе рассыпалась и улеглась по всему камню ровным слоем. Потом камень тот поднялся из земли до своего обычного уровня. Бусыга увидел лица мергенов, серые во тьме от отражённого лунного света. То, что появилось над городом Хара-Хото, исчезло.
— Есть, есть Бог на свете! — крикнул Проня и тут же получил затрещину от Бусыги.
— Мы видели, что есть, Проня. Только орать об этом не надо.
А Тихон спокойно дошёл до ворот, вынул из пазов запорный брус, толкнул обе половинки — и ворота разошлись!
— Собирайте золото! Уходим немедленно! — не своим голосом произнёс Бусыга, а сам уже насыпал зёрна жёлтого металла в мешки.
Привал устроили ранним утром, когда отошли от города вёрст на двадцать и перестали видеть его башни. Караван спустился в низину широкой реки, бегущей по камням. Животные сразу накинулись на траву, а люди на копчёное мясо косуль.
— Я никак не пойму, — заговорил Проня, возясь у казанов с водой и стараясь запалить под ними огонь, — почему он нас оставил жить?
— Кто? — спросил Бусыга.
— Ну, этот летун, большой, круглый...
— Это тебе, Проня, приснилось. Ты чачи много выпил, вот тебе всякий бред в голову и полез, — зло заговорил Бусыга. — Приедем домой, не вздумай даже намекнуть, что ты видел. Сразу вырежут тебе все принадлежности между ног или посадят в Болото!
Проня скучно согласился и стал раздувать огонь. Он так пристрастился к монгольскому чаю, что не мог без него и дня прожить. Шарики кизяка уже закончились, и Проне пришлось побегать с топором в прибрежных зарослях реки.
Тихон-мерген задумчиво поглядел на Бусыгу, хотел что-то сказать, да, видать, передумал. Отвернулся, стал наблюдать за своими воинами, ругающимися насчёт конской упряжи. Кожаная упряжь уже рвалась, путь был тяжёлым.
— Ты хотел говорить, так говори, — подтолкнул Тихона Бусыга.
— Тебе одному. — Тихон снова повернул лицо к собеседнику. — Я три раза бывал на Тибете. Последний раз — в мрачном монастыре у горы Кайлас. Как рассказывали тамошние монахи, внутри горы когда-то ещё до Потопа жили древние люди. ...И там, в той горе Кайлас, спрятаны всякие божественные птицы из железа, но летающие.
— Ну и монахи! — разъярился Бусыга. — Сколько сказок понавыдумывают, лишь бы с человека копейку взять!
— Ты погоди, погоди. Я не о том хотел сказать. Слушай. Мы в тот монастырь от нашего умирающего старого князя тогда принесли золото. Дань. Предсмертную. Там были чаши, браслеты, кольца, цепочки — много всего... И нам велели то золото положить на алтарь посредине двора. Я остался стоять в охранении. И что я видел своими глазами? То же, что и в клятом городе Хара-Хото!
Бусыга слушал Тихона-мергена и думал: «Верить? Не верить?.. Вот же страна! Тайная страна! Нет, недаром купец Афанасий Никитин их послал сюда, в Китай! Что сам не успел вызнать, так пусть хоть другие вызнают! Всё для ради блага Руси великой!»
— ...И тот алтарь тоже в землю вошёл, как вчера в Хара-Хото! Я теперь понял, что...
— ...это не алтарь! Ну, для молящихся, конечно, алтарь. А для монахов и Богов это весы! — заорал вдруг Бусыга.
— Конечно весы! — заорал и Тихон. — Зачем же святое место превращать в базар! А так — тихо, благостно взвесили всё при закрытых воротах! Если мало им, никто из монастыря не выйдет, пока золота не станет столько, сколько надобно.
— Так! — согласился Бусыга. — Но только тогда получается, что вчера этот... который летает...
— Ну, который летает. Ладно.
— Вот! Он согласился своё золото отдать нам! Не нам даже — государю нашему! Ведь получается, знал, что русским купцам золото нужно край как — не для себя: для укрепления Руси-матушки. А нам он жизнь оставил!
— Погоди ещё про жизнь, — помрачнел тут Тихон. — Надо бы хоть до Кош-Агач дойти... Он, этот гад, летает быстро. И золото чует, как Проня чачу!
— Да, ты нрав. Что делать, скажи.
— До обеда отдохнём, а потом пойдём в ночь до утра без передышки. Кони падут, верблюды сдохнут, но нам надо идти быстро. Там, после Кош-Агач, после Пути древних людей, мы с тобой попрощаемся. А ты выйдешь на Кем Иер — Путь по Земле. И пойдёшь мимо Алтайских гор. Там народ, говорят, добрый. Верблюдов хороших себе купишь, коней молодых! Так и дойдёшь, потихоньку в свою Москву!
— Мой город — Псков! — поправил Тихона Бусыга.
А Тихон уже спал. Вот же люди! В природе живут, по её законам — всегда сытые, здоровые и кучу детей имеют. Эх!
Января, пятого дня, по латинскому счислению 1505 года, ранним утром в ворота Спасской башни Кремля топорно застучали.
Сонный стрелец отодвинул в сторону узкую железяку, чтобы посмотреть в образовавшуюся щель, кто там сейчас получит по сопатке. В рассветных сумерках виднелся огромный санный обоз из лошадей, почитай с сотню. А при том обозе было всего в охране два совершенно здоровых, крепких и злых русских человека.
— Чего народ гоношите, рязанцы косопузые? — зевнул стрелец. — Ждите! Как часы на башне отстукают шесть часов, так войдёте.
Стрелец наладился закрыть заслонку да Проня подбежал к передним саням, схватил свою пищаль, навёл на ворота.
— Э-э-э-э! — вскричал стрелец. — Убери! А то сейчас подыму сполох, пушки на вас выкатим!
Бусыга (он в дороге поседел, согнулся малость), отвёл рукой в сторону пищаль Прони, достал кошель, позвенел серебром:
— Нас с великим тщанием ждёт государь Иван Васильевич. Мы из Индии возвращаемся. А тебя, парень, ждёт вот этот кошель, с индийскими рублями.
Стрелец кошель взял, но ответил как положено:
— Спасибо вам, купцы, только я никак не могу ворота открыть. Служба! Одно слово — ждите!
Проня, уже два месяца не пивший не токмо что чачи — простой водки, осатанел и пальнул из пищали прямо в воздух над Кремлем. Кто-то на башне спросонья выругался про бесов, и опять встала тишина.
— Ладно, — согласился тут Бусыга. — Ты, стрелец, деньги взял, так дай нам хоть водки выпить!
— Не дам, — ответил стрелец. — Ждите, говорю. — И смотровая щель задвинулась металлом.
Эх, Москва, золотые маковки!
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Великий государь всея Руси Иван Васильевич Третий за полгода до своей кончины забыл, что значит спать. Не хотел спать, и всё тут! Ходил, бывало, ссутулившись, всю ночь по огромному Кремлю, а то молился в храме до заутрени.
И вот по январской ростепели идёт себе великий государь и слышит, будто пушка у Спасской башни ухнула. Вот и дело нашлось, как утро до обеда скоротать!
Государя тайно охраняли, ясное дело, до сорока стрельцов в тех ночных походах. Бывало, сам Михайло Степаныч Шуйский тайком сторожил Ивана Васильевича. Вот и на этот раз Шуйский крался со стрельцами по закоулкам: государь не любил, чтобы его охраняли.
Иван Васильевич подошёл к Спасским воротам — охранный стрелец и кошель со взяточными деньгами выронил от испуга. По притоптанному снегу покатились серебряные деньги, каких государь и не видывал. А за воротами башни фырчало, топало и уныло ржало.
— Там... там, это... обоз пришёл! Ждёт! — вытянулся столбом стрелец.
— Открывай ворота, государь обоз видеть желает!
Ну, тут уж и Михайло Степанович Шуйский со своими здоровяками из тени высунулся. Ворота открыть — нелёгкое дело...
Два человека, что были при огромном караване, при виде великого государя тотчас упали на колени. А Шуйский вдруг заорал:
— Батюшки светы! Это же наши купцы! Ходоки в Индию! Три года ходили! И вишь ты — пришли! А ну, люди, гоните обоз в Кремль, да живо, живо!
В мыльне побывали, по первому ковшичку монастырской водочки приняли.
Государь уже давно водку не пил, теперь только серебряный стакан рукой гладил. Неожиданно спросил:
— А там, в Китаях да в Индиях... там про Московскую Русь знают?
— Теперь знают, великий государь! — раздухарился Проня. — Мы им там такого про тебя страху поведали, они до сих пор, поди, трясутся!
— Не врать мне! — рявкнул Иван Васильевич.
Шуйский стукнул кулаком по столу вдогон государеву гневу.
— Знают! — твёрдо сказал Бусыга. — Но нас там не ждут.
— Вот! Правду сказал! Молодец! — Иван Васильевич прошёлся по огромной столовой палате, повертел головой. У него постоянно болела шея. Обернулся, сказал купцам: — Теперь так. Из Пскова вам, купцы, немедля переехать в Москву. Под мой пригляд! Шуйский вам подберёт усадьбы, это будет от меня подарок за ваш поход!
— А жить нам на что, великий государь? — не утерпел Проня. — Ведь проелись мы в этом походе похлеще Афанасия Никитина. Долгов столько! Не поднимемся!
— Я вас подниму! За поход имеете право получить десятую часть от товара.
— От золота? — удивился Бусыга.
— Но-но! Золото — царский металл. — Иван Васильевич подёргал себя за бороду, знак у него появился такой. — В серебре это будет...
— В серебре два пуда золота — будет стоить много, — сказал Шуйский, ломая ногу у гуся. — Почти шестьдесят тысяч рублей.
— Я согласный! — выкрикнул уже пьяненький Проня.
— Погоди, — Иван Васильевич потряс седой бородой, разгладил её руками. — У меня денег мало, так что деньгами получите только десять тысяч рублей. На остальные деньги мы что им можем дать, Шуйский?
— Дали бы земли, так они же не дворяне. Нечего им дать, окромя денег.
— Вот, приехали на родимую сторонушку! — разозлился Проня. — Здравствуй, родная земля!
Бусыга резнул Проню по загривку. С такими словами можно вылететь из царских хором без штанов и крепко поротыми.
— Великий государь! — поднялся Бусыга. — Ты Проню прости. Ему на походе здорово досталось. А мы у тебя просим к тем десяти тысячам рублей только право твоё торговать беспошлинно и с персами, и с турками, и с немецкой Ганзой. Мы тогда быстро поднимемся, если такое право нам дашь!
— Бумагу дам, это можно! Завтра прямо с утра в этой горнице и дам. Гулять здесь будем, ваши рассказы слушать! Три дня будем гулять!
Шуйский опасными глазами оглядел обоих купцов. Что-то нехорошее хотел спросить, да его Иван Васильевич отвлёк:
— Мишка! А что кузнец мой, сириец, сказал про это золото?
Шуйский долго не отвечал. Но ответил-таки честно:
— Он такой чистоты жёлтого металла никогда не видел. Это, говорит, Божье золото, не человеческое.
Проня пригнул лицо к своему блюду. Бусыга пошёл к дальнему концу стола, взять себе ложку, хотя ложек возле него была куча.
— Ну, что пришиблись? — разгневался великий государь на псковских купцов. — Чего вам Мишку Шуйского слушать? Моё это золото! Не Божье, не человечье, а моё!