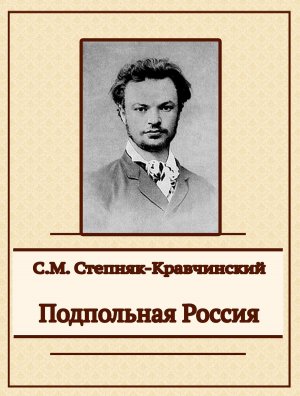
.
ВСТУПЛЕНИЕ
Очерки написаны на итальянском языке и впервые напечатаны в 1881 году в миланской газете «Il Pungolo»[1]. в виде корреспонденций из Швейцарии, под общим заголовком «La Russia sotterranea».[2]
Кравчинский создавал свои очерки в тяжелых условиях эмиграции. Скрываясь под чужим именем в Милане, страдая от вынужденного бездействия, писатель с удовлетворением встретил представившуюся возможность напечатать ряд очерков об освободительном движении в России даже на страницах «ретроградной», по его выражению, газеты. В начале ноября 1881 года он писал жене:
«Напишу вещь хоть полуреволюционную… А это очень и очень приятно после подцензурного блудословия[3]».
Издатель итальянской газеты поставил перед автором условие «излагать только факты, а не пускаться в теории». Передавая жене разговор с ним, Кравчинский писал:
«Некоторые, говорит, мысли редакция не разделяет, но вы, конечно, позволите ей сделать примечания, если — чего мы искренне желаем ваши “письма” украсят столбцы нашей газеты».
Кроме того, писатель сам вынужден был отбирать факты и события для книги так, чтобы не повредить участникам революционного движения в России. Сообщая 12 ноября 1881 года план «Подпольной России» народоволке Анне Эпштейн, Кравчинский писал:
«Знаешь, чью характеристику я сделаю первой?.. Дмитровскую.[4] О нем столько раз в газетах писали, что его имя можно упоминать. Хотел бы Льва,[5] но нельзя».
По поводу очерка о Дмитрии Клеменце, находившемся в то время в сибирской ссылке, он писал А. Эпштейн в середине ноября:
«Неужели ты думаешь, что я не вспомнил об исключительном положении Дмитрия? Только поэтому я и буду писать, что знаю, что никакого вреда от этого ему произойти не может, в каком бы положении он ни был».
Очерк о подпольных типографиях автор также счел возможным включить, потому что «об этом… в газетах писали».
Несмотря на все предосторожности, статьи в «Il Pungolo» привлекли внимание миланской полиции. В конце ноября 1881 года Кравчинский сообщал жене и А. Эпштейн:
«Квестор[6] справлялся, кто автор “La Russia sotterranea” в “Пунголе”...»
И, успокаивая их, прибавлял:
«Мне обещал один человек, знакомый с полицией, следить и предупредить в случае чего…»
В начале 1882 года Кравчинский приступил к подготовке отдельного издания очерков на итальянском языке, одновременно ведя переговоры об издании книги на английском, французском и немецком языках.
На итальянском языке книга вышла в Милане в мае 1882 года под тем же названием, с подзаголовком: «Profili e bozzetti rivoluzionarj».[7] На титульном листе стояло: «Stepniak. Gia direttore di “Zemlia e Volia”».[8] Очеркам было предпослано предисловие, в котором П. Л. Лавров представлял иностранным читателям автора как одного из наиболее активных русских революционеров. В 1885 году в начале книги «Россия под властью царей» Кравчинский отмечал, что предисловие Лаврова в большой степени способствовало успеху «Подпольной России».
В отдельном издании текст обогатился рядом дополнений: были значительно расширены очерки «Вера Засулич» и «Софья Перовская», введен очерк «Поездка в Петербург», написанный на основе воспоминаний А. Эпштейн.
Посылая книгу в 1882 году на отзыв В. И. Засулич и Г. В. Плеханову, Кравчинский писал:
«Единственная часть моей “Подпольной России”, которую я ценю, это… “Профили”, потому что я все-таки более других знаю этих людей, и мне хотелось хоть что-нибудь сделать, чтобы их образы не совсем утонули в бурлящей пучине русской политической жизни… Из действовавших никто, кроме меня, не пишет, не имеет возможности писать и погибнет, по всей вероятности, раньше, чем получит эту возможность. Но взявшись раз за эту работу, чтобы придать ей хоть какое-нибудь значение, я должен был быть вполне правдивым… Только придерживаясь такого критерия, можно было нарисовать людей, возможно похожих на живых, а не на куклы или суздальские иконы».[9]
Летом 1883 года «Подпольная Россия» была опубликована в английском переводе в Лондоне. Автор дополнил очерк «Софья Перовская» письмом, которое революционерка отправила из тюрьмы к матери за несколько дней до казни. С ним писатель познакомился, прочитав биографию С. Перовской, написанную Л. Тихомировым (напечатана в 1882 году в Женеве). Вскоре после выхода в свет лондонского издания писатель с удовлетворением сообщал жене отзыв одного из рецензентов, отметившего, что перевод «обогащен» письмом Перовской, «самым замечательным и трогательным из всех известных миру произведений эпистолярной литературы».
Отдельные очерки и отрывки из «Подпольной России» были переведены в 80-х годах на русский язык и печатались за границей и нелегально в России. Первым появился очерк «Софья Перовская» (в авторском переводе) в «Календаре “Народной воли” на 1883 год» (Женева), в 1884 году он был гектографирован в Харькове и в Казани. В том же году в Москве «Общестуденческий союз» выпустил литографированное издание первых трех глав «Подпольной России» под общим заголовком «Предисловие» (перевод неточен, со многими пропусками). Это издание размножалось потом и на гектографах. В 1903 году Центральный Комитет Российской социал-демократической рабочей партии выпустил в Баку брошюру, содержавшую очерки о Софье Перовской и Гесе Гельфман.
Полный текст «Подпольной России», переведенный автором на русский язык и несколько переработанный и дополненный, вышел в 1893 году (Лондон, изд. «Фонда вольной русской прессы»). Часть тиража была напечатана на тонкой бумаге и контрабандно доставлялась в Россию, где в 1896 году книгу целиком отпечатали на гектографе.
Специально написанное для этого издания «Заключение» вызвало, как это видно из переписки Кравчинского, неодобрительный отзыв в группе «Освобождение труда», мнением которой писатель очень дорожил. Но автора и самого не удовлетворяло «Заключение». В ноябре 1893 года он спрашивал Веру Засулич:
«Отчего вы ничего не пишете насчет моего “Заключения”? Мне говорил… Войнич… что ваша компания[10] ругает его если не самыми последними, то предпоследними словами. Правда ли это? Мне хочется, чтобы вы написали мне об этом в наиболее резкой, даже, если хотите, ругательной форме. Не удивляйтесь и, пожалуйста, исполните, если это правда. Дело в том, что я сам своим заключением недоволен…»[11]
Очерки «La Russia sotterranea», изданные в Милане, вызвали положительную оценку в печати многих стран.
Обращаясь в конце 1881 года к П. Б. Аксельроду с просьбой «похлопотать» об опубликовании книги на немецком языке в Швейцарии, Германии и подчеркивая при этом, что ему было бы еще «приятнее», если бы ее издали «с целью пропаганды» социал-демократы, Кравчинский писал:
«Я не сомневаюсь, что книжка разойдется очень хорошо… Говорю это по тем положительно восторженным… отзывам, которые получаю ото всех, и притом, заметь, не от русских и не приятелей, а литераторов по профессии».[12]
В архивном фонде Кравчинского (ЦГАЛИ) хранится отрывок письма к нему от Наума Львова из Парижа о впечатлении, которое произвела на французских писателей «Подпольная Россия». В письме, со слов Альфонса Доде, сообщалось о том, что на одном из литературных вечеров в салоне m-me Adam в Париже автор «Тартарена из Тараскона» «…рассказывал сцены из русской жизни» по книге «La Russia sotterranea», от которой был «в восторге». Присутствовавший на вечере Золя так заинтересовался политическими событиями в России, что вскоре начал писать роман, где главным действующим лицом являлся русский. «Я нашел замечательную книжечку на итальянском языке и там… кое-чем позаимствовался», — говорил Золя Доде. Узнав, однако, что эта «книжечка» через некоторое время при содействии Доде появится в печати на французском языке, Золя с сожалением отказался от своего замысла.
Многочисленные положительные отклики на книгу появлялись в газетах и журналах в последующие годы, когда она была опубликована в Испании, Португалии, Англии, Америке, Германии и т. д. После выхода в свет в 1883 году английского издания очерков писатель сообщал жене отзыв рецензента журнала «The Athenaeum», который отмечал отдельные недостатки перевода
«…в надежде, что при втором издании, которое… скоро последует, эти ошибки будут исправлены, потому что в книге, такой единственной в своем роде… составляющей… драгоценнейший вклад в наши знания о России — не следует пренебрегать ничем, чтоб сделать перевод безукоризненным».
П. Кропоткин писал, что «Подпольная Россия», когда она стала известна в Англии, оказывала
«...глубокое влияние на отзывчивые натуры, — влияние, способное даже заставить таких людей критически отнестись к своей прежней жизни и изменить ее — более или менее, хотя бы только на время — согласно с новым идеалом».
Книги Кравчинского, по утверждению Кропоткина, «…способствовали… пробуждению симпатий» западноевропейцев к России.[13]
Высоко оценили «Подпольную Россию» соотечественники писателя. В ЦГАЛИ хранится отрывок письма (1882) к Кравчинскому из Парижа от Н. П. Цакни, в котором последний сообщал:
«Был на днях у Тургенева. Он прочел твою книгу… и высказал следующее: “Написана в высшей степени талантливо, есть места даже художественные…” Затем самым правдивым и трогательным местом считает рассказ барыни о ее пребывании в Петербурге. “Тут видна голая, неприкрашенная правда, изложенная просто и трогательно, особенно хорошо рассказаны ощущения Перовской после ареста Желябова…”»
Участники революционного движения 70-х годов, отмечая правдивость и яркость характеристик революционеров в очерках Кравчинского, считали, однако, что писатель несколько «приподнял» своих героев над действительностью, идеализировал их. Такого мнения придерживалась, в частности, В. Засулич. Она писала:
«Но мы вовсе не хотим… сказать, чтобы он видел в восхищавших его людях совсем не существовавшие в них качества. Он обладал, наоборот, своеобразным, но чрезвычайно тонким и быстрым чутьем, указывавшим ему верные черты, которые он затем лишь освещал таким ярким светом своего художнического восхищения, что они являлись… отчасти преувеличенными. Он был убежден при этом, что он-то именно и видит своих современников в том настоящем свете, в каком они появятся в истории, а от других самая близость людей и событий скрывает их настоящие размеры».[14]
Большим успехом пользовалась книга Кравчинского в рабочей среде. В газете «Рабочая мысль» (1900, № 8) один из корреспондентов писал:
«…рабочие зачитывали… до дыр народовольческую брошюрку “Подпольная Россия” и жили вместе с ее героями, забывая всякие опасности и трудности настоящего».
НИГИЛИЗМ
Слово «нигилизм» было введено в обиход нашего языка, как известно, покойным И. С. Тургеневым, который окрестил этим именем особое умственное и нравственное течение, наметившееся среди русской интеллигенции в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов.
Эта кличка не была ни остроумнее, ни вернее множества других, изобретенных тем же Тургеневым, не говоря уже о Щедрине. Но повезло ей, можно сказать, поистине не в пример со сверстниками. Из великого, до сих пор не вполне оцененного романа Тургенева[15] название это быстро перешло в обыкновенную разговорную речь. Слово «нигилизм» получило право гражданства сперва как бранная кличка, а потом как гордо принятый ярлык той философской школы, которая одно время занимала самое видное место в русской интеллектуальной жизни.
Лет пятнадцать спустя, когда заправский нигилизм совершенно сошел со сцены в России и был почти забыт, эта кличка вдруг воскресла и стала жить за границей, где и засела так прочно, что, по-видимому, ее уже ничем не вытравишь.
Настоящий нигилизм, каким его знали в России, был борьбою за освобождение мысли от уз всякого рода традиции, шедшей рука об руку с борьбой за освобождение трудящихся классов от экономического рабства.
В основе этого движения лежал безусловный индивидуализм. Это было отрицание, во имя личной свободы, всяких стеснений, налагаемых на человека обществом, семьей, религией. Нигилизм был страстной и здоровой реакцией против деспотизма не политического, а нравственного, угнетающего личность в ее частной, интимной жизни.
Надо, однако, сознаться, что наши предшественники, особенно в первое время, сумели внести в эту совершенно мирную борьбу тот же мятежный дух протеста и то же одушевление, которые характеризуют позднейшее движение. Период этот заслуживает, чтобы сказать о нем несколько слов, так как он является своего рода прологом в той великой драме, которая разыгралась впоследствии.
Первая битва была дана на почве религии.[16] Но тут она не была ни продолжительна, ни упорна. Победа досталась сразу, так как нет ни одной страны в мире, где бы религия имела так мало корней в среде образованных слоев общества, как в России. Прошлое поколение держалось с грехом пополам церкви, больше из приличия, чем по убеждению. Но лишь только фаланга молодых писателей, вооруженных данными естественных наук и положительной философии, полных таланта, огня и жажды прозелитизма, двинулась на приступ, христианство пало, подобно старому, полуразвалившемуся зданию, которое держится только потому, что никому не вздумалось напереть на него плечом.
Пропаганда материализма велась двумя путями, взаимно поддерживавшими и дополнявшими друг друга. С одной стороны, переводились и писались сочинения, заключавшие в себе самые неопровержимые аргументы против всякой религии и вообще против всего сверхъестественного. Чтобы избежать придирок цензуры, мысли слишком вольные облекались в несколько неопределенную, туманную форму, которая, однако, никого не вводила в заблуждение. Внимательный читатель успел уже привыкнуть к «эзоповскому» языку, усвоенному передовыми представителями русской литературы. Рядом с этим шла устная пропаганда. Стоя на почве данных, доставляемых наукой, она делала из них окончательные выводы, уже нисколько не стесняясь цензурными соображениями, с которыми принуждены были считаться писатели. Атеизм превратился в религию своего рода, и ревнители этой новой веры разбрелись подобно проповедникам по всем путям и дорогам, разыскивая везде душу живу, чтобы спасти ее от христианския скверны. Подпольные станки и тут оказали свою услугу. Издан был литографированный перевод сочинения Бюхнера[17] «Сила и материя», которое имело громадный успех. Книга читалась тайком, несмотря на риск, с которым это было сопряжено, и разошлась в тысячах экземпляров.
Однажды мне в руки попало письмо В. Зайцева, одного из сотрудников «Русского слова», бывшего главным органом старого нигилизма.[18] В этом письме, предназначавшемся для подпольной печати, автор, говоря о своей эпохе и обвинениях, выставляемых нынешними нигилистами против нигилистов того времени, пишет:
«Клянусь вам всем святым, что мы не были эгоистами, как вы нас называете. Это была ошибка, — согласен, — но мы были глубоко убеждены в том, что боремся за счастье всего человечества, и каждый из нас охотно пошел бы на эшафот и сложил свою голову за Молешотта и Дарвина».
Слова эти заставили меня улыбнуться, но, несомненно, они были совершенно искренни. Если бы дело дошло до подобной крайности, то мир, чего доброго, увидел бы зрелище настолько же трагическое, насколько и смешное: людей, идущих на муки, чтоб доказать, что Дарвин был прав, а Кювье[19] ошибался, подобно тому как двести лет тому назад протопоп Аввакум и его единомышленники всходили на плаху и на костер за право писать Иисус через одно «и», а не через два, как у греков, и «двоить» аллилуйя, а не «троить», как то установлено государственной церковью.[20] Очень характерно это свойство русской натуры — относиться со страстностью, доходящей до фанатизма, к вопросам, которые со стороны всякого европейца вызвали бы простое выражение одобрения или порицания. Но в данном случае проповедь материализма не встречала никакого серьезного сопротивления. Потрясаемые алтари богов защищать было некому. Духовенство у нас, к счастью, никогда не имело нравственного влияния на общество. Что же касается правительства, то что оно могло поделать против чисто умственного движения, не выражавшегося ни в каких внешних проявлениях?
Таким образом, сражение было выиграно почти без всяких усилий, выиграно окончательно, бесповоротно. Материализм стал своего рода господствующей религией образованного класса, и едва ли нужно говорить о том значении, которое освобождение от всяких религиозных предрассудков имело для всего дальнейшего развития революционного движения.
Но нигилизм объявил войну не только религии, но и всему, что не было основано на чистом и положительном разуме, и это стремление, как нельзя более основательное само по себе, доводилось до абсурда нигилистами 60-х годов. Так, они совершенно отрицали искусство как одно из проявлений идеализма. Здесь отрицатели дошли до геркулесовых столпов, провозгласивши устами одного из своих пророков знаменитое положение, что сапожник выше Рафаэля,[21] так как он делает полезные вещи, тогда как картины Рафаэля решительно ни к чему не годны. В глазах правоверного нигилиста сама природа являлась лишь поставщицей матерьяла для химии и технологии. «Природа не храм, а лаборатория, и человек в ней работник», — говорил тургеневский Базаров.[22]
В одном очень важном пункте нигилизм оказал большую услугу России, это — в решении женского вопроса: он, разумеется, признал полную равноправность женщины с мужчиной.
Как во всякой стране, где политической жизни не существует, гостиная является в России единственным местом, где люди могут обсуждать какие бы то ни было интересующие их вопросы. Женщина-хозяйка занимает, таким образом, соответствующее ей положение в умственной жизни образованного дома много раньше, чем возникает вопрос об ее общественном уравнении. Это обстоятельство, а также, пожалуй, еще в большей степени крайнее обеднение дворянства после освобождения крестьян дали сильный толчок вопросу об эмансипации женщины и обеспечили за нею почти полную победу.
Женщина порабощается во имя брака, любви. Понятно поэтому, что, подымая голос в защиту своих прав, она всякий раз начинает с требования свободы любви и брака. Так было в древнем мире; так было во Франции XVIII столетия и в эпоху Жорж Санд.[23] Так же было и в России.
Но у нас женский вопрос не ограничился узким требованием «свободы любви», которая в сущности есть не что иное, как право выбирать себе господина. Скоро русские женщины поняли, что важно завоевать самую свободу, оставляя вопрос о любви на личное благоусмотрение. А так как свобода немыслима без экономической независимости, то борьба приняла иной характер: целью ее стало обеспечить за женщиной доступ к высшему образованию и профессиям, на которые образование дает право мужчине.
Борьба эта была продолжительна и упорна, так как на пути стояла наша патриархальная, допотопная семья. Русские женщины проявили в ней много доблести и героизма и придали ей тот самый страстный характер, каким были проникнуты почти все наши общественные движения последнего времени. В конце концов женщина победила, что принуждено было признать и само правительство.
Ни один отец уже не грозится обрезать косу своей непокорной дочери за то, что она хочет ехать в Петербург учиться медицине или слушать какие-нибудь «курсы». Молодая девушка не должна больше бежать ради этого из родительского дома, и ее друзьям-«нигилистам» нет надобности прибегать к «фиктивному браку», чтобы сделать ее независимой.
Нигилизм восторжествовал по всей линии, и ему не остается ничего больше, как успокоиться на лаврах. Первые две ипостаси из троицы его идеала, провозглашенного романом «Что делать?», — свобода мысли и развитая подруга жизни — были налицо. Недоставало только третьей — «разумного труда». Но так как он человек интеллигентный, а Россия нуждается в образованных людях, то он легко может найти себе дело по вкусу.
— Ну, а что же дальше? — вопрошает юноша, полный сил и отваги, прибывший из какого-нибудь отдаленного угла России и посетивший своего прежнего учителя.
— Что ж, я своего добился и по-своему счастлив, — отвечает тот.
— Да, — скажет юноша, — ты счастлив, я это вижу. Но как можешь ты быть счастлив, когда в твоей родной стране люди умирают от голода, когда правительство отнимает у народа последний грош и посылает его по миру? Или, быть может, ты этого не знаешь? А если знаешь, то что ты сделал для братьев твоих? Не сам ли ты говорил когда-то, что будешь бороться за счастье всех людей?
И правоверный тургеневский нигилист будет смущен этим неумолимым взором, не признающим компромиссов, потому что вера и энтузиазм, одушевлявшие его в первые годы борьбы, исчезли после победы. Теперь он не более как умный и утонченный эпикуреец, и кровь уже медленнее обращается в его отяжелевшем теле. А юноша уйдет, исполненный тоски, задавая себе томительный вопрос: что делать?
Наступает 1871 год. Телеграфные проволоки и ежедневная газета дают возможность современному человеку быть как бы вездесущим. И вот перед юношей возникает картина громадного города, восставшего на защиту народных прав. С захватывающим дух волнением следит он за всеми перипетиями страшной драмы, которая разыгрывается на берегах Сены. Он видит потоки крови, он слышит предсмертные вопли женщин и детей, расстреливаемых на улицах Парижа. Но зачем эти слезы и кровь? За что умирают эти люди? Они умирают за освобождение рабочего — за великую социальную идею нашей эпохи. И в то же время до его слуха долетает песня русского крестьянина, созданная веками страданий, нищеты, угнетения. Вот он стоит перед ним, этот «сеятель и хранитель»[24] русской земли, подавленный безысходным трудом и нуждою, вечный раб то бар, то чиновников, то своего же брата кулака. Правительство умышленно держит его в невежестве, и всякий грабит, всякий топчет его в грязь, и никто не подаст ему руки помощи. Никто? Так нет же, нет! Юноша знает теперь, что ему делать. Он протянет крестьянину свою руку. Он укажет ему путь к свободе и счастью. Его сердце переполняется любовью к этому бедному страдальцу, и с пылающим взором он произносит в глубине своей души торжественную клятву — посвятить всю свою жизнь, все свои силы, все помышления освобождению родного народа, который все терпит, чтобы только доставить ему, баловню судьбы, возможность жить в довольстве и роскоши, учиться, наслаждаться искусствами. Он сбросит с себя свой барский наряд, прикосновение которого жжет его тело, наденет грубый крестьянский армяк и лапти, и, покинув богатый дом родных, в котором ему душно, как в тюрьме, он отправится в народ, в какую-нибудь затерянную в глуши деревушку, и там, слабый и изнеженный барчонок, он будет исполнять тяжелую крестьянскую работу, будет подвергать себя всевозможным лишениям, чтобы только внести в эту несчастную среду слово утешения, евангелие наших дней — социализм. Что для него ссылка, Сибирь, смерть? Весь поглощенный своей великой идеей, лучезарной, живительной, как благодатное солнце юга, он презирает страдание и самую смерть готов встретить с улыбкой блаженства на лице.
Так родился социалист-революционер 1872–1874 годов. Так родились и его предшественники, каракозовцы, небольшая кучка отборных людей, развившихся под непосредственным влиянием зарождавшегося тогда Интернационала.[25]
Перед нами два типа развития общественной мысли в России. Один принадлежащий десятилетию 1860–1870; другой — появившийся с 1871 года.
Трудно представить себе более резкую противоположность. Нигилист стремится во что бы то ни стало к собственному счастью, идеал которого «разумная» жизнь «мыслящего реалиста». Революционер ищет счастья других, принося ему в жертву свое собственное. Его идеал — жизнь, полная страданий, и смерть мученика.
И по какому-то странному капризу судьбы первому из них, который не был и не мог быть известен нигде, кроме своей родины, Европа не дала никакого имени, тогда как второй, завоевавший себе столь грозную известность, был окрещен именем своего предшественника. Какая ирония!
ПРОПАГАНДА
Русское революционное движение, как о том уже упомянуто выше, было результатом западноевропейских идей и событий, сильно повлиявших на умы русской молодежи, которая, в силу особенных условий России, была предрасположена воспринять эти влияния с самым крайним увлечением. Теперь нам предстоит отметить, каждую в отдельности, истинные причины, вызвавшие такой результат, и направление, в котором происходило их воздействие. Указав источник и устье большой реки, мы должны теперь перечислить ее притоки и означить подробнее направление ее течения.
Проследить влияние Западной Европы не представляет особенного затруднения.
Идейное общение между Россией и Европой никогда не прерывалось, несмотря на все предохранительные меры цензуры. Запрещенные книги, как сочинения Прудона, Фурье, Оуэна и других социалистов старой школы, всегда доставлялись в Россию тайно, даже в эпоху азиатски жестокого и подозрительного деспотизма Николая.
Однако вследствие трудностей, с которыми было сопряжено добывание этих драгоценных книг, и языка, делавшего их малодоступными для массы читающей публики, непосредственное влияние этих писателей не могло быть особенно сильным. Они действовали на огромные сферы читателей благодаря целой плеяде блестящих популяризаторов социалистических идей, которые заняли в описываемую эпоху самое видное место в русской литературе. Во главе их стояли некоторые из самых даровитых людей двух последних поколений: Н. Г. Чернышевский, глубокий мыслитель, ученый и едкий полемист, заплативший мученичеством за свою благородную миссию; Добролюбов, гениальный публицист, ставший по нужде критиком, который умер 26 лет от роду, успевши оставить по себе глубокий след, который не изгладился и до нынешнего времени; Михайлов, профессор и писатель,[26] осужденный на каторжные работы за речь к студентам, и много, много других. Герцен и Огарев, издатели первого органа свободного слова на русском языке — лондонского «Колокола», — были заграничными выразителями и толкователями нового направления. Эти-то писатели и подготовили почву для всего позднейшего движения, воспитавши в принципах социализма целое поколение 70-х годов.
С Парижской коммуной, грозный взрыв которой потряс весь цивилизованный мир, русский социализм вступил в воинствующий фазис своего развития, перейдя из кабинетов и частных собраний в деревни и мастерские.
Много было причин, способствовавших тому, что русская молодежь приняла с такой горячностью принципы революционного социализма, провозглашенные Коммуной. Ограничимся здесь лишь указанием на них.
Началом русского возрождения была, как известно, злополучная Крымская война, обнаружившая самым безжалостным образом гнилость всего русского общественного строя. Необходимость реформ сделалась очевидной для всех, вплоть до тех, кто способен был задуматься над вопросом о сохранении целости государства. Начались реформы. Но попытка обновления России, предпринятая под руководством самодержавного императора, желавшего оставить неприкосновенным все: и свои священные «права», с которых следовало начать упразднение старого порядка вещей, и прерогативы дворянства, которое он хотел иметь на своей стороне, опасаясь революции, — такая попытка по необходимости должна была оказаться половинчатой, лицемерной, полной противоречий, одним словом — мертворожденной. Мы не станем подвергать ее критике, тем более что в этом нет никакой нужды: в настоящее время вся «легальная» и умеренная пресса повторяет на все лады то же самое, за что сыпалось столько упреков на головы социалистов, именно, что все реформы Александра II оказались в высшей степени несовершенными и что пресловутое освобождение крестьян изменило их матерьяльное положение только к худшему, так как выкупные платежи, установленные за их жалкие наделы, значительно превышают доходность земли.
Несчастное, изо дня в день ухудшающееся положение крестьян, то есть 9/10 населения, не могло не заставить серьезно призадуматься всех, кому было дорого будущее родины. Необходимо было искать каких-нибудь путей к улучшению положения народа, и, конечно, общественная мысль обратилась бы к законным и мирным средствам, если бы по освобождении крестьян от ига помещиков Александр II освободил Россию от своего собственного ига, наделивши ее хоть малой долей политической свободы. Но именно к этому он не проявлял ни малейшей склонности. А раз самодержавие оставалось в полной силе, можно было надеяться только на добрую волю императора. Но, по мере того как проходили годы, эта надежда все более и более уменьшалась. Как реформатор Александр II выдержал испытание очень недолго.
Польское восстание,[27] подавленное с известной всем жестокостью, было сигналом реакции, которая день ото дня становилась ожесточеннее. Тут уже приходилось бросить всякие расчеты на мирные и легальные средства. Оставалось — или безмолвно подчиниться всему, или искать других путей для спасения родины; и естественно, что все, кто любил Россию, выбрали последнее. Таким образом, рука об руку с ожесточением реакции росло и революционное брожение, и тайные общества возникали одно за другим во всех главных городах России.
Выстрел Каракозова, бывший результатом этого возбуждения, явился грозным предостережением Александру II. Но он не захотел понять этого; мало того, с 1866 года бешенство реакции удвоилось. В несколько месяцев было уничтожено все, что еще носило на себе печать либерализма первых лет царствования. Это была истинная вакханалия реакции.
После 1866 года нужно было быть слепым или лицемером, чтобы верить еще в возможность каких-нибудь улучшений иными путями помимо насильственных. Революционное брожение явно усиливалось, и достаточно было малейшей искры, чтобы превратить скрытое пока недовольство во всеобщий взрыв. Как уже сказано, роль такой искры сыграла Парижская коммуна.
Вскоре после Коммуны, то есть к концу 1871 года, в Москве образовалось тайное общество «долгушинцев», а в 1872 году в Петербурге возник кружок «чайковцев», имевший свои разветвления в Москве, Киеве, Одессе, Орле и Таганроге. Целью обеих организаций было распространение социально-революционной пропаганды между рабочими и крестьянами. Рядом с этими более или менее обширными организациями существовало множество мелких кружков с тою же программой. Массы отдельных людей помимо всяких кружков двинулись тогда же «в народ» для пропаганды. Движение вспыхнуло одновременно в разных местах и являлось просто необходимым результатом положения России, рассматриваемого сквозь призму социалистических идей, рассеянных в среде русской интеллигенции Чернышевским, Добролюбовым, Герценом и другими.
Вскоре к этим русским течениям присоединилась новая могучая волна из-за границы. Она имела своим источником «Международное общество рабочих»,[28] достигшее, как известно, своей наибольшей силы в течение нескольких лет, немедленно последовавших за Парижской коммуной. Здесь также следует различать два отдельные пути, которыми влияние Интернационала передавалось в Россию: с одной стороны, это происходило путем литературы, а с другой путем непосредственного воздействия на отдельных личностей. Два писателя Михаил Бакунин, оратор и агитатор, основавший анархическую или федералистическую секцию Интернационала, и Петр Лавров,[29] выдающийся философ и публицист, — оказали своим пером большую услугу нашему делу: первый — как автор книги о революции и федерализме,[30] в которой развиваются идеи о необходимости немедленного восстания; последний — в качестве редактора журнала «Вперед!», издание которого он выносил почти исключительно на своих плечах. Несмотря на их разногласия по некоторым вопросам, оба писателя признавали крестьянскую революцию единственным средством, способным действительно видоизменить нестерпимое положение русского народа.
Но Интернационал имел также и непосредственное влияние на русское движение. Здесь необходимо вернуться немного назад, потому что в этом пункте русское революционное движение соприкасается с чисто индивидуалистическим движением так называемого «нигилизма», о котором говорилось выше. Борьба за эмансипацию женщины слилась с стремлением последней к высшему образованию. Доступ в высшие учебные заведения был закрыт для русских женщин, и вот они решили отправляться за границу, чтобы там приобретать знания, в которых им отказывала их родина. Свободная Швейцария, когда-то ни для кого не закрывавшая ни своих границ, ни своих университетов, стала излюбленной страной этих новых пилигримов, и одно время знаменитый город Цюрих был их Иерусалимом. Со всех концов России — с Волги, тихого Дона, Кавказа, из далекой Сибири — молодые девушки, чуть не девочки, с легким чемоданчиком в руках и почти без средств, одни, отправлялись за тысячи верст, сгорая жаждой знаний, которые только и могли обеспечить им желанную независимость. Но, по прибытии в страну, бывшую предметом их мечтаний, они находили там не только медицинские школы, но и рядом с этим широкое общественное движение, о котором многие из них не имели ни малейшего понятия. И здесь еще раз обнаружилась разница между прежним нигилизмом и социализмом позднейшего поколения.
«Что такое вся эта наука, — спрашивали себя молодые девушки, — как не средство к приобретению более выгодного положения в среде привилегированных классов, к которым мы уже принадлежим? Кто, кроме нас самих, воспользуется всеми предоставляемыми знанием преимуществами? А если никто, то какая же разница между нами и всей этой массой кровопийц, живущих на счет пота и слез нашего несчастного народа?»
И вместо медицинской школы девушки начинали посещать заседания Интернационала, изучать политическую экономию и сочинения Маркса, Бакунина, Прудона и других основателей европейского социализма. Вскоре Цюрих из места научных занятий превратился в один громадный клуб. Молва о нем распространилась по всей России и привлекала туда целые сотни молодежи. Тогда не в меру предусмотрительное императорское правительство издало нелепый и позорный указ 1873 года, повелевавший всем русским, под угрозой объявления их вне закона, немедленно покинуть этот страшный город.
Правительство попало, что называется, пальцем в небо.
Дело в том, что в среде русских, пребывавших в Цюрихе, уже и без того возникали более или менее определенные планы возвращения на родину, с целью распространения там идей Интернационала, и указ привел только к тому, что вместо возвращения поодиночке и постепенно вернулись все почти поголовно и разом. С восторгом встреченные своими друзьями в России, они немедленно принялись со всем пылом молодости за распространение идей международного социализма.
Так, зимой 1873 года в одной из бедных лачужек, разбросанных по окраинам Петербурга, значительное число рабочих еженедельно собиралось вокруг князя Петра Кропоткина, излагавшего им принципы социализма и революции. Богатый казак Обухов[31], почти умиравший от чахотки, делал то же самое на берегах своего родного Дона. Поручик Леонид Шишко[32] поступил ткачом на одну из петербургских фабрик, в видах той же пропаганды. Два других члена того же общества, Дм. Рогачев с одним из своих друзей,[33] отправились в качестве пильщиков в Тверскую губернию для пропаганды среди крестьян. Зимой 1873 года по доносу одного местного помещика оба были арестованы, но, бежавши при помощи крестьян из рук полиции, они прибыли в Москву и занялись там пропагандой среди молодежи. Тут они столкнулись с двумя женщинами, только что приехавшими из Цюриха[34] с тою же целью. Таким образом, эти два течения, одно — местное, другое — шедшее из-за границы, встречались на каждом шагу, и оба приводили к одному и тому же. Подпольные книги и журналы провозглашали: «Час разрушения старого буржуазного мира пробил… Новый мир, основанный на братстве всех людей, мир, в котором не будет больше ни слез, ни нищеты, готов уже возникнуть на его развалинах. К делу же! Да здравствует революция, единственное средство осуществления этого золотого идеала!» Возвратившиеся из-за границы студенты и студентки воспламеняли молодые души рассказами о великой борьбе, начатой западноевропейским пролетариатом: об Интернационале и его славных основателях, о Коммуне и ее мучениках, и вместе с своими новыми последователями приготовлялись идти «в народ», с целью воплощения в жизнь своих идей. С беспокойством спрашивали они тех пока еще немногих товарищей, которые успели уже побывать в деревне: что же такое эта могучая и загадочная народная среда, этот народ, к которому их отцы внушали им только ужас и который, однако, еще не зная его, они уже любили со всей пылкостью своих юных сердец? И вопрошаемые, прошедшие уже раньше через те же муки сомнений и страха, рассказывали им с восторгом, что этот страшный народ — добр, прост и доверчив, как дитя; что он встречает своих друзей не только без всякой подозрительности, но с распростертыми объятиями и открытым сердцем; что речи их выслушивались с глубочайшим сочувствием; что все, стар и млад, по окончании долгого трудового дня собирались вокруг них в какой-нибудь темной, закопченной избушке, где при слабом свете лучины они им говорили о социализме или читали какую-нибудь из захваченных с собой книжек; что деревенские сходки прекращались, лишь только пропагандист являлся в деревню, так как крестьяне покидали свои собрания и приходили слушать его. И затем, нарисовавши картину невероятных страданий этого несчастного народа, страданий, которых они сами были очевидцами, они указывали на те слабые признаки, быть может преувеличенные их воображением, которые поселяли в них уверенность в том, что этот народ не так уж забит, как думают; что в нем происходит какое-то брожение, ходят странные слухи и толки, показывающие, что терпение его истощается и что Россия переживает канун каких-то грозных событий.
Вся эта масса разнообразных и могущественных влияний, воздействуя на впечатлительные, сильно склонные к увлечению умы русской молодежи, произвела то широкое движение 1873–1874 годов, с которого началась в России новая революционная эра.
Ничего подобного не было ни раньше, ни после. Казалось, тут действовало скорей какое-то откровение, чем пропаганда. Сначала еще мы можем указывать на ту или другую книгу, ту или другую личность, под влиянием которых тот или другой человек присоединяется к движению; но потом это становится уже невозможным. Точно какой-то могучий клик, исходивший неизвестно откуда, пронесся по стране, призывая всех, в ком была живая душа, на великое дело спасения родины и человечества. И все, в ком была живая душа, отзывались и шли на этот клик, исполненные тоски и негодования на свою прошлую жизнь, и, оставляя родной кров, богатство, почести, семью, отдавались движению с тем восторженным энтузиазмом, с той горячей верой, которая не знает препятствий, не меряет жертв и для которой страдания и гибель являются самым жгучим, непреодолимым стимулом к деятельности.
Мы не будем говорить о множестве молодых людей, принадлежавших даже к аристократическим семьям, которые по пятнадцать часов в сутки проводили в работе на фабриках, в мастерских, в поле. Молодости свойственна отвага и готовность на жертвы. Характерно то, что зараза распространилась даже на людей зрелых, с обеспеченным положением, на приобретение которого они затратили свои лучшие молодые силы, — судей, врачей, офицеров; и такие были не из наименее преданных делу.
Движение это едва ли можно назвать политическим. Оно было скорее каким-то крестовым походом, отличаясь вполне заразительным и всепоглощающим характером религиозных движений. Люди стремились не только к достижению определенных практических целей, но вместе с тем к удовлетворению глубокой потребности личного нравственного очищения.
Но это благородное движение не выдержало и не могло выдержать столкновения с грубой и суровой действительностью.
Не то чтобы русский крестьянин выказал себя равнодушным или враждебным социализму. Как народ рабочий по преимуществу, привыкший к ассоциациям для всевозможных производств и с незапамятных времен владеющий сообща главным орудием производства — землею, русский народ способен симпатичнее и разумнее другого отнестись к социализму. Если он когда-либо совершит революцию — то во имя социалистических требований. Но революция всегда требует сильной организации, которая может создаться только путем пропаганды, социалистической или чисто революционной. Так как ее нельзя было вести открыто, то оказалось необходимым прибегнуть к тайной пропаганде, совершенно невозможной в наших деревнях.
Всякий, кто селится там, в качестве ли ремесленника, сельского ли учителя или писаря, тотчас же оказывается на виду у всех, точно он сидит в фонаре. Кроме того, крестьянин совершенно не способен хранить тайну перед своими односельчанами. Как вы хотите, чтобы он не поговорил с соседом, которого он знает столько лет, о таком необычайном факте, как чтение книги, а тем более когда речь в ней идет о столь естественном, справедливом и хорошем деле, как то, о котором ему говорит социалист? Таким образом, лишь только пропагандист приходит к кому-нибудь из своих приятелей, весть об этом тотчас разлетается по всей деревне, и через каких-нибудь полчаса изба уже наполнена длиннобородыми крестьянами, которые спешат послушать незнакомца, не считая нужным предупредить об этом ни его, ни его хозяина. Если изба слишком мала для всей этой толпы, то гостя ведут в сельскую управу или же просто на улицу, где он и читает свои книжки или произносит речь под открытым небом. Понятно, что при таких нравах правительство без всякого затруднения могло узнать об агитации, которая велась среди крестьян.
Аресты быстро следовали за арестами. По заявлению правительственного циркуляра[35], тридцать семь губерний были «заражены» пропагандой. Никто не знает точно числа арестованных; в одном так называемом «деле 193-х», тянувшемся четыре года, оно достигало, по данным официальной статистики, тысячи четырехсот.
Но за погибшими смело выступали на арену новые ряды бойцов, пока наконец благодаря громадному числу жертв битва, по-видимому, начала затихать. То усиливаясь, то ослабевая, движение продлилось два года. Но в конце концов необходимо было признать, что лбом стены не прошибешь. С 1878 года характер движения переменился. Широкая пропаганда, то есть одно, что еще могло бы поднять крестьян на восстание, была оставлена, и ее место заняли так называемые «поселения» — небольшие колонии[36], которые устраивались уже с расчетом на более или менее продолжительную деятельность в раз избранной местности.
Во избежание подводных скал, о которые разбилось движение прошлых лет, колонисты действовали чрезвычайно осторожно, стараясь не обращать на себя внимания, не производить шума, вести свою агитацию только в среде таких крестьян, которых они лично знали за людей надежных и благоразумных. Колонии, менее подверженные риску быть открытыми, держались с переменным счастьем несколько лет, но не оставили никаких заметных следов своей деятельности.
Очевидно, однако, что они и не могли сделать особенно много, ввиду необъятности России и необходимости умышленно ограничивать круг своей работы даже в пределах избранных местностей.
Процессы пропагандистов, имевшие место в 1877 и 1878 годах, знаменуют конец этого первого периода революционного движения в России, являясь в то же время его апофеозом.
Русское правительство, желая идти по стопам французской Второй империи, умевшей так хорошо играть красным призраком, решило, чтобы разбор первого большого дела — так называемого «процесса 50-ти» — происходил публично; оно надеялось, что устрашенные привилегированные классы теснее сомкнутся вокруг трона и оставят всякие завиральные идеи. Но расчет оказался ошибочным. Даже те, которые враждебно относились к революционерам, были поражены их изумительной готовностью к самопожертвованию.
«Да это святые!» — восклицали все, кому удалось присутствовать на этом памятном суде.
В следующем году громадный «процесс 193-х» только усилил это впечатление.
И действительно, все, что есть благородного и высокого в природе человека, казалось, было сосредоточено в этой горсти героической молодежи. Восторженно преданные своей великой идее, они хотели принести в жертву не только свою жизнь, будущность, положение, но и самую душу свою. Они хотели освободиться от всяких других помышлений, от всяких личных привязанностей, чтобы отдаться своему делу всецело, беззаветно. Ригоризм[37] был возведен в догмат, и был даже период, когда молодые люди обоего пола придерживались в своих отношениях самого строгого аскетизма.
Пропагандисты ничего не хотели для себя. Они были чистейшим олицетворением самоотверженности. Но это были люди слишком неподходящие для предстоявшей страшной борьбы. Тип пропагандиста семидесятых годов принадлежал к тем, которые выдвигаются скорей религиозными, чем революционными движениями. Социализм был его верой, народ — его божеством. Невзирая на всю очевидность противного, он твердо верил, что не сегодня завтра произойдет революция, подобно тому как в средние века люди иногда верили в приближение Страшного суда. Неумолимая действительность нанесла жестокий удар этой восторженной вере, показавши ему его бога, каков он есть, а не каким он рисовался его воображению. По-прежнему он готов был на жертвы; но ему недоставало уже ни прежнего неудержимого пыла, ни прежней жажды борьбы. После первого разочарования он потерял всякую надежду на победу и если еще желал венца, то это был венец из терниев, а не из лавров. Подобно христианину первых веков, он шел на муки с ясностью во взоре и выносил их с полным спокойствием духа — даже с наслаждением, так как знал, что страдает за свою веру. Он был полон любви и ни к кому не питал ненависти, не исключая даже своих палачей.
Таков пропагандист 1872–1875 годов. В нем было слишком много идеализма, чтобы он мог устоять в предстоявшей трудной и жестокой борьбе. Он должен был измениться или исчезнуть.
И уже начал вырабатываться иной тип революционера, готовый занять его место. На горизонте обрисовывалась сумрачная фигура, озаренная точно адским пламенем, которая с гордо поднятым челом и взором, дышавшим вызовом и местью, стала пролагать свой путь среди устрашенной толпы, чтобы вступить твердым шагом на арену истории.
То был террорист.
ТЕРРОРИСТЫ
1876 и 1877 годы были самыми мрачными и тяжелыми для русских социалистов. Движение «в народ» обошлось страшно дорого. Целое поколение было беспощадно скошено деспотизмом в припадке овладевшего им безумного страха. Тюрьмы были переполнены заключенными. Так как старых не хватало, то строились новые. Но каковы же были результаты всех этих жертв?.. Они были подавляюще ничтожны в сравнении с громадностью затраченных усилий!
Чего можно было ждать от небольшого числа крестьян и рабочих, усвоивших идеи социализма? Что могли сделать рассеянные там и сям «колонии»? Прошлое было мрачно, будущее — темно и безнадежно.
Но движение не могло остановиться. Революционная молодежь, возбужденная, сгоравшая жаждой деятельности, искала только иного пути для осуществления тех же целей. Но найти его было нелегко при условиях русской жизни. Продолжительны и опасны были поиски, и много жертв пало по дороге, так как это было точно искание выхода из темной пещеры, изрытой пропастями и обвалами, где каждый шаг вперед покупается ценой нескольких жизней и только стоны павших братьев указывают путь оставшимся в живых.
Хождение «в народ» было изумительным по своему героизму опытом могущества слова. Теперь надлежало испытать противоположный путь — путь дела.
«Мы потерпели неудачу, потому что были пустыми болтунами, не способными на настоящее дело». Таков был горький упрек, который делали себе люди, пережившие великое движение, пред лицом нового революционного поколения, явившегося на смену. Призыв: «К делу!» — стал столь же всеобщим, как несколько лет тому назад был клик: «В народ!»
Но какое же дело предпринять?
Побуждаемые бескорыстным желанием делать все для народа и только для народа, революционеры прежде всего направили свои попытки на возбуждение движения среди крестьянства. Первые кружки так называемых «бунтарей», целью которых было немедленное восстание, относятся еще к 1875 году.
Но «бунты» не вызываются искусственно; они приходят сами собой. Только попытка Стефановича, удачно воспользовавшегося возбуждением умов на почве местных нужд и стремлений, имела по крайней мере хоть временный успех.[38] Но и тут заговор был обнаружен гораздо раньше, чем дело дошло до восстания. В других случаях результаты были еще плачевнее.
В городах то же стремление вызвать бунт приняло иную форму: революционеры впервые делают попытку выйти на площадь.
Годы 1876, 1877 и первые месяцы 1878 были периодом более или менее значительных демонстраций, как похороны Чернышева и Падлевского[39], демонстрация на Казанской площади, имевшая такой трагический исход, и, наконец, одесская демонстрация в день осуждения Ковальского, бывшая настоящим сражением с убитыми и ранеными с обеих сторон и сотнями арестов на другой день. Нетрудно было понять, что по этому пути далеко не уйдешь. Силы революционеров и правительства были так страшно неравны, что подобные демонстрации не могли привести ни к чему, кроме добровольного принесения в жертву императорскому Молоху цвета русской молодежи.
В России городская революция или даже сколько-нибудь значительное восстание представляют совершенно исключительные трудности. В наших городах сосредоточена лишь очень ничтожная доля всего населения страны, да и три четверти этих городов не более как большие села, отстоящие друг от друга на сотни верст. Города в собственном смысле этого слова, с 40–50 тысячами жителей, заключают в себе каких-нибудь четыре процента населения, то есть около четырех миллионов. И правительству, располагающему военными силами целого государства, нет ничего легче, как превратить пять или шесть главных городов России, где только и мыслимо какое-нибудь движение, в настоящие военные лагери, что уже и сделано в действительности.
Это соображение всегда нужно иметь в виду, чтобы понять причины всего, что произошло дальше.
Демонстрации всякого рода были оставлены: с 1878 года они окончательно исчезают.
Но уже и за этот период в типе революционера произошла значительная перемена. Он уже перестал быть тем, чем был пять лет тому назад. Он не успел еще заявить о себе каким-либо подвигом, достойным истинного бойца, но, постоянно размышляя в этом направлении, вечно твердя себе одно и то же, — что пуля действительнее слов, питая изо дня в день в своей душе кровавые замыслы, он не мог не поддаться влиянию собственных слов и мыслей, не мог не окраситься от них, не затвердеть, не революционизироваться сам: таково свойство человека. А правительство делало тем временем все от него зависевшее, чтобы ускорить процесс этого превращения недавнего еще мечтателя в человека дела.
Аресты производились по малейшему подозрению. Какого-нибудь адреса, письма от приятеля, ушедшего «в народ», показания, вымученного от двенадцатилетнего мальчугана, который от испуга не знал, что отвечать на допросе, было достаточно, чтобы бросить человека в тюрьму и томить его годы в ужасном одиночном заключении. Стоит только припомнить, что за время предварительного следствия по «делу 193-х», которое тянулось четыре года, число самоубийств, случаев умопомешательства и смерти между политическими заключенными достигло громадной цифры 75. Приговоры суда особого присутствия, который был послушным орудием в руках правительства, были безобразно жестоки. Люди приговаривались на десять, двенадцать, пятнадцать лет каторжных работ за несколько революционных разговоров с кучкой рабочих, за прочитанную или данную для прочтения книжку. Таким образом, то самое, что делается совершенно свободно в любом западноевропейском государстве, у нас наказывалось наравне с убийством. Но, не удовлетворяясь этими зверствами, облеченными в юридическую форму, правительство еще более увеличивало страдания политических заключенных путем подлых секретных предписаний. До чего невыносимо было их положение, можно судить по тому, что в харьковской центральной тюрьме — этом «доме ужасов» — произошло несколько «бунтов», затеянных ими исключительно с тою целью, чтобы добиться уравнения своего положения с уголовными преступниками! От времени до времени при помощи способов, которые умеют находить только заключенные, от этих заживо погребенных людей получались на волю письма, кое-как нацарапанные на клочке оберточной бумаги, сообщавшие о гнусных и бессмысленных жестокостях, которым подвергали их тюремщики, чтобы выслужиться перед начальством. И эти письма переходили из рук в руки, известия передавались из уст в уста, вызывая у всех слезы жалости и негодования и поселяя в душе людей самых мягких мысли о крови, ненависти, мести.
Первые кровавые дела начались за год или за два до наступления настоящего террора. То были пока отдельные факты, без всякого серьезного политического значения; но они ясно доказывали, что усилия правительства начали уже приносить свои плоды и что «млеко любви» социалистов прошлого поколения превращалось мало-помалу в желчь ненависти. Вытекая из чувства мести, нападения направлялись вначале на ближайших врагов — шпионов, и в разных частях России их было убито около полудюжины.
Было, однако, несомненно, что эти первые попытки необходимо должны были повести к дальнейшим. Уж если тратить время на убийство какого-нибудь шпиона, то почему же оставлять безнаказанным жандарма, поощряющего его гнусное ремесло, или прокурора, который пользуется его донесениями для арестов, или, наконец, шефа жандармов, который руководит всем? А дальше приходилось подумать и о самом царе, властью которого действует вся эта орда. Логика вещей должна была заставить революционеров пройти одну за другой все эти ступени, и они не могли не пройти их, так как русский человек может грешить недостатком чего угодно, только не мужества быть последовательным до конца.
Случилось, однако, обстоятельство первостепенной важности, давшее такой сильный толчок движению, что этот переход, на который при иных условиях потребовались бы, может быть, годы, был совершен почти сразу.
24 января 1878 года раздался памятный выстрел Веры Засулич. Через два месяца она была оправдана судом присяжных.
Нам нет нужды говорить о подробностях самого события и процесса, ни настаивать на их громадном значении. Каждый, кто пережил это время, помнит, в каком лихорадочном возбуждении было тогда все общество, вся публика без различия возраста, сословий, партий. Легко представить себе, что должно было происходить в среде революционеров.
Засулич вовсе не была террористкой. Она была ангелом мести, жертвой, которая добровольно отдавала себя на заклание, чтобы смыть с партии позорное пятно смертельной обиды. Очевидно было, что если всякий подлый поступок должен ждать своей Засулич, то совершивший его может спать спокойно и дожить до седых волос.
И, однако, событие 24 января имело огромное значение в развитии терроризма. Оно озарило его своим ореолом самопожертвования и дало ему санкцию общественного признания.
Оправдание Засулич было торжественным осуждением всей системы произвола, которая заставила эту девушку поднять на палача свою мстительную руку. Печать и общество единодушно приветствовали приговор присяжных.
Как же отнеслось правительство к этому гласу народа?
Александр II лично посетил Трепова, заклейменного всеобщим презрением, и перевернул вверх дном весь город, разыскивая оправданную Засулич, чтобы снова заключить ее в тюрьму.
Трудно было выказать более наглым образом свое презрение к правосудию и общественному мнению.
Недовольство усилилось. К жгучему чувству обиды вскоре присоединилась еще горечь разочарования.
Здесь следовало бы дать очерк чисто либерального движения, возникшего в начале прошлого царствования в среде образованных слоев русского общества. Но так как сделать этого в немногих словах нельзя, то я замечу только, что событием, придавшим ему особенную силу, была Турецкая война, которая, подобно Крымской, обнажила все язвы нашего общественного строя и пробудила надежды на новые преобразования, особенно после конституции, данной Александром II Болгарии.[40]
Возвращение императора в столицу после кампании совпало с процессом Засулич.
Иллюзии либералов рассеялись, как дым; и тогда-то они обратили свои взоры на единственную партию, которая боролась против деспотизма, социалистическую. Первые их попытки к сближению с революционерами с целью образования союза относятся к 1878 году.[41]
Однако правительство решилось, по-видимому, раздразнить до крайности не только либералов, но и революционеров. Из низкого чувства мести оно удвоило жестокости по отношению к тем из них, которые находились в его власти. Александр II дошел даже до того, что отменил приговор собственного сената, который под видом ходатайства о помиловании оправдал большую часть подсудимых по «делу 193-х».
Но что же это за правительство, которое так нагло издевается над законами страны, которое не опирается и не желает опираться ни на народ, ни на общество, ни на какой-нибудь отдельный класс, ни даже на им самим созданные законы? Что представляет оно, как не воплощение грубой силы?
Против подобного правительства все дозволительно. Оно уже является не выразителем воли большинства, а организованным произволом. На уважение оно может претендовать не больше, чем шайка придорожных разбойников, которые бьют, грабят и режут, пока на их стороне сила.
Но как избавиться от этой банды, укрывшейся за лесом штыков? Как освободить от нее родину?
Нечего было и думать о взятии приступом твердыни царизма, как то делалось в других, более счастливых, странах. Нужно было обойти врага с тылу, схватиться с ним лицом к лицу позади его неприступных позиций, где не помогли бы ему все его легионы.
Так возник терроризм.
Родившись из ненависти, вскормленный любовью к родине и уверенностью в близкой победе, он вырос и окреп в электрической атмосфере энтузиазма, вызванного геройским поступком.
Шестнадцатого августа 1878 года, то есть через пять месяцев после оправдания Засулич, терроризм фактом убийства генерала Мезенцова, шефа жандармов и главы всей шайки, смело бросил вызов в лицо самодержавию. С этого дня он, не переставая, шел гигантским шагом вперед, все усиливаясь и завоевывая почву, пока наконец не достиг своего апогея в страшном поединке с человеком, который был олицетворением деспотизма.
Я не буду излагать его подвигов; они уже вписаны огненными буквами на страницах истории. Три раза противники сходились лицом к лицу; три раза, волею судьбы, террорист оставался побежденным. Но после каждого поражения он подымался снова, более грозный и могущественный, чем прежде. За покушением Соловьева последовало покушение Гартмана, за ним — страшный взрыв в Зимнем дворце[42], который, казалось, превзошел все, что воображение могло придумать самого невероятного. Но вот пришло 1-е марта. Снова очутились враги лицом к лицу, и в этот раз всемогущий император пал умирающий к ногам своего противника.
Террорист победил наконец в этом роковом поединке, унесшем столько жертв.
Среди коленопреклоненной толпы он один высоко держит свою гордую голову, изъязвленную столькими молниями, но не склонявшуюся никогда перед врагом.
Он прекрасен, грозен, неотразимо обаятелен, так как соединяет в себе оба высочайшие типа человеческого величия: мученика и героя.
Он мученик. С того дня, когда в глубине своей души он поклялся освободить родину, он знает, что обрек себя на смерть. Он перекидывается с ней взглядом на своем бурном пути. Бесстрашно он идет ей навстречу, когда нужно, и умеет умереть не дрогнув, но уже не как христианин древнего мира, а как воин, привыкший смотреть смерти прямо в лицо.
В нем не осталось ни тени религиозного подвижничества. Это боец, весь из мускулов и сухожилий, ничем не напоминающий мечтательного идеалиста предыдущей эпохи. Он человек зрелый, и неосуществимые грезы его молодости исчезли с годами. Глубоко убежденный социалист, он знает тем не менее, что социальная революция требует долгой подготовительной работы, которая не может иметь места в стране рабства. И потому, скромный и решительный, он уступает необходимости и ограничивает на время свои требования, чтобы снова расширить их, когда придет пора. Пока же у него только одна цель: уничтожить ненавистный деспотизм и, давши своей родине то, что давно уже имеют все цивилизованные народы мира, — политическую свободу, предоставить ей возможность твердым шагом двинуться дальше по пути к всестороннему освобождению. Ту силу души, ту неукротимую энергию, тот дух самопожертвования, которые его предшественник почерпал в красоте своего идеала, он находит теперь в величии предстоящей задачи, в могучих страстях, которые подымает в его груди эта неслыханная, опьяняющая, дух захватывающая борьба.
Какое зрелище! Было ли когда видано что-либо подобное? Одинокий, без имени, без средств, он взял на себя защиту оскорбленного, униженного народа. Он вызвал на смертный бой могущественнейшего императора в мире и целые годы выдерживал натиск всех его громадных сил.
Гордый, как сатана, возмутившийся против своего бога, он противопоставил собственную волю — воле человека, который один среди народа рабов присвоил себе право за всех все решать. Но какая же разница между этим земным богом и ветхозаветным Иеговой Моисея! Как он корчится под смелыми ударами террориста! Как он прячется, как дрожит! Правда, он еще держится, и хотя бросаемые его дрожащей рукой молнии часто не достигают цели, зато, поражая, они бьют насмерть. Но что за беда? Гибнут люди, но идея бессмертна.
И эта-то всепоглощающая борьба, это величие задачи, эта уверенность в конечной победе дают ему тот холодный, расчетливый энтузиазм, ту почти нечеловеческую энергию, которые поражают мир. Если он родился смельчаком в этой борьбе он станет героем; если ему не отказано было в энергии — здесь он станет богатырем, если ему выпал на долю твердый характер — здесь он станет железным.
Это человек с сильной, полной индивидуальностью. Он не имеет да и не ищет того благоухания нравственной красоты, которое превращало пропагандиста как бы в существо не от мира сего. Его взор не обращен в глубь себя самого; он устремлен на врага, которого он ненавидит всеми силами своей души. Это представитель гордой, непреклонной личной воли. Он борется не только за угнетенный народ, не только за общество, задыхающееся в атмосфере рабства, но и за себя самого, за дорогих ему людей, которых он любит до обожания, за друзей, томящихся в мрачных казематах центральных тюрем и простирающих к нему оттуда свои изможденные руки. Он борется за себя самого. Он поклялся быть свободным и будет свободен во что бы то ни стало. Ни перед каким кумиром не преклоняет он колена. Он посвятил свои сильные руки делу народа, но уже не боготворит его. И если народ в своем заблуждении скажет ему: «Будь рабом!» — он с негодованием воскликнет: «Никогда!» — и пойдет своей дорогой, презирая его злобу и проклятья, с твердой уверенностью, что на его могиле люди оценят его по заслугам.
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ
Изложив вкратце историю революционного движения за десятилетний период с 1871 по 1881 год, я попытаюсь теперь ввести читателя во внутреннюю жизнь подпольной России, познакомить его хоть с несколькими из этих грозных людей, которые столько раз приводили в трепет того, перед кем все дрожит.
Постараюсь показать их такими, каковы они на самом деле, не преувеличивая, но и не умаляя их достоинств. Конечно, чтобы обрисовать такие фигуры, как Софья Перовская, Вера Засулич, Дмитрий Лизогуб, нужно перо не моему чета. Говорю это не из условной скромности, а из чувства безграничного удивления и восторга, которое внушают мне эти люди и которое они внушили бы всякому, кто знал бы их так хорошо, как я. Пусть же читатель постарается сам исправить недостатки моих очерков, дополняя живыми красками начертанные мной бледные, сухие профили. Что касается до меня, то гарантирую только одно: верность истине. Должен поэтому предупредить любителей сенсационных подробностей, что они рискуют быть сильно разочарованными, так как в действительной жизни все происходит гораздо проще и скромнее, чем люди себе воображают. Едва ли нужно говорить, что ничего, могущего кого бы то ни было компрометировать, нет в моей книге. Читатель может быть совершенно спокоен на этот счет. Я умышленно ограничивался фактами и лицами, о которых можно говорить свободно.
Что касается выбора сюжетов и группировки лиц, то я имел в виду единственно возможно лучшее выяснение общего характера движения. Ввиду того же я придал своему рассказу форму, пожалуй, несколько легкомысленную для сюжета — форму личных воспоминаний, как наиболее удобную для сохранения некоторых подробностей и мелочей, которые, как бы они ни были маловажны сами по себе, взятые вместе, дают более рельефное и полное представление об особенностях жизни революционной России.
Яков Стефанович[43]
Летом 1877 года необыкновенное смятение царило в среде представителей власти Чигиринского уезда.
Жандармы сновали по всем направлениям, точно сумасшедшие. Становые и исправник совсем сбились с ног и не имели покоя ни днем, ни ночью. Сам губернатор посетил уезд.
Что случилось?
Дело в том, что полиция через священников, которые, нарушая тайну исповеди, превратились в доносчиков, проведала, что среди крестьян составился опасный заговор, во главе которого стоят «нигилисты», народ отчаянный и способный на все.
Однако не было никакой возможности узнать подробности заговора, так как крестьяне, узнавши, что попы выдают, перестали ходить на исповедь. А между тем нельзя было терять времени: заговор разрастался не по дням, а по часам. На это указывало много тревожных признаков. Так, из опасения выдать себя в пьяном виде, заговорщики совершенно отказывались от употребления водки, а в деревнях, где они составляли большинство, решено было даже позакрывать кабаки. Это служило видимым доказательством того, что движение усиливалось. Но как проникнуть в его тайну и положить предел дальнейшему его распространению? Ни наугад произведенные обыски, ни сотни арестов не привели ни к чему.
От крестьян нельзя было добиться ни слова; даже розгами не удавалось заставить их говорить. Вооруженное восстание казалось неизбежным. Ходили слухи, что заговорщики, подобно парижским санкюлотам, тайно заготовляли пики и покупали топоры и ножи. Исправник отправил на ярмарку своих людей под видом торговцев железным товаром, надеясь таким образом проследить, кто будет покупать оружие. Но заговорщики угадали его намерение, и ни один из них не дал поймать себя на эту удочку.
Полиция была в отчаянии и решительно не знала, что предпринять. Но вот раз поздним вечером к исправнику является содержатель одного из кабаков, некий Конограй, с сообщением, что к нему заходил крестьянин по имени Приходько. От голода и усталости он еле держался на ногах и, сильно охмелевши от выпитого стакана водки, начал кричать, что скоро все будет «по-иному», что он уже «присягал», что он сам видел «бумагу». Очевидно, он был одним из привлеченных к заговору, и Конограю пришла в голову мысль через него и самому проникнуть туда. Но так как для этого требовалась, очевидно, какая-то присяга, то он и пришел к исправнику за разрешением дать ее. Исправник был вне себя от восторга. Он благословил его обеими руками и не только позволил присягать кому и в чем угодно, но обещал ему для поощрения и денег и земли. Конограй разыскал Приходька, разговорился, притворился сочувствующим и был допущен к присяге. После этого Приходько показал ему «бумагу», которая была не что иное, как устав тайного общества. Прочитав, Конограй обратился к Приходьку и сказал ему без всяких околичностей: «Слушай, я вижу, ты знаешь все. Теперь выбирай: или пойдем вместе к исправнику с этими бумагами, и тогда тебя простят и еще дадут сколько хочешь денег; или же тебе будет худо, потому что ведь бумаги не больно тяжелы и я могу снести их и сам».
Поставленный, таким образом, между двух огней, несчастный, вместо того чтобы убить Конограя, сделался предателем. Сам он знал не очень-то много, но и этого немногого было достаточно, чтобы постепенно добраться до остального. В самом непродолжительном времени полиция уже держала в руках все нити заговора и знала имена заговорщиков. Дело было нешуточное. Число посвященных достигало трех тысяч, и заговор, поставленный на военную ногу, распространялся на несколько губерний; сигнал к восстанию предполагалось дать в день одного из ближайших праздников.
Вся эта замечательная организация была создана в какие-нибудь восемь месяцев усилиями только одного человека, именно Якова Стефановича.
Он задумал план, поразительный по соединению смелости с бесстыдством, грандиозности и практичности — с полной беспринципностью. План этот состоял в том, чтоб поднять народ на весь существующий порядок и на самого царя во имя царя же. Стефанович сочинил и сам себе вручил тайный царский манифест, призывающий народ к всеобщему восстанию, ввиду полного бессилия самого царя и его полного порабощения дворянством и чиновниками. Это была старая «самозванщина», облеченная в новую канцелярскую форму. Такой бессовестной мистификации и вместе такого могущественного орудия для того, чтобы волновать умы русской крестьянской массы, не придумала ни одна забубенная воровская головушка из разинской или пугачевской ватаги.
Принцип стефановичевского плана — обман народа, хотя бы для его же блага, и поддержание гнусной царской легенды, хотя бы с революционными целями, — был безусловно отвергнут партией и не имел ни одного подражателя. Но энергия имеет непреодолимую обаятельность, в особенности для русских, среди которых людей с энергией так мало. Кроме того, план Стефановича имел еще одно преимущество, не зависевшее от потакания монархическим предрассудкам: это была первая и пока единственная попытка создать народную организацию на почве не общих теорий, а местных стремлений, какими были в Чигиринском уезде борьба общинников против индивидуалистов-«душевиков».
Как бы то ни было, одно время Стефанович был едва ли не самым популярным человеком в партии. Его речь на суде была большой неожиданностью как для его друзей, так и для посторонних. Страсть ходить обходами сыграла с ним плохую шутку. Проведя мужиков для блага революции в Чигиринском деле, он на процессе пожелал провести правительство для блага свободы, напустив на себя личину монархизма. Он осекся и был одурачен правительством, и последняя вещь оказалась ему горше первыя.
В описываемое время Стефанович был в апогее своей славы. Его Чигиринское дело не удалось. Правительство, имея в руках все документы, арестовало более тысячи человек, в том числе почти всех вожаков. Немногим удалось скрыться. Вскоре и Стефанович был арестован при помощи засады, устроенной на пути в то время, как он вместе со своим приятелем Львом Дейчем отправлялся на какое-то свидание с несколькими уцелевшими участниками заговора. Иван Бохановский, печатавший все документы и прокламации, относившиеся к заговору, был задержан несколькими днями раньше. Арестованные были заключены в киевскую тюрьму, где их содержали с величайшими предосторожностями. Суда над ними ждали летом 1878 года, и никто не сомневался, что главным виновникам не избежать смертной казни.
Это лето я проводил в Петербурге. Здесь мне часто приходилось бывать у Александры Малиновской[44], талантливой художницы, бывшей одним из самых преданных членов нашей партии. Впрочем, никаких деловых сношений у меня с ней не было, так как она, хотя и оказывала важные услуги организации, работала не в той группе, к которой я принадлежал. Но невозможно было устоять против чарующего обаяния этой артистически изящной натуры и ее увлекательной беседы, полной остроумия и блеска. И я был не один среди нашего брата нелегальных, позволявший себе это маленькое нарушение правил конспирации.
Итак, я часто к ней захаживал. Однажды, придя немного раньше обыкновенного, я не застал хозяйки и решил ждать ее возвращения. Несколько минут спустя в комнату вошла Маша Коленкина[45], бывшая большой приятельницей киевских «бунтарей» и Малиновской.
Мы разговорились. Полчаса прошло незаметно. Вдруг в передней раздался громкий звонок. Это не могла быть Малиновская, так как я знал ее звонок; не мог быть также никто из «наших», потому что «наши» так не звонят. Так позвонить мог только человек, власть имеющий. Это оказался попросту рассыльный с телеграммой. Телеграмма была адресована на имя хозяйки, но Коленкина вскрыла ее, не дожидаясь прихода своей приятельницы, что меня нимало не удивило, так как я знал, что они были очень дружны. Но я не мог не изумиться, когда увидел, что Маша, всегда сдержанная, взглянувши на телеграмму, вдруг вскочила с места, захлопала в ладоши, стала прыгать и бесноваться в припадке неистовой радости.
— Что такое? — с удивлением спросил я ее.
— Смотрите! Смотрите! — воскликнула она, подавая мне телеграмму.
Я прочел ее; адрес, затем всего три слова: «Родился мальчик, радуйтесь», — затем подпись, и ничего больше.
— Чего же вы так ликуете, — спросил я, — или уж так вы мальчиков любите?
— Какой тут мальчик! — воскликнула Маша, махая руками. — Да они бежали из тюрьмы!
— Кто они? Где? Как?
— Стефанович, Дейч и Бохановский! Из Киева.
— Все трое?
— Все, все!
Тут уж и я не мог удержаться на месте.
Через несколько дней получилось письмо, извещавшее о скором прибытии Стефановича и Дейча в Петербург.
С большим нетерпением ждал я встречи с ними, особенно с Стефановичем, с которым несколько лет тому назад у меня были деловые сношения.
Я попросил приятеля, имевшего встретить его на вокзале, привести его ко мне, если возможно, тотчас по приезде.
Я жил тогда по паспорту одной высокопоставленной особы, имел в своем распоряжении комнату с отдельным входом и был на самом лучшем счету у дворника и хозяйки.
В назначенный день я сидел дома в ожидании Стефановича, который должен был приехать с десятичасовым поездом. Но я знал, что, прежде чем направиться ко мне, ему нужно где-нибудь переодеться и «очиститься», то есть отделаться от шпионов, в случае если бы они последовали за ним со станции. Таким образом, он вряд ли мог быть у меня раньше полуночи. Но уже с 11 часов мною начало овладевать сильное нетерпение, и я ежеминутно посматривал на часы.
Время тянулось страшно медленно. Дом, где я жил, выходил на длинную-предлинную улицу, по которой должны были подойти мои гости. Я вышел посмотреть, не идут ли они.
Была одна из тех волшебных петербургских ночей, которые принадлежат к числу величайших красот нашей столицы. Вечерняя и утренняя заря, казалось, целовались в бледном, беззвездном небе, с которого струились потоки нежного, розоватого, фантастического света; а легкие, золотистые облака медленно плавали в атмосфере поразительной прозрачности. Как любил я прежде эти белые ночи, когда, бывало, один в маленькой душегубке, с двуперым веслом в руках, скользишь посредине величавой Невы, точно вися в пространстве между необъятным сводом неба и бездонной глубиной другого свода, отражавшегося в черной поверхности реки. Зато как же возненавидел я потом эти предательские, жандармские ночи!
Невозможно было оставаться на улице, так как я мог привлечь к себе внимание какого-нибудь случайного шпиона или околоточного, обходящего свой участок, — перспектива не особенно приятная в подобную ночь. Я вернулся домой.
Нетерпение мое росло с минуты на минуту. Но когда наконец пробило двенадцать часов и все еще никого не было, я начал испытывать настоящую пытку, известную только русскому революционеру, который, отпуская даже на самое короткое время друга, брата, жену, не может быть уверен, что не расстался с ними навсегда. Воображение начало уже рисовать мне самые мрачные картины, как вдруг, спустя минут десять после полуночи, раздался стук отпираемой калитки, за которым послышались шаги на моей лестнице. Я отворил дверь. Это были они. Я тотчас узнал Стефановича. При аресте с него был снят портрет, как это делается со всеми политическими заключенными. После побега его карточки были розданы агентам полиции, которым было поручено искать его, и понятно, что некоторые из них попали в наши руки. Без всяких слов я бросился к нему на шею и сжал его в своих объятиях. Затем, горячо поблагодарив приятеля, я ввел Стефановича в комнату, не спуская с него любящего взгляда. Я едва верил своим глазам. Мы считали его безвозвратно погибшим. Петля палача была уже накинута ему на шею. И вдруг этот человек стоит тут как ни в чем не бывало, жив, бодр, снова готовый к борьбе и деятельности.
Вышло как-то само собой, что мы сразу стали говорить друг с другом на «ты», как старинные приятели. Мы вспомнили о наших прежних сношениях. Он не рассчитывал встретиться со мной в Петербурге, так как в провинции ему передавали, что я был еще в Женеве. Знакомый уже с подробностями его побега, я спросил его, каким образом ему удалось благополучно пробраться сквозь стаи шпионов, переполнявших все станции.
Он улыбнулся и тотчас стал рассказывать. А я все смотрел на него, на этого страшного человека, который, не смущаясь ничем и только благодаря своей несокрушимой энергии, сумел сделаться безусловным властелином целых тысяч этих упорных, подозрительных крестьян и легко мог бы очутиться во главе грозного восстания.
Он был среднего роста, худой, с впалой грудью и узкими плечами; физически он, должно быть, был очень слаб. Мне не приходилось встречать человека более некрасивого; но это некрасивое лицо было привлекательно. В его серых глазах сверкал ум, а в улыбке было что-то лукавое и тонко насмешливое, как и в характере украинского народа, к которому он принадлежит.
Рассказывая о какой-нибудь удачной хитрости, придуманной с целью сбить с толку полицию, он смеялся от всей души, обнаруживая при этом два ряда прекрасных зубов, белых, как слоновая кость. Вся его наружность, с этим морщинистым лбом и холодным, твердым взглядом, выражала решимость и непоколебимое самообладание. Я заметил, что в разговоре он вовсе не прибегал к жестикуляции.
Мы говорили об общих друзьях, которых он посетил по дороге, о проектах, с которыми он прибыл в Петербург, и о многом другом.
«Che il tacer e bello, si com'era il parlar cola dov'era».[46]
Нельзя было не изумляться трезвости его суждений по разным вопросам, которые он рассматривал всегда с очень оригинальной и практической точки зрения, в особенности же — его знанью людей: достаточно было ему нескольких дней знакомства, чтобы определить человека; хотя надо сказать, что в его характеристиках всегда была склонность к пессимизму. Заря давно уже занялась, когда мы прекратили наконец нашу беседу и устроились кое-как на ночлег.
Стефанович пробыл в Петербурге целый месяц. Мы часто видались друг с другом, и я имел полную возможность хорошо познакомиться с ним; а узнать его — значило полюбить. Это натура оригинальная и чрезвычайно сложная. Он, несомненно, человек большого природного ума и редкой силы характера. При благоприятных обстоятельствах такие люди делаются творцами истории. Он обладает в высшей степени редкой способностью управлять массами, что обнаружилось в Чигиринском деле. Но он не из тех, которые неуклонно идут к цели, подобно пушечному ядру, опрокидывая и сокрушая все на пути. Нет, он предпочитает действовать скрытно, он уступает, когда это нужно, но с тем, чтоб при первом удобном случае наверстать свое. Некоторые считают Стефановича коварным. Это едва ли справедливо. Он хитрит только в «политике». В личных отношениях, с друзьями он прост, искрен и прямодушен. Вообще это человек чрезвычайно сдержанный, вполне замкнутый в себе самом. Говорит он мало, на собраниях — никогда. Слушает обыкновенно с низко опущенной, точно во сне, головой. В теоретические препирательства он никогда не вступает, относясь к ним с величайшим презрением, и если ему приходится присутствовать при чтении какой-нибудь «программы» или «объяснительной записки», то он нередко буквально засыпает, о чем свидетельствует его громкий храп. Это исключительно человек дела, но не дела в узком смысле этого слова, подобно людям, которые ни минуты не могут оставаться без какой-нибудь работы. Он умеет ждать. Это человек широких планов, лучший тип организатора, какого я когда-либо встречал. Его ясный и необычайно практичный ум, твердый и осторожный характер, знание людей и уменье обращаться с ними делают его особенно пригодным для этой трудной роли.
Большой скептик по отношению к людям, он в то же время способен на дружбу, граничащую с обожанием. Самым близким его приятелем был Л. Они всегда жили неразлучно, исключая моментов, когда этому мешали «дела». В таких случаях они ежедневно обменивались длинными письмами, которые они сохраняли, ревниво оберегая их от всякого постороннего взора и тем давая повод к постоянным шуткам на свой счет со стороны товарищей.
Несмотря на все превратности жизни, Стефанович никогда не порывал связей со своим отцом, старым деревенским священником, что было довольно опасно в положении человека, из-за которого целые города переворачивались вверх дном, если только полиция подозревала там его присутствие. Он очень любит и почитает своего отца и часто говорит о нем, с особенным удовольствием сообщая анекдоты из его жизни и цитируя отрывки из его писем, обнаруживающих его твердый, непосредственный ум и честное, прямое сердце.
Дмитрий Клеменц[47]
Клеменц — один из самых старых чайковцев; теперь ему лет под пятьдесят. Арестованный в марте 1879 года и сосланный в Сибирь, он с тех пор живет там постоянно.
В нем нет ничего конспираторского. Он человек простой, душа нараспашку, веселый собеседник и бесподобный рассказчик. Его вольная, богатая речь, пересыпанная образами и сравнениями, блещет всеми сокровищами русского народного языка, которым он владеет с изумительным, крыловским мастерством.
Он едва ли не лучший из наших народных пропагандистов. Манера говорить и вести пропаганду у него своеобразная, совершенно неподражаемая. Это не страстная, вдохновенная проповедь Брешковской[48], не сократический, неотразимый метод Михаила Куприянова[49], гениального юноши, умершего в тюрьме 19 лет от роду. Клеменц ведет свою пропаганду всю в шутках. Он смеется и заставляет хвататься за животы слушающих его мужиков, старых и малых, несмотря на всю их обычную невозмутимость. Однако он всегда ухитрится вложить в свою шутку какую-нибудь серьезную мысль, которая так и засядет гвоздем им в головы. Редко кому удавалось вербовать столько приверженцев из среды крестьян и городских рабочих.
Речи, которые ему случалось произносить иногда в каком-нибудь кабачке, выходили настоящими перлами искусства. Помню, как, отправляясь, бывало, с ним в поход по деревням, я часто по целым часам не решался вмешаться и прервать неисчерпаемый поток его блестящих импровизаций и, забыв про пропаганду, отдавался весь эстетическому наслаждению слушателя.
Красавцем Клеменца никак нельзя назвать. Скорей наоборот. Но лицо его одно их тех, на которые достаточно взглянуть раз, чтобы оно навсегда осталось в памяти. Верхняя его часть с широким лбом философа, с живыми карими глазами, мягкими и вдумчивыми, в которых вспыхивают по временам искры сдержанного смеха, изобличает в нем европейца в полном смысле этого слова. Но по нижней части лица его можно принять за калмыка, киргиза, башкира, за кого угодно, только не представителя кавказской расы. Не то чтобы в нем было что-нибудь дикое и безобразное, нет: его рот, с тонкими, точно выточенными губами, очень красив, а в улыбке его есть что-то невыразимо нежное и привлекательное. Что поражает в нем с первого взгляда и придает такой странный характер всей его физиономии — это нос, не поддающийся никакому описанию: широкий, слегка вздернутый на кончике и до такой степени плоский, что в профиль он едва заметен, — истинная шутка природы.
Если бы кто вздумал искать двух людей, которые представляли бы полнейшую противоположность друг другу, то ему можно бы указать Якова Стефановича и Дмитрия Клеменца.
Один — это тип искусного организатора; другой — ни разу в своей жизни не создал и не пытался создать ни одного кружка. Один — вечно деятельный, вечно поглощенный широкими планами — был неразборчив в средствах и не прочь бы был побрататься с самим сатаною, если бы только это было ему полезно; другой — полный спокойной, ничем не омрачаемой преданности делу социализма — не признавал компромиссов и никогда не уклонялся от прямого пути ввиду соображений непосредственной выгоды. Первый был способен повести за собою не только отдельных личностей, но и целые массы на дело, задуманное и решенное им одним; другой никогда не пытался и не желал насиловать чужой воли. Это было ему просто противно, и если кто-нибудь сам лез к нему под ярмо, то такой человек становился ему невыносим.
Несмотря на это, я не знаю никого, кто имел бы такое влияние на окружающих, как Клеменц.
Часто одно его слово полагало конец самым ожесточенным спорам, улаживало разногласия, казавшиеся непримиримыми. Это влияние, которого он никогда не искал, которое рождалось, так сказать, само собой везде, куда бы он ни появлялся, особенно обнаруживалось в личных отношениях. Я не встречал человека, который возбуждал бы к себе такую страстную привязанность, доходившую до обожания, как Клеменц. Мне случалось перечитывать несколько писем к нему от разных лиц. Не знай я, от кого они были и кому предназначались, я принял бы их за любовные послания. И эта привязанность была вовсе не мимолетным увлечением, какое способны внушать к себе некоторые блестящие натуры. Такого человека, как он, нельзя забыть. Кто раз его полюбил, того не охладит уже ни расстояние, ни время.
В чем же тайна его единственной в своем роде власти покорять человеческие сердца? Тайна эта в глубине и широте его собственного любвеобильного сердца.
Нельзя сказать, чтобы он легко дружился с людьми; напротив, подобно всем глубоко чувствующим натурам, он туг на сближение и очень неохотно открывает свою душу перед посторонним. Он даже считает себя холодным, черствым, и чувства преданности, которые он возбуждает против своей воли, смущают, угнетают его; он считает себя не способным отвечать на них, и потому они ему кажутся точно чем-то украденным, на что он не имеет никакого права. Однако ни один из его многочисленных друзей не сделал бы ему подобного упрека.
Привязанность к нему самому ничуть не влияет на его отношение к людям. Это человек поистине неподкупный. Зато он не пропустит ни одной симпатичной черты в другом человеке и даже со свойственным его натуре великодушием скорей преувеличит ее цену. Он не имеет привычки смотреть на людей с точки зрения пользы, какую они могут принести партии. Среди своих товарищей-конспираторов он остался человеком. Если он с кем-нибудь сходится, то никогда не делает этого с задней мыслью, подобно большинству заговорщиков, которые принуждены рассматривать людей как возможные полезности для дела. Поэтому каждый чувствует себя с ним легко и свободно; каждый готов отдать ему всю свою душу и слепо идти по первому его слову, уверенный, что Клеменц всегда будет настороже и первый предупредит в случае малейшей опасности.
И вздумай он послать кого-нибудь на самое опасное дело, всякий готов будет идти без минуты колебания, так как раз это сказал Клеменц, то нет никакого сомнения, что дело стоит риска; иначе он не послал бы. Но в действительности Клеменц никогда не пользовался этой властью. Сам он охотно шел на всякий риск, но никогда не посылал в опасность другого. Даже в тех маловажных случаях, когда «нелегальный», в сущности, обязан обращаться к помощи посторонних, так как он сам рискует головою, тогда как для человека легального вся опасность ограничивается несколькими днями ареста, даже тут он брал все на себя, не допуская, чтобы другой рисковал из-за него хоть одним волосом с своей головы. Ни замечания, ни даже упреки самых близких друзей не могли поколебать этой щепетильности и заставить его не играть так легко жизнью, столь дорогой для дела. Вот именно последнего Клеменц ни за что не хотел признать. Он — воплощенная скромность, хотя вы не найдете в нем ни тени того униженного христианского смирения, завещанного нам веками рабства и лицемерия, за которым часто скрывается самое необузданное самомнение. Клеменц, напротив, человек независимый, гордый своим человеческим достоинством и не способный ни перед кем гнуть голову. В нем скромность является сама собой. Он искренне и решительно не признает за собой ни одного из тех замечательных свойств, которые приобрели ему столько поклонников. Благодаря какой-то оптической иллюзии, еще не нашедшей себе объяснения в науке, он видит все эти достоинства не в себе, а в своих друзьях.
Дмитрий Клеменц родился на берегах Волги, где его отец был управляющим одного имения, и все свое детство провел среди первобытного пастушеского населения этих необъятных степей, так прекрасно описанных им в одной из своих юношеских поэм.
Эта привольная жизнь на лоне дикой и величественной природы придала его характеру тот поэтический колорит и выработала в нем ту любовь к опасности и приключениям, которые остались у него и в зрелом возрасте. Впрочем, и его мужество носит тот же оригинальный отпечаток, как и приемы пропаганды. Он любит опасность не как воин, находящий в ней источник сильных ощущений, но скорее как артист, который спокойно наслаждается ею, особенно смешными ее сторонами. По-видимому, природа одарила его сердцем, физически не способным испытывать страх. Среди величайшей опасности Клеменц никогда не теряет самообладания. Он остается совершенно хладнокровным, смеется и шутит как ни в чем не бывало. Этим объясняется его необычайное присутствие духа. Из самых трудных положений он выпутывается с изумительной находчивостью и подчас с таким юмором, который ясно показывает, что он все время нимало не думал об опасности, а только забавлялся некоторыми смешными положениями и моментами. Не раз ему случалось совершать большие неосторожности — не из тщеславия, которого в нем нет и следа, а просто из любви к шутке.
Так, один раз, в начале своей революционной карьеры, скрываясь уже от полиции, хотя и не перейдя еще на «нелегальное положение», он лично отправился к прокурору хлопотать об освобождении на поруки Анатолия Сердюкова[50]. К счастью, прокурор, недавно назначенный на место, ничего не знал о нем, а Клеменц говорил так убедительно, что ему обещали исполнить его просьбу. И если бы не какая-то перемена в ходе следствия по делу Сердюкова, то мы имели бы забавный случай освобождения политического заключенного под поручительство человека, который сам скрывается от полиции.
Подчас он придавал своим затеям характер настоящей комической эпопеи, разрабатывая все мельчайшие подробности с тщательностью истинного артиста. Для примера приведу одну из них: освобождение некоего Тельсиева, слегка замешанного в Нечаевском деле[51] и сосланного административным порядком в Петрозаводск.[52]
Клеменц отправился туда с подложными документами одного инженера, капитана Штурма, которому будто бы поручено произвести какие-то геологические исследования в Финляндии. Тотчас по приезде он явился с визитом к губернатору, исправнику и прочим властям под предлогом наведения необходимых справок и, конечно, очаровал их всех до единого. Целую неделю он прожил в Петрозаводске, выделывая, на удивление горожан, всевозможные ученые штуки. Он стал притчею во языцех и любимцем местных обывателей, которые наперерыв друг перед другом устраивали ему обеды и вечера. Спокойно подготовивши между тем все для побега, он уехал вместе с Тельсиевым, чтобы не подвергать его неудобствам путешествия в одиночку. Совпадение было более чем странное. И, несмотря на это, никому в Петрозаводске и в голову не пришло, чтобы Клеменц был при чем-нибудь в этой истории: так превосходно разыграл он свою роль. Когда год спустя один из его приятелей проезжал через город, исправник, между прочим, обратился к нему с вопросом, не знает ли он некоего капитана Штурма, и, рассказавши множество самых удивительных подробностей, относившихся к пребыванию этого последнего в Петрозаводске, прибавил:
— Прекрасный человек. Он обещал заехать к нам на обратном пути из Финляндии, да что-то не видно его. Очень жаль. Вероятно, он предпочел вернуться морем.
Что бы он запел, если бы знал, кто такой был этот капитан Штурм?
Клеменц — один из самых сильных умов, бывших в рядах русской революционной партии.
Несмотря на деятельное участие в движении и на все превратности нелегальной жизни, он всегда держался на уровне интеллектуального прогресса Западной Европы и, хотя питал особенную склонность к экономическим наукам, никогда не закапывался в них исключительно. Обладая ненасытной жаждой знаний, он изучал все, не заботясь о том, сможет ли он извлечь из этого непосредственную пользу, или нет.
Я помню, как увлекался он лекциями Гельмгольца[53], которые посещал в 1875 году в бытность свою в Берлине. Мне стоило больших усилий отделаться от его отчетов о них, которыми он наполнял все свои письма ко мне в Петербург.
Широта его взглядов нисколько не уступает жажде познаний.
Клеменц вовсе не человек партии. Глубоко убежденный социалист, он отдал народному делу все, что мог: и свои знания, и свой светлый, проницательный ум. Но он решительно не годен для узких рамок тайного общества. Партия, к которой он принадлежал, никогда не могла стать для него родиной, семьей — одним словом, всем. Он постоянно жил особняком. В нем нет ни тени партийного самолюбия, которое является одним из самых могущественных стимулов, руководящих конспиратором. Он любит весь мир и не упускает ни одного случая принять участие в его жизни. Так, он писал не только для подпольной прессы, но гораздо больше — для «легальных» петербургских журналов, в которых он сотрудничал под разными псевдонимами[54], и делал это не только из желания быть более независимым и жить собственным трудом, но еще и потому, что нуждался в более обширной аудитории, чем та, которую могла доставить ему подпольная литература.
Он всегда держался в стороне от «программных» раздоров, так часто разделявших революционную партию на непримиримо враждебные лагери. Полный веры в принципы социализма вообще, он относился в высшей степени скептически к различным средствам, на которые революционеры смотрели в разное время как на универсальные панацеи. Этот скептицизм парализовал, конечно, его силу в подпольной борьбе, где вследствие незначительности поля действия не может быть особенного разнообразия в средствах; и действительно, как конспиратор Клеменц не имел, собственно, никакого значения. Благодаря своей неотразимой личной обаятельности он привлекал массу приверженцев социалистической партии из среды всех классов общества, особенно же из молодежи. Но сам он был совершенно не способен вести им привлеченных людей к какой-либо определенной цели; это уже приходилось делать другим. Не скажу, чтоб у него недоставало силы характера, которая делает человека властелином воли других. Одно уже магнетическое обаяние его личности представляло неоспоримое доказательство присутствия в нем этой силы. Умел он также и настоять на своем, когда это было необходимо. Будучи свободен от всякого самолюбия и тщеславия, он обладает редким мужеством выступать против общепризнанных взглядов, когда они кажутся ему неосновательными. В деле Стефановича, которым одно время так увлекались даже в Петербурге, он стоял один в оппозиции с мнением целой партии. Но у него нет ни той исключительности, ни той душевной черствости, вытекающих из страстной веры, которые так необходимы, когда приходится вести людей почти на верную гибель.
Таким образом, в революционном движении Клеменц не сделал и сотой доли того, что мог бы сделать по своим природным дарованиям.
Это блестящий образчик мыслителя, со всеми его достоинствами и недостатками.
Валериан Осинский[55]
Осинского мне довелось видеть немного, потому что, непоседливый, как богатыри наших былин, он носился по всей России, особенно — по югу, где находились главные революционные организации, с которыми он был связан; я же безвыездно жил в Петербурге. Здесь-то мне и случилось встретиться с ним, когда он приехал сюда однажды на несколько дней, чтобы вскоре затем исчезнуть, подобно метеору, и в этот раз — уж навсегда… Время было не особенно благоприятное для знакомства. Только что был убит среди белого дня на одной из главных площадей столицы генерал Мезенцов, и убийцы скрылись бесследно. Будучи первым фактом подобного рода, это событие произвело очень сильное впечатление как на общество, так и на правительство. Полиция перевернула вверх дном весь город. Обыскам не было конца, и на улицах людей хватали по малейшему подозрению. Ходили слухи, быть может и преувеличенные, будто в течение первых двух дней арестовано было до тысячи человек. Нашему брату, «нелегальному», было опасно показываться на улицу, и потому я принужден был подвергнуть себя «карантину» — одной из несноснейших вещей, какие только приходится претерпевать русскому революционеру. Поселившись у одного из наших испытанных друзей, который занимал положение, ставившее его вне всяких подозрений, я должен был все время сидеть в четырех стенах, не показывая носа на улицу даже по вечерам. Скука была смертная. Я писал одну маленькую вещицу[56], а когда писать становилось невмоготу, читал французские романы, чтобы хоть как-нибудь убить время. Изредка меня навещали кое-какие приятели, тронутые моей печальной участью.
Однажды заходит Ольга Натансон[57] и сообщает мне, что Валериан Осинский в Петербурге. Я не знал его лично, но много слышал о нем. Понятно, что мне захотелось повидаться с ним, тем более что это было для меня прекрасным предлогом нарушить мой домашний арест.
В сумерки я вышел из дому. Улицы были почти пусты, так как мой приятель жил на окраине города. Тем не менее нельзя было пренебрегать никакими предосторожностями, и потому я направился сначала в сторону, противоположную той, куда мне нужно было идти. Покруживши немало, я вышел наконец на одну из наиболее оживленных улиц. Первое, что мне там бросилось в глаза, были отряды конных казаков, вооруженных пиками, и целые стаи шпионов, попадавшихся буквально на каждом шагу. Они то стояли на месте, то прохаживались взад и вперед. Узнать их было чрезвычайно легко. Их натянутый вид, наглые и вместе испуганные взгляды, которые они устремляли в лицо каждому прохожему, — все это были безошибочные признаки для всякого опытного глаза. Но это еще были профессиональные шпионы. Шпионы «временно исполняющие» выглядели гораздо комичнее. Это были, очевидно, просто переодетые солдаты. Они прогуливались небольшими партиями и, как люди, привыкшие к строю, никак не могли ни стоять, ни ходить врассыпную: нет-нет да и выстроятся в полувзводики. Одеты они были очень забавно. Так как трудно было впопыхах добыть для них различные костюмы, то целые отряды были в одинаковых шапках, одинаковых пальто и брюках. Иные понапяливали себе на нос огромные синие очки, надеясь таким образом придать себе вид студентов. Все это представляло зрелище до такой степени уморительное, что трудно было удержаться от смеха.
Вдосталь налюбовавшись ими, я направился к конспиративной квартире нашего кружка. Проходя по соседней улице, я поднял глаза, чтобы удостовериться, выставлен ли в известном окне дамский зонтик — знак, что все обстоит благополучно, так как при малейшей тревоге его должны были убрать. Зонтик оказался на месте. Однако, зная, что жандармы, прослышавши об употреблении революционерами сигналов, нередко подвергали тщательному осмотру окна и после ареста ставили все, что там было, на прежнее место, я не удовлетворился этим и пошел дальше. Опять покруживши немного, я добрался до одного местечка, где был уверен найти точные указания, над которыми полиция была не властна, если б даже и пронюхала про наши хитрости. Место, куда я вошел, было то, куда, по народному выражению, сам царь пешком ходит. Там, в заранее условленном уголке, должен был находиться едва приметный значок, менявшийся каждое утро, а в особенно тревожное время и два раза в день. Значок был на месте и гласил, что опасности никакой нет. Всякое сомнение у меня исчезло.
Однако, так как «справочное бюро», как мы шутя называли этот пункт, было в версте расстояния от конспиративной квартиры и, идя оттуда, можно было как-нибудь попасться на глаза шпиону, я решил удостовериться по пути, что за мной не следят. Навстречу мне шла незнакомая очень красивая дама. Когда она поравнялась со мной, я стал пристально оглядывать ее, а когда она прошла, повернулся и посмотрел ей вслед. За мной не было ни души.
В это время я находился всего в двух шагах от цели своего путешествия. Спокойно поднявшись по лестнице, я позвонил особенным образом. Мне отворили немедленно.
Комната была полна народу. На простом деревянном столе стояло несколько бутылок пива и две тарелки: одна — с ветчиной, другая — с копченой рыбой. Значит, я попал кстати. Это была одна из маленьких пирушек, которые «нигилисты» позволяют себе изредка в виде отдыха от нервного напряжения, в котором они принуждены жить постоянно.
На этот раз праздник был устроен по случаю приезда Осинского. Его самого, однако, там еще не было.
Компания была в превосходном настроении, и меня встретили самым дружелюбным образом, несмотря на мое самовольное нарушение «карантина». Я всегда очень любил эти «пирушки», веселее и оживленнее которых трудно себе что-нибудь представить. Все собравшиеся здесь были люди нелегальные, за которыми числилось немало всяких «грехов». Каждый имел на поясе кинжал и заряженный револьвер и был готов, в случае внезапного нападения, защищаться до последней капли крови.
Но, привыкши жить постоянно под дамокловым мечом, они в конце концов переставали думать об опасности. А быть может, что эта опасность именно и придавала их веселью такой бесшабашно-удалой характер. Всюду слышался смех, громкий говор, шутки. А по углам расположились пары, тихо беседовавшие между собой: то были приятели, предававшиеся душевным излияниям, — другая неизбежная принадлежность этих пирушек. От времени до времени можно было видеть традиционную церемонию немецкого брудершафта. Эта потребность дать волю чувству, столь естественная среди людей, связанных общностью стремлений, идей и опасностей теснее, чем узами крови, придавала этим редким собраниям необыкновенно поэтический и задушевный характер.
Я спросил об Осинском. Мне сказали, что он забежал к одному приятелю, но скоро должен возвратиться.
Действительно, спустя около получаса он вошел в комнату, держа в руке, обтянутой в элегантную черную перчатку, форменную межевую фуражку, которую носил для вящей внушительности.
Я подошел, пожал ему руку и долго держал ее в своей, не будучи в состоянии оторвать от него глаз.
Он был прекрасен, как солнце: стройный, пропорционально сложенный, крепкий и гибкий, как дамасский клинок. Его белокурая, несколько откинутая назад голова грациозно держалась на изящной, нервной шее. Высокий мраморный лоб с тонкими голубоватыми жилками был слегка сжат на висках. Правильный, точно изваянный резцом скульптора нос придавал его красоте тот классический характер, который так редко встречается в России. Небольшие светло-русые усы и бородка оттеняли красивый, выразительный, страстный рот. И это чудное лицо освещалось парой больших голубых глаз, полных огня и юношеской отваги.
Осинский приехал из Киева, города, в который он был положительно влюблен, но проездом успел побывать во всех главных городах Южной России и повидаться с представителями местных организаций. Таким образом, он привез нам самые свежие новости обо всем, что там делалось.
Он был в восторге от громадных успехов терроризма за последнее время и, увлекаемый своим пылким воображением, предсказывал неисчислимые последствия такого оборота дел. Я не вполне разделял его оптимизм, но, когда он говорил, нельзя было не поддаваться чарующему влиянию его красноречия.
Он не был оратором в обычном смысле этого слова, но речь его обладала той силой убедительности, которая является результатом глубокой веры. Он весь был проникнут тем энтузиазмом, который невольно заражает и сообщается слушателям. Тон его голоса, выражение лица покоряли вас не менее, чем самые слова. Он владел великим даром обращать своих слушателей из противников в союзников, которые сами старались убедить себя в верности его доводов, чтобы только иметь возможность согласиться с ним.
Слушая его, я понял, сколько правды было в рассказах, ходивших на его счет.
На следующий день Осинский зашел ко мне. Три или четыре дня спустя я снова покинул свое логовище и отправился на нашу конспиративную квартиру, но нашел там только прощальную записку от Осинского, уехавшего накануне вечером в Одессу.
Больше я его не видел.
Весною 1879 он был арестован в Киеве, а 5 мая того же года уже происходил суд. Осинский был приговорен к смерти, хотя обвинение не могло выставить против него ничего мало-мальски серьезного, и он был осужден только за то, что во время ареста прикоснулся к своему револьверу, не успевши даже вынуть его из кобуры. Но правительство знало хорошо, что оно держит в руках одного из самых влиятельных членов террористической партии, и этого было вполне достаточно, чтобы продиктовать суду вышеозначенный приговор.
Осинский выслушал его не дрогнув, как подобает истинному бойцу.
В течение всех десяти дней, которые протекли между судом и казнью, он оставался совершенно спокойным, даже веселым. Он ободрял своих друзей и ни на миг не изменил себе. Когда к нему на свидание пришли мать с сестрой, он, зная, что приговор уже утвержден, сказал им, что смертная казнь отменена; но тут же шепотом сообщил сестре, шестнадцатилетней девушке, что, вероятно, завтра ему предстоит умереть, и просил ее приготовить мать к этой тяжелой вести. Накануне казни он написал друзьям длинное письмо, которое можно назвать его политическим завещанием. Он мало распространяется в нем о себе и своих чувствах. Поглощенный делом партии, он рассуждает о приемах борьбы, которые, по его мнению, следовало бы усвоить, и предостерегает от повторения старых ошибок.
Утром 14 мая его повели на казнь вместе с двумя товарищами, Антоновым и Брантнером. Из утонченной жестокости ему не завязали глаз, и он принужден был смотреть на предсмертные судороги своих друзей на виселице, на которую через несколько мгновений ему предстояло самому взойти. Это ужасное зрелище произвело такое потрясающее впечатление на его физическую природу, над которой воля человека бессильна, что голова Валериана в пять минут побелела, как снег. Но его душевная сила осталась непоколебленной. Подлые жандармы подбежали к нему в этот момент, спрашивая, не хочет ли он просить о помиловании. Валериан прогнал их с негодованием и, отказавшись от помощи палача, твердым шагом поднялся по ступеням эшафота. К нему подошел священник с распятием. Энергическим жестом Осинский дал понять, что так же мало признает небесного царя, как и царей земных. По приказанию начальства военный оркестр заиграл «Камаринскую».
Через несколько мгновений Валериана Осинского не стало.
Осинский был богато одарен всеми качествами, которые дают человеку власть управлять событиями. Он не был организатором. Темперамент его был слишком пылким для мелочной, кропотливой работы этого рода. Все силы его ума были сконцентрированы в каждую данную минуту на одном каком-нибудь пункте, который ему указывался его почти безошибочным революционным инстинктом. Он всегда был в числе провозвестников тех течений, которые проявлялись в полной силе иногда только годы спустя. Так, в 1878 году, когда терроризм был еще в зародыше, Осинский был уже сторонником цареубийства и введения в революционную программу определенного и ясно выраженного требования политических реформ.
Он был в полном смысле слова человеком дела. Пока продолжалось пропагандистское движение, он держался в стороне. Только с зимы 1877 года, когда слова начали уступать место револьверу и кинжалу, примкнул он к движению, отдавшись ему всецело, до конца. Он обладал одной из величайших сил, какими природа наделяет человека, — верой, той верой, которая, по евангельскому изречению, двигает горами.
И эту веру он умел вселить в каждого, кто с ним сталкивался. Поэтому он естественно становился душой всех предприятий, в которых принимал участие. А при его необычайной энергии едва ли было хоть одно мало-мальски серьезное революционное дело на юге России, к которому бы он не примкнул. Никто не падал духом, когда Осинский был с ним, так как он воодушевлял каждого своей восторженной, непоколебимой верой и собственным примером. Он всегда первым бросался в самый пыл борьбы, беря на себя наиболее опасные роли. Его храбрость доходила до безумия.
Раз как-то, будучи еще только одиннадцатилетним мальчиком, он услыхал, что в дом их соседа ворвалась шайка известных разбойников; никого из его родных не было; тогда, не долго думая, он схватил со стены отцовское ружье и бросился на помощь к соседу. К счастью, слух оказался неверным, и мальчик благополучно вернулся домой. Этот маленький эпизод дает некоторое представление о мужестве будущего террориста. Чтобы составить себе понятие о его рыцарском характере, достаточно прибавить, что вышеупомянутый сосед был смертельным врагом всего семейства Осинских.
Как доказательство неотразимой обаятельности его слова я приведу только один факт, хоть и не из особенно крупных, тем не менее довольно характерный: Осинский славился уменьем собирать деньги. Революционная партия, особенно после того как терроризм вошел в систему, стала нуждаться в больших средствах, и находить их всегда было в высшей степени трудно. И вот тут-то немногие могли соперничать с Валерианом Осинским. Его подвиги на этом поприще сделались предметом общих толков: так они были поразительны. Какой-нибудь богач с инстинктами кулака или старая барыня-скряга, у которой денег куры не клюют, готовы изливаться перед вами сколько угодно в выражениях своего сочувствия революционерам. Но чуть только дело коснется их кошелька — картина немедленно меняется, и тут они способны привести в отчаяние каждого, кто попытался бы заставить их проявить более существенным образом свои великодушные чувства. Самым умелым людям не удавалось получить от подобных господ больше каких-нибудь десяти или двадцати рублей, да и то еще слава богу.
Но раз на сцену появлялся Валериан Осинский, то и наш кулак и старая скряга со вздохом открывали свои кошельки и, вытащив оттуда пять, десять тысяч рублей, а иногда и больше, — вручали их этому очаровательному молодому человеку, которого доводы так убедительны, внешность так привлекательна и манеры так обворожительны и изящны.
В Осинском не было и следа чего-нибудь педантического, напоминающего моралиста или проповедника. Это был воин с мужественным сердцем и сильной рукой. Он любил опасность, так как чувствовал себя там в своей стихии. Борьба воспламеняла его своим лихорадочным возбуждением.
Он любил славу. Он любил женщин — и был любим ими.
Петр Кропоткин[58]
В заграничной печати Кропоткина до сих пор продолжают иногда называть главою и руководителем русского революционного движения. Одно время такое представление было всеобщим. Обыкновенная публика, черпающая свои понятия о заговорах из лубочных романов, не может вообразить себе заговорщического движения без подпольного диктатора и, не зная никого из людей, действующих в России, естественно хватается за первое выдающееся имя — конечно, среди эмигрантов.
Русским читателям едва ли нужно объяснять, что все это бабьи сказки и что ни один из эмигрантов не был и не может быть руководителем русского движения.
Все, что эмиграция может сделать для России, это создать заграничную литературу. Одно время эта роль была выполняема, можно сказать, блистательно.[59] Будем надеяться, что и в будущем эмиграция окажется в силах быть снова полезной в этом направлении.
Что же касается до практического руководительства, то об этом не может быть и речи. Оставляя в стороне все прочие соображения, достаточно вспомнить, что нужна по меньшей мере неделя, чтобы обменяться письмом с Петербургом из тех немногих стран, куда раболепие и низкое своекорыстие не закрыло доступа русскому политическому изгнаннику.
Предположим на минуту, что какой-нибудь генерал пожелал бы управлять военными действиями, происходящими в Турции, оставаясь сам в Петербурге. Что бы подумал о нем каждый здравомыслящий человек? А ведь наш генерал имел бы в данном случае громадное преимущество, так как в его распоряжении телеграф, тогда как революционеру приходится довольствоваться невыносимо медленной почтой, да и то не своей, а правительственной, рискуя каждый раз, что письмо попадется и провалит если не все дело, то по меньшей мере адресата.
Какие же распоряжения можно делать при подобных условиях? У кого хватит для этого самоуверенности? Кто будет настолько легкомыслен, чтобы обращаться за такими распоряжениями? Заграница для эмигранта — это место отдохновения, дальний островок, куда устремляется тот, чья лодчонка разбита или помята разбушевавшимися волнами. Пока он не наладит ее снова и не направит к родным берегам, практическое дело для него немыслимо. Ему не остается ничего, как стоять с скрещенными на груди руками, с тоской устремляя свои взоры вдаль, к стране, где его товарищи борются и умирают, между тем как он, печальный и одинокий, задыхается в своем невольном бездействии, вечный гость на пиру кипящей вокруг, но чуждой ему жизни.
Кропоткин — один из старейших эмигрантов, так как он покинул Россию в 1876 году и больше туда не возвращался.
Но его участие в первых пропагандистских кружках оставило сильный след в их программах, и его личность всегда была одной из наиболее ярких и выдающихся в нашей партии.
Он принадлежит к высшей русской аристократии. Фамилия князей Кропоткиных одна из немногих, происходящих по прямой линии от Рюриковичей, и потому в кружке чайковцев, которого Кропоткин был членом, ему говаривали, бывало, шутя, что он имеет больше прав на российский престол, чем нынешние Романовы, которые, в сущности, чистокровные немцы.
Воспитание свое Кропоткин получил в пажеском корпусе, куда принимаются только дети придворной аристократии. В 1861 году он с отличием окончил курс; но, движимый любовью к науке, не остался при дворе, а отправился в Сибирь с целью геологических исследований. Там он пробыл несколько лет, принимая участие в разных научных экспедициях, где и приобрел тот обширный запас сведений, которыми потом воспользовался при своих работах в сотрудничестве с Элизе Реклю[60]. Побывал он также и в Китае. По возвращении в Петербург он был избран членом, а потом — секретарем Географического общества, написал несколько сочинений, высоко оцененных людьми науки, и наконец начал большую работу о финляндских ледниках[61], которую, по ходатайству Географического общества, ему позволено было окончить в крепости. Не имея возможности совершенно избегнуть службы при дворе, он был зачислен камер-пажем императрицы и получил несколько орденов.
В 1871 или начале 1872 года Кропоткин отправился за границу. Он посетил Бельгию и Швейцарию, где Интернационал достиг в то время высшей степени своего могущества. Тут его мировоззрение, бывшее всегда очень радикальным, получило окончательную формулировку. Он примкнул к Интернационалу, принявши идеи его крайней, так называемой анархической, фракции, горячим защитником которых он остался навсегда.
По возвращении на родину Кропоткин вошел в сношения с кружком чайковцев, проникнутым теми же идеями, и в 1872 году был предложен и принят единодушно в его члены. Ему было поручено выработать программу партии и план организации. Документы эти найдены были впоследствии между его бумагами. Зимой 1872 года он начал читать, разумеется тайным образом, лекции по истории Интернационала, бывшие просто развитием принципов революционного социализма на основании народных движений новейшего времени. Эти лекции соединяли с серьезной мыслью необыкновенную ясность и простоту изложения. Рабочие Александро-Невской части слушали их с величайшим интересом. Понятно, об этих лекциях пошли разговоры по соседним мастерским. Вскоре слухи о них достигли и до полиции, которая решила во что бы то ни стало разыскать пресловутого Бородина (под этой фамилией Кропоткин был известен своим слушателям). Однако долгое время все ее старания оказывались тщетными. Лекции были кончены, и Кропоткин вовсе не показывался в доме, за которым следили, готовясь отправиться «в народ» под видом странствующего «богомаза», то есть иконописца.
Жандармам удалось, однако, подкупить одного из рабочих, который стал шататься день за днем по всем главным улицам Петербурга, надеясь рано или поздно столкнуться где-нибудь с Бородиным. Действительно, через несколько месяцев он повстречал Кропоткина в Гостином дворе и указал на него полиции. Кропоткин был арестован. Вначале он отказывался сообщить свое настоящее имя, но долго скрывать его оказалось невозможным. Через несколько дней хозяйка дома, в котором он нанимал комнату, заявила полиции, что один из ее жильцов, князь Петр Кропоткин, в такой-то день исчез. На очной ставке с Бородиным она признала в нем своего жильца, и Кропоткину ничего не оставалось, как подтвердить ее показание.
Велик был переполох, произведенный при дворе известием об аресте такой важной особы. Сам царь долго не мог забыть об этом. Год или два спустя, при проезде через Харьков, где губернаторствовал двоюродный брат Петра Алексей Кропоткин (убитый в 1879 году)[62], он обошелся с ним чрезвычайно холодно и наконец грубо спросил: правда ли, что Петр его родственник?
Целых три года Кропоткин просидел в казематах Петропавловской крепости. В начале 1876 года по распоряжению доктора он был переведен в Николаевский госпиталь, так как тюрьма настолько подорвала его здоровье, что он не мог ни есть, ни двигаться. В несколько месяцев, однако, он совершенно поправился, но делал все, что мог, чтобы скрыть это. Он еле передвигал ногами, говорил глухим голосом, точно вот-вот отдаст богу душу. Дело в том, что из письма, переданного ему друзьями, Кропоткин узнал, что готовилась попытка устроить ему побег, а так как надзор в госпитале был гораздо слабее, чем в крепости, то для него было очень важно остаться там по возможности дольше.
В июле 1876 года побег был удачно совершен по плану, придуманному самим Кропоткиным. Но об этом предприятии, представляющем такое замечательное соединение самой тонкой расчетливости с необычайной смелостью, я расскажу отдельно в одном из следующих очерков.
Несколько недель спустя Кропоткин был уже за границей.
С этой поры начинается для него настоящая революционная деятельность. Хотя она не связана, собственно, с русским движением, будучи посвящена исключительно западноевропейскому социализму, тем не менее является, быть может, единственной почвой, на которой могли обнаружиться в настоящем свете его замечательные политические дарования. Кропоткин рожден для деятельности на широком поприще, а не в подпольных сферах тайных обществ. У него нет той гибкости и уменья приспособляться к условиям момента и требованиям практической жизни, которые так необходимы заговорщику. Он страстный искатель истины, умственный вождь, а не человек действия. Он стремится к торжеству известных идей, а не к достижению какой-нибудь практической цели, пользуясь тем, что имеется под рукою. В убеждениях своих он непреклонен и исключителен.
Он не допускает ни малейшего уклонения от ультраанархической программы и потому никогда не находил возможным сотрудничать в каком бы то ни было русском революционном журнале, как из издававшихся в тайных русских типографиях, так и заграничных. Всегда отыскивался какой-нибудь пункт, с которым он не мог согласиться. Люди с таким преобладанием теории редко становятся вожаками партий, деятельность которых основана на заговоре. Заговор в широком революционном движении — это то же, что партизанство в обыкновенной войне. Людей немного, и потому нужно уметь извлекать из них все возможное; почва для деятельности ограничена, а потому необходимо уметь приспособляться к ней; и хороший партизан всегда должен уметь пользоваться и людьми и минутными обстоятельствами. Для Кропоткина же естественной стихией является война настоящая, большая, а не мелкая, партизанская. Это один из тех людей, которые при благоприятных условиях становятся основателями широких общественных движений.
Он замечательный агитатор. Одаренный от природы пылкой, убедительной речью, он весь превращается в страсть, лишь только всходит на трибуну. Подобно всем истинным ораторам, он возбуждается при виде слушающей его толпы. Тут он совершенно преображается. Он весь дрожит от волнения; голос его звучит тоном глубокого, искреннего убеждения человека, который вкладывает всю свою душу в то, что говорит. Речи его производят громадное впечатление благодаря именно силе его воодушевления, которое сообщается другим и электризует слушателей. Когда по окончании речи, бледный и взволнованный, Кропоткин сходит с трибуны, вся зала гремит рукоплесканиями.
Он блестящий спорщик, и тягаться с ним тут очень трудно. Будучи прекрасно знаком с историей, особенно со всем, что касается народных движений, он искусно пользуется богатым запасом знаний для подкрепления своих мыслей оригинальными и неожиданными примерами и аналогиями, что сильно способствует убедительности и ясности его доводов.
За исключением своих научных трудов, он не написал ни одного значительного сочинения. Две прекрасные книги по социальному вопросу[63], изданные им в последние годы, не более как сборники отдельных статей. Он превосходный публицист, горячий, остроумный, задорный. Даже в своих сочинениях он остается агитатором.
Кропоткин — один из самых искренних и прямодушных людей, которых мне когда-либо приходилось встречать. Он всегда говорит правду в глаза, — со всей деликатностью доброго и мягкого человека, но без малейшего снисхождения к мелкому самолюбию слушателя. Это безусловное прямодушие самая разительная и симпатичная черта его характера. Вы смело можете полагаться на каждое его слово. Искренность его такова, что, когда в пылу спора ему приходит вдруг в голову какое-нибудь совершенно новое соображение, заставляющее его призадуматься, он немедленно умолкает, остается несколько мгновений погруженным в себя, затем начинает думать вслух, как бы становясь на точку зрения противника. В других случаях он мысленно перебирает все приведенные во время спора аргументы и после нескольких минут молчания, обращаясь к своему изумленному собеседнику, произносит с улыбкой: «Да, вы правы».
Дмитрий Лизогуб[64]
Однажды, в декабре 1876 года, мне пришлось присутствовать на одной из студенческих сходок, которые никогда не переводятся в Петербурге.
Сходка была не из многолюдных и не отличалась особенной живостью. Дебатировался так часто возникающий и всегда ни к чему не приводящий проект о соединении всех кружков, существовавших в среде молодежи, в одну общую организацию. Дело было явно неосуществимо ввиду разношерстности этих кружков, и проект можно было считать с самого начала мертворожденным. По-видимому, и сами инициаторы сходки наполовину понимали это, и потому споры велись вяло, скучно, точно через силу.
Но среди присутствующих был один, которому удавалось и оживить сонное собрание, и привлечь его внимание каждый раз, как он вставлял в однообразные дебаты какое-нибудь свое маленькое замечание, почти всегда меткое и слегка шутливое. Это был блондин, высокого роста, бледный и несколько худощавый. Длинная борода придавала ему вид апостола. Лицо его не было в строгом смысле красивым, но трудно себе представить что-нибудь приятнее выражения его добрых голубых глаз, отененных длинными ресницами, и нежнее его детской улыбки. Его ровный, протяжный голос ласкал слух, подобно низким симпатичным нотам песни, и проникал в самую душу.
Он был очень бедно одет. Хотя на дворе стояла настоящая русская зима, на нем был парусинковый пиджак с большими деревянными пуговицами, который от частой мойки успел уже превратиться в тряпку. Поношенный черный жилет закрывал его грудь до самой шеи; и всякий раз, когда он подымался, чтобы произнести свои несколько слов, можно было заметить, что панталоны его не по сезону светлы.
Когда по окончании собрания публика стала расходиться, удаляясь группами по три-четыре человека, из предосторожности, как это всегда делается в России в подобных случаях, мне с одним приятелем пришлось выйти в одно время с нашим незнакомцем. Тут я увидел, что весь его верхний костюм состоял из легкого пальто, старого красного шарфа и кожаной фуражки. Он не носил даже столь обычного у нигилистов пледа, несмотря на то что в этот вечер мороз доходил до двадцати градусов. Распрощавшись с моим приятелем, с которым был, по-видимому, немного знаком, он быстро пошел, почти побежал по улице, чтобы немного согреться скорой ходьбой. Через несколько мгновений он скрылся из виду.
— Кто это такой? — спросил я своего спутника.
— Дмитрий Лизогуб, — был ответ.
— Лизогуб? Черниговский?
— Да, черниговский.
Невольно я посмотрел еще раз по направлению, в котором исчез этот человек.
Дмитрий Лизогуб был миллионер, владелец громадного имения, состоявшего из усадьбы, земель, лесов, в одной из лучших губерний России. Несмотря на это, он жил беднее последнего из своих приказчиков, потому что все, что у него было, он отдавал на революцию.
Года через два мы встретились снова в Петербурге уже как члены одной организации, в которых люди сходятся и узнают друг друга так же хорошо, как если бы они были членами одной семьи.
Было бы слишком мало назвать Лизогуба чистейшим из людей, каких я когда-либо встречал. Скажу смело, что во всей партии не было и не могло быть человека, равного ему по совершенно идеальной нравственной красоте.
Отречение от громадного состояния на пользу дела было далеко не высшим из проявлений его подвижничества. Многие из революционеров отдавали свое имущество на дело, но другого Дмитрия Лизогуба между ними не было. Под внешностью спокойной и ясной, как безоблачное небо, в нем скрывалась душа, полная огня и энтузиазма. Для него убеждения были религией, которой он посвящал не только всю свою жизнь, но, что гораздо труднее, каждое свое помышление: он ни о чем не думал, кроме служения делу. Семьи у него не было. Ни разу в жизни он не испытал любви к женщине. Его бережливость доходила до того, что друзья принуждены бывали заботиться, как бы он не заболел от чрезмерных лишений. На все их замечания по этому поводу он отвечал обыкновенно, как бы предчувствуя свою преждевременную кончину: «Мне все равно недолго жить».
И он не ошибся.
Его решимость не тратить ни копейки из денег, которые могли пригодиться на дело, доходила до того, что он никогда не позволял себе проехаться на конке, не говоря уже об извозчике. Помню, как однажды он показал нам два предмета, составлявшие принадлежность его парадного костюма, — складной цилиндр и перчатки. Он приобрел их во время оно, когда благодаря своему положению должен был сделать визит черниговскому губернатору или кому-то в этом роде. Перчатки были нежного пепельного цвета и казались новешенькими. Он сообщил нам, однако, что они у него уже три года, и, улыбаясь, объяснил маленькую хитрость, к которой он прибегал, чтобы сохранять их в таком виде: он надевал их только на пороге приемных зал или кабинетов, куда ему нужно было изредка являться. Что касается цилиндра, то тут дело было сложнее, так как уже с год тому назад пружина поломалась, а он все не мог собраться отдать ее в починку. Всякий раз он находил, что необходимый на это двугривенный можно употребить производительнее. Однако для поддержания своего достоинства он всегда входил в гостиную не иначе как с этой самой шляпой под мышкой, между тем как у него в кармане покоился неизменный кожаный картузик, который он носил лето и зиму. Выходя на улицу по окончании визита, он обыкновенно делал несколько шагов с обнаженной головой, приглаживая для виду волосы, и затем, отойдя на некоторое расстояние, извлекал из кармана свой пресловутый кожаный картузик.
И, однако, деньги, которые Лизогуб берег с ревнивой заботливостью Плюшкина, были его злейшим врагом, источником нескончаемых мучений, каким-то вечным проклятием, тяготевшим над ним. При своей впечатлительной, крайне отзывчивой натуре, он безгранично страдал, будучи вынужден сидеть со сложенными руками, безучастным зрителем борьбы и мученичества своих лучших друзей. Находясь под строжайшим надзором, так как на него был сделан донос в принадлежности к революционной партии родственниками, которые надеялись в случае его осуждения получить его состояние, он не мог ничего делать: при первом же шаге с его стороны имение было бы конфисковано и партия лишилась бы столь важной поддержки. Таким образом, богатство было для него чем-то вроде ядра, прикованного к ноге каторжника, чтобы мешать ему ходить свободно.
Вынужденная бездеятельность тяжело должна была угнетать человека, подобного Лизогубу, который соединял в себе отважность бойца с пламенным энтузиазмом пророка. Но Лизогуб ухитрялся превратить для себя эту бездеятельность в источник самых глубоких нравственных страданий. Со скромностью истинно великой души он не видел ни малейшей заслуги в том, что ему казалось естественнейшей вещью в мире, — в отречении от своего богатства и жизни, полной лишений.
Беспощадный по отношению к себе, как суровый судья, который не хочет слушать никаких объяснений и ничего не видит, кроме голого факта преступления, он смотрел на свою поистине самоотверженную бездеятельность, как на нечто позорное. И этот человек, который ценой такой громадной жертвы поддерживал целых полтора года почти все русское революционное движение; человек, нравственные достоинства которого внушали к нему безграничное уважение со стороны всех, кто его знал; человек, одно присутствие которого в рядах партии увеличивало ее силу и авторитет, — этот человек смотрел на себя как на последнего из последних.
Отсюда та глубокая грусть, которая никогда не покидала его и сказывалась в каждом его слове, несмотря на легкий, шутливый тон, усвоенный им, чтобы скрыть это.
И он нес терпеливо свой порой невыносимо тяжелый крест всю свою жизнь, с печальной покорностью судьбе.
Этот человек был глубоко несчастен.
Он был арестован в Одессе, осенью 1878 года, по доносу своего управляющего Дриго, бывшего его другом и поверенным и потом продавшего себя правительству за обещанные ему остатки от состояния Лизогуба, составлявшие около 40 000 рублей.
Хотя арест Лизогуба произошел в самый разгар белого террора и в Одессе, где его должны были судить, свирепствовал герой Севастополя и Плевны, взяточник и заплечных дел мастер граф Тотлебен, никто не ожидал для Лизогуба особенно сурового приговора. Ссылка на поселение или, в худшем случае, несколько лет каторжных работ — вот все, к чему его могли приговорить. Обвинение не могло выставить против него ничего, кроме факта растраты неизвестно куда большей части своего состояния. Но показания Дриго не оставляли на этот счет места сомнению у жрецов русского правосудия.
Среди всеобщего оцепенения Лизогуб был приговорен к смерти. Очевидцы передают, что, выслушавши этот приговор, он просто открыл рот от изумления.
На сделанное ему предложение спасти жизнь просьбой о помиловании он ответил презрительным отказом. 8 августа 1879 года его повезли на казнь вместе с двумя товарищами, Чубаровым и Давиденко.[65]
Те, кто видели его во время переезда от тюрьмы к эшафоту, говорят, что не только он был невозмутимо спокоен всю дорогу, но даже кроткая улыбка играла на его лице, когда он обращался к друзьям со словами ободрения. Наконец исполнялось его горячее желание — принести себя в жертву делу революции. Быть может, это была счастливейшая минута в его тяжелой жизни.
В нашей партии Стефанович был организатор; Клеменц — мыслитель; Осинский — воин; Кропоткин — агитатор; Дмитрий же Лизогуб был святой.
Геся Гельфман[66]
Есть безвестные героини, есть скромные труженицы, которые приносят все на алтарь дела, не требуя ничего взамен. Они берут на себя самые неблагодарные роли; жертвуют собой из-за пустяков — из-за адреса для переписки, из-за укрывания часто совершенно неизвестного им человека, из-за отправки посылки, содержание которой для них тайна. Поэт не посвятит им вдохновенного стиха; история не впишет их имени на свои страницы; потомство не вспомнит о них с благодарностью.
И, однако, без их работы партия не могла бы существовать и всякая борьба стала бы немыслимой.
Но вот волна истории выхватывает одну из таких скромных тружениц из тихого уединения, в котором та надеялась прожить всю свою жизнь, и возносит ее на своем сверкающем хребте на вершину всемирной известности. И все смотрят на эту скромную фигуру и с удивлением различают в ней черты такой нравственной силы, такого самоотречения и мужества, которые свойственны только героиням.
Такова именно судьба Геси Гельфман.
Я не знал ее лично. Но если в данном случае я отступаю от своего правила — говорить только о личных знакомых, то побуждает меня к этому не слава, которую приобрело ее имя, а нравственная высота ее личности. Простая, глубоко симпатичная фигура Геси, быть может, лучше характеризует описываемую мною партию, чем иные блестящие типы, поражающие силой, энергией и разнообразием деятельности. Так скромный полевой цветок часто дает более верное понятие о флоре местности, чем какое-нибудь удивительное и редкое растение.
Геся Гельфман принадлежала к фанатической еврейской семье, которая с ужасом смотрела на все, что исходило от христиан, в особенности же на их науку, проповедующую своим последователям презрение к религии отцов. Затронутая новыми идеями и не будучи в силах терпеть долее тяжесть семейного ига, Геся бежала из дома родных, унося оттуда как единственное наследие проклятие родителей, которые предпочли бы скорее видеть свою дочь в могиле, чем братающейся с «гоями».
Добравшись до Киева, она поступила там работницей в швейную мастерскую.
Настал 1874 год. Революционное движение широким потоком разлилось по всей России, и влияние его достигло даже уединенного жилища молоденькой швеи-еврейки.
Она познакомилась с некоторыми из девушек, только что вернувшихся из Цюриха, фигурировавшими впоследствии в знаменитом «процессе 50-ти». Они-то и привлекли ее к движению. Впрочем, ее участие в нем было вначале очень скромным. Она дала свой адрес для революционной переписки. Когда, однако, ее «преступление» было открыто, ей пришлось поплатиться за него ни больше ни меньше как двумя годами предварительного заключения и еще в придачу двумя годами заключения в Литовском замке по приговору суда. Там, находясь вместе с четырьмя или пятью товарками, осужденными за прикосновенность к тому же делу, Геся впервые познакомилась как следует с принципами социализма и отдалась ему всем сердцем и душой. Но ей не скоро удалось начать применение новых идей к жизни, так как по отбытии наказания, вместо того чтобы выйти на свободу, она была сослана административным порядком в одну из северных губерний, где оставалась до осени 1879 года. Наконец, воспользовавшись как-то беспечностью своих стражей, она бежала оттуда и вскоре прибыла в Петербург. Здесь она с жаром бросилась в борьбу, сгорая жаждой дать полное удовлетворение той потребности работать для дела, которая у нее превратилась в страсть тем более жгучую, что пришлось так долго сдерживать ее.
Всегда деятельная и неизменно веселая, она довольствовалась самым малым, лишь бы это было полезно для дела. Она охотно выполняла всякие роли: почтальона, рассыльного, часового; и часто работа была настолько утомительной, что изнуряла силы даже этой здоровой девушки, вышедшей из рабочей среды. Сколько раз, бывало, она возвращалась домой поздно ночью, измученная до изнеможения, после четырнадцати часов беспрерывной беготни по городу. Но на следующий день она подымалась снова бодрая и опять принималась за работу.
Она всегда была готова оказать услугу всякому, не думая вовсе о беспокойстве, которое это могло причинить ей. Она никогда не думала о себе.
Чтобы дать понятие о нравственной силе и безграничной преданности этой простой, малообразованной женщины, достаточно припомнить последние месяцы ее революционной деятельности. Муж ее, Николай Колоткевич[67], один из известнейших и весьма уважаемых членов террористической партии, был арестован в феврале. Над его головой висел смертный приговор. Но Геся продолжала оставаться в рядах борющихся, скрывая от всех свое страшное горе. Будучи уже на четвертом месяце беременности, она взяла на себя чрезвычайно опасную роль — хозяйки конспиративной квартиры, где приготовлялись бомбы Кибальчича[68], и пробыла там все время до дня своего вторичного ареста, который произошел вскоре после 1 марта.
В день приговора она стояла веселая и улыбающаяся перед судьями, которые должны были послать ее на эшафот. Но ее судьба оказалась еще ужаснее: целых четыре месяца ей пришлось ждать казни! И эту нескончаемую нравственную пытку она выносила все время, ни на минуту не упавши духом, несмотря на все усилия правительства, которое, побоявшись возбудить негодование Европы повешеньем беременной женщины, старалось по крайней мере воспользоваться ее положением, чтобы исторгнуть у нее какие-нибудь признания. Оно тянуло эту нравственную пытку до тех пор, пока самая жизнь Геси не оказалась в опасности, и только почти накануне родов ей было объявлено о замене смертной казни вечной каторгой.
Она умерла в тюрьме вскоре после рождения ребенка, который был немедленно отнят у нее.
Вера Засулич[69]
Перелистывая великую книгу истории, трудно и, быть может, невозможно найти имя, которое достигло бы с такой быстротой известности до такой степени широкой, неоспоримой, единодушной.
Совершенно неизвестное накануне, это имя в течение многих месяцев было у всех на устах, воспламеняя великодушные сердца обоих полушарий, и превратилось как бы в синоним героизма и самоотвержения.
Однако девушка, ставшая предметом такого энтузиазма, упорно скрывалась от своей славы. Она уклонялась от оваций, и, хотя весьма скоро сделалось известным, что она находится за границей, где могла появляться открыто без всякой опасности, — она по-прежнему оставалась в толпе, не желая нарушить своего инкогнито.
Тогда, за недостатком положительных сведений, вступило в дело воображение, и ее многочисленные поклонники стали рисовать ее себе сообразно собственному характеру.
Натуры романтические и сентиментальные представляли ее себе девушкой поэтической и нежной, экзальтированной, как христианская мученица, олицетворением самоотвержения и любви.
Те же, которые склонялись больше к радикализму, воображали ее себе новой немезидой, с револьвером в одной руке, красным знаменем в другой и трескучими фразами на устах, гордою и грозною, как олицетворенная революция.
Ошибались и те и другие.
Засулич решительно не похожа ни на героиню псевдорадикальной трагедии, ни на воздушную и экзальтированную христианскую деву.
Это женщина сильная, крепкая, и хотя ростом она не выше среднего, на первый взгляд кажется высокою. Ее симпатичное, умное лицо нельзя назвать красивым. Хороши только большие, прекрасно очерченные серые глаза, обрамленные длинными ресницами, темнеющие, когда она возбуждена. Задумчивые и несколько грустные в обыкновенном состоянии, эти глаза зажигаются каким-то лучистым светом, когда она одушевляется, что бывает нередко, и мечут искры, когда она шутит, — что случается очень часто. Малейшее движение души отражается в этих выразительных глазах. Остальные черты лица не представляют ничего необыкновенного: продолговатый нос, тонкие губы, большая голова, обрамленная почти черными волосами.
Собой она решительно не занимается. Она слишком рассеянна, слишком погружена в свои думы, чтобы заботиться об этих мелочах, вовсе ее не интересующих.
Есть в ней, однако, нечто противоречащее еще более, чем ее внешность, представлению об эфирной деве.
Это ее голос. Вначале она говорит с вами как и все люди, но это обыкновенно продолжается очень недолго. Лишь только разговор оживляется, она возвышает голос и говорит так громко, точно ее собеседник наполовину глух или стоит от нее по меньшей мере шагах во ста. И никакими силами не может она отделаться от этой привычки. Она так рассеянна, что тотчас забывает и шутки приятелей, и свое собственное желание не бросаться в глаза и говорить как все. В доме ли, на улице, лишь только речь коснется какого-нибудь интересного предмета, она тотчас же начинает кричать, сопровождая свои слова любимым, всегда неизменным жестом правой руки, которой она энергично рассекает воздух, точно секирой.
Однако под этой простой, мало поэтической внешностью скрывается душа, полная высочайшей поэзии, глубокая и могучая, богатая любовью и негодованием.
Это натура очень сдержанная и сосредоточенная, хотя на первый взгляд ее можно принять за человека открытого, потому что говорит она много и охотно. В свою интимность она допускает лишь немногих. Говорю не о товарищеской интимности, вытекающей из взаимного доверия и уважения, а о другой, настоящей интимности, состоящей в обмене мыслей, иногда самых сокровенных.
Она не способна к внезапной дружбе молодых и неопытных душ. Сближаясь с человеком, она подвигается медленно и осторожно, не стараясь никогда дополнить воображением недостаток положительных наблюдений. У нее мало друзей, да и те принадлежат почти исключительно к ее старым знакомым; но в них ее мир, отделенный от прочих людей почти непереходимой границей.
Вообще она очень много живет внутренней жизнью и сильно подвержена специально русской болезни, состоящей в терзании собственной души, в погружении в ее сокровенные глубины, в безжалостном анатомировании ее, в выискивании пятнышек и недостатков, часто воображаемых и всегда преувеличенных.
Отсюда происходят те припадки черной хандры, которые овладевают ею от времени до времени, как царем Саулом, и держат ее в своей власти дни за днями; и ничто не может разогнать их. Тогда она становится рассеянной, избегает всякого общества и по целым часам ходит взад и вперед по комнатке, вся погруженная в свои думы, или убегает из дому, ища успокоения в единственном, что может дать его ей, — в природе, бесстрастной и величественной, которую она любит и понимает, как только могут любить и понимать люди с истинно поэтической душой. Не раз по целым ночам, часто до солнечного восхода, ей случалось бродить одной-одинешенькой по диким горам Швейцарии или по берегам ее огромных озер.
Она переполнена тем вечным чувством внутренней неудовлетворенности, источником великих дел, которое в ней — прямой результат безграничного идеализма, составляющего основу ее характера. Преданность ее делу народного освобождения, которому она посвятила себя с самой ранней молодости, окристаллизовалась в ее душе в воззрения на собственные обязанности и нравственные требования до такой степени высокие, что жизнь решительно не может удовлетворить им. Все кажется ей недостаточным.
Ее великий подвиг вовсе ее не удовлетворил. Александра Малиновская, женщина очень наблюдательная и умная и большая приятельница Засулич, видя ее в припадке черной хандры и недовольства всего через несколько недель после ее оправдания, говорила:
— Вере хотелось бы стрелять в Треповых каждый день или по крайней мере раз в неделю. А так как этого нельзя, так вот она и мучится.
И Малиновская принималась доказывать Засулич, что нет возможности приносить себя на заклание в жертву каждое воскресенье, как наш спаситель Иисус Христос; что нужно помириться со своей участью и делать то же, что и все.
И Вера делала то же, что и все, но это не помогало. Ее вечное недовольство не имеет решительно ничего общего с самолюбием людей, жаждущих стоять выше других и отличаться от прочих во всем. Не только до, но и после того, как имя ее приобрело такую известность, то есть в свою последнюю поездку в Россию[70], она брала на себя роли самые скромные и обыкновенные: наборщицы в типографии, горничной и т. под., и все свои обязанности исполняла всегда с безукоризненной добросовестностью и усердием. Но это не давало ей мира душевного, — и ничего против этого она не могла поделать.
Помню, однажды, рассказывая мне о том, что она почувствовала, услыхав из уст председателя суда о своем оправдании, она сказала, что то была не радость, а необыкновенное удивление, за которым тотчас же последовало чувство грусти.
— Я не могла объяснить себе тогда этого чувства, — прибавила она, — но я поняла его потом. Если бы я была осуждена, то, по силе вещей, не могла бы ничего делать и была бы спокойна, потому что сознание, что я сделала для дела все, что только могла, было бы мне удовлетворением. Но теперь, раз я свободна, нужно снова искать, а найти так трудно.
Этот маленький разговор, который врезался в моей памяти, бросает необыкновенно яркий свет на весь ее характер.
Скромность поистине беспримерная, единственная в своем роде, составляет лишь другую форму проявления того же безграничного идеализма. Это печать избранных натур, в которых героизм — вещь естественная и логичная, почему и проявляется у них в такой дивной простоте.
Среди всеобщего восторженного удивления, среди настоящего апофеоза Засулич сохранила всю ту простоту, всю младенческую чистоту души, которую она имела прежде, чем чело ее окружил ореол бессмертной славы. Эта слава, от которой закружилась бы голова у самого твердого из стоиков, оставила ее совершенно безучастной и равнодушной, точно дело ее вовсе не касалось.
Это едва ли не единственный в своем роде факт в истории человеческого сердца, и он один достаточен, чтобы показать глубину этого характера, черпающего все в себе самом, не имея надобности и даже возможности получать извне поддержку или стимул.
Совершив свое великое дело под влиянием внутреннего убеждения, без малейшей тени честолюбия, Засулич упорно избегала каких бы то ни было выражений восторга, вызванного ее поступком в других. Вот почему она всегда отказывалась являться перед публикой.
Это в ней вовсе не робость молоденькой девушки, а благородная нравственная застенчивость, запрещающая ей принимать дань благоговения за то, что, в высоте своих идеальных фантазий, она сама отказывается признать героическим поступком. Вот почему та же Вера, которая так любит общество, которая разговаривает так охотно, которая никогда не задумается вступить в ожесточеннейший спор с кем бы то ни было, если ей покажется, что он не прав, — эта самая Вера, лишь только входит в какое-нибудь собрание, где знает, что на нее смотрят уже не как на Веру, а как на Засулич, — тотчас же меняется самым поразительным образом: она становится робкой, стыдливой, застенчивой, — точь-в-точь как девочка, только что вышедшая из пансиона. Даже ее оглушающий голос претерпевает удивительную перемену: он становится нежным, мягким, сладким — одним словом, «ангельским», как говорят в шутку ее приятели, или «птичьим», как называет его она сама.
Но и этот «птичий» голос услышать довольно трудно, потому что на общественных собраниях Вера обыкновенно молчит, точно воды в рот набрала. Вопрос должен очень близко задеть ее, чтобы она встала и сказала несколько слов.
Оценить все достоинства ее светлого ума и всю прелесть ее разговора можно только дома, в кружке приятелей. Только здесь дает она полную волю своему живому и блестящему остроумию.
Она создала себе свой собственный язык, богатый, колоритный, соединяющий народный юмор с какой-то детской наивностью. Некоторые ее выражения и словечки — настоящие перлы, каких не найдешь в витринах ювелиров.
Характерная черта ее ума — оригинальность. Одаренная редкой силой мысли, она обогатила ее серьезным и разносторонним чтением во время долгих годов ссылки по разным городам России. Она обладает столь редкой особенностью всегда думать самостоятельно как в вещах крупных, так и мелких и органически не способна идти по проторенным дорожкам только потому, что по ним идут другие. Она проверяет и подвергает критике все, не принимая ничего на веру. Вот почему она умеет придать свою окраску даже избитым истинам, которые обыкновенно признаются и повторяются всеми по рутине. От этого-то ее беседа приобретает такую очаровательную свежесть и живость.
Оригинальность и независимость мысли в соединении с совокупностью ее нравственного характера производят другую, быть может драгоценнейшую, особенность этой натуры. Я говорю о свойственном ей почти безошибочном нравственном инстинкте, о способности угадать в вопросах самых сложных и запутанных, что можно, чего нельзя, что хорошо, что дурно, — хотя иногда она сама не в состоянии ясно мотивировать своего мнения. Этот инстинкт обнаружила она в высокой степени как своим поведением перед судом в день своего достопамятного процесса, так и во многих случаях внутренней жизни партии.
Каждый ее совет или мнение, даже не мотивированные, всегда заслуживают внимания, потому что очень редко бывают ошибочны.
Таким образом, Засулич обладает всем, чтобы сделаться, если можно так выразиться, совестью кружка, организации, партии. Но, великая по своему нравственному влиянию, Засулич не может быть рассматриваема как тип влияния политического. Она слишком сосредоточена в себе самой, чтобы влиять на других. Тот, кто хочет получить от нее какой-нибудь совет, должен сам пойти к ней за ним. По собственной инициативе она никогда не вмешивается в чужую жизнь, чтобы переделать ее по-своему, как старается делать всякий организатор или агитатор. Она исполняет собственный долг, как то предписывает ей ее совесть, не стараясь увлечь своим примером других.
Самый ее идеализм, столь высокий и плодотворный, заставляющий ее всегда жаждать чего-нибудь великого, мешает ей посвятить себя всей душой повседневной работе, всегда мелкой и незначительной.
Это женщина великих решений и великих моментов.
Тип борца неутомимого и могучего представляет нам другая женщина, грандиозную фигуру которой я попытаюсь по мере сил нарисовать в следующей главе.
Софья Перовская[71]
Она была хороша собой, хотя наружность ее принадлежала к тем, которые не ослепляют с первого взгляда, но тем больше нравятся, чем больше в них всматриваешься.
Белокурая головка с парой голубых глаз, серьезных и проницательных, под широким выпуклым лбом; мелкие, тонкие черты лица; розовые полные губы, обнаруживавшие, когда она улыбалась, два ряда прелестных белых зубов; необыкновенно чистая и нежная линия подбородка.
Впрочем, очаровывали не столько отдельные черты, сколько вся совокупность ее физиономии. Было что-то резвое, бойкое и вместе с тем наивное в ее кругленьком личике. Это была олицетворенная юность. При своей удивительной моложавости Соня в двадцать шесть лет выглядела восемнадцатилетней девушкой. Маленькая фигурка, стройная и грациозная, и свежий, звонкий, как колокольчик, голос увеличивали эту иллюзию, становившуюся почти непреодолимой, когда она начинала смеяться, что случалось очень часто. Она была очень смешлива и смеялась с таким увлечением, с такой беззаветной и неудержимой веселостью, что в эти минуты ее можно было принять за пятнадцатилетнюю девочку-хохотушку.
Своей наружностью она решительно не занималась. Одевалась она с величайшей простотой и, может быть, не знала даже, что значит быть одетой к лицу или не к лицу, но любила чистоту до страсти и в этом отношении была требовательна и педантична, как швейцарская девушка.
Соня очень любила детей и была отличной школьной учительницей. Была, однако, другая роль, которую она выполняла еще лучше, — это роль сиделки. Если какая-нибудь из ее приятельниц заболевала — она первая являлась предложить себя на эту тяжелую должность и умела ухаживать за больными с такой заботливостью и таким терпением, которые навсегда завоевывали ей сердца ее пациентов.
Величайшей привязанностью ее жизни была мать, Варвара Сергеевна, которую она любила со всей трогательной и наивной нежностью, какая бывает только у дочерей. Не раз рисковала она собою, чтобы иметь свидание с нею. Среди тревог и забот своей бурной жизни она сохранила в сердце укромный уголок, где теплилось это доброе чувство. Никогда не забывала она о тех беспрерывных муках, которые должна была испытывать из-за нее мать, и пользовалась малейшим случаем, чтобы дать ей о себе весточку. Не раз, даже в последний период своей жизни, она оставляла на минуту суровые конспирационные работы, чтобы составить ей посылочку из любимых ее гостинцев и сластей.
И вот эта-то девушка, с такой скромной и невинной внешностью, с таким кротким и нежным характером, была одним из наиболее грозных членов грозной революционной партии. Ей-то было поручено руководство делом 1-го марта. На клочке конверта она рисовала карандашом план местности, распределяя заговорщикам их места, и в роковое утро, стоя на поле битвы, она получала от часовых известия о движении императора и указывала заговорщикам платком, куда они должны направляться. Она же в мрачный день 2-го апреля потрясла друзей и врагов своей истинно геройской кончиной.[72]
Попробуем же очертить, насколько позволят нам наши силы, эту личность, совмещавшую в себе столько чисто женской нежности, столько мощи бойца и столько самоотверженной преданности мученика.
Софья Перовская, подобно Кропоткину, происходит из высшей аристократии. Перовские — младшая ветвь фамилии известного Разумовского[73], морганатического[74] мужа императрицы Елизаветы Петровны (1709–1762). Дед ее, Лев Алексеевич Перовский, был министром просвещения;[75] отец долго занимал пост петербургского генерал-губернатора; родной дядя ее отца, знаменитый граф Василий Алексеевич Перовский, завоевал императору Николаю несколько провинций в Центральной Азии.[76]
Такова семья, откуда вышла женщина, нанесшая такой жестокий удар царизму.
Софья родилась в 1854 году. Печально было ее детство между отцом, деспотом и самодуром, какие встречаются еще только в России, и вечно унижаемой и оскорбляемой матерью, женщиной высокой нравственности, переносившей все, что только может быть горького в жизни жены русского самодура, лишь бы не оставить в жертву ему беззащитных детей. Таким образом, уже в недрах семьи научилась Перовская ненависти к угнетению и той великодушной любви ко всем слабым и обиженным, которая составляет одну из наиболее трогательных черт ее характера.
История жизни С. Перовской представляет собою вернейшее отражение истории русской молодежи, а также и революционной партии.
Подобно всем женщинам своего поколения, С. Перовская начала с простого желания учиться. Когда ей минуло пятнадцать лет, движение в пользу эмансипации женщин находилось в полном разгаре и увлекло даже ее старшую сестру Марию. Соня начинает учиться, посещать курсы, читать. Но что дает ей литература того времени? Самую резкую критику всего нашего общественного строя, указывая на социализм как на конечную цель и единственное лекарство от всех общественных недугов. Ее учителя — Чернышевский и Добролюбов, на которых воспитывалось и все современное молодое поколение. При таких учителях жажда знания весьма скоро должна была превратиться у нее в жажду деятельности соответственно идеям, почерпнутым в этом чтении. Аналогичное стремление возникает совершенно самостоятельно во многих других девушках, находящихся в таком же положении. Общность идей развивает между ними чувство горячей дружбы, а сознание, что они не одиноки, порождает желание и надежду что-нибудь сделать на пользу своих идеалов. Вот вам в зародыше тайное общество, потому что в России все, что имеет целью благо народа, а не императора, должно делаться тайно.
Бегство из родительского дома, к которому вынудило Соню вмешательство в ее жизнь отца, оторвав ее от семьи, заставило еще теснее сблизиться с кружком подруг и товарищей. Перовская очень близко сошлась с несчастным семейством сестер Корниловых[77], составлявшим зерно, из которого два года спустя развился кружок чайковцев, имевший такое важное значение в первый период движения.
Перовская вместе с несколькими молодыми студентами, в том числе Николаем Чайковским, оставившим свое имя будущей организации, была одним из первых членов этого кружка, имевшего, впрочем, вначале скорее характер братства, чем политического общества.
Кружок, задававшийся сперва исключительно пропагандой среди молодежи, был невелик. Выбор новых членов производился с разбором и всегда единодушно. Устава никакого не существовало, да и не было в нем надобности, потому что все решения принимались не иначе как единогласно. И правило это, столь мало практичное, ни разу не повлекло за собою ни столкновений, ни даже неудобств, потому что любовь и уважение, соединявшие членов кружка, были таковы, что в нем достигалось то, что гений Ж.-Ж. Руссо[78] провидел как идеал общественных отношений: меньшинство уступало большинству не по необходимости или принуждению, а добровольно, под влиянием внутреннего убеждения, что правда должна быть на его стороне.
Отношения между членами были самые братские. Искренность и безусловная прямота составляли их первое основание. Все знали друг друга, как члены одной и той же семьи, если не больше, и никто не хотел скрывать от других ни одного своего шага не только в общественной, но даже и в частной жизни. Таким образом, малейшая слабость, малейшее проявление эгоизма или недостаточной преданности делу замечались, указывались, иногда вызывали порицание, но не менторское, а братское, внушаемое любовью и искренним огорчением и потому действующее на душу.
Эти идеальные отношения, невозможные при обширной организации, обнимающей собою массу людей, соединенных лишь общностью цели, действительно исчезают вместе с расширением политической деятельности упомянутого кружка. Но они были как нельзя более способны влиять на нравственное развитие личностей. Они-то создали таких людей с сердцами из золота и стали, как Куприянов, Чарушин, Сердюков и столько других, которые во всякой другой стране были бы гордостью, украшением нации. А у нас где они, где?..
Одни переморены в тюрьмах, другие сами наложили на себя руки; те погребены в тундрах и рудниках Сибири или раздавлены под бременем безграничного горя о потере всего, всего, что было для них дороже жизни…
В этой-то суровой и вместе нежной среде, проникнутой почти монашеским ригоризмом, но согретой дыханием энтузиазма и самоотвержения, провела Софья Перовская четыре года первой молодости, когда чистая, нетронутая душа принимает так жадно всякое хорошее впечатление, когда горячее сердце так отзывчиво ко всему великому и благородному.
Не подлежит никакому сомнению, что в числе влияний, создавших этот характер, одно из первых мест принадлежит кружку чайковцев. И действительно, всматриваясь в нравственную физиономию С. Перовской, мы легко заметим, что до конца жизни в ней отражаются все хорошие стороны этого кружка, хотя благодаря своим личным особенностям она сумела отбросить его излишнюю семейственность и сентиментальность.
В кружке Перовская пользовалась большим уважением и влиянием за свою стоическую строгость к самой себе, за неутомимую энергию и в особенности за свой обширный ум. Ясный и проницательный, он обладал столь редкой у женщин философской складкой, проявляющейся в умении не только прекрасно понять данный вопрос, но и разобрать его всегда в соотношении со всеми от него проистекающими вопросами. Отсюда происходила у Перовской, с одной стороны, редкая твердость убеждений, которых не могли поколебать ни софизмы, ни преходящие впечатления дня, — что при лихорадочной быстроте нашей политической жизни давало повод обвинять ее даже в некотором консерватизме, — с другой, необыкновенное искусство в спорах, как теоретических, так и практических. Трудно было встретить более стойкого и искусного диалектика, чем Перовская. Рассматривая свой предмет всегда со всех точек зрения, она имела большое преимущество перед своими противниками, потому что обыкновенно каждый рассматривает его с одной какой-нибудь стороны, указываемой личными склонностями и симпатиями.
Другим проявлением той же широты и разносторонности являлась чрезвычайная трезвость ее ума. Она видела все вещи в настоящем свете и в настоящую величину и своей логикой без всякой пощады разбивала иллюзии своих более восторженных товарищей. Черпая в чувстве долга ту твердость и постоянство, которые людям более слабым даются фиктивными надеждами, она никогда не преувеличивала ничего и не придавала деятельности своей или своих товарищей большего значения, чем она имела на самом деле. Поэтому она всегда стремилась расширить ее, отыскивая новые пути и способы действия, вследствие чего бывала всегда одним из наиболее деятельных инициаторов во всех организациях, в которых состояла членом. Так, переход от пропаганды среди молодежи к пропаганде среди рабочих, совершенный кружком чайковцев в 1871–1872 годах, был в значительной степени результатом ее настойчивости. Когда же этот переход был осуществлен и дело пропаганды на столичных фабриках приняло необыкновенно широкие для того времени размеры и увлекло весь кружок, она была из первых, настаивавших на необходимости следующего шага — перехода из городов в деревни, так как понимала, что в России может иметь будущность лишь такая партия, которая сумеет сблизиться с крестьянством. И потом, будучи уже членом организации «Народной воли», она всегда стояла за расширение революционней пропаганды не только в среде городских рабочих, что в значительной степени выполнялось организацией, но и за распространение ее и на деревенское население.
Однако это вечное недовольство, вечное искание чего-нибудь нового, лучшего было в ней исключительно результатом сильной критической мысли, а не чересчур пламенного воображения, делающего человека не способным удовлетвориться какой бы то ни было реальностью, как это бывает у романтических натур. Этого романтизма, способного побудить иных людей на великие подвиги, но обыкновенно заставляющего тратить жизнь в бесплодных грезах, у Перовской не было и следа. Она была человек слишком положительный, чтобы жить в мире химер, и слишком энергичный, чтобы стоять скрестивши руки. Она брала жизнь такою, какова она есть, стараясь сделать наибольшее возможное в данный момент. Бездеятельность была для нее величайшим мучением.
Однако, когда было нужно, она умела выносить годы бездеятельности.
Двадцать пятого ноября 1873 года Перовская была арестована вместе с группой рабочих, среди которых вела пропаганду за Александро-Невской заставой. Ее посадили в Петропавловскую крепость, но за отсутствием улик после нескольких месяцев заключения она была выпущена на поруки к отцу, который и отправил ее с матерью в Крым, где находилось их имение.
Целых три года пришлось Перовской ждать процесса, и все это время она вследствие установленного за нею строгого надзора должна была почти совершенно отказаться от революционной деятельности — кроме разве пропаганды среди молодежи, по самой своей сущности весьма мало доступной полицейскому контролю. Скрыться же и начать нелегальное существование она не могла, потому что этим компрометировала бы всех, кто, подобно ей, был выпущен на поруки.
Перовская делала, что могла, чтобы и из этого мертвого времени извлечь возможно большую пользу. Желая подготовить себя к пропаганде среди крестьянства, к которой всегда чувствовала особенное влечение, она решилась изучить фельдшерство. С этою целью она отправилась в Тверскую губернию к одному знакомому врачу, у которого и пробыла на практике несколько месяцев. Вскоре, однако, она вернулась в Симферополь, убедившись в необходимости прослушать правильный теоретический курс фельдшерства, прежде чем приступить к практическому изучению его. Вообще Перовская ничего не могла делать на скорую руку, как-нибудь. Взявшись за самое маленькое дело, она исполняла его наилучшим образом. В фельдшерской школе своим усердием и добросовестностью ей удалось приобрести такое доверие врачей-руководителей, что они часто предоставляли ей практику, несмотря на то что она еще не кончила курса. Она была любимицей больных. Рассказывают, что в числе ее пациенток находилась одна страдавшая раком на груди старушка еврейка, к которой Перовская в течение нескольких месяцев ходила на перевязку. Своими заботами об этой больной, своей постоянно доброй улыбкой она внушила ей такую любовь к себе, что та уверяла, будто при одном ее виде ей делается уже гораздо лучше.
Зимою 1877 года начался, наконец, так давно ожидаемый «процесс 193-х», в котором вместе с Перовской были замешаны почти все члены кружка чайковцев.
Не излишне, быть может, отметить здесь некоторые подробности этого первого появления ее перед публикою, так как они прекрасно характеризуют Перовскую.
Не желая быть игрушкой в руках правительства, которое составляло приговоры еще до начала судебного разбирательства, все почти обвиняемые по этому делу согласились между собой протестовать против такой судебной комедии отказом принимать какое бы то ни было участие в ней. После этого-то общего протеста правительство и решило, во-первых, изгнать публику, поддерживавшую своим присутствием подсудимых, и, во-вторых, разбить последних на семнадцать групп, которые вводились бы по очереди, в надежде, отчасти оправдавшейся, ослабить таким образом силу их сопротивления.
Перовская попала в первую группу и, как единственный член ее, находящийся на свободе, на другой день утром была введена в залу заседания первою. Она не успела, разумеется, снестись с товарищами и не имела никакого понятия, находят ли они нужным, целесообразным и, главное, возможным даже в одиночку продолжать протест в той же форме, как было решено накануне. Ей приходилось, стало быть, начинать дело на свой страх, рискуя, если протест ее окажется единичным, навлечь на себя очень тяжкую кару, между тем как теперь, в качестве выпущенной на поруки до суда, она не могла ожидать для себя ничего серьезного.
Положение Перовской было очень затруднительно, но чувство товарищества подсказало выход: видя себя совершенно одинокой, после первых минут замешательства она заявила, что не желает принимать какого бы то ни было участия в судебном разбирательстве, так как не видит в зале тех, с которыми она разделяет все убеждения и с которыми желает разделить и участь.
Перовская была оправдана. Но, зная очень хорошо, какую цену имеют у нас подобные оправдания, она заблагорассудила скрыться, и с этого времени начинается ее нелегальное существование.
Впрочем, с лишком год она по-прежнему остается совершенно в стороне от кипучего революционного потока, потому что вся сосредоточивается на одном деле: попытке освободить своих товарищей, осужденных на заключение в центральной тюрьме. Для нее эти люди были не только представителями дорогих ей идей — это были друзья, в которых она вкладывала лучшую часть себя самой, друзья, какие бывают только в революционных кружках, поглощающих человека целиком, со всеми его чувствами и симпатиями, страстями и помышлениями, где чувство дружбы, являясь живым воплощением не только нежности сердца, но и высших идейных начал, достигает такой силы и глубины, что далеко оставляет за собою узы самого близкого родства.
Не удивительна поэтому та страстность, с какой Перовская, человек кружка по преимуществу, отдалась делу освобождения так называемых «централочных».
Сперва выбор ее, как и всех друзей, останавливается на Мышкине[79], могучем ораторе и герое «процесса 193-х». Устраивается наблюдение за крепостью и дорогой; организуются отряды с целью отбить его на пути. Но потому ли, что полиция проведала о задуманном деле, или, вернее, потому, что догадалась о нем, так как толки о необходимости освобождения Мышкина после его речи сами собой возникали повсюду, — как бы то ни было, правительство приняло некоторые предосторожности, произвело несколько фальшивых маневров, и революционеры дали себя обмануть. Они просмотрели отправку Мышкина и узнали о ней только тогда, когда он был уже в центральной тюрьме.
Трудно описать, что сделалось с Соней после этой неудачи. Попавшегося ей на глаза в этот день участника она ни за что разругала самым несправедливым образом и, успокоившись, просто застыла на мысли непременно, во что бы то ни стало освободить других. Ходила она злая-презлая и только за своей больной (у нее на попечении была беременная г-жа С., страшно слабая и едва не умершая) ухаживала так же ласково и внимательно, как всегда.
Решено было освободить кого-нибудь из четырех других «централочных» во время следования на почтовых из Харькова до тюрьмы: Рогачева, Ковалика[80], Войнаральского или Муравского — кого удастся проследить. Первый и второй были пропущены. Войнаральского удалось захватить. Повозка с арестантом, сопровождаемым двумя жандармами, была остановлена Б-м, переодетым офицером[81], едущим из Харькова в собственной кибитке. Двое его спутников-верховых подъехали к перекладной. Неожиданный выстрел из револьвера положил одного из жандармов; но в ту же минуту испуганные пальбою кони понеслись во весь опор. Верховые поскакали за ними, продолжая стрелять на ходу в оставшегося жандарма и лошадей. Бричка мчалась следом. Но ни один из девяти выстрелов не попал в жандарма, и хотя несколько пуль засело в теле лошадей, но они только бешенее неслись вперед. Почти до самой станции гнались наши, презирая опасность, и остановились, только когда все заряды револьверов были выпущены и их дрянные клячи окончательно выбились из сил.
Жандарм с арестантом ускакали. Причина неудачи заключалась в том, что стрельбу начали, не вырвав у ямщика вожжей или не подрезав постромок. Но ошибку эту, не предусмотренную к тому же раньше, исполнители этого дела искупили своей последующей храбростью, чуть не стоившей им головы. Несколько минут спустя со станции выехала повозка с шестью жандармами, возвращавшимися из белгородской тюрьмы после доставки туда предыдущих арестантов. Погонись наши еще полверсты, они погибли бы все неминуемо.
Но Перовская была беспощадна: она осыпала жестокими упреками своих и без того убитых товарищей, называя это дело «постыдным и позорным для революции». Никаких оправданий не хотела она признать: «Зачем давали промахи?.. Зачем не гнались дальше?»
Однако нужно было уезжать из Харькова как можно скорей, потому что благодаря возвращавшейся повозке с жандармами полиция проследила наших по горячим следам. Не имея возможности сняться разом в тот же день, заговорщики уехали двумя партиями. Первая, большая, оставила город без всяких задержек; но когда, два или три дня спустя, на вокзал явилась вторая, состоявшая из трех человек, все входы были уже заняты разными служителями с постоялого двора и брошенных ими квартир. По указанию одного из них был арестован Фомин[82]. Двум другим, оставшимся неузнанными, удалось уехать благополучно. Что же касается Перовской, то, невзирая на жестокие полицейские розыски, она решилась не уезжать вовсе, уверяя, что ничего опасного нет и что надо продолжать дело.
Вообще следует сказать, что в делах Перовская решительно не берегла себя. Эта маленькая, грациозная, вечно смеющаяся девушка удивляла своим бесстрашием самых смелых мужчин. Природа, казалось, лишила ее способности чувствовать страх, и потому она просто не замечала опасности там, где ее видели другие. Чтобы показать, до какой степени она бывала неосторожна, достаточно сказать, что, например, после московского взрыва, желая поскорее узнать о его результатах, она замешалась в толпу железнодорожных рабочих, теснившихся вокруг мины, находившейся, как известно, у самого Сухоруковского дома[83]. Впрочем, Перовская никогда не признавала себя неосторожной. К счастью, необыкновенная находчивость выручала ее из самых, по-видимому, отчаянных положений. Особенно хороша она была в подобных случаях в ролях простых женщин — баб, мещанок, горничных, которые очень любила и в которых доходила до виртуозности.
Примеров ее чрезвычайной ловкости можно насчитать множество. Мы приводим два из них, забегая, однако, немного вперед. Они относятся к интересному периоду ее участия в московском подкопе и не вошли в печатавшиеся об этом деле отчеты.
Однажды купец-сосед зашел к Сухорукову по делу о закладе дома. Хозяина не оказалось на ту пору. Перовской очень не хотелось допустить нежданного посетителя до осмотра дома, и во всяком случае нужно было оттянуть время, чтобы дать товарищам возможность убрать все подозрительное.
Она внимательно выслушала купца и переспросила. Тот повторил. Перовская с самым наивным видом опять переспрашивает. Купец старается объяснить как можно вразумительнее, но бестолковая хозяйка с недоумением отвечает:
— Уж и не знаю! Ужо как скажет Михайло Иваныч.
Купец опять силится объяснить. А Перовская все твердит:
— Да вот Михайло Иваныч придет. Я уж не знаю!
Долго шли у них эти объяснения. Несколько товарищей, спрятанных в каморке за тонкой перегородкой и смотревших сквозь щели на всю эту сцену, просто душились от подавленного смеха: до такой степени естественно играла она роль дуры мещанки. Даже ручки на животике сложила по-мещански.
Купец махнул наконец рукой:
— Нет уж, матушка, я уж лучше после зайду!
Он действительно махнул рукой и ушел, к великому удовольствию Перовской.
В другой раз где-то в двух шагах случился пожар. Сбежались соседи выносить вещи. Разумеется, войди они в дом, все бы погибло. А между тем какая возможность не пустить? Однако Перовская нашлась: она схватила икону, выбежала на двор и со словами: «Не трогайте, не трогайте, божья воля!» стала против огня и простояла, пока не был потушен пожар, не впустив никого в дом под предлогом, что от божьей кары следует защищаться молитвой.
Недели три после неудачной попытки к освобождению Войнаральского случилось маленькое приключение, оторвавшее на минуту Перовскую от дорогого ей дела. Полагаясь на оправдательный приговор или — скорее — на нерасторопность полиции, она заехала в Крым, в Приморское, повидаться с матерью; но почти тотчас она была арестована и отправлена административным порядком в Повенец в сопровождении двух жандармов. Но теперь ее не стесняло уже никакое нравственное обязательство, как было перед процессом, и потому она решилась бежать, воспользовавшись первым удобным случаем, и действительно бежала, сама, без всякой посторонней помощи, не предупредив даже никого из своих. И, прежде чем распространилась весть о ее побеге, она как ни в чем не бывало явилась в Петербург, рассказывая со смехом подробности этой своей проделки — простой, невинной и почти грациозной, составляющей такой же контраст с трагическими событиями ее жизни, как веселенький горный цветок среди диких и угрюмых утесов швейцарского Diableret. Она попросту воспользовалась избытком предосторожностей, употребляемых сторожившими ее жандармами, которые, не спуская с нее глаз днем, ночью легли спать в одной с ней комнате, один — у окна, другой — у двери. В своем рвении они не обратили, однако, внимания, что дверь отворяется не вовнутрь, а наружу, так что, когда жандармы захрапели, Перовская тихонько отворила дверь, не обеспокоив своего цербера, и, спокойно перешагнув через него, незаметно выскользнула из вокзала. Прождав несколько времени в роще, она села в первый ночной поезд, не взяв билета, чтобы жандармы не могли справиться о ней у кассира. Притворившись бестолковой деревенской бабой, не знающей никаких порядков, она, не возбудив ни малейшего подозрения, получила от кондуктора билет и преспокойно доехала до Петербурга, тем временем как в Чудове проснувшиеся жандармы метались как угорелые, отыскивая ее повсюду.
Как интересную для характеристики С. Перовской подробность упомянем, что, несмотря на твердое решение бежать, она долго не приводила своего намерения в исполнение, пропуская очень удобные случаи, потому что во всю дорогу от самого Симферополя ей, как нарочно, попадались жандармы, что называется, «добрые», предоставлявшие ей всякую свободу, и она не хотела их «подводить». Только под самым почти Петербургом, к счастью для русской революции, ей попались чистокровные церберы.
В Петербурге Перовская пробыла, однако, очень недолго. Все предыдущие неудачи не только не сломили, но, казалось, даже усилили в ней жажду осуществить свой заветный план освобождения. Она едет снова в Харьков и, несмотря на опасность своего положения в этом городе, приступает к самой деятельной работе. Теперь она замышляет уже произвести массовое освобождение — если не всех, то по крайней мере значительной части заключенных. Дело было неимоверно трудное и затруднялось для нее еще ее нелегальным положением. Перовская преодолела, однако, первые препятствия и подготовила очень многое: ей удалось подыскать людей, устроить наблюдение за центральной тюрьмой и завести сношения с заключенными. Относящиеся к этому периоду письма, которые она писала в Петербург, дышат верой в возможность осуществления ее плана. Она просила только поддержки — людьми и деньгами. Деньги посылались в достаточном количестве, но в людях почти всегда приходилось отказывать по множеству других дел. Таким образом, главную массу работы Перовской приходилось нести на своих плечах. Сверх разнообразных конспирационных работ по своему предприятию она взяла на себя столь хлопотливое дело снабжения заключенных провизией, книгами, платьем и исполняла это с обычной своей добросовестностью и усердием: одна ее приятельница рассказывает, как по нескольку дней расхаживала она по магазинам, прежде чем купить ту или другую вещь для «централочных», объясняя, что, мол, те чулки или фуфайки кажутся ей недостаточно прочными или теплыми. Все эти занятия не помешали ей поступить под фальшивым паспортом на акушерские курсы, пройти их в 8 месяцев до конца, отлично выдержать экзамен и получить диплом — все с целью устроиться когда-нибудь в деревне для пропаганды среди крестьянства. При всем том у нее хватало еще времени на обширную пропаганду среди молодежи, где она имела массу знакомств и организовала местный кружок, просуществовавший более двух лет.
Возможность такой необыкновенной разносторонности объясняется самым характером С. Перовской: в революционную деятельность она вносила ту же серьезную деловитость, которую вносит в свои дела английский банкир, создавший поговорку «time is money»[84]. Она не была дилетантом или артистом революции, а именно ее работником, дельцом. Вскормленная и вспоенная, можно сказать, на лоне «дела», она прониклась им вся, вполне, и потому всему прочему почти не отдавала ни мыслей, ни времени. Редкая минута пропадала у нее даром. Если она приходила к кому-нибудь, то не иначе как по какому-нибудь делу или в виду будущего дела. Посидев сколько нужно, она уходила, не тратя никогда часов и вечеров для одного только удовольствия быть в обществе приятных людей. Впрочем, деловитость никогда не переходила у Перовской в деревянность, в казенную сухость в ее отношениях к людям. Напротив, она очень любила и людей и общество, но только «дело» она любила еще больше. Приятельская болтовня, после некоторой весьма умеренной дозы, становилась ей скучной, и без малейшей тени рахметовской угловатости, с такой же простотой и естественностью, с какой болтала и шутила сама, она уходила и мчалась куда-нибудь на другой конец города своей быстрой ровной походкой неутомимого скорохода, засунув руки в рукава пальто или маленькую муфточку, наклонив немного вперед свою гладко причесанную русую головку и не поднимая глаз с земли, серьезная, сосредоточенная и слегка насупленная, точно и дорогою она продолжала думать о «делах», чтобы не тратить понапрасну времени. И подобный образ жизни она могла вести без малейшего утомления месяц за месяцем, год за годом, потому что она следовала влечению собственной натуры, не насилуя себя ни в ту, ни в другую сторону.
Однако, даже при ее энергии, ее способностях и упрямстве, не было никакой возможности довести до конца колоссального дела, задуманного ею. Мало-помалу организация «Земли и воли» совершенно перестала поддерживать ее. Борьба с правительством, разгоравшаяся все более и более, поглощала все наличные силы. Перовская делала все возможное и невозможное, чтобы привлечь кое-кого к своему предприятию. Но месяца два спустя после Мезенцовского дела общество «Земля и воля» должно было вынести жесточайший погром[85]: наиболее деятельные из членов были арестованы, связи подорваны, а с ними сокращены и денежные средства. Оставшимся на свободе приходилось работать за четверых, чтобы только сохранить целость организации. При таких условиях нечего было и думать о попытке освободить «централочных». Перовская поняла это. На вид спокойная и даже не особенно грустная, по ночам она рыдала, уткнувшись головой в подушки: ей приходилось бросать на произвол судьбы своих несчастных товарищей и друзей, которых она так безгранично любила, бросать навсегда, безвозвратно, потому что она видела ясно, что невозможное теперь сделается потом еще более невозможным.
В конце 1878 года Перовская приехала в Петербург, и только с этого времени начинается ее деятельное участие в движении. Но когда после такого долгого отсутствия она снова явилась на поле битвы, все здесь переменилось: люди, тенденции, способы действия. Без нее, без ее ведома назрело новое направление, оформившееся впоследствии окончательно в «Народной воле». Политическая революция, признаваемая бесплодной и бесполезной старым революционным поколением, была провозглашена теперь необходимой ступенью к революции социальной.
Долго колебалась Перовская, прежде чем примкнуть к этому направлению, отодвигавшему на второй план чисто социалистическую деятельность. Народовольцам, желавшим, разумеется, привлечь на свою сторону такую силу, пришлось сломать немало копий в диспутах с ней.
— Ничего с этой бабой не поделаешь! — не раз восклицал Желябов.
Но нет ничего беспощаднее факта, и ни пред чем не склонявшаяся Перовская должна была положить оружие. Она примкнула наконец к новому направлению, так как действительно оно было единственное фактически возможное при условиях, созданных правительством. А раз примкнувши, она отдалась ему всецело, без оглядки, как все цельные натуры, и именно в могучей борьбе с самодержавием и обнаружила во всем блеске свои дарования и энергию.
Не станем излагать истории деятельности Перовской за последние два года ее жизни: при ее уменье работать это доступно лишь для обширной биографии, а не для краткого очерка.
Она принимает деятельное участие почти во всех выплывших наружу покушениях и во многих других, оставшихся неизвестными, и она была самым полезным человеком во всех организационных работах, потому что при своем холодном, проницательном уме умела предвидеть, оценить и взвесить самые ничтожные мелочи, от которых часто зависит успех или неуспех предприятий наиболее грандиозных. Она же была членом кружка, руководившего с редким у нас успехом рабочим делом в Петербурге. Не довольствуясь собственной кипучей деятельностью, она организовала вспомогательные группы для частных функций. Она заводила обширные связи с молодежью и после своих чисто конспирационных работ наибольшую часть времени посвящала деятельности именно в этой среде, откуда революция до сих пор черпает свои главные силы.
Перовская горячо любила эту среду; и едва ли можно указать в нашей партии человека, деятельность которого здесь была бы до такой степени плодотворна. Она завоевывала себе все симпатии молодежи своей простотой, отсутствием какого бы то ни было желания рисоваться и импонировать своим прошлым; она очаровывала ее своим умом, покоряла непреодолимо убедительной речью и, главное, умела одушевить, увлечь собственной заразительной преданностью делу, сквозившею из всего ее существа. Любовь и энтузиазм к ней во всех кружках, где ей приходилось действовать достаточно долго, — в Харькове, Петербурге, Симферополе, — переходили в настоящий культ. Влияние ее на молодые души было неизгладимо именно потому, что она своей личностью действовала на самые глубокие нравственные стороны человеческой натуры.
Вследствие такой долгой жизни в революционном мире она научилась отлично узнавать и выбирать людей и умела управлять ими, как немногие. Вообще мало кто ввел в революционную партию такую массу свежих, здоровых и надежных сил, как С. Перовская.
Однако этими частными трудами не исчерпываются услуги, оказанные Перовской революционному делу. Рядом с ними следует поставить массу мелких, неуловимых, ежедневных, можно сказать ежечасных, услуг, которые ускользают и от историка и от биографа.
По натуре своей она принадлежала к числу тех людей, приобретение которых всего драгоценнее для каких бы то ни было организаций, и Желябов, знавший толк в людях, недаром был в «необычайной радости», когда сообщал своим противникам — чернопередельцам — о том, что Софья Львовна формально присоединилась наконец к организации «Народной воли».
Различны и многообразны типы людей, которых должна иметь в своих недрах живая, воинствующая революционная партия, чтобы быстро и неуклонно шествовать по своему тернистому пути. Ей нужны мыслители, которые умели бы угадать потребности минуты, понять негодность старых путей и вовремя указать новые; ей нужны поэты и пророки, которые в трудные годины испытаний и сомнений сумели бы влить в души товарищей свою вдохновенную веру в будущее партии и в самих себя; ей нужны воины, которые рвались бы к бою из любви к бою, нейтрализуя влияние скептиков и медлителей; ей нужны агитаторы, ораторы, финансисты.
Но все это частные функции, которые могут быть соединены в гармоническое целое только под условием присутствия в организации людей совершенно особого типа, которых можно назвать людьми революционного долга, организационной дисциплины и исполнительности. Благодаря им-то ведется хорошо, правильно и аккуратно скучная повседневная революционная работа, от которой, в сущности, зависит успех исключительных, блестящих деяний, подобно тому как от темных физиологических процессов зависят факты высшего проявления человеческого духа или от ничтожных, чисто матерьяльных вопросов продовольствия и экипировки армии — участь великих сражений. Эти-то суровые, сварливые цензоры блюдут за хранением революционной тайны, составляющей две трети успеха в конспирационных делах; топча без всякой пощады самые нежные сердечные струны своих товарищей, они-то не дают организации расплыться в окружающем революционном мире, сохраняя ее цельным, резко обособленным, крепким и живым организмом, способным развить до максимальной величины и свою силу нападения, и силу сопротивления ударам врагов. Отнимите этих людей, и самая лучшая организация распадется, превратится в груду развалин, в бесформенную массу, как здание, в котором вода внезапно растворила весь цемент, или как тело, из которого вдруг вынут весь костный остов.
Не удивительны поэтому примеры, что люди такого типа приобретают в организациях огромное значение и влияние, не будучи даже одарены ни особенными талантами, ни выдающимся умом. Если же природа наделила их тем и другим, то из них-то выходят основатели кружков и организаций, нравственные диктаторы, имена которых передаются от одного революционного поколения к другому много лет спустя после того, как и они сами, и основанные ими организации сошли с исторической сцены.
Софья Перовская принадлежала к числу наиболее цельных и ярких представителей этого типа революционных деятелей. Трудно было найти человека более дисциплинированного, но вместе с тем более строгого. Во всем касающемся дела она была требовательна до жестокости, и о ней говорили недаром, что она способна довести человека до самоубийства за малейший промах. Но, строгая к другим, она была еще строже к себе самой. Чувство долга было самой выдающейся чертой ее характера. Она культивировала в себе эту суровую добродетель, точно желая вытеснить ею все прочие стороны своей натуры, казавшиеся ей вылитыми из слишком непрочного металла. И действительно, при своей железной воле она сумела выработать из себя истинного стоика, способного выносить, не согнувшись, самые ужасные удары судьбы. Никогда никто не слыхал от нее ни одной жалобы, ни одного стона. Она все умела таить в себе, подавляя нравственную боль, презирая физические страдания. Больная, едва держащаяся на ногах, с адом в душе, потому что накануне погиб человек, бывший ее великой, первой и единственной любовью, она твердо берет в свои руки руководство делом 1 Марта и без минуты слабости ведет его до конца. Узнав о близкой, неминучей, ничем не отвратимой казни дорогого человека, она ни на мгновение не оставляет строя: она рыскает по городу, имея по семи свиданий в день; спокойная и бодрая, она ведет по-прежнему дела, и никому из видевших ее в эти ужасные дни не приходит в голову, какая бесконечная мука таится в ее груди.
И, однако, под стоически спокойной внешностью в этой героической натуре скрывалась другая сторона, которая лишь изредка, как молния на темном грозовом небе, прорывалась сквозь одевавшее ее спокойствие, но которая одна давала такую мощь ее слову и такую силу ее руке.
Дух ее был настолько же могуч, как и ум. Ужасная работа непрерывной конспирации при русских условиях, эта работа, истощающая, сожигающая, как на адском огне, самые сильные темпераменты, потому что беспощадный бог Революции требует в жертву не жизнь, не кровь своих служителей — о, если бы он требовал только этого! — а лучший сок их нервов и мозга, душу их души: энтузиазм, веру — иначе он отвергает, отталкивает их презрительно, безжалостно, — эта ужасная работа не могла надломить душу Софьи Перовской.
В течение одиннадцати лет стоит она на бреши, присутствуя при огромных потерях и огромных разочарованиях, и все-таки вновь и вновь бросается она в самую жестокую сечу. Она сумела сохранить в груди нетронутою искру божественного огня. Ее стоицизм и суровый культ долга были лишь мантией, делавшей ее похожей на античных героев, а не мрачным и унылым саваном, под которым благородные и несчастные души хоронят свои разбитые верования и надежды. Несмотря на весь свой стоицизм, несмотря на видимую холодность, в глубине души она остается вдохновенной жрицей, потому что под ее сверкающей стальной броней все же билось сердце женщины. А женщины, должно сознаться в этом, много-много богаче мужчин этим божественным даром. Вот почему им прежде всего обязано русское революционное движение своим почти религиозным пылом; вот почему, пока в нем останутся женщины, оно будет непобедимым.
Софья Перовская была не только руководителем и организатором; она первая шла в огонь, жаждая наиболее опасных постов. Это-то и давало ей, быть может, такую власть над сердцами. Когда, устремив на человека свой пытливый взгляд, проникавший, казалось, в самую глубину души, она говорила со своим серьезным видом: «Пойдем!» — кто мог ответить ей: «Не пойду»?.. Она сама шла с увлечением, с энтузиазмом крестоносца, идущего на завоевание гроба господня. С бою отнимает она место хозяйки дома в московском подкопе у другой женщины-бойца, Якимовой, требовавшей, чтобы оно было дано ей. Лишь после долгого сопротивления соглашается она уступить место хозяйки сыроварни в подкопе на Садовой[86]. Когда в московском покушении участники решают оставить ее в доме, чтобы следить за прибытием императорского поезда и дать сигнал к взрыву, прощаясь со своими товарищами по работе, покидавшими роковой дом, она говорит наедине одному из них, что «счастлива, очень счастлива», что это поручение выпало на ее долю.
Что же касается до решительности и хладнокровия в исполнении, то трудно, а может быть, и невозможно найти слова достаточно сильные, чтобы выразить их. Довольно вспомнить, что в московском покушении все шесть или восемь мужчин-рабочих, которые, конечно, не были первыми встречными, поручили именно Перовской воспламенить выстрелом из револьвера бутылку с нитроглицерином, чтобы взорвать все и всех, в случае если бы полиция явилась их арестовывать.
Не будем говорить о ее роли в деле 1 Марта, потому что это значило бы повторять то, что всем известно.
Приведем, однако, одну подробность, о которой не могли знать газеты. Решения Исполнительного комитета относительно предстоящего покушения должны были по необходимости ограничиться самыми общими чертами.
Следует при этом заметить, что, ввиду недостаточного исследования недавно изобретенных бомб Кибальчича, метальщиков решено было употребить лишь в виде резерва на случай неудачи взрыва на Садовой — и только в крайнем случае отдельно.
Подробности применения этого плана были предоставлены Перовской, и когда, стоя на своем посту, она узнала, что царь направился новой дорогой, она поняла, что этот крайний случай наступил, и уже по собственной инициативе, как опытный полководец, по глазомеру переменила перед лицом неприятеля фронт, выбрала новую позицию и быстро заняла ее своим резервом метальщиками. Этому-то решительному маневру и обязаны революционеры своей грозной победой.
Императорский прокурор, желая показать бессилие Исполнительного комитета, сказал, что лучшим доказательством тому может служить поручение руководства предприятием такой важности слабой руке женщины. Исполнительный комитет, очевидно, понимал лучше, с кем имеет дело, и Перовская доказала, что он не ошибся.
Она была арестована неделю спустя после дела на Екатерининском канале, потому что ни за что не хотела покинуть столицу…
Спокойная и серьезная, без малейшей тени рисовки, предстала она пред судом, не думая ни об оправдании, ни о самовосхвалении, — простая и скромная, как жила, возбудив удивление даже врагов.
В краткой речи она просила только не отделять ее как женщину от прочих ее товарищей по делу; и просьба эта была исполнена…
Шесть бесконечных дней казнь все откладывалась и откладывалась, хотя законный срок для кассации и просьб о помиловании назначен всего в три дня.
Какова была причина этого непонятного промедления? Что делалось в это время с осужденными?
Никому не известно.
Слухи самые зловещие упорно носились по городу. Уверяли, что по-азиатски хитрому совету Лорис-Меликова осужденные были подвергнуты пытке с целью вырвать у них признания — не до суда, а после него, потому что тогда никто уже больше не мог услышать их голоса.
Были ли то пустые выдумки или чьи-нибудь нескромные разоблачения?
Никому не известно.
Не имея прямых и положительных свидетельств, мы не хотим возводить подобных обвинений даже против наших врагов. Есть, однако, один несомненный факт, значительно усиливающий правдоподобность этих упорных слухов: голос осужденных действительно никем более услышан не был.
Посещения родных, которые по исконному гуманному обычаю дозволяются всем ожидающим смерти, упорно запрещались осужденным, неизвестно, по какой причине и с какою целью. Правительство не постыдилось даже прибегнуть к недостойным уловкам, чтобы избавиться от докучливых просителей.
Мать Софьи Перовской, обожавшая дочь, примчалась из Крыма по первому известию об ее аресте. Она видит ее в последний раз в день приговора. Все остальные пять дней под тем или другим предлогом ее каждый раз отсылали из Дома предварительного заключения. Наконец ей сказали, что она может видеть дочь утром 2 апреля.
Она пришла; но в ту минуту, когда она подходила к тюрьме, ворота распахнулись, и она действительно увидела дочь, — но уже на роковой колеснице…
То был мрачный поезд осужденных к месту казни.
Не стану описывать отвратительных подробностей этой бойни…
«Я присутствовал, — говорит корреспондент Kolnische Zeitung[87], — на дюжине казней на Востоке, но никогда не видал подобной живодерни[88]».
Все осужденные умерли мужественно.
«Кибальчич и Желябов очень спокойны. Тимофей Михайлов[89] бледен, но тверд. Лицо Рысакова[90] мертвенно-бледно. Софья Перовская выказывает поразительную силу духа. Щеки ее сохраняют даже розовый цвет, а лицо ее, неизменно серьезное, без малейшего следа чего-нибудь напускного, полно истинного мужества и безграничного самоотвержения. Взгляд ее ясен и спокоен; в нем нет и тени рисовки…»
Все это говорит не революционер, даже не радикал, а корреспондент той же Kolnische Zeitung (16 апреля 1881 г.), которого никак нельзя заподозрить в избытке симпатий к русским «нигилистам».
В девять часов с четвертью Софья Перовская была уже трупом…
Прилагаем как драгоценный документ единственное дошедшее до нас письмо С. Перовской к матери, писанное накануне приговора с целью приготовить ее по возможности к ужасному удару.
Вся Перовская со своей чистой и великой душой отражается в нем. Не будем же портить его комментариями.
«Дорогая моя, неоцененная мамуля!
Меня все давит и мучает мысль, что с тобой. Дорогая моя, умоляю тебя, успокойся, не мучь себя из-за меня, побереги себя ради всех окружающих тебя и ради меня также. Я о своей участи нисколько не горюю, совершенно спокойно встречаю ее, так как давно знала и ожидала, что рано или поздно, а так будет. И право же, милая моя мамуля, она вовсе не такая мрачная. Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения; поступать же против них я была не в состоянии; поэтому со спокойной совестью ожидаю все, предстоящее мне. И единственно, что тяжелым гнетом лежит на мне, это твое горе, моя неоцененная; это одно меня терзает, и я не знаю, что бы я дала, чтобы облегчить его. Голубонька моя, мамочка, вспомни, что около тебя есть еще громадная семья, и малые и большие, для которых для всех ты нужна, как великая своей нравственной силой. Я всегда от души сожалела, что не могу дойти до той нравственной высоты, на которой ты стоишь; но во всякие минуты колебания твой образ меня всегда поддерживал. В своей глубокой привязанности к тебе я не стану уверять, так как ты знаешь, что с самого детства ты была всегда моею самой постоянной и высокой любовью. Беспокойство о тебе было для меня всегда самым большим горем. Я надеюсь, родная моя, что ты успокоишься, простишь хоть частью все то горе, что я тебе причиняю, и не станешь меня сильно бранить: твой упрек единственно для меня тягостный.
Мысленно крепко и крепко целую твои ручки и на коленях умоляю не сердиться на меня. Мой горячий привет всем родным. Вот и просьба к тебе есть, дорогая мамуля: купи мне воротничок и рукавчики с пуговками, потому запонок не позволяют носить, и воротничок поуже, а то нужно для суда хоть несколько поправить свой костюм: тут он очень расстроился. До свидания же, моя дорогая, опять повторяю свою просьбу: не терзай и не мучай себя из-за меня; моя участь вовсе не такая плачевная, и тебе из-за меня горевать не стоит.
Твоя Соня.
22 марта 1881 г.»
ОЧЕРКИ ИЗ ЖИЗНИ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
Московский подкоп
На одной из окраин первопрестольной русской столицы, там, где этот полуазиатский город, не уступающий по величине древнему Вавилону или Ниневии, побежденный наконец пространством, сливается с огоpoдами, садами и пустырями, которые со всех сторон облегают Москву, — в этой почти уже сельской части города стоит или, по крайней мере, когда-то стоял ветхий одноэтажный домик с мезонином, почерневший от времени и полуразрушенный. Однако, хотя мы и в столице, это убогое обиталище не поражает контрастом с окружающими строениями. Большинство соседних домов имеют такой же жалкий и дряхлый вид, и весь этот квартал похож скорее на деревушку, затерявшуюся где-нибудь среди безбрежных русских полей, чем на предместье одной из обширнейших столиц Европы. Летом трава растет на его широких улицах, похожих скорее на площади, где свободно могли бы маневрировать целые эскадроны кавалерии, а осенью, во время дождей, эти улицы превращаются сплошь в болота и озера, в которых мирно плещутся стаи домашних гусей и уток.
Тишина здесь мертвая. Движения никакого. Редко-редко по дощатому тротуару раздаются шаги одинокого пешехода, и, если он не принадлежит к местным обывателям, кучка ребятишек непременно повылезает из подворотен и долго будет глазеть ему вслед. Если же в кои-то веки сюда случится заехать какому-нибудь захудалому «ваньке», то все эти зеленые, голубые, красные рамы поспешно открываются и из окон высовываются головы любопытных баб и девушек, которые никак не могут пропустить такого необыкновенного зрелища.
Все обитатели этого укромного уголка знают друг друга, ибо все они тут родились, тут же и выросли. Народ они простой, патриархальный, ничего не знающий и не ведающий о современной культуре. Почти все это староверы, потомки тех, которые двести лет тому назад восстали против Никоновых новшеств и терпели и кнут, и дыбу, и костры, и Сибирь за двуперстный крест и сугубое аллилуйя.
Но, невзирая на страшные преследования, раскол разлился, как известно, широким потоком по всей России и прочно засел в первопрестольной. Преображенская и Рогожская части, получившие свое название от двух раскольничьих «кладбищ», могут быть названы столицами староверов, где тайно проживают их священники и епископы и собираются их «вселенские» соборы.
Правда, суета мирская начинает проникать даже в эти последние убежища древнего благочестия. В праздники по вечерам, когда стар и мал высыпает на улицу и старики располагаются, по восточному обычаю, на завалинках своих домиков поболтать час-другой с соседями, теперь уже не редкость встретить молодого щеголя-фабричного с гармоникой вместо стародедовской балалайки в руках и в жакетке с блестящими пуговицами, сменившей старинный длиннополый кафтан, не говоря о сапогах с высокими каблуками, строго запрещенными правоверным, как немецкие выдумки.
Ходят даже слухи, что некоторые из них покуривают тайком, не страшась, таким образом, уподобиться самому дьяволу, который всегда изображается в житиях святых с клубами дыма, выходящими из его нечистого рта. Старики печально покачивают головами, вздыхают и говорят, что приближается конец мира, ибо оскудело древнее благочестие.
Впрочем, хозяева домика с мезонином, о котором мы упомянули выше, не принадлежат к коренным обитателям этого патриархального уголка. Они поселились здесь очень недавно, но уже успели приобрести расположение соседей, как люди добрые, простые, богобоязненные.
Семья состоит пока только из мужа с женой, но они ожидают со дня на день приезда стариков-родных.
Жена еще очень молодая женщина, но она прекрасная, домовитая хозяйка; муж, саратовский мещанин лет тридцати двух-трех, тоже человек хороший и для своего возраста очень основательный. По-видимому, он также раскольник: табаку не курит, не бреется, знает грамоту. Правда, он носит сапоги с каблуками и сюртук немецкого покроя. Но это, быть может, только «страха ради иудейска» или, пожалуй, потому, что он принадлежит к какой-нибудь секте, допускающей подобные вольности.
Было одно обстоятельство, превращавшее это приятельское подозрение в совершенную уверенность.
Семья, как уже сказано, состояла всего из двух человек. Между тем не могло быть ни малейшего сомнения, что в доме жило много народу: провизия закупалась в таком количестве, что, как бы ни были ненасытны утробы богобоязненных супругов, сами они никоим образом не могли потреблять всего. К тому же старухам-соседкам случалось в бессонницу слышать скрип ворот и стук подъезжавших к загадочному домику извозчиков, привозивших, видно, кого-то издалека. Кто бы это мог быть? Наверное, «братья», таинственно сообщали друг другу старожилы. Никто из них, конечно, не обмолвится об этом словом в присутствии городового, стоящего на углу: он общий враг околотка, от которого все должно быть шито и крыто.
И благочестивые рогожане не ошибались, предполагая, что тут дело неспроста.
Дом действительно был занят целой компанией отшельников — минеров по профессии. Извозчики, подъезжавшие сюда по ночам, привозили с вокзала рабочих, динамит и орудия, необходимые для взрыва.
Из этого домика велся московский подкоп.
Подкоп под полотно Московско-Курской железной дороги для взрыва царского поезда, начатый около половины сентября 1879 года и оконченный в течение двух месяцев, был лишь частью обширного плана пятерного покушения, который предполагалось осуществить во время обратного путешествия Александра II из Крыма в Петербург (считая только предприятия, где употреблялся динамит).
Железная дорога на пути следования царя была минирована в трех пунктах — около Москвы, Александровска и около Одессы. Предполагалось, что царю на этот раз не ускользнуть. Однако он ускользнул благодаря стечению непредвиденных случайностей. Оба одесские подкопа — один под железной дорогой, другой в самом городе, на Итальянской улице, по которой царь должен был ехать в экипаже, пришлось бросить, так как он в Одессу вовсе не поехал. Около Александровска, где покушение было организовано под руководством Желябова и Окладского[91], взрыв не последовал вследствие каких-то недостатков в системе запалов. Хотя цепь была сомкнута в надлежащий момент, императорский поезд прошел благополучно над пропастью, на дно которой он неминуемо должен был скатиться при малейшем толчке. Два других покушения также потерпели неудачу. Попытка взорвать Каменный мост в Петербурге, организованная тем же Желябовым и Тетеркой[92], не удалась, потому что последний не вовремя явился на место; что же касается попытки взорвать императорскую яхту в Николаеве, предпринятой Логовенко[93], то она была открыта полицией заранее вследствие случайного обыска в той самой квартире, откуда была проведена проволока гальванической батареи, соединенной с миной.
Только в Москве удалось по крайней мере совершить покушение, хотя, казалось, здесь было всего меньше вероятия что-нибудь сделать.
Домишко, который удалось купить, отстоял от железнодорожной насыпи так далеко, что земляные работы были поистине египетские. Требовалась масса людей, которых скрывать было невероятно трудно ввиду усиленного полицейского надзора.
Не стану рассказывать подробностей предприятия: их можно найти в журналах и газетах того времени. Укажу лишь на две особенности, весьма характерные не только для данного случая, но и вообще для деятельности русских революционеров.
Многие думают, что русские революционеры располагают громадными денежными средствами. Это большая ошибка, и московское покушение служит тому лучшим доказательством. Террористическая борьба обходится так дорого, что нигилисты принуждены бегать высунув язык за каждой сторублевой бумажкой. Поэтому им приходится быть крайне экономными во всех своих предприятиях, хотя бы и на счет собственной безопасности.
Вся колоссальная работа по прорытию московского подкопа вместе с двумя другими железнодорожными покушениями, подготовлявшимися к тому же ноябрю, обошлась всего от 30 000 до 40 000 рублей, включая сюда и разъезды. Другие, менее крупные, предприятия стоили еще дешевле. Попытка освобождения Войнаральского, одного из осужденных по «процессу 193-х», во время его препровождения из Петербурга в Харьковскую централку, была нелегким делом. Пришлось купить пять лошадей, телегу, оружие; нужно было содержать множество людей в Петербурге, Москве, Курске и Харькове, чтоб следить за движениями полиции. Тем не менее это предприятие, на основании точнейших отчетов, доставленных организации лицами, которым оно было поручено, обошлось в 4500 рублей с чем-то. Стараясь сокращать по возможности расходы, террористы часто должны затыкать, так сказать, собственной шкурой трещины и прорехи, являющиеся результатом излишней экономии. Так, в Москве к концу работ не хватило денег, и потому пришлось делать заем под залог того самого дома, из которого рылся подкоп. Но при закладе недвижимости всегда происходит осмотр и оценка закладываемого имущества, причем неизменно присутствуют чины полиции. Предоставляем каждому судить об опасности подобной финансовой операции.
В расходах по производству работ экономия доводилась до последней крайности. Сверлильную машину, например, приобрели только в самое последнее время, когда уже люди дошли до полного изнеможения. Вначале же все делалось простыми лопатами. А между тем вследствие непрерывных дождей минная галерея была всегда наполовину залита водой, которая просачивалась через верх и собиралась на дне. Приходилось копать, стоя на коленях в воде, а иногда лежа в пронизывающей до костей ледяной грязи. При этом ни у кого из рабочих не было непромокаемого водолазного костюма, который предохранил бы их от стольких страданий.
Для того чтобы вести подкоп в надлежащем направлении, употреблялись приборы и инструменты, с которыми не стал бы работать ни один сапер. Не было ни астролябии, ни компаса с квадрантом. Приходилось довольствоваться обыкновенным путевым компасом, употребляющимся для военных съемок.
При помощи этого-то примитивного инструмента удалось более или менее точно наметить главное направление подкопа, которое передавалось вовнутрь галереи при помощи простых самодельных отвесов.
Несмотря на все это, когда после взрыва подкоп был исследован инженерами, оказалось, что он был сделан очень хорошо. Люди брали усердием там, где не хватало орудий для работы; а бодрое настроение духа поддерживало силы.
Глубоко ошибется тот, кто станет воображать себе это страшное сборище таким, какими обыкновенно рисуют заговорщиков на сцене. Все собрания нигилистов отличаются необычайной простотой и полнейшим отсутствием той помпы, которая так не свойственна русскому характеру вообще, а нигилистам в особенности.
Даже в тех случаях, когда людям приходится рисковать головою или прямо нести ее на плаху, все у нас делается просто, без малейшей тени риторики. Никаких одушевляющих речей. К чему? Они вызвали бы разве что улыбку, как вещь совершенно неуместная. Публики при наших заседаниях нет. Рисоваться не перед кем. Собираются люди все свои, знающие друг друга вдоль и поперек. К чему же упражняться в красноречии? К чему тратить время на разглагольствования о том, что ясно как божий день? Изредка только какое-нибудь слово прозвучит горячим, страстным тоном или искра энтузиазма блеснет в чьем-нибудь взоре.
Не в меру красноречивые, ходульные герои, какими любят изображать «нигилистов» иностранные романисты, вызвали бы у нас не энтузиазм, как это им приписывается, а подозрение в своей искренности и серьезности: известно, что раз собака залает — она уже не укусит. Если бы на какой-нибудь из подобных сходок, где речь идет подчас о предприятиях самых ужасных, пришлось присутствовать человеку, не понимающему по-русски, он легко мог бы принять ее за мирное собрание, на котором люди спокойно и просто беседуют о безобиднейших вещах в мире.
Возвращаясь к московскому подкопу, вряд ли можно преувеличить опасность, грозившую обитателям рокового дома. По русским законам в случае покушения на жизнь царя все соучастники без различия степеней, вплоть до тех, кто только знал об этом и не донес, приговариваются к смертной казни. Смерть висела над головами всех, работавших в подкопе, и по временам они уже чувствовали ее холодное дыхание и видели, как она вот-вот готова настигнуть их. Всего за несколько дней до приезда императора полиция по какому-то ничтожному поводу посетила дом. Землекопов успели спрятать в подполье, так что околоточный нашел только хозяев; все оказалось в порядке и не вызвало никакого подозрения. А ведь достаточно было малейшего замешательства, одной дрожащей нотки в голосе, чтобы возбудить подозрение и повести к более тщательному обыску, который открыл бы все.
В других случаях, как это видно из отчета о «процессе 16-ти», приходилось отклонять любопытство богомольных соседей, что так искусно умела делать Перовская.
Все участники подкопа прекрасно знали, какая участь ждет их в случае открытия: в одном углу стояла бутылка с нитроглицерином, которая должна была быть взорвана в ту минуту, как полиция станет ломиться в двери.
Однако, невзирая на все опасности, самая искренняя веселость царила в страшном домике. За обедом, когда все сходились вместе, болтали и шутили как ни в чем не бывало. Чаще всех раздавался серебристый смех Софьи Перовской, хотя у нее-то в кармане лежал заряженный револьвер, которым она в случае необходимости должна была взорвать все и всех на воздух. Один из работников сочинил даже что-то вроде комической поэмы, в которой описываются в шутливом тоне все превратности и злоключения жизни в подкопе.
Два побега
Однажды вечером, в половине января 1880 года — точного дня не помню — несколько живших в Женеве русских эмигрантов собрались за стаканом чая у своего товарища Г.
Собрание было довольно многолюдно — человек в семь или восемь — и довольно веселое, что редко в эмигрантских собраниях. Красавица Ревекка Г., наша хозяйка, села за фортепьяно, на котором играла очень мило и выразительно, и спела несколько украинских песен. Все были возбуждены музыкой. Шутили, смеялись. Главным предметом разговоров было бегство из Сибири одного нашего товарища, о котором мы узнали как раз в этот день.
Когда были пересказаны все дошедшие до нас подробности этого побега и истощены все замечания, комментарии, догадки и предположения, наступила минута того мертвого, тупого молчания, когда в России говорят: «Дурак народился» или «Тихий ангел пролетел», — смотря по вкусам.
Тогда под влиянием разговоров о бегстве нашего товарища мне пришла в голову мысль предложить присутствующим, в числе которых были Кропоткин и Бохановский[94], рассказать друг другу собственные бегства. Почти у каждого были свои приключения, так что вечер обещал быть интересным. Мое предложение было принято с шумным одобрением.
Кропоткин долго отговаривался, утверждая, что ему уже столько раз приходилось рассказывать про свое бегство, что оно надоело ему пуще горькой редьки. Но мы так пристали к нему, что он наконец должен был уступить.
«Твердое намерение бежать во что бы то ни стало, — начал он, — не покидало меня с первого дня моего ареста. Но если есть на свете что-нибудь невозможное, так это бегство из Петропавловской крепости. Я строил планы или, лучше, воздушные замки, так как не мог не сознавать сам, до какой степени они фантастичны. Три года прошло таким образом. Тюрьма настолько расстроила мое здоровье, которое было всегда довольно слабым, что я не мог почти ничего есть и едва держался на ногах. Но, к счастью, в начале 1876 года меня перевели в Николаевский госпиталь. В несколько месяцев я там значительно поправился, но употреблял все силы, чтобы казаться умирающим. Я еле передвигал ноги, говорил чуть слышным шепотом, как будто мне было трудно пошевельнуть языком. Дело в том, что мысль о побеге проснулась во мне с новой силой, а так как в госпитале надзор несравненно слабее, чем в крепости, то нужно было сделать все, чтобы остаться там как можно дольше.
Доктор предписал мне ежедневные прогулки, и каждый день в час пополудни меня выводили на большой госпитальный двор. Часовой с ружьем ни на минуту не оставлял меня. Я начал внимательно наблюдать за всем окружающим, имея в виду все ту же неотступную мысль о побеге.
Двор был велик. Ворота, обыкновенно запертые, были на этот раз открыты, потому что в эту пору (дело происходило в июле) госпиталь запасался на зиму дровами. Но так как возка должна была кончиться в неделю-две, то у ворот часового не поставили. Это было большое счастье.
Я гулял в глубине двора как раз насупротив ворот. Часовой постоянно торчал возле, держась между мною и воротами. Но так как я ходил медленнее черепахи, что, как известно, утомляет здорового человека больше самой быстрой ходьбы, то солдат прибегал к следующей уловке: он ходил по линии, параллельной моей, но шагов на пять ближе к воротам. Таким образом, он мог удлинить свой путь на десять шагов против моего, без всякой опасности для охраны, так как, находясь на каждом из концов своей линии, он оставался на таком же расстоянии от ворот, как и я. Этот расчет, который часовой, очевидно, делал на глаз, был совершенно верен теоретически. Но я соображал, что, когда мы оба бросимся бежать, солдат инстинктивно захочет схватить меня как можно скорей и потому бросится на меня, вместо того чтобы бежать прямо к воротам и перерезать мне дорогу. Таким образом, он сделает две стороны треугольника, я же только одну.
Итак, здесь преимущество было на моей стороне. Я мог рассчитывать добежать до ворот раньше часового при равной быстроте бега. Правду сказать, я надеялся бежать быстрее, но не был в этом уверен, так как все еще был очень слаб.
“Если, — думал я, — у ворот будет ждать меня экипаж, в который было бы легко вскочить, то, может быть, и убегу”.
Когда я собирался послать друзьям письмо с первым абрисом плана, я получил от них записку, где говорилось, что и они задумывают нечто подобное же.
Началась переписка. Не стану рассказывать планы и проекты, которые предлагались и отбрасывались: их была такая масса! Предстояло разрешить несколько вопросов: войдет ли кто-нибудь из наших во двор, как предлагали некоторые, чтобы остановить так или иначе часового? Где будет стоять экипаж: у ворот или у угла госпиталя, где не будет так бросаться в глаза? Будет ли там сидеть кто-нибудь из своих, кроме кучера?
Я предложил план самый простой и естественный, который и был наконец принят. Во двор никто входить не будет. Экипаж будет ждать меня у самых ворот, так как я чувствовал себя слишком слабым, чтобы бежать до угла. Один из моих близких друзей, покойный Орест Веймар[95], предложил сидеть там за барина, чтобы, если понадобится, помочь мне влезть скорее, а главное, чтобы одеть меня, лишь только я вскочу, потому что бежать мне приходилось в одном белье.
В госпитале нам ничего не давали, кроме длинного больничного халата. Это был неуклюжий балахон, широкий, неудобный и до такой степени длинный, что, гуляя, я должен был носить на руке свой собственный хвост. Бежать в таком наряде нечего было и думать. Необходимо было скинуть его, прежде чем броситься к воротам, но нужно было сделать это с быстротой молнии, потому что одна секунда могла погубить все. В течение многих дней упражнялся я в своей камере, изучая наилучший способ исполнить эту операцию.
Я нашел, что для того, чтобы совершить ее с наибольшей быстротой, необходимо разделить ее на три элементарные движения, как это делают солдаты при ружейных приемах: раз, два, три.
Оставалось самое трудное — выбор момента. Это, очевидно, зависело от состояния улиц, по которым нам нужно было проезжать. Обоз с дровами, полицейский патруль, верховой казак — все это могло погубить дело, тем более что улицы, по которым приходилось проезжать, были очень узки и извилисты. Итак, следовало внимательно наблюдать за всей линией пути, уведомив меня, когда она свободна от всяких препятствий. С этою целью в четырех различных пунктах были поставлены часовые. Пятый часовой, получая сигналы от четырех предыдущих, должен был дать решительный сигнал мне. Для последнего сигнала выбрали красный воздушный шар, какие покупаются для детей. Он должен был взлететь на воздух из-за высокой госпитальной стены, за которой стоял часовой.
С своей стороны, я предложил поставить немного подальше шестого часового у наружного конца одного из маленьких переулков, потому что, по моим расчетам, этот узкий переулок был такой длины, что воз, въехавший в него в момент, когда наш экипаж тронется, неминуемо загородил бы нам дорогу: он не успел бы добраться до конца переулка, пока мы проезжали бы наш путь от ворот госпиталя до головы того же переулка. Но так как людей было мало, то этот шестой часовой поставлен не был.
В назначенный день я отправился на гулянье сильно возбужденный и полный надежд. Но смотрю, смотрю на то место стены, откуда должен был взлететь красный шар, — ничего! Прогулка моя близится уже к концу — ничего! Вот она кончилась, а с нею кончились и все мои надежды. При той впечатлительности, какая свойственна всем заключенным, я строил предположения одно мрачнее другого и не сомневался ни минуты, что все погибло безвозвратно.
На самом же деле оказалось, что это был сущий вздор. По какой-то странной случайности наши не могли найти красного воздушного шара ни в гостином дворе, ни в одной из игрушечных лавок, которые обегали за это утро. Всюду оказывались только шары белые и синие, которых наши брать не хотели, и совершенно справедливо, потому что при сигналах не следует ни в каком случае допускать изменений, хотя бы и самых ничтожных. Они побежали второпях в гуттаперчевый магазин, купили красный резиновый пузырь и наполнили его газом собственного приготовления. Но сделанный таким образом воздушный шар оказался до такой степени скверным, что, когда часовой выпустил шнурок, шар, вместо того чтобы взвиться к облакам, поднялся всего на несколько аршин и упал на землю, не достигнув королька госпитальной стены. Часовой в бешенстве схватил шар и попробовал бросить его вверх прямо рукою. Но это удалось ему еще менее.
Этой-то случайности обязан я столькими часами мучений и вместе с тем своим спасением, потому что как раз в ту самую минуту, когда выпущен был шар, обоз с дровами въезжал в тот длинный переулок, где не было поставлено часового. Он загородил бы нам дорогу, и все погибло бы, без малейшего сомнения.
Произошел перерыв для переписки о необходимых изменениях. Новый часовой был, разумеется, поставлен у наружного конца длинного переулка. Но это потребовало видоизменения всего плана, потому что не было возможности видеть сигналы всех пятерых часовых, стоя за стеной, откуда следовало дать мне окончательный сигнал. Приходилось либо ввести прибавочных часовых для простой передачи сигналов, либо изменить окончательный сигнал.
Было выбрано последнее.
Один из наших нанял комнату в третьем этаже насупротив госпиталя. Из ее окон можно было видеть не только всех пятерых часовых, но и двор, на котором я гулял. Для подачи сигналов должна была служить скрипка, на которой наш товарищ должен был играть, когда все сигналы были благоприятны, прекращая музыку каждый раз, когда один из них становился неблагоприятным. Этот способ представлял еще ту выгоду, что указывал целиком все время, удобное для бегства, предоставляя затем мне самому выбор наиболее благоприятного момента.
В первый день, когда все было готово и экипаж ждал меня у ворот, уже я сам заставил друзей провести несколько скверных минут: болезнь моя усилилась, и я чувствовал себя до такой степени слабым, что не решался на окончательную попытку. Поэтому я вовсе не вышел гулять, и наши думали, что полиция что-нибудь открыла и потому меня не вывели во двор.
Два дня спустя я оправился и решился воспользоваться этим промежутком в моей болезни.
Я приготовил все: подвязал башмаки, подрезал кое-где халат, чтобы легче его сбросить, одним словом — все.
Меня повели гулять. Лишь только я вышел во двор, тотчас же слышу скрипку. Музыка продолжалась минут пять, но я не хотел воспользоваться этим первым удобным временем, потому что инстинктивно вначале надзор всегда немного внимательнее. Но вот скрипка замолкает: минуты две спустя несколько повозок с дровами въезжает во двор. Скрипка заиграла снова.
На этот раз я решил воспользоваться минутой. Я взглянул на часового: он шел по своей обычной линии в пяти шагах расстояния между мной и воротами. Взглянул я и на его ружье. Оно было заряжено, я это знал. Выстрелит или нет? Вероятно, нет, потому что, будучи на таком малом расстоянии, он будет все надеяться поймать меня. Штык был опаснее в случае, если в этом отчаянном беге силы изменят мне. Но расчет мой был сделан и на этот случай. Если я останусь в тюрьме, то ведь умру наверное. «Теперь или никогда!» — проговорил я про себя. Хватаю халат: раз!..
Но вдруг скрипка замолкла.
Я опустил руки и почувствовал такую усталость, точно поднял большую тяжесть.
По одному из переулков прошел полицейский обход. Но через минуту скрипка заиграла снова.
Ну, теперь уж пора!
Часовой дошел до конца своей линии. Я за халат: раз, два, три. Халата как не бывало, и я стрелой к воротам… Крик, гиканье часового раздается за моей спиной. Он кинулся хватать меня, как я предвидел, вместо того чтобы бежать к воротам наперерез, и дал мне, таким образом, шага два вперед. Но я был так слаб, что наши, с замиранием сердца смотревшие сверху на эту бешеную гонку, говорили, что часовой был в трех шагах расстояния от меня и что штык, который он совал вперед, чуть-чуть не касался меня. Ничего этого я не видел. Я слышал только его дикие крики и также крики погонщиков, складывавших дрова в глубине двора.
Подбежав к воротам, я увидел дрожки, но в первую минуту меня взяло сомнение — наши ли это, потому что я не мог узнать моего приятеля в офицере, сидевшем в них. Чтобы заставить его обернуться, я хлопнул в ладоши, к большому удивлению наших, следивших за всей этой сценой и принявших это за выражение радости! Офицер оборачивается, я узнаю его, и в ту же секунду я уже в дрожках. Лошадь понеслась с быстротой ветра, и я чувствую на своих плечах военную николаевскую шинель, которую мой приятель держал наготове вместе с офицерской фуражкой.
В госпитале, как я узнал потом, произошел невообразимый переполох. Караульный офицер со всем караулом выбежал на крик часового и, узнав, в чем дело, потерял окончательно голову, рвал на себе волосы, повторяя:
— Я пропал, я пропал! Бегите, ловите его, ловите!
Но он был не способен отдать ни малейшего приказания. Один из наших, сигнальщик, тот самый, который играл на скрипке, поспешно сбежал вниз и, подойдя к офицеру, стал сокрушаться с ним вместе об его участи, спрашивая: что случилось? кто бежал? как? когда? куда? и т. п., и офицер, вне себя от отчаяния, отвечал ему, теряя таким образом драгоценное время.
Одна старуха дала было ужасный совет:
— Да что! — сказала она, — покружат, покружат да и выедут на Невский. Это уж наверняка. Отпрягите лошадей вон от конки (у госпиталя как раз стояла конка) и скачите им наперерез. Чего же проще!
И мы действительно так именно ехали. К счастью, совету проницательной ведьмы никто не последовал».
Когда Кропоткин кончил свой рассказ, наступил черед Ивана Бохановского, прозванного казаком, потому что, будучи родом из Украины, он действительно походил на старинных казаков этой земли по своей храбрости, ничем не нарушимому хладнокровию, а также и по своей молчаливости.
Все обратились к нему. Он вынул изо рта свою маленькую деревянную трубку.
— Да, право же, мне нечего рассказывать, — воскликнул он. — Михайло[96] пришел, взял нас и вывел, вот и все.
— Нет, нет, — накинулись на него мы, — рассказывай все по порядку.
Казак, видя, что ему никак не увернуться, медленно набил свою трубку с видом человека, собирающегося в дальний путь, зажег ее, попробовал, хорошо ли тянет, и начал свой рассказ, содержавший в себе, быть может, больше слов, чем он их произносил за полгода.
«Михайло, — сказал он, — поступил в тюрьму месяца за два до нашего бегства. Нелегкое было дело ввести его туда. Но наконец ему удалось поступить на службу в тюремный замок с фальшивым паспортом Фоменко сперва чернорабочим, потом — сторожем.
Здесь своим усердием в исполнении обязанностей и безупречным поведением ему удалось заслужить такое расположение всего начальства, что через месяц он уже был произведен в ключники в коридоре уголовных.
Чтобы дать смотрителю блестящее доказательство своих прекрасных душевных качеств, Михайло, по совету Стефановича, отправился однажды к нему с доносом, тем временем как Стефанович у себя в клетке нарочно писал какую-то пустую записку.
— Ваше благородие, — сказал Михайло, — у нас неблагополучно.
— Что такое? — испугался смотритель.
— Политические пишут.
— Кто да кто? — спросил смотритель.
— Стефанович.
— Ну и пускай себе пишет, — сказал смотритель, махнув рукою.
Следует сказать, что в то время в киевской тюрьме положение политических арестантов было совсем особое. Террор, поражавший в первое время низших чиновников, наполнил Киев таким паническим страхом, что все, начиная с прокурора и кончая тюремным смотрителем, плясали перед нами на задних лапках, потому что боялись быть убитыми по первому нашему знаку. Вот почему, узнав, что пишущий не кто иной, как Стефанович, которого боялись больше всех, смотритель не хотел делать у него обыска. Но с этого дня Михайло покорил себе сердце своего начальника.
Нам, политическим, чтобы по возможности не раздражать нас, смотритель назначил в ключники некоего Никиту, отличного человека, доброго как ягненок. Однако нужно было отделаться от него во что бы то ни стало, потому что на его место почти наверное попал бы Михайло.
Но добиться смены Никиты было дело нелегкое. Этот добряк никогда не делал нам ни малейшей обиды. Тогда мы принялись нахально взводить на него всякую напраслину, жаловались на него смотрителю, который бранил его, угрожал, хотя тот не был виноват ни душой ни телом. Но наш Никита, вместо того чтобы обозлиться на нас и совершить какую-нибудь неосторожность, как мы надеялись, переносил все с кротостью, повторяя:
— Христос терпел, буду терпеть и я.
Мы были просто в отчаянии. Наконец Валериан Осинский, организовывавший наше бегство извне, догадался пойти в трактир, куда ходил Никита, и, как будто случайно познакомившись с ним, сказал, что ищет конторщика для сахарной фабрики в деревне. Условия были выгодные, и Никита попался на удочку. Получив деньги на дорогу и месяц платы вперед, он оставил службу в тюремном замке, потому что нужно было ехать тотчас же. Но тут случилась какая-то задержка, потом другая, третья, пока не совершилось наше бегство, и тогда ему вернули его паспорт с запиской, что, мол, теперь от него больше ничего не нужно. Почему — он, конечно, сам догадался.
Когда его место освободилось, смотритель пришел к Стефановичу и Дейчу поговорить с ними по-дружески относительно его заместителя.
— Не правда ли, Фоменко (Михайло) человек для этого подходящий?
Стефанович сделал гримасу и пробормотал сквозь зубы:
— Шпион, как кажется.
— Что вы! Он отличный человек, — защищал его смотритель.
Михайло был назначен ключником в коридоре политических.
Самое важное было сделано, но еще не все. Михайло мог отворить нам двери наших клеток, но как выйти вчетвером из тюрьмы, окруженной военным караулом?
Однако нельзя было терять ни минуты времени. Положение Михаилы было в высшей степени опасно. Тюрьма была битком набита политическими всех сортов и категорий, начиная с молодых людей, взятых по легкому подозрению, и кончая революционерами, серьезно скомпрометированными. Народ был самый разнообразный, и многие узнали Михайлу, так как сталкивались с ним раньше. Прямого доноса бояться было, конечно, нечего, потому что Михайло, будучи уже много лет нелегальным, вращался только в среде своих. Но кто мог гарантировать против незлонамеренной болтовни, особенно в таком пикантном случае.
Мы сидели как на угольях.
Нужно было воспользоваться поскорее выгодным положением, которым мы были обязаны Михайле, и потому, лишь только он освоился со своей новой должностью, мы назначили ночь для побега.
Выйти из тюрьмы всего проще было, переодевшись часовыми, которые уходят со смены. Михайло достал для двух из нас солдатские костюмы, но два других должны были идти в чем были. На всех четырех была всего одна шашка, но мы решились не откладывать дольше.
Вечером назначенного дня Михайло принес нам солдатские костюмы. Мы переоделись, поделав из оставляемого платья чучела, и положили их в постели, чтобы утром, взглянув в окошечко, сторожа подумали, будто мы спим.
В полночь Михайло пришел за нами. Но тут случилось неожиданное препятствие. Дежурный сторож, обязанный не спать всю ночь, пришел как раз в наш коридор, не показывая ни малейшего желания уходить.
Тогда Стефанович выронил, как будто нечаянно, расшитую книгу в сад. Упавши, она рассыпалась по земле, и Стефанович обратился к Михайле с просьбой тотчас же принести ее. Михайло отправил за ней сторожа, и, пока тот собирал листы, мы без шума вышли из клеток и направились к выходу.
Когда мы проходили по нижнему коридору, случилась ужасная вещь: там висела веревка колокола, в который звонили тревогу. Проходя у самой стены в глубокой темноте, я нечаянно споткнулся. Вытягиваю инстинктивно руки вперед, чувствую, что что-то касается моих пальцев, хватаюсь, чтобы не упасть, и вдруг громкий звон оглашает всю тюрьму. Это была веревка сигнального колокола!.. Ужас, позор, комизм нашего несчастия как молния мелькнули перед моими глазами. Мы были уверены, что все погибло. Уже слышен был в коридоре шум часовых, торопливо встававших солдат. Но Михайло не растерялся. Он велел нам попрятаться кто куда может, а сам побежал в кордегардию сказать, что веревку нечаянно зацепил он. Понемногу все стихло. Но тут случилась новая беда: так как мы попрятались куда попало, то, выходя, чуть-чуть не заблудились в темноте. Михайло должен был довольно долго бегать из конца в конец, чтобы собрать нас снова в кучу.
Наконец мы опять выстроились в два ряда и пошли дальше. Оставалось, однако, самое трудное: пройти сквозь тюремные ворота мимо сторожа и часового. Но это удалось нам как нельзя лучше. На крик Михаилы сторож подал нам ключи от калитки, а часовой, стоявший в будке, не обратил внимания ни на наш странный костюм, ни на неурочный час нашего выхода, так как новая смена еще не входила.
Не успели мы сделать несколько шагов, как вдруг точно из-под земли вырастает перед нами черная фигура в офицерской шапке. Но шинель распахнулась, и мы увидели прекрасную голову Валериана Осинского, который, весь сияя, протягивал нам обе руки. Он ждал нас с повозкой, которая отвезла нас к берегу Днепра; там колыхалась лодка, приготовленная к долгому путешествию и наполненная всевозможными припасами.
Минуту спустя мы плыли посредине широкой реки, направляясь к югу. Это водное путешествие продолжалось с неделю. На ночь мы вытягивали лодку в кусты; растущие по берегам, и ложились отдохнуть на несколько часов. Днем мы гребли что есть мочи и, если случалось завидеть на горизонте дым парохода, прятались в высокие камыши, окаймляющие Днепр.
Прибыв в Кременчуг, мы застали там Валериана Осинского, приехавшего по железной дороге с паспортами и всем нужным.
От него мы узнали, что в Киеве все перевернули вверх дном, отыскивая нас, так как полиция была уверена, что мы прячемся в городе.
Что же касается тюрьмы, то там наше бегство было замечено только поздно утром. Видя, что с нами вместе пропал и Михайло, никто не догадался, в чем дело. Доверие, которое он сумел внушить к себе, было таково, что смотритель и все служащие были уверены, что мы убили его, чтобы иметь возможность бежать, и повсюду напрасно искали его труп.
Только когда стали проверять его паспорт и оказалось, что он фальшивый, все поняли непонятную до тех пор тайну нашего исчезновения.
Смотритель несколько дней ходил как сумасшедший и только и твердил: «А ларчик просто открывался!..»[97]
Так кончил свою речь казак. Другие говорили после него, но так как их приключения мало интересны, а места у нас немного, то передавать их рассказов не будем.
Укрыватели
Мы снова в Петербурге. Время было трудное. Полиция преследовала меня по пятам. Уже два раза мне пришлось переменить квартиру и паспорт.
Но я не мог уехать куда-нибудь в провинцию, так как у меня на руках было дело, которого некому было передать. К тому же мне жаль было покинуть этот чудный город, с его нервной, кипучей жизнью под спокойною, холодною внешностью.
Я надеялся, что травля, которой периодически подвергается почти каждый нелегальный, постепенно прекратится и что мне можно будет переждать бурю и отсидеться, не прибегая к помощи «укрывателей».
Но что такое «укрыватели»?
Это обширный класс людей всевозможных положений, от аристократов и всякого рода тузов до мелких чиновников, включая сюда и служащих в полиции, которые, сочувствуя революционным идеям, не принимают по разным причинам активного участия в борьбе, но пользуются своим общественным положением, чтобы скрывать у себя в случае надобности как опасных людей, так и опасные бумаги. Потребовалась бы целая книга, чтобы описать подробно этот оригинальный в своем роде мирок, довольно многочисленный и, пожалуй, гораздо более пестрый, чем мир настоящих революционеров. Расскажу кое-что о тех из укрывателей, с которыми мне пришлось столкнуться в описываемые дни.
Я сидел за утренним чаем, когда ко мне в комнату вошел «Дворник», не настоящий дворник, а один из милейших и наиболее деятельных членов нашего кружка и мой большой приятель, Александр Михайлов[98], получивший в шутку кличку Дворника за то, что усердно блюл за исполнением нами всех правил предосторожности, предписанных нашим уставом.
— Что случилось? — спросил я, предлагая ему чашку чаю.
Я знал прекрасно, что Дворник не явился бы ко мне без дела.
— За тобой сильно следят, — ответил он. — Необходимо положить этому конец. Я пришел препроводить тебя в безопасное место.
Я так и думал. Но, так как всякому хочется остаться по возможности дольше на свободе, я сдался не сразу и попросил у своего гостя объяснений.
Прихлебывая чай, он стал излагать результаты своих наблюдений. От времени до времени я задавал ему маленькие вопросы, чтобы составить себе надлежащее понятие о степени угрожавшей мне опасности. Жизнь революционера так переполнена ею, что если обращать внимание на всякую мелочь, то уж лучше сразу покончить с собой. Собственно говоря, ничего особенного не было и в данном случае. За мной, правда, следили, но все еще могло обойтись благополучно, и, явись ко мне вместо Дворника кто-нибудь другой, я бы запротестовал и, вероятно, остался бы на своей квартире еще несколько времени. Но Дворник шутить не любил, и после нескольких тщетных попыток сопротивления я принужден был сдаться.
— Куда же ты меня поведешь? — спросил я.
— К «Буцефалу».
Этого только недоставало. Я тяжело вздохнул при мысли о предстоявшей мне горькой участи. Буцефал был некий коллежский советник Тараканов[99], служивший по министерству внутренних дел. Он был прозван Буцефалом потому, что, подобно коню Александра Македонского, пугался своей собственной тени.
Он был труслив, как заяц, и боялся решительно всего. Он боялся подойти к открытому окну, опасаясь сквозняка; не ездил на пароходе, боясь утонуть; не ел никогда рыбы, боясь подавиться; не женился из страха измены.
Но, будучи горячим поклонником Чернышевского, он всей душой сочувствовал революционному движению и, зная лично многих из революционеров, охотно брал на себя роль «укрывателя», и, надо сказать, был одним из надежнейших. Его общественное положение, а еще больше его всем известная робость, устранявшая малейшее подозрение в склонности к потрясению основ, делала его квартиру совершенно безопасной.
Тараканов знал отлично, что ему ничто не угрожает, но тем не менее считал необходимым всегда принимать строжайшие меры предосторожности и всюду видел шпионов. Легко вообразить себе, насколько приятна была участь тех, кто попадал под опеку подобного аргуса.
Я заметил Дворнику, что, пожалуй, лучше было бы обождать вечера, когда шпионы, которых он видел возле моей квартиры, поуходят. Но он ответил лаконическим «нет», присовокупивши, что за шпионов он отвечает.
Делать было нечего. По окончании чаепития мы приступили к «очистке» квартиры, то есть к уничтожению всего, чем так или иначе жандармы могли бы воспользоваться. Затем я вызвал хозяйку и сказал, что отправляюсь на короткое время в деревню, что напишу ей в случае, если мне там придется остаться. Мы вышли.
Едва успели мы сделать несколько шагов, как я увидел у окна одного магазина двух молодцов, пристально разглядывавших выставленные в витрине товары. Дворник мотнул головой в их сторону: они, мол; затем дернул вперед подбородком, что означало, что нам не мешает прибавить шагу.
Началась гонка — явление мало интересное, чтобы его стоило описывать, и слишком обычное в жизни революционера, чтобы смущаться им, — в особенности в компании с таким опытным охотником, как мой спутник.
Дворник, как говорится, собаку съел по части всего, что относилось к войне с полицией и шпионами. В этой области он обладал обширными сведениями, добытыми путем продолжительного и неутомимого изучения. Нанявши раз квартиру напротив дома начальника тайной полиции, он долгое время посвящал целые дни наблюдениям над всеми входящими и выходящими оттуда и потому знал в лицо изрядное количество петербургских шпионов. Он тщательно изучил их ухватки и распределил их по характеру, манере следить и т. п. и мог порассказать обо всем этом немало интересного. Шпиона он умел распознать с первого взгляда, часто по признакам, по-видимому, совершенно неуловимым, напоминая собою куперовских краснокожих в борьбе с враждебным племенем. Вдобавок он знал Петербург как свои пять пальцев и помнил наперечет все проходные дворы, которые в течение некоторого времени были предметом его специального изучения.
Пересекши несколько таких дворов и сделав несколько крюков, где пешком, где на извозчике, мы через какие-нибудь полчаса «замели наш след», то есть окончательно отделались от шпионов. Тогда только мы направились к Тараканову взаправду. С массой всевозможных предосторожностей, знаков и сигналов, к которым Дворник питал слабость, мы вошли наконец в его квартиру.
Тараканов, мужчина лет под 35, невысокого роста, толстенький и круглолицый, уже поджидал нас, так как его заранее уведомили о нашем приходе.
Он сам открыл дверь и немедленно ввел нас в одну из задних комнат. Это была излишняя предосторожность, так как он был совершенно один в своей маленькой квартире; но Тараканов не мог обойтись без предосторожностей.
Мы были уже раньше немного знакомы друг с другом, и потому в представлении не оказалось надобности. Тараканов прежде всего спросил, не видел ли нас кто-нибудь, когда мы всходили по лестнице.
— Вы знаете, — прибавил он многозначительно, — там внизу живет девица, смуглянка с такими глазищами, что страсть, — цветочница или модистка, бог ее знает. Всегда смотрит на меня, когда я прохожу мимо. Я уверен, что она шпионка.
Наш отрицательный ответ, по-видимому, успокоил его; тем не менее, повернувшись в мою сторону, он сказал с серьезным выражением лица:
— Во всяком случае, вам не следует выходить. Днем вы можете попасться на глаза этой девице, вечером — швейцару, а этот уж наверное на службе у полиции. Тут очень опасно. Все, что вам понадобится, я буду приносить сам.
Я покорно кивнул головою, тем более что чувствовал на себе строгий взгляд Дворника.
Когда последний удалился, Тараканов проводил меня в предназначенную мне комнату, где я нашел маленький письменный столик, несколько книг по политической экономии и диван, который должен был служить мне кроватью.
Тараканов рассчитал свою кухарку несколько дней тому назад: шутники говорили, будто бы он и ее заподозрил в шпионстве. Но Тараканов отрицал это, утверждая, что все это вздор и что он удалил ее просто потому, что она его обворовывала. Однако он и не пытался искать другой прислуги и получал обед из соседнего ресторана. Верный раз заведенному порядку, мой хозяин вскоре ушел из дому, обещая к вечеру вернуться. Но на улицах позажигали уже фонари, а его все еще не было. Я уже начал беспокоиться, как вдруг дверь отворилась и он предстал предо мной, здрав и невредим.
Я приветствовал его с чувством живейшей радости и сообщил о своих опасениях.
— Видите ли, я никогда не возвращаюсь домой прямо, — ответил он, — боюсь, как бы не проследили, и потому всегда делаю маленький крюк. Ну а сегодня для такого случая, понятно, я сделал крюк побольше.
Я не мог не улыбнуться, слушая признанье этого почтенного чудака. В своей предусмотрительности он походил на доктора, который пичкал бы себя собственными микстурами, чтобы вылечить своего пациента.
Весь вечер мы провели вместе, беседуя о разных разностях. При всяком малейшем шорохе Тараканов пугался и настораживал уши. Я пытался было успокоить его, говоря, что опасаться решительно нечего.
— Знаю, батенька, — ответил он простодушно, — иначе я бы вас не пригласил к себе; но что же поделаешь? Боюсь.
Часов около двенадцати мы разошлись. Все время, пока я не заснул, я слышал шаги своего хозяина, ходившего взад и вперед по комнате.
На следующий день, когда он после чаю ушел на службу, явился Дворник с поручением для меня — написать маленький листок по поводу одного недавнего события, и принес необходимые матерьялы, газеты и книги. Я от души поблагодарил его как за посещение, так и за доставленную мне работу и просил прийти снова, если можно, завтра же или послезавтра, обещая окончить к этому времени свою работу.
Весь вечер и добрую часть ночи я усердно писал и слышал от времени до времени, как Тараканов переворачивался с боку на бок в своей постели.
Пробило два часа, три, четыре — он все еще не спал. Что за оказия? Не мог же я беспокоить его шумом, так как нарочно надел его туфли. Не мог мешать ему также и свет, потому что дверь моей комнаты была плотно заперта. Уж не захворал ли он? Я вспомнил, что накануне он выглядел довольно плохо, но тогда я не обратил на это внимания.
Утром меня разбудил звон посуды, которую хозяин приготовлял для чая. Я поспешил одеться и вышел в столовую.
Вид у бедняги действительно был неказистый: он весь осунулся, побледнел, даже пожелтел; глаза впали, выражение лица было самое унылое.
— Что с вами? — спросил я его.
— Ничего.
— Как ничего? Да вы посмотрите на себя в зеркало: краше в гроб кладут. Да и не спали вы до четырех часов.
— Скажите лучше — не спал всю ночь.
— Ну так, значит, вы больны.
— Нет. Я просто не могу спать, когда кто-нибудь есть у меня.
Тут я все понял.
— Я вам сердечно благодарен, — сказал я, крепко пожимая ему руку, — но не хочу больше причинять вам столько беспокойства и немедленно же ухожу от вас.
— Что вы? Что вы? Нет, пожалуйста, не делайте этого. Знай я, что вы так это примете, я не сказал бы вам ни слова. Вы должны оставаться у меня. Все это пустяки.
— Но ведь вы можете серьезно заболеть.
— Не беспокойтесь. Во-первых, я могу спать днем, а, наконец, еще лучше принять что-нибудь на ночь.
Потом мне сообщили, что в подобных случаях он действительно принимал хлорал, когда уж ему становилось невмоготу.
Разговор на этом прекратился.
Я смотрел на Тараканова со смешанным чувством изумления и глубокого уважения. Этот человек был забавен своей трусостью, но как поразительно было зато его самоотвержение.
Мне было известно, что дверь его дома всегда была открыта для всех, находившихся в моем положении, и некоторых из наших он удерживал по целым неделям. Сколько нравственного мужества должен был иметь этот человек, чтобы добровольно идти навстречу этой пытке страха?
Когда на следующий день Дворник пришел за рукописью, я заявил ему, что ни за что не хочу оставаться здесь больше, и попросил отыскать мне поскорее другое убежище.
К моему большому изумлению, Дворник согласился на это без особенных возражений.
— Сегодня я видел Серова, — сказал он, — он про тебя спрашивал. Если хочешь, я переговорю с ним.
Ничего лучше этого нельзя было придумать. Дело было вскоре улажено, и дня через два я уже получил утвердительный ответ от Серова.
Тараканову я сказал, что должен на время уехать по делам из Петербурга, и распрощался с ним самым дружеским образом.
— До свиданья! До свиданья! — повторял он на прощание. — Счастливого пути. Жду вас по возвращении. Не забывайте, я всегда к вашим услугам.
Под покровом ночной темноты я покинул его жилище. На этот раз меня никто не сопровождал, так как я знал адрес Серова, с которым издавна мы были большие приятели.
В залитой ярким светом комнате, вокруг большого стола, на котором сверкал кипящий самовар, сидело несколько человек — вся семья Серова и два-три близких приятеля. При моем появлении хозяин дома встал мне навстречу и радушно протянул мне обе руки.
Борис Серов был человек уже пожилой. Его длинные густые волосы были почти совершенно белы. Но не годы посеребрили эту львиную голову, так как Серову едва перевалило за пятый десяток. Он был замешан еще в движении первых лет царствования Александра II. Около 1861 года, занимая пост военного врача в Казани, он принял деятельное участие в военном заговоре Иваницкого и Черняка[100] — этом замечательном эпизоде русского революционного движения, к сожалению почти позабытом нынешним поколением. Серову, который только каким-то чудом спасся сам, суждено было видеть собственными глазами беспощадную расправу правительства над всеми его товарищами. Вскоре после этого он переехал в Петербург. Однако с тех пор он навсегда остался на примете у полиции, которая почти ежегодно являлась к нему с обыском. Раз десять его арестовывали и сажали в крепость, но арест всегда ограничивался несколькими днями. Серов был травленый волк, и жандармам никогда не удавалось найти каких-нибудь улик против него. Правда, он больше не принимал активного участия в движении, так как годы постоянных попыток, оканчивавшихся неудачами, погасили в нем то, что составляет душу всякой революционной деятельности, — веру. От пылкого энтузиазма юных лет он перешел к тому разъедающему скептицизму, который является язвой образованных людей в России, где поэтому так мало зрелых людей, а все либо юноши, либо старики. Но никакой скептицизм не мог вытравить из сердца Бориса Серова горячей любви и своего рода культа к тем, кому посчастливилось удержаться в рядах борцов. Это чувство, при его рыцарской, безгранично отважной натуре, заставляло его оказывать всякого рода услуги революционерам. Благодаря долголетнему опыту он прекрасно овладел всей техникой конспирации. Он умел превосходно организовать корреспонденцию, отыскивал места для хранения запрещенных изданий, собирал пожертвования, подписки и месячные взносы. Но в чем ему не было равных, это — в трудной и важной роли «укрывателя».
Он подвизался в ней много лет и раз даже устроил маленькую пирушку, чтобы отпраздновать десятилетний юбилей своего благополучного пристанодержательства.
Будучи человеком в полном смысле слова бесстрашным, он ничего не преувеличивал, никогда не принимал созданные чьим-нибудь живым воображением миражи за действительную опасность. Но где опасность существовала, там уж он ее не просмотрит. Он издали чуял приближение жандармов и даже, подобно хорошей охотничьей собаке, обнаруживал следы их пребывания, когда их самих уже не было на месте.
По осанке стоявшего на углу городового он угадывал, было ли ему приказано следить за его домом или нет. По некоторым едва уловимым интонациям в голосе дворника, по тому виду, с каким он снимал шапку при встрече с ним, Серов решал безошибочно, был ли у того разговор с полицией и в каком смысле. На основании каких-то таинственных признаков он мог определить, грозит ли дому обыск или нет.
Тот, кого он брал под свое покровительство, был поэтому как у Христа за пазухой. Чтобы дать понятие о его репутации как «укрывателя», достаточно сказать, что именно у него поместили Веру Засулич после суда, в то время как жандармы рыскали по всему городу, разыскивая ее, и когда для партии было в некотором роде вопросом чести не дать ее им в руки.
Софья Перовская, большая приятельница Серова, говаривала, что раз она видит в окне его квартиры сигнал безопасности, она входит туда с гораздо большей уверенностью, чем император — в свой дворец.
Таков был человек, на попечение которого я переходил теперь.
Присоединившись к компании, сидевшей вокруг стола, я очень весело провел вечер, как и все остальное время, которое пробыл там. Это было не только самое безопасное, но и самое приятное из убежищ. Серов никогда не налагал на человека излишних стеснений, которые бывают столь тягостны, а иногда просто невыносимы. Днем я обыкновенно работал в одной из задних комнат, чтоб не попасться на глаза кому-нибудь из случайных посетителей или пациентов Серова; по вечерам мне разрешалось даже выходить из дому. Но чаще я проводил вечера дома, среди его семьи, которой украшением были две милые девушки, его дочери; с ними у меня очень скоро завязалась самая тесная дружба, явление столь обычное у нас в России и столь естественное в данном случае, принимая во внимание наши относительные роли — покровительствуемого и покровительниц. Однако мое пребывание здесь продлилось не больше недели.
Раз как-то, вернувшись домой к обеду, Серов обратился ко мне и, улыбаясь, произнес с легким кивком головы свое обычное:
— Что-то пахнет!
— Что такое? Что такое? — воскликнули в один голос дамы.
— Пока еще ничего особенного, но — что-то пахнет.
— Ждете обыска или что? — спросил я.
— Как бы вам сказать, — ответил Серов задумчиво, точно взвешивая что-то про себя. — Немедленного обыска я не жду, а на днях, вероятно, заглянут. Во всяком случае, вам следовало бы перекочевать отсюда.
Возражать было нечего: Серов знал, что говорит.
После обеда он отправился предупредить наших, и в тот же вечер я с огорчением распрощался с его радушной семьей и в сопровождении одного приятеля снова пошел колесить по городу.
Через несколько дней я узнал, что у Серова действительно был обыск — «санитарный визит», как он называл эти периодические нашествия полиции; но, ничего не найдя, жандармы принуждены были убраться, как всегда несолоно хлебавши.
Оттилия Густавовна Горн была старуха лет семидесяти. Она была датчанка родом и даже плохо говорила по-русски. Во всяком случае, ей не было никакого дела до наших «проклятых» вопросов. И тем не менее это была «нигилистка», мало того — ярая террористка.
История ее обращения в нигилизм настолько оригинальна, что заслуживает того, чтобы рассказать о ней.
Еще молодой женщиной Оттилия Густавовна перебралась с первым мужем в Ригу, где вскоре осталась вдовою. Спустя некоторое время она сочеталась законным браком с одним русским и переехала в Петербург, где ее новый супруг получил какое-то местечко при полиции. Без сомнения, она мирно дожила бы здесь свои дни, ни разу даже не задумавшись о нигилизме, терроризме и т. под., если бы судьбе не было угодно сделать датскую принцессу Дагмару женой наследника русского престола.
Как это ни странно, именно это обстоятельство толкнуло Оттилию Густавовну в ряды недовольных. Вот как это случилось.
Как датчанка и женщина довольно фантастическая, она задалась честолюбивой мечтою доставить своему благоверному одну из многочисленных придворных должностей в штате цесаревны. Для приведения в исполнение своего проекта Оттилия Густавовна отправилась лично к датскому посланнику, прося его употребить свое влияние в пользу ее мужа на том основании, что ее первый супруг с полстолетия тому назад был не то поставщиком чего-то, не то маленьким чиновником при копенгагенском дворе.
Как и следовало ожидать, посланник попросту выпроводил ее. Но Оттилия Густавовна не так-то скоро расставалась с однажды засевшей ей в голову мыслью. Через некоторое время она снова явилась в посольство с теми же приставаниями. На этот раз посланник оказался настолько неучтивым, что расхохотался ей прямо в лицо.
Такая кровная обида возбудила в пылком сердце Оттилии Густавовны чувство неумолимой ненависти к злополучному дипломату.
Но как отплатить ему за оскорбление? К сожалению, ничего не оставалось, как хранить в глубочайших тайниках души свои планы мести без малейшей надежды когда-либо осуществить их. Так прошли годы.
Между тем началось революционное движение, и первые террористические акты как громом поразили умы благополучных россиян.
Тогда блестящая мысль внезапно осенила голову пылкой старухи.
«Вот, вот что нужно», — повторяла она себе изо дня в день и кончила тем, что воспылала безграничным энтузиазмом к нигилистам. Быть может, она надеялась, что, начавши с Трепова, Мезенцова и Кропоткина, они доберутся наконец и до ее смертельного врага и уж наверное величайшего негодяя в мире, датского посланника; а может быть, и попросту ненависть к одному из представителей высших сословий мало-помалу распространилась на всех ему равных по положению. Трудно разгадать психологию взбалмошной семидесятилетней старухи. Одно только не подлежало сомнению: Оттилия Густавовна стала ярой террористкой.
Она держала меблированные комнаты, занимаемые преимущественно студентами, которые все почти были более или менее «сочувствующими», если не прямо членами партии. Сначала они посмеивались над несколько запоздалым политическим пылом своей хозяйки. Но понемногу они стали относиться к ней серьезнее. Во время обысков, которых не избегает ни одна почти студенческая квартира, Оттилия Густавовна обнаруживала редкую смелость и находчивость. Она уносила из-под самого носа жандармов разные компрометирующие бумаги, письма, книги, пользуясь тем, что ее преклонный возраст ставил ее вне всяких подозрений. А на допросах всегда держала себя с тактом и осторожностью, достойными всяческой похвалы.
Студенты познакомили ее с некоторыми из членов организации, и, таким образом, она начала свою революционную карьеру хранением у себя запрещенных изданий, конспиративной переписки и т. д., пока наконец не сделалась одной из лучших укрывательниц нелегального люда. Доверять ей можно было безусловно, так как она была воплощением честности и осторожности, что доказала не раз.
Все эти черты из ее биографии и характеристики мне сообщил мой спутник, пока мы шагали с ним по улицам столицы, направляясь к маленькому домику на Каменноостровском проспекте, принадлежавшему Оттилии Густавовне.
Хозяйка уже поджидала нас. Это была высокая, крепко сложенная женщина, с энергической, почти воинственной осанкой; на вид вы бы дали ей не больше 55–60 лет.
Хотя мы виделись в первый раз, она приняла меня с распростертыми объятиями, как родственника, возвратившегося после долгого отсутствия.
Тотчас появился на столе самовар с целым подносом всевозможных булочек и печений. Она показала мне мою комнату, где я нашел решительно все, что мне могло понадобиться для моего удобства и комфорта.
За чаем Оттилия с живостью осведомилась о двух-трех из моих приятелей, которым пришлось пользоваться ее гостеприимством. Очевидно, познакомившись лично с террористами, которыми вначале она восторгалась только издали, она полюбила их с материнской нежностью. Кстати же сказать, она была бездетна. Но вся сила ее привязанности сосредоточивалась на тех, кто находился в данную минуту на ее попечении. Мне стоило большого труда уговорить ее не тормошиться из-за меня без всякой нужды. Но с мужем она решила познакомить меня во что бы то ни стало.
Старик уже разделся и лежал в постели, но Оттилия Густавовна приказала ему встать, и через несколько минут он со смущенным видом вошел в мою комнату, наскоро натянув на сухие плечи изорванный халат и шаркая истоптанными туфлями.
С виноватой, кроткой улыбкой на беззубом рте он протянул мне руку, кивая своей лысой головкой.
Почтенный старик был в полном послушании у грозной супруги.
— Если нужно, — сказала Оттилия, сверкнув очами, — я пошлю его завтра в полицию навести кой-какие справки.
Старичок, улыбаясь, продолжал кивать головой.
Энергическая Оттилия и его совратила в нигилизм.
У этой-то доброй женщины провел я все время, пока не прошла гроза и полиция, погнавшись за другими, не позабыла наконец обо мне, после чего я мог снова вынырнуть на волю под другим именем и в другой части города.
Тайная типография
Устроить тайную типографию, дать свободной мысли, борющейся против деспотизма, такое могучее орудие, как печатный станок, — это было страстным желанием всех организаций, лишь только они чувствовали себя в силах предпринимать что-нибудь серьезное.
Еще с 1860 года, когда стали появляться первые тайные общества, имевшие целью вызвать крестьянскую революцию, как «Земля и воля», «Молодая Россия»[101], мы встречаем у них в зачаточной форме нечто вроде типографий, которые держались, однако, всего лишь по нескольку недель.
Ясно, что вольная пресса, существовавшая в ту пору за границей, даже с таким писателем во главе, как Герцен, уже не удовлетворяла партии действия в России.
За последние десять или пятнадцать лет, когда движение приобрело небывалые дотоле размеры и силу, недостаточность вольных станков, работавших в Швейцарии и Лондоне, день ото дня становилась очевиднее, и потребность в местной подпольной печати, которая бы могла немедленно отвечать на всякие злобы дня, делалась все более и более настоятельной.
Вот почему все быстро сменявшие друг друга революционные организации старались иметь свои типографии.
Но, казалось, какой-то злой рок тяготел над попытками этого рода: все они оказывались крайне недолговечными. Полиция открывала типографии, лишь только они успевали чем-нибудь заявить о своем существовании.
Так, типография каракозовцев продержалась всего лишь несколько месяцев. Нечаевцы также завели свой печатный станок, но должны были держать его все время закопанным где-то, и только полиция после разгрома организации вынесла его на свет божий. Типография долгушинцев была захвачена немедленно после выпуска двух первых и единственных листков. Чайковцы тоже не раз пытались устроить типографию и уже приобрели шрифт и превосходный станок. Но приступить к работе им не удалось, и пять лет все типографские принадлежности валялись без употребления где-то на чердаке.
Действительно, трудности, с которыми сопряжено устройство тайной типографии в стране, где следят за каждым шагом, казались непреоборимыми, потому что они связаны с самим характером типографской работы. Можно прятать книги, газеты, людей; но как скрыть печатный станок, когда он сам дает о себе знать, во-первых, шумливой и сложной работой, требующей довольно большого количества людей, и затем постоянной привозкой и увозкой массы бумаги — то чистой, то печатной.
После многочисленных попыток, терпевших одна за другой жестокую неудачу, устройство тайной типографии всеми было признано делом не только трудным, но прямо невозможным, праздной мечтой, ведущей лишь к бесцельной трате денег и гибели лучших сил. Мысль о тайной типографии была отброшена окончательно. Люди «серьезные» просто не хотели больше об этом слушать.
Нашелся, однако, мечтатель, фантазер, который ни за что не соглашался признать непреложность общепринятого мнения и с жаром доказывал, что даже в самом Петербурге можно устроить типографию и что он ее устроит, если только его снабдят необходимыми средствами.
Мечтателя этого звали Ароном Зунделевичем[102]; он был виленский уроженец, сын одного мелкого лавочника-еврея.
В организации, к которой он принадлежал (принявшей впоследствии имя «Земли и воли»), над планами Зунделевича посмеивались, как над фантазиями неисправимого оптимиста.
Но вода точит и камень. После многих усилий Зунделевичу удалось побороть недоверие товарищей и получить на свою затею около 4000 рублей. С этими деньгами он отправился за границу, закупил там и доставил в Петербург все необходимое, и наконец, выучившись набирать сам и преподав это искусство еще четырем из своих друзей, он устроил с ними в 1877 году в Петербурге тайную типографию, первую, которая была достойна этого имени, так как она правильно работала и выпускала в свет довольно порядочные брошюрки, а впоследствии и газетку[103].
План Зунделевича был так прост, естествен и умен, что целых четыре года, несмотря на упорнейшие розыски, полиция не могла напасть на след типографии, которая была открыта благодаря глупой случайности: смешав фамилии, полиция явилась по ошибке в ту именно квартиру, где помещались народовольческие станки.
Типография погибла, но за провалом первой возникали другие, устраиваемые по тому же образцу и работавшие без перерыва.
И вот с тех пор из каких-то неведомых тайников раздавался по временам могучий голос, который разносился от моря до моря по всему лицу русской земли, покрывая робкий лепет лицемеров и дикие завывания льстецов. И радостно трепещут, заслышав его, сердца борцов, и дрожит деспот за стенами своего неприступного дворца, потому что чует он, что ополчилась на него великая сила, пред которой рассеются его легионы и падут его твердыни: сила вольной мысли, сила любви и бескорыстной преданности народному благу.
Эта сила, вооружившись огнем и динамитом, ринулась в смертный бой, который окончится лишь с гибелью деспотизма. И в этом славном бою тайная типография была тем знаменем, вокруг которого кипела самая жаркая сеча и на которое устремлялись тревожные взоры бойцов. Пока развевалось это знамя, пока никакие усилия врагов не могли вырвать его из рук его защитников, никто не унывал и не отчаивался в судьбе партии, даже после самых жестоких разгромов.
Но как объяснить изумительный факт существования тайных типографий почти под самым носом полиции в стране, подобной России? — Это объясняется исключительно преданностью своему делу со стороны тех, кому в них приходилось работать, и той чрезвычайной заботливостью, с какой принимались малейшие предосторожности, чтобы оберечь типографию от всяких опасностей.
Никто не ходил туда; никто, кроме тех, кому это было необходимо, не знал даже, где она помещалась. Осторожность доходила до того, что не только члены организации, которой типография принадлежала, но даже редакторы и сотрудники печатавшегося там органа не знали, где она находилась. Обыкновенно только один из них посвящался в тайну, и затем уже он вел все сношения, избегая по возможности личных посещений.
Во время моего участия в редакции «Земли и воли» эта роль выпала на мою долю. Сношения наши с типографией устраивались в нейтральных пунктах, из самых надежных. Там я сдавал рукописи, получал корректуры и назначал время и место следующего свидания. В случае чего-нибудь непредвиденного или когда личные сообщения почему-нибудь прерывались, я посылал обыкновенно открытку, назначая условным способом срок следующего свидания.
Один только раз мне пришлось побывать самому в типографии, и вот по какому случаю.
Это было 30 ноября, в тот самый день, когда должен был выйти первый номер нашей газеты. Утром ко мне пришел Александр Михайлов и рассказал, что, зайдя по делу в дом Трощанского, он едва не угодил в ловушку, устроенную там жандармами, и спасся только благодаря своей находчивости и ловкости. В то время как целая свора полицейских с криком гналась за ним по пятам, он сам стал кричать, показывая рукой вперед: «Держи! держи!» — и тем сбил с толку и толпу и полицейских, мимо которых ему приходилось бежать.
Мне очень хотелось поместить это известие в номере, главным образом чтоб подразнить Зурова, тогдашнего градоначальника, который клялся, что типография не могла быть в Петербурге, так как в подобном случае он непременно бы открыл ее.
Этим-то поводом я и воспользовался, чтобы самому посмотреть нашу типографию и познакомиться с наборщиками, которые давно меня звали в свою берлогу.
Типография помещалась на Николаевской улице, в двух шагах от Невского. Со всевозможными предосторожностями я добрался до квартиры и позвонил условным образом. Мне отворила Мария Крылова[104], и я вошел с чувством благоговения, какое должен испытывать правоверный, переступая порог храма.
В типографии работало четыре человека: двое мужчин и две женщины.
Мария Крылова, хозяйка квартиры, женщина лет 45, была одним из старейших и наиболее заслуженных членов партии. Она привлекалась еще по делу Каракозова и была сослана на житье в одну из северных губерний. В 1874 году ей удалось бежать из ссылки. С тех пор она была «нелегальной», не переставая работать для революции всеми возможными способами вплоть до 1880 года, когда она была арестована в типографии «Черного передела», как солдат на своем посту. Таким образом, в продолжение шестнадцати лет она оставалась в рядах революционеров, работая без устали в самых скромных и в то же время опасных ролях. Она перебывала во всех типографиях, начиная с первой, и была одной из лучших наборщиц, несмотря на то что от развившейся у нее прогрессивной близорукости она почти ничего не видела. Василий Бух[105], сын генерала и племянник сенатора, жил у Крыловой в качестве квартиранта. У него был паспорт чиновника какого-то министерства, и он ежедневно выходил из дому в определенное время с гигантским портфелем под мышкой, в котором он уносил номера газеты и приносил бумагу для печатания. Это был молодой человек лет 26–27, бледный, с изящной аристократической наружностью и до такой степени молчаливый, что иногда по целым дням решительно не открывал рта. Он-то и служил посредником между типографией и внешним миром.
Фамилия третьего из обитателей квартиры так и осталась тайной[106]. Уже больше трех лет он находился в рядах партии и пользовался всеобщей любовью и уважением; но его настоящего имени никто не знал, потому что тот, кто ввел его в организацию, умер, а все остальные звали его не иначе как «Птицей» — прозвище, данное ему за голос. Когда после отчаянного четырехчасового сопротивления типография «Народной воли», где он работал, принуждена была сдаться и солдаты ворвались в дом, он покончил с собой выстрелом из револьвера. Так безыменным он жил, безыменным и сошел в могилу.
Его положение в типографии было едва ли не самым тяжелым. Дело в том, что в видах осторожности он вовсе не прописывался в полиции, так как каждый предъявленный паспорт, хотя бы самый лучший, все же лишняя опасность. Поэтому ему приходилось постоянно скрываться и по целым месяцам не показывать носа за порог квартиры, чтобы не попасться на глаза дворнику. Вообще все работавшие в тайных типографиях порывали почти всякие сношения с внешним миром и вели жизнь отшельников. Но бедной птице пришлось обречь себя на положение настоящего узника, замурованного навсегда в четырех стенах. Это был совсем еще молодой человек лет 22–23, высокий, тонкий, с худощавым лицом, обрамленным прядями длинных иссиня-черных волос, оттенявших еще больше его мертвенную бледность — результат долгого лишения свежего воздуха и света и постоянного пребывания в атмосфере, наполненной ядовитой пылью свинца. Живыми оставались только глаза, большие и черные, как у газели, лучистые и бесконечно добрые и грустные. У него была чахотка, и он знал это, но все-таки не хотел покинуть свой пост, потому что был опытным наборщиком и заменить его было некем.
Четвертым наборщиком была девушка, жившая под видом служанки Крыловой. Я забыл ее фамилию.[107] Это была миловидная блондинка 18 или 19 лет, с голубыми глазами, которую можно было бы назвать очень красивой, если бы не тяжелое, угнетающее нервное напряжение, никогда не сходившее с ее бледного лица. Она казалась живым воплощением тех непрерывных мук, которых стоит людям долгая жизнь в этом роковом месте, под угрозой ежечасной, ежеминутной гибели.
После обычных приветствий я объяснил цель своего посещения и спросил, можно ли будет поместить в номере заметку о забавном утреннем происшествии с Михайловым. Мне ответили, что можно, и всем мое предложение очень понравилось. Мы тотчас принялись за работу. Номер был уже сверстан, и нужно было выбросить что-нибудь, чтобы очистить место для моей заметки, которую я тут же и набросал на клочке бумаги. Меня провели по всем комнатам и объяснили, как происходит работа. Самая типография была крайне несложной: несколько касс с разными шрифтами, маленький цилиндр, только что отлитый из какой-то темно-бурой упругой массы, очень похожей на столярный клей и сладковатой на язык; большой, тяжелый цилиндр, покрытый сукном и служивший в качестве пресса; несколько пропитанных чернилами щеток и губок в корзинке; две-три банки типографских чернил. Все было расположено таким образом, что в четверть часа могло быть убрано в большой шкаф, стоявший тут же в углу.
Мне объяснили технику работы и рассказали о некоторых маленьких уловках, к которым прибегали, чтобы отвратить подозрения со стороны дворника, приносившего ежедневно в квартиру воду, дрова и пр. Основным правилом было не прятаться, насколько возможно, а, напротив, показывать всю квартиру как можно чаще. Наборщики пользовались всяким поводом, чтобы пустить дворника во внутренние комнаты, конечно предварительно убрав оттуда все подозрительное. Когда повода не было, его сочиняли. Так, долго не могли придумать, под каким бы предлогом залучить его в одну из задних комнат. Наконец Крылова пошла раз к дворнику и сказала, что туда забежала крыса, которую нужно убить. Дворник явился; понятно, ничего не нашел, но дело было сделано: теперь он побывал во всех комнатах и мог засвидетельствовать, что нигде не видел ничего подозрительного. Раз в месяц в квартиру обязательно являлись полотеры.
Наборщики весело шутили и смеялись, припоминая все свои хитрости. Но мне было не до смеха.
Глубокая грусть овладела мною при виде этих людей. Невольно я сравнил их ужасную жизнь с нашей, и мне стало стыдно. Вся наша деятельность при дневном свете, среди возбуждающей обстановки борьбы, в кругу товарищей и друзей, разве не была она праздником по сравнению с поистине каторжным существованием, на которое эти люди обрекали себя в своей унылой, темной норе.
Мы распрощались. Я медленно спустился по лестнице и вышел на улицу возбужденный, взволнованный. Мысли самые противоположные теснились в моей голове. Я думал об этих людях, о революционной борьбе, ради которой они так беззаветно жертвовали собой, думал о нашей партии.
Вдруг меня озарила мысль, объяснившая мне мое волнение. Не они ли, эти высоко самоотверженные люди, — истинные представители нашей партии? Эта типография, не есть ли она живое олицетворение всей революционной борьбы в России? Чувство, противоположное тому, которое до сих пор давило меня, зажглось в моей груди. Нет, мы непобедимы, думалось мне, пока еще не иссяк родник этого скромного, анонимного героизма, величайшего из всех героизмов; мы непобедимы, пока у нас будут такие люди.
Поездка в Петербург
Громкий и продолжительный стук в дверь заставил меня вскочить с постели.
Что бы такое могло быть? Будь я в России, первою моей мыслью было бы, что явились жандармы. Но дело происходило в Швейцарии, и, следовательно, с этой стороны опасаться было нечего.
— Qui est la?[108] — спросил я по-французски.
— Я, — отвечал на русском языке хорошо знакомый голос. — Отпирайте скорей.
Я зажег свечу, так как было еще темно, и стал поспешно одеваться. Сердце у меня сжалось недобрым предчувствием.
Недели две перед тем один из самых близких моих друзей[109], серьезно замешанный в последнем покушении на царя, после непродолжительного пребывания за границей отправился обратно в Россию, и вот уже несколько дней мы ждали с беспокойством известия о его переходе через границу.
Страшное подозрение, которого я не решался формулировать даже самому себе, мелькнуло у меня в голове. Я наскоро накинул платье и отворил дверь. В комнату стремительно вошел Андрей, не снимая шляпы, даже не здороваясь.
— Николай арестован, — сказал он вдруг надломленным голосом и упал на стул.
Николай был наш общий друг. Несколько мгновений я смотрел на него упорным, неподвижным взглядом, точно не понимая, что он говорит. Затем я повторил про себя эти ужасные два слова, сначала механически, едва слышно, точно эхо, а потом — с страшной, раздирающей душу отчетливостью.
Мы оба молчали. Казалось, что-то холодное, неумолимое, роковое надвинулось на нас со всех сторон, заполнило всю комнату, все пространство и проникло в самую глубь нашего существа, леденя кровь и парализуя мысль.
То был призрак смерти.
Однако отчаянием делу не поможешь. Прежде всего следовало удостовериться, точно ли все погибло, или еще можно предпринять что-нибудь.
Я стал расспрашивать подробности. Оказалось, что Николай арестован на границе и, что всего хуже, со времени его ареста прошло уже четыре дня: вместо того чтобы уведомить нас о случившемся телеграммой, контрабандист послал ради экономии простое письмо.
— Где же письмо? — спросил я Андрея.
— У Владимира[110]. Он только что приехал и ждет вас у меня. Идем.
Мы вышли.
Заря только что занялась на востоке и бледным светом заливала пустынные улицы спящего города. Молча, понурив голову, двигались мы вперед, погруженные каждый в свои мрачные думы. Владимир поджидал нас. Мы были с ним приятели и давно уже не видались. Но не весела была наша встреча. Ни дружеского приветствия, ни вопроса, ни улыбки. Молчаливо и грустно пожали мы друг другу руку. Так встречаются люди в доме, где есть покойник.
Владимир прочел вслух письмо контрабандиста. Николай был арестован на прусской границе, около Вержболова, и заключен пока в местную тюрьму. Что произошло дальше, никто не знал, так как контрабандист со страху немедленно перебрался в Германию и сообщаемые им дальнейшие известия были в высшей степени сбивчивы: сначала думали, что Николай взят как дезертир, но потом прошел слух, что в дело вмешались жандармы: это уж пахло политикой.
Что касается самого ареста, то ясно было только одно: контрабандист тут был совершенно ни при чем. Он всячески оправдывался в письме и, выразив свое душевное огорчение по поводу случившегося, просил прислать немедля следуемые ему деньги. Арест, очевидно, произошел благодаря неосторожности самого Николая: просидев целый день где-то на чердаке, он не вытерпел наконец и вышел прогуляться. Это была непростительная, ребяческая оплошность.
— И что за глупость, что за мальчишество, — воскликнул я. — Вылезать на улицу в маленькой деревушке, где всякого нового человека тотчас же заметят. Забавляться в такую минуту! Всякий дурак теперь границу переходит. Так вот же нет, ему нарочно нужно было совать голову в петлю. В тридцать лет, несмысленочек! Ну и поделом, поделом ему… Будет знать теперь, как куражиться!
Меня душило бешенство, и вместе с тем я до крови кусал себе губы, чтобы удержаться от рыданий.
Андрей, точно раздавленный горем, сидел подле стола, перевалившись всем телом на правый локоть, почти лежа на столе. Его долговязая фигура, освещенная тусклым, мерцающим пламенем свечи, казалась точно безжизненной.
Я остановился перед ним.
— Ну так что же теперь делать? — вдруг спросил он меня.
Я только что хотел сам задать ему этот вопрос. Ничего не отвечая, я быстро повернулся от него и снова зашагал взад и вперед по комнате.
«Что же теперь делать? — спрашивал я себя. — Что делать в таком безнадежном положении? Принимая в расчет путешествие Владимира, со времени ареста должно было пройти дней пять. Добраться отсюда до русской границы возьмет еще дня три. А в течение семи дней жандармы сто раз смогут открыть настоящее имя Николая и под сильным конвоем препроводить его в Петербург. Положение безвыходное! Но почем знать? Может быть, они оставили его в Вержболове или где-нибудь по соседству. Он так глупо попался, что, чего доброго, они примут его за невинного подлетка. Но нет, не может быть. До нас дошли слухи, что жандармы поджидали кого-то из-за границы. Положение безнадежное! Но что-нибудь нужно же предпринять».
— Надо послать Рину, — сказал я наконец со вздохом. — Если еще можно сделать что-нибудь, то сделает только она.
— Да, да, пошлемте Рину, — воскликнул Андрей, и луч надежды, казалось, оживил его мертвенно-бледное лицо.
— Да, надо послать Рину, — с жаром подхватил Владимир. — Если еще не все потеряно, она наверное что-нибудь сделает.
Рина была полька, дочь одного из многочисленных мучеников за свободу своей несчастной родины. Детство свое она провела в маленьком пограничном городке, главный и почти единственный промысел которого составляла контрабанда. Отправившись в Петербург учиться, она познакомилась там с идеями социализма, примкнула к революционному движению, которое тогда только что началось, и вскоре заняла специальный пост в организации: она, как тогда выражались, «держала границу», то есть заведовала сообщением между Россией и заграницей, где в то время печаталась почти вся русская революционная литература.
Происхождение ее и та практическая жилка, которой отличаются польские женщины, в соединении с свойственным ей тонким чутьем и ловкостью, делали ее не только в высшей степени подходящей для сношений с контрабандистами, но даже создали ей среди них своего рода популярность. Она говаривала иногда полусерьезно, полушутя, что на границе она может сделать больше самого губернатора; и это была правда, потому что там можно купить все и всех, начиная с солдата пограничной стражи и таможенного чиновника и кончая представителями городской магистратуры и администрации. Нужно только знать, как к ним подступиться.
С концом периода пропаганды и наступлением кровавой эпохи террора Рина перестала принимать участие в движении, не веря в возможность успеха при таких средствах борьбы. Она уехала за границу, училась в Париже, а потом, ввиду расстроенного здоровья, поселилась в Швейцарии.
Я отправился к ней, попросивши своих приятелей подождать моего возвращения.
На мой звонок немедленно вышла служанка, так как день уже наступил, а в Швейцарии народ встает рано.
— Барышня спит, — сказала она.
— Да, я знаю, но дело в том, что приехал ее родственник, которого она рада будет увидеть поскорее, — ответил я по русскому обычаю скрывать от посторонних всякие «конспирации».
Подойдя к двери ее комнаты, я громко постучался.
— Мне необходимо немедленно переговорить с вами, — сказал я по-русски.
— Сейчас, сейчас, — послышался несколько встревоженный голос Рины.
Минут через пять она вышла ко мне, не успевши даже привести в порядок свои прекрасные длинные косы, черные как воронье крыло.
— В чем дело? — спросила она, с беспокойством устремляя на меня свои большие серые глаза.
В двух словах я рассказал ей о том, что случилось.
Несмотря на смуглый цвет ее кожи, видно было, как она побледнела при этой роковой вести. Не произнеся ни слова в ответ, она склонила голову. Вся ее маленькая, почти детская фигурка выражала в эту минуту одну безграничную скорбь.
Я не решался нарушить ее безмолвия и ждал, пока она сама заговорит.
— Если бы мы узнали об этом вовремя, — начала она наконец тихо, точно говоря сама с собой, — все бы еще можно было, пожалуй, уладить, но теперь…
— Кто знает, — возразил я. — Быть может, они еще держат его на границе.
Она с сомнением покачала головой.
— Во всяком случае, — настаивал я, — необходимо попытаться. Я пришел просить вас съездить туда.
Рина продолжала стоять молча и неподвижно, точно не слышала моих слов или они не к ней относились. Она не подняла даже своих длинных ресниц, совершенно закрывавших ее глаза, и взгляд ее был устремлен вниз.
— О, что до меня, — проговорила она наконец вполголоса, — то я, конечно, поеду, но…
Она встряхнулась и стала разбирать вопрос с практической точки зрения. Приходилось согласиться, что с этой стороны дело обстояло очень плохо. Но тем не менее она тоже признала, что попытаться нужно. В пять минут все было улажено.
Несколько часов спустя Рина, снабженная несколькими стами франков, наскоро собранными между товарищами, мчалась уже с курьерским поездом к русской границе, унося с собой все наши надежды.
Как она и предвидела, дело не выгорело. По приезде на границу она принуждена была потерять два дня на розыски контрабандиста, от которого только и можно было получить точные сведения. Тот прятался, оттягивал и в заключение удрал в Америку, забрав с собой деньги, которые мы послали ему на случай каких-либо непредвиденных расходов.
Узнав об этом, Рина сама перебралась через границу, без всякого определенного плана и подвергая себя очень серьезной опасности, лишь бы только не терять ни минуты времени. К несчастью, за несколько дней перед тем Николай был уже увезен из Вержболова. Его узнали и перевезли сначала в губернский город, а потом в Петербург.
Тогда Рина поехала в Петербург, частью ради того, чтобы пытаться предпринять еще что-нибудь для освобождения Николая, но больше — из простого желания посетить этот город и повидаться с старыми друзьями, раз ей пришлось быть так близко от них.
Приехала она туда за несколько дней до 1 Марта и провела три недели в том аде кромешном, какой представлял из себя Петербург после убийства Александра II.
Когда я задумал свои очерки, мне пришло в голову, что небезынтересно было бы присоединить к ним и ее воспоминания об этих днях. Я написал ей об этом, и в результате получился следующий рассказ.
По приезде в Петербург, — так начинает Рина свое повествование, — я тотчас принялась за поиски одной своей землячки и старой подруги, Дубровиной. Я знала, что она не принимает активного участия в движении; но у нее было нечто вроде революционного салона, и потому я надеялась получить от нее все нужные мне сведения и разыскать Ольгу[111], жену Николая, которая была тогда в Петербурге. Надеждам моим не суждено было, однако, осуществиться. Дубровина сказала мне, что действительно изредка ее посещают некоторые из террористов, но что об Ольге она решительно ничего не знает.
Оставивши давно уже Петербург, я воображала, что в последнее время жизнь революционеров должна быть ужасна. Дубровина, напротив, уверяла, что хотя действительно после каждого нового покушения становится на некоторое время трудновато, но буря проносится, и все вступает снова в обычную колею. «Теперь, — заключила она, — у нас совершенное затишье».
Вопросом далеко не последней важности являлось для меня также отсутствие паспорта. Но Дубровина утверждала, что это пустяки и что я прекрасно обойдусь без него.
Между тем надо было разыскивать Ольгу — задача не особенно легкая, так как революционеры тщательно скрывают свои адреса. Мне рассказывали, например, что некто Д. был принужден, для того чтобы найти приятеля, жившего так же, как и он сам, в Петербурге, отправиться в Киев исключительно затем, чтобы узнать там его адрес.
Немало мне пришлось пошататься по Петербургу, наведываясь к разным лицам, от которых я предполагала узнать что-нибудь об Ольге. Но все оказывалось напрасно.
Так прошло два дня. Я решительно не знала, что мне делать. Но Дубровина, хорошо знавшая нравы и обычаи радикальского мира, советовала не приходить в отчаяние и положиться на волю божью.
Дело в том, что все новости, даже самые незначительные, распространяются среди революционеров с поразительной быстротой. Поэтому Дубровина была уверена, что весть о моем приезде из Швейцарии немедленно разнесется повсюду и что, услышав об этом, Ольга догадается, от кого я приехала, и сама постарается найти меня.
Так и случилось.
На третий день моего приезда, после обеда, мы весело болтали о чем-то с Дубровиной и одной ее приятельницей, как вдруг дверь отворилась и на пороге показался «Факир» — тот самый, который из любознательности четыре раза чуть не отравился разными ядами, делая над собой опыты, — и таинственно произнес, обращаясь ко мне:
— Мне нужно с вами пройтись. Не доставите ли вы мне удовольствие быть вашим кавалером?
Произнесено это было с такой торжественной миной, что все мы покатились со смеху. Он же, преисполненный самой невозмутимой серьезности, спокойно застегивал свои перчатки. Его высокая, сухощавая фигура торчала прямо, как столб.
Сопровождаемая всеобщим хохотом, я поднялась с места и взяла его под руку, показывая, как я буду изображать из себя светскую даму, идя с ним по улице. Факир даже не улыбнулся. По-прежнему важный, с своей лысой головой, откинутой немного назад, с безбровым лбом бронзового цвета и крайне худощавой физиономией, он напоминал не то рыцаря Печального Образа, не то какого-нибудь индийского идола.
Не было никакой надобности сообщать мне, куда мы идем. Я знала, что Факир приятель Ольги и Николая, который любил его за решительный характер, хотя немало подтрунивал над его пристрастием ко всякого рода конспирациям. Пройдя шагов около двухсот под руку, мы взяли извозчика на Пески. Путь предстоял неблизкий. К тому же лошаденка везла нас кое-как, и мне казалось, что мы никогда не доедем.
— Как это далеко, однако, — обратилась я к своему спутнику.
— Да, — согласился он, — и притом заметьте, что теперь мы двигаемся в направлении, противоположном цели нашей поездки.
Я возмутилась не на шутку против такой траты времени, заявляя, что хочу ехать прямо к Ольге; но мой путеводитель был неумолим.
Приехав на Пески, мы снова прошлись немного пешком, после чего взяли другого извозчика, который повез нас к Технологическому институту.
Едва успели мы сойти, как нашего извозчика взял какой-то офицер, обстоятельство, сильно обеспокоившее моего кавалера. На тротуаре стояло двое детей-нищих, мальчик и девочка, лет восьми. Ребятишки были такие хорошенькие, что я невольно остановилась перед ними.
— Дай копеечку, барыня, — воскликнули дети, протягивая руки.
Я потрепала их по щеке и дала каждому по копейке.
— Ну, к чему вы это делаете, — проговорил Факир встревоженным голосом, когда мы отошли от них. — Разве вы не знаете, кто это? Полиция держит на службе сотни таких оборванцев. Они только притворяются нищими, а в сущности занимаются шпионством.
Я улыбнулась. Возражать ему было бесполезно. Мы продолжали наше путешествие еще с добрый час, так что на улицах стали уже зажигать фонари, когда мы добрались наконец до дома, где меня ждала Ольга.
Вид у бедной женщины был самый ужасный. С трудом я могла узнать ее: так она побледнела, похудела и вообще изменилась. Мне хотелось заговорить с ней о Николае, но мы были не одни. Понемногу комната, где мы сидели, стала наполняться народом. Большинство приходивших были в блузах и неизменных студенческих пледах. Вскоре вошла хозяйка, молодая красивая брюнетка, и, уведя Ольгу в сторону, сообщила ей, что комната нынешний вечер занята для студенческой сходки.
Она приглашала нас оставаться, но нам было не до сходки. Однако я не удержалась, чтобы не выразить своего удивления и в то же время удовольствия, что после целого ряда покушений в Петербурге живется сравнительно так свободно.
— Да, — ответила Ольга. — Народ распустился, и это очень плохо; но ведь вы знаете: гром не грянет — мужик не перекрестится.
Нам предложили сойти вниз, где были свободные комнаты. Там мы и провели остальную часть вечера, толкуя о своих делах. Я рассказала Ольге о своих попытках и приключениях на границе. Она же сообщила мне обо всем, что успела сделать в Петербурге. Сделано было, в сущности, очень немного, и, на мои взгляд, положение было безнадежным. Но Ольга не соглашалась со мной; она все еще продолжала надеяться.
На следующий день я в первый раз встретилась у Дубровиной с Гесей Гельфман. Что меня больше всего поразило в ее лице, это выражение безграничного страдания вокруг рта и в глазах. Но, лишь только нас познакомили друг с другом, она с увлечением принялась рассказывать мне о «делах», о направлении разных революционных групп, о «Красном кресте» и пр.
Я много раз видала ее потом, и она произвела на меня впечатление самой искренней, простой и скромной женщины, до глубины души преданной делу, но лишенной всякой инициативы.
Муж ее, Колоткевич, был арестован за несколько дней до моего приезда. Несмотря на угнетавшее ее страшное горе, которое сказывалось против воли в выражении ее лица, глаз, голоса, она все время занималась делами партии, исполняя поручения всякого, кто обращался к ней за чем бы то ни было. Дубровина и все, кто ее знал, говорили, что доброта ее безгранична.
Казалось, у нее не было ни одной минуты, чтобы подумать о себе и своем несчастье.
Я помню, как однажды она передала Дубровиной записку для Скрипачевой, которая вела правильные сношения с жандармом, тайно передававшим письма заключенным в Петропавловской крепости. Какой безграничной скорбью звучал ее голос, несмотря на все ее старания побороть свое волнение, когда она просила Дубровину передать эту записку Колоткевичу, сидевшему также в крепости!
К несчастью, сношения с крепостью прекратились и записка не могла дойти по назначению.
Геся Гельфман часто бывала у Дубровиной, и все в доме до бабушки-старухи любили ее, как родную. Она была чрезвычайно застенчива. Сколько раз ее ни приглашали обедать или хоть что-нибудь перекусить, она всегда отказывалась. Редко когда она соглашалась выпить чашку чаю, хотя, я уверена, не раз она приходила к нам очень голодной, так как, по горло заваленная «делами», она часто не имела времени забежать домой, чтобы поесть.
В моих беспрерывных скитаниях в поисках ночлега мне пришлось перебывать в очень многих домах. Гесю знали всюду, а молодежь отзывалась о ней с большим уважением. Все ее очень любили и встречали всегда с живейшей радостью. Она постоянно была au courant[112] всех новостей в революционном мире, которыми так интересуется общество, особенно молодежь. Ее карманы и большая кожаная сумка, с которой она никогда не расставалась, всегда были наполнены прокламациями Исполнительного комитета, номерами «Народной воли», билетами на балы, концерты, спектакли, лотереи — в пользу ссыльных, заключенных или на издание подпольной литературы. Геся была ходячим адрес-календарем и могла устроить вам свидание с любым из выдающихся террористов.
Она-то сообщила мне однажды от имени Софьи Перовской, которую я знавала несколько лет тому назад, ее желание повидаться со мной. Она думала зайти ко мне сама, но болезнь помешала этому.
Перовскую я увидела в первый раз у Оленина, моего старого приятеля, служившего чиновником в одном департаменте. Бледная как полотно, она едва волочила ноги и лишь только вошла в комнату, тотчас же легла на кушетку. Она пришла за месячным сбором, который Оленин делал среди своих товарищей: сумма была очень скромная — всего каких-нибудь сто рублей в месяц. К несчастью, деньги еще не были внесены, так что Оленин ничего не мог дать ей. У меня было в кармане сто рублей, данные мне для передачи одной особе, которая должна была на днях приехать в Петербург. Я предложила их Перовской взаймы на два дня, не сомневаясь, что при таком состоянии здоровья да еще в такую пору — было уже около одиннадцати часов ночи — никто не явится за деньгами без самой крайней нужды.
Но Перовская не приняла моего предложения, говоря, что не уверена в возможности отдать мне деньги в такой короткий срок. Тем временем она рассказала нам, что истратила все до копейки, потому что за ней гнался шпион и ей пришлось несколько раз менять извозчика. Она прибавила, что не вполне уверена, удалось ли ей замести свои следы и что ежеминутно полиция может явиться за ней к Оленину.
Необходимо было выпроводить ее как можно скорее. Мы высыпали все, что у нас было в кошельках, в ее портмоне. Что касается Оленина, то он был старый волк и квартира его была всегда совершенно «чиста», но у меня была в кармане пачка последнего номера «Народной воли». Чтобы не бросать ее в печку, Перовская взяла ее с собою, сказавши, что, если ее арестуют со всем этим, ей от того ни тепло ни холодно.
Она торопливо вышла, но перед уходом сказала, что желала бы иметь со мной свидание, если будет «жива».
Мы назначили место и час; но она не явилась, и я страшно испугалась, потому что мне тотчас пришло в голову, что она арестована. На другой день меня, однако, успокоили: Перовская была «жива», но не могла выходить из дому по причине тяжкой болезни.
Все это происходило за два или три дня до Первого (тринадцатого) марта. Как я узнала впоследствии, накануне нашей встречи у Оленина был арестован Желябов…
Утром Первого марта — это было воскресенье — я отправилась к одной приятельнице в Гатчину, бывшую в то время одним из самых тихих городков богоспасаемой матушки России, — не то что теперь.[113]
Первое известие о петербургских событиях мы получили в понедельник утром от горничной. Около часу дня зашел к нам местный батюшка и сообщил, что он также слыхал кое-что об этом от мужиков, возвращавшихся из Петербурга. Однако никаких официальных подтверждений пока еще не было. Но к вечеру приехала старшая сестра Нади и привезла целую кучу газет.
Нет нужды описывать, что мы тогда перечувствовали. Надя даже слегла.
Затем наступили поистине ужасные дни, дни мучительных сомнений, подозрительности, страха. Казалось, наступило светопреставление. Каждый номер газеты приносил известия о новых открытиях полиции и новых строгостях. Мы узнали о страшном деле на Тележной улице, о самоубийстве неизвестного человека[114]. И аресты каждый день, аресты без конца, то в одиночку, то целыми массами.
Как сунуться в этот ад? Как оставаться в Гатчине в муках неизвестности? В конце концов я не выдержала и отправилась в Петербург. Это было в четверг.
Город, весь в трауре, производил невыразимо тяжелое, гнетущее впечатление. Дома, балконы, окна, фонари на улицах — все было задрапировано черным и белым. Я прямо направилась к Дубровиной.
Вся семья была в сборе, и на всех лицах написан был один панический страх. Дубровина, увидевши меня, вскрикнула от испуга. Вид остальных был не лучше.
— И принесла же вас нелегкая! Чего вам не сиделось в Гатчине? Зачем вы сюда пришли? Разве вы не знаете, что за мной следят? Куда я дену вас теперь?
Все это Дубровина говорила прерывающимся от волнения голосом, бегая из угла в угол по комнате и только изредка останавливаясь передо мной.
«Зачем я не осталась в Гатчине? Зачем явилась сюда? Вот поди ж ты!» — думала я про себя.
Через несколько дней моя приятельница подобрела, и в течение следующих трех недель я не раз по-прежнему ночевала в ее доме. Но в этот день она была безжалостна. Гнев ее против меня был в самом разгаре, когда вдруг в комнату вошла какая-то незнакомая дама, очень прилично одетая, и заявила, что желает сказать г-же Дубровиной несколько слов наедине.
Во мгновенье ока в комнате воцарилась мертвая тишина. Мы с испугом переглянулись. Семья была уже в тревоге, так как младшая сестра Дубровиной ушла из дому с утра и до сих пор не возвращалась. Никто не знал, где она, и первой нашей мыслью было, что с ней приключилось что-нибудь недоброе.
Вскоре, однако, Дубровина вернулась и, отведя меня в сторону, сказала, что дама эта пришла ко мне от Софьи Перовской.
Я чуть не подпрыгнула от радости. Соня была «жива» и, очевидно, собиралась ехать за границу. Мне и в голову не приходило, что я могу быть нужна ей для чего-нибудь другого, так как переправа через границу составляла мою давнишнюю и единственную специальность.
С такими розовыми мыслями вошла я в комнату, где меня ожидала Перовская. Она встала мне навстречу. Я начала с того, как я рада, что она наконец решилась ехать за границу.
Она вытаращила на меня глаза, точно я сказала величайшую нелепость.
Поняв свою ошибку, я начала просить, умолять ее оставить Петербург, где ее так сильно искали. Я не подозревала даже в то время о том, какую роль она играла в деле Первого марта, но ее участие в московском покушении было уже рассказано Гольденбергом[115], как о том печатали все газеты, и этого, по-моему, было за глаза довольно, чтобы оставить Петербург в такое время.
Но на все мои доводы и просьбы она отвечала категорическим отказом.
— Нельзя оставить город в такую важную минуту. Теперь здесь столько работы; нужно видеть такое множество народу.
Она была в большом энтузиазме от грозной победы партии, верила в будущее и видела все в розовом свете.
Чтобы положить конец моим просьбам, она объявила, зачем позвала меня.
Ей хотелось узнать что-нибудь о процессе цареубийц. Дело шло о том, чтобы сходить к одной высокопоставленной особе, «генералу», человеку, служившему в высшей полиции, который, без сомнения, мог дать нам сведения о процессе, хотя следствие по нем велось в величайшей тайне. Этот человек не состоял в правильных сношениях с революционерами. Но случайно я была с ним знакома несколько лет тому назад. Вот почему Перовская подумала обо мне. Вопрос касался ее очень близко. Человек, которого она любила, находился в числе обвиняемых. Хотя страшно скомпрометированный, он случайно не принимал прямого участия в деле Первого марта. И она надеялась.
Я сказала ей, что пойду охотно не только к своему «генералу», но, если она находит это нужным, даже к своему «жандарму», с которым несколько лет тому назад я вела сношения по переписке с заключенными. Но на последнее Перовская не согласилась, говоря, что мой жандарм прервал всякие сношения с революционерами и, наверное, выдаст меня полиции или же, если побоится моих разоблачений, выпустит за мною следить целую свору шпионов. Во всяком случае, ничего не скажет, да, может быть, и сам ничего не знает. С «генералом» же, напротив, бояться было нечего, потому что лично он был не способен на подлость и в глубине души сочувствовал, до известной степени, революционерам. Было решено, что завтра в десять часов я пойду к генералу. Перовская хотела иметь ответ как можно скорее. Но, несмотря на все старания, никак не могла назначить свидание раньше шести часов вечера. Когда же я выразила свое удивление, она рассказала мне распределение своего времени: оказалось, что на завтра у нее семь свидании и все в противоположных концах города.
По окончании наших переговоров Перовская позвала молодого человека, члена семейства, где было наше свидание, и послала его в адресный стол взять адрес моего генерала. Девушка, приятельница хозяйки, была послана Перовскою искать мне ночлег, так как я сказала ей, что у меня его нет.
Мы опять остались одни, и я снова принялась упрашивать ее уехать за границу. Предлагала ей, если она находит невозможным оставить Россию надолго, уехать в какой-нибудь из маленьких пограничных городков, где мы можем прожить с ней две-три недели. Она ничего не хотела слышать и смеялась над моей трусостью, но добродушно. Затем она переменила разговор. Она сказала мне, кто был молодой человек, убитый взрывом бомбы[116], брошенной к ногам царя. Сказала также, что застрелившийся на Тележной улице был Николай Саблин, которого я когда-то знавала. Мороз пробежал у меня по коже при этом известии.
Когда вернулась барышня, посланная искать мне ночлег, мы расстались. Перовская спросила, не нужно ли мне денег, чтобы одеться приличней, прежде чем идти к генералу.
На этот раз денег у нее были полные карманы, но я сказала ей, что мне ничего не нужно, потому что со мной было довольно приличное платье.
На другой день я отправилась к генералу, который принял меня гораздо лучше, чем я ожидала, и сообщил самые точные и подробные сведения о деле. Но как они были печальны! Участь Желябова, как и всех прочих подсудимых, была бесповоротно решена. Процесс должен был совершаться только pro forma, для публики.
С такими-то сведениями пришла я к шести часам на свидание. Перовская явилась только в девять. Я вздохнула свободно, завидевши ее в дверях. Лица у нас обеих были нельзя сказать чтобы особенно хорошие: у меня от мучения, причиненного мне ее поздним приходом, у нее, как она говорила, от большой усталости, а быть может, и от чего-нибудь другого. Нам принесли самовар и оставили одних. Без всяких предисловий я передала ей, что знала. Я не видела ее лица, потому что смотрела в землю. Когда я подняла глаза, то увидела, что она дрожит всем телом. Потом она схватила меня за руки, стала нагибаться ниже и ниже и упала ничком, уткнувшись лицом в мои колени. Так оставалась она несколько минут. Она не плакала, а вся дрожала. Потом она поднялась и села, стараясь оправиться, но снова судорожным движением схватила меня за руки и стала сжимать их до боли…
Помню, что я предложила съездить в Одессу, чтобы вызвать кого-нибудь из родных Желябова для свидания. Но она отвечала, что не знает их точного адреса и к тому же слишком поздно, чтобы поспеть к процессу. Генерал удивлялся, зачем Желябов объявил себя организатором покушения. Когда я передала это Перовской, она отвечала мне следующими точными словами:
— Иначе нельзя было. Процесс против одного Рысакова вышел бы слишком бледным.
Генерал сообщил мне многие подробности относительно гордого и благородного поведения Желябова.
Когда я рассказывала это Перовской, то заметила, что глаза ее загорелись и краска вернулась на ее щеки. Очевидно, это доставляло ей большое удовольствие. Генерал сказал мне также, что все обвиняемые знают об ожидающей их участи и выслушали известие о близкой смерти с поразительным спокойствием и хладнокровием.
Услыхав это, она вздохнула; она мучилась ужасно; ей хотелось плакать, но она сдерживалась. Однако была минута, когда глаза ее подернулись слезой.
В эти дни по городу ходили уже упорные слухи, что Рысаков выдает. Но генерал отрицал это, не знаю почему. Помню, что я обратила ее внимание на это противоречие, чтобы вывести заключение, что, быть может, генерал и сам не знает всего. Мне попросту хотелось успокоить ее так или иначе, но она отвечала мне:
— Нет, я уверена, что все это так, потому что и тут он, должно быть, прав. Я знаю Рысакова и убеждена, что он ничего не скажет. Михайлов тоже.
И она рассказала мне, кто был этот Михайлов, сколько других Михайловых среди террористов, и поручила мне передать одному из моих друзей[117] то, что один из них показал про него[118].
Мы оставались вдвоем почти до полуночи. Она хотела уйти раньше, но была так утомлена, что едва держалась на ногах. На этот раз она говорила мало, кратко и отрывисто.
Перовская обещала прийти завтра в тот же дом между двумя и тремя часами; я пришла в половине третьего. Она была, но ушла, не дождавшись меня, потому что ей было очень некогда. Так мы больше и не увидались.
Два дня спустя она была арестована.
Потянулись печальные дни. Мое неопределенное положение — не то «легальной», не то «нелегальной» — было для меня источником множества неприятностей. Будучи посторонним движению человеком, я не хотела брать подложного паспорта; не имея же документов, принуждена была постоянно искать убежища и ночлега, что было очень трудно. Я не могла пользоваться квартирами террористов, тем более что в это ужасное время они сами крайне нуждались в них. Приходилось самой заботиться о себе. Но куда обращаться? Личные мои друзья, которые только и могли что-нибудь для меня сделать, были все, подобно Дубровиной, «на подозрении», и заходить к ним можно было только изредка.
Волей-неволей пришлось прибегнуть, так сказать, к общественной благотворительности и скитаться по чужим. Но зато это дало мне возможность присмотреться к промежуточным, более или менее нейтральным слоям общества, представители которых или вовсе не принимают участия в политике и думают только о собственной шкуре, либо, как значительная доля студенчества, сочувствуют революции вообще, не примкнув еще ни к какой организации. Об этих двух категориях я только и могу говорить, потому что только с ними я и путалась.
Что касается первых — шкуролюбцев, — то об них говорить, собственно, нечего, да, признаться, и неохота. Это в высшей степени неблагодарная тема. Вообще я заметила следующее: в России человек трусит тем больше, чем меньше у него к тому оснований[119].
Приведу только один факт.
Случайно я узнала, что одна из моих старинных приятельниц, Эмилия, с которой мы когда-то жили душа в душу, как родные сестры, приехала в Петербург. Я решила повидаться с нею. Так как она только что прибыла, то адрес ее не мог еще попасть в адресный стол, и мне пришлось обратиться за помощью в этом деле к профессору Бойко, также земляку и другу нашего дома. Полдня провела я в поисках, находясь все время в каком-то почти лихорадочном возбуждении. Бойко советовал мне не идти, говоря, что Эмилия, наверное, слыхала, что я бежала за границу, и потому мой визит может, чего доброго, испугать ее. Но я до такой степени была уверена в своей подруге, что не обратила никакого внимания на его слова.
Лишь только добыт был адрес, мы с Бойко поехали к Эмилии.
— Дома ли? — с волнением спрашиваю я у швейцара.
— Дома.
Едва переводя дух, я взбежала вверх по лестнице, далеко оставив за собою моего степенного спутника.
Было воскресенье. Прислуга, по всей вероятности, была отпущена гулять, и потому Эмилия сама отворила нам.
Последовавшая затем сцена превосходит всякое описание.
Увидевши меня, Эмилия вдруг задрожала всем телом. Я бросилась вперед, протягивая к ней руки, но она неожиданно попятилась назад, и только после нескольких тщетных попыток удалось мне обнять ее ускользавшую, как тень, фигуру и покрыть поцелуями это бледное от страха лицо.
Когда мы наконец вошли в гостиную, глазам моим представилось следующее: муж и брат Эмилии — оба тоже друзья моего детства — сидели за раскрытым карточным столом.
При нашем появлении ни тот, ни другой не двинулся с места, ни тот, ни другой не обратился ко мне с словом приветствия; оба точно окаменели.
Некоторое время тянулось чрезвычайно напряженное, гнетущее молчание.
— Не могут оторваться от игры! — сказала я наконец, чтобы только вывести Эмилию из неловкого положения.
Она попробовала улыбнуться, но улыбка эта вышла похожей скорей на гримасу. Я начала рассказывать о себе; сказала, что не принимала никакого участия в движении последних лет, что я человек почти легальный, что, не случись 1 Марта, я бы даже попыталась выхлопотать себе паспорт; словом, что они не подвергались ни малейшему риску, принимая меня у себя, а в противном случае я сама не пошла бы к ним.
Эмилия знала прекрасно, что я не способна обманывать, и потому я надеялась, что слова мои успокоят ее. Но где там! Они были гласом вопиющего в пустыне, так как мои приятели находились под влиянием того безотчетного, панического страха, над которым люди не властны и который не поддается никаким убеждениям.
Эмилия, по-прежнему бледная как полотно, могла только пробормотать, что она страшно перепугалась, увидевши меня в такое время.
Наконец поднялись с своих мест и мужчины и поздоровались со мной. Охвативший их вначале столбняк, казалось, стал проходить понемногу.
Просидели мы там очень недолго. Провожая нас в переднюю, Эмилия, точно в оправдание, беспрестанно повторяла: «Я так испугалась, так испугалась». Это были чуть ли не единственные слова, которые я от нее услышала. Лишь только мы очутились на улице, Бойко начал подтрунивать надо мной.
— Ну что, ведь говорил вам, что нечего было идти? А вы все свое: скорей да скорей! — и он насмешливо передразнивал мой голос.
Я ответила, признаюсь не без смущения, что все это пустяки, что я все же довольна, что видела Эмилию, тогда как на душе у меня, как говорится, кошки скребли.
Между тем предо мной возникал в высшей степени важный вопрос о ночлеге. Было уже поздно, а потому найти что-нибудь подходящее представлялось делом далеко не легким.
Обыкновенно, едва продравши глаза, я уже начинала думать о том, где бы мне переночевать, и затем целый день проводила в поисках. Но в этот раз, ввиду предстоявшего свидания с Эмилией, я об этом позабыла.
— Придется провести ночь на улице, — сказала я.
Бойко не хотел этого допустить и стал придумывать, куда бы отвести меня на нынешнюю ночь. Но сколько он ни ломал головы — ничего не мог придумать.
Будучи, что до политики, чистым, как младенец от купели, он и знакомства водил с людьми столь же невинными и потому чрезвычайно трусливыми. Никто из них не пустил бы меня на порог.
— Ну, так вот что, — сказал он наконец. — Идемте ко мне.
Я знала его с детства и любила, как брата. Но не скажу, чтоб мне особенно улыбалась перспектива провести ночь в его квартире, тем более что она состояла всего из одной комнаты. Я заговорила о неудобствах его предложения — о дворнике, хозяйке, служанке.
— О, это ничего, — возразил Бойко. — Хозяйка и знать ничего не будет до завтрашнего утра, служанка тоже. Это — пустяки.
— Как пустяки! Дворник — пустяки? Впустить-то он нас впустит, но сейчас же пойдет за полицией.
— Ну вот еще! — воскликнул Бойко. — С какой стати дворнику идти за полицией? Он только подумает, что я подцепил себе…
— Молчите, молчите! — сказала я со смехом. — Ничего подобного дворник не подумает.
— Ну, тем лучше. Значит, идем.
«Как мне, в самом деле, быть?» — думала я про себя. Оставаться всю ночь на улице было не только неприятно, но даже крайне опасно. Приходилось согласиться на предложение моего спутника.
Мимо дворника мы действительно прошли совершенно благополучно. Он не только не остановил нас, но даже снял перед нами шапку. Хозяйка с служанкой уже спали, и мы вошли незамеченными. Я вздохнула свободнее, но все-таки не могла успокоиться.
— Ну, так что ж, что мы прошли благополучно, — сказала я, — это ничего не значит; дворник, наверное, пошел за полицией.
Бойко твердил свое и, чтобы развеселить меня, рассказал, как несколько времени тому назад, работая иногда до поздней ночи с каким-то из своих коллег, он несколько раз оставлял его ночевать у себя. Все шло хорошо, но вот в один прекрасный день главный дворник пристал к нему с замечанием, что он скрывает у себя беспаспортных.
— Да, — сказал ему Бойко, — и даже не одного, а целую кучу, и буду тебе очень благодарен, если ты их выведешь из моей квартиры.
Дворник вытаращил глаза, ничего не понимая. Тогда Бойко показал ему в углу целую кучу тараканов:
— Вот они, бродяги-беспаспортные. Смотри, сколько их. А приятель-то мой — таракан оседлый и с паспортом.
Дворник расхохотался и больше уж не лез.
Мы охотно бы проболтали всю ночь, но нужно было гасить свечу, так как окно выходило во двор и свет мог навести дворника на мысль, что тут происходит нечто подозрительное.
Бойко уступил мне свою постель; сам же растянулся на полу, скинув только сюртук. Я улеглась совсем одетая, не снимая даже воротничка и рукавчиков, а так как подушка сильно отдавала табаком, то я с головой укуталась в свой черный платок.
«Если жандармы явятся ночью, — думала я себе, — недолго им придется меня ждать».
К счастью, никто не явился, и все обошлось как нельзя более благополучно.
Теперь скажу несколько слов о другом слое русского общества, с которым во время моих скитаний по ночлегам мне приходилось много сталкиваться, — о молодежи, о студенчестве.
Если бы мне не пришлось видеть этого собственными глазами, я с трудом поверила бы, что в одном и том же городе и, можно сказать, бок о бок могут существовать такие разительные контрасты, как между студенчеством и только что описанными мирными российскими обывателями.
Вот пример гражданского мужества, о котором долго говорил весь Петербург.
Одному из студентов Медицинской академии, «князьку», принадлежавшему к числу щедринских «напомаженных душ», пришло в голову устроить подписку для возложения венка на гроб Александра II. Предложение было выслушано среди гробового молчания. По окончании речи князек положил в шляпу пятирублевую бумажку и начал обходить студентов. Никто, однако, не дал ему ни копейки.
— Но, господа, что же теперь будет? — воскликнул переконфуженный князек.
— Лекция профессора Мержеевского, — раздался насмешливый голос из толпы.
Но князек все не унимался и продолжал обходить студентов, приставая ко всем и каждому. Наконец ему удалось найти одного, который положил еще два рубля в его шляпу. По окончании лекции Мержеевского князек принялся опять за свое, но не получил больше ни гроша.
— Но, господа, — в отчаянье воскликнул он, — что же теперь будет?
— Лекция такого-то (не помню, кто был назван), — опять раздалось из толпы.
Прошла и следующая лекция. Тут уж князек решил припереть студентов к стенке и, бросивши деньги на стол, воскликнул:
— Что же мне делать с этими деньгами?
— Отдать на заключенных, — ответил ему кто-то, и это предложение было встречено всеобщим одобрением.
Князек со своим приятелем выбежали из аудитории. Тогда поднялся один из студентов, взял лежавшие на столе деньги для передачи кому следует. Тут же студенты собрали для заключенных еще пятьдесят рублей.
Происходило это всего лишь через несколько дней после 1 Марта, когда почти все население столицы было объято паникой.
Нужно было жить в то время в России, чтобы понять, сколько мужества требовалось для того, чтобы поступить, как поступили студенты Медицинской академии. И факт этот не единственный в своем роде.
Что поражает в жизни всего русского студенчества вообще, это полнейшее пренебрежение к вопросам личным, карьерным и даже ко всем тем удовольствиям, которые, по общепринятому мнению, «украшают зарю жизни». Можно подумать, что для них нет других интересов, кроме интеллектуальных.
Безграничная, всеобщая симпатия к революции — это нечто почти неотделимое от самого понятия о русских студентах.
Они готовы отдавать последнюю копейку на «Народную волю» или «Красный крест», то есть в пользу заключенных и ссыльных.
Студентами держатся все «благотворительные» концерты и балы, устраиваемые, чтобы собрать несколько лишних десятков рублей на революцию. Многие буквально голодают и холодают, лишь бы внести и свою лепту на «дело». Я знала целые «коммуны», по месяцам жившие на хлебе и воде, чтобы все сбережения отдавать на революцию. Можно сказать, что революция является для студенчества главным и всепоглощающим интересом. Во время больших арестов, судов, казней бросаются занятия, экзамены — все. Молодые люди сходятся маленькими кучками в комнатке у кого-нибудь из товарищей и там за самоваром толкуют о злобе дня, делясь друг с другом взглядами, чувствами негодования, ужаса или восторга и укрепляя таким образом свой революционный пыл и отзывчивость. И нужно видеть их лица в эти минуты: такие они серьезные, вдумчивые.
На всякую новость из революционного мира студенчество накидывается с жадностью. Быстрота, с которой каждая мелочь подобного рода распространяется по городу, просто невероятна. Даже телеграф не в состоянии конкурировать с изумительным проворством студенческих ног.
Кого-нибудь арестовали — назавтра эта печальная весть успела уже облететь весь Петербург. Кто-нибудь приехал; кто-нибудь оговаривает или, напротив, обнаруживает на допросах стойкость и мужество — все это немедленно становится известным повсюду.
Студенты всегда готовы оказать всевозможные услуги революционерам, совершенно не думая об опасности, которой подвергают самих себя. И с каким жаром, с каким восторгом берутся они за это!
Но довольно о молодежи вообще: это предмет, далеко превосходящий мои силы.
Возвращаюсь к моим скитаниям.
После того как Дубровина и прочие друзья не могли больше укрывать меня, все почти ночлеги я получала на студенческих квартирах. Но тут я не могу умолчать об одной вещи.
Обыкновенно, лишь только я приходила к людям, выразившим желание дать мне ночлег, я неизменно начинала одну и ту же старую песню, что я с конспирациями ничего общего не имею, что я даже не «нелегальная», а попросту беспаспортная. Никто не тянул меня за язык, никто не расспрашивал, кто я и откуда, — это было бы противно ненарушимым правилам революционного гостеприимства. Но мне не хотелось рядиться в чужие перья и выдавать себя за то, чем я не была. Кроме того, сознаюсь, что у меня была тайная надежда, что мне удастся таким образом успокоить своих хозяев на мой счет и обеспечить себе еще одно приглашение.
Но, к удивлению, моя хитрая дипломатия приводила совсем не к тем результатам, каких я ожидала. При всей своей близорукости я не могла не заметить на лицах слушателей выражения некоторого разочарования, как будто говорившего: только-то и всего?
И никто не приглашал меня вторично. Вначале это сильно огорчало меня, но потом стало забавлять, и я помирилась со своей участью — целые дни проводить в поисках ночлега. Вообще я заметила, что чем опаснее революционер, чем упорнее преследует его полиция, тем радушнее встречается он всюду, тем охотнее дают ему убежище и делают все для него. Оно и понятно. Во-первых, человек, принадлежащий к организации, всегда может рассказать что-нибудь интересное; кроме того, укрывательство такого человека именно вследствие риска есть некоторым образом «служение делу»; наконец, это, как хотите, своего рода честь.
Один студент, принадлежавший к богатой купеческой семье, сказал мне как-то:
— Знаете, у нас есть кресла и диван, на которых сидели Желябов и Перовская. Мы ни за что не расстанемся с этими вещами, — прибавил он, — это ведь теперь все историческое.
Но пора оставить эту мирную область и вернуться снова в жгучую атмосферу революции.
Помню, это было во вторник. Ровно в четыре часа, несмотря на проливной дождь, я пошла на станцию встречать Варю, которая должна была приехать специально для свидания с Татьяной Лебедевой.
Спросят, быть может, зачем же мне было идти на вокзал в такую погоду, раз человек вовсе не ко мне приехал?
Дело в том, что первое затруднение, с которым сталкивается всякий революционер, приезжая в Петербург, это вопрос — куда идти? кто из товарищей жив, кто схвачен? куда можно направить свои стопы без риска попасть в засаду? Поэтому-то всякому приятно, чтобы кто-нибудь встретил его на вокзале.
Я хотела сделать Варе это удовольствие. К сожалению, она не приехала. На этот случай у нас было условлено, что я сама увижусь с Таней. Ей нужно было передать предназначенные для нее двести рублей, которые хранились у Дубровиной. Я пошла туда и, получив деньги, отправилась в назначенное для свидания место в надежде, что с такой суммой Таня сможет уехать в провинцию или даже за границу.
Не успела я войти в комнату, как Таня и Слободина, у которой происходило наше свидание, вскрикнули в один голос:
— А где же Варя?
Известие, что она не приехала, сильно обеспокоило Таню. Она даже побледнела и несколько минут не могла вымолвить ни слова.
Не теряя времени, я тотчас передала ей двести рублей. Но она заявила, что нужно еще восемьдесят; в противном случае о поездке нечего и думать, так как эти двести рублей имели совсем другое назначение.
В этот день был арестован на улице Михайло[120] по дороге на какое-то свидание.
Потом я узнала, что деньги эти предполагалось отправить матери Михаилы, жившей на Кавказе, чтобы дать ей возможность приехать в Петербург.
Я сказала, что дело уладить нетрудно. У Дубровиной всегда хранились какие-нибудь маленькие суммы на революцию, и я обещала похлопотать.
— Да, сделайте одолжение, — согласилась Таня. — Впрочем, — сказала она, подумавши, — пусть лучше пойдет Слободина. Мне нужно кое-что сообщить вам. А пока скажите, уверены ли вы, что вас не проследили?
И обе приятельницы стали расспрашивать меня, не заметила ли я чего-нибудь подозрительного на улице, при входе в квартиру или на лестнице. Я ответила, что не видела ничего; но прибавила, что по близорукости могла и не заметить.
— Держу пари, что были шпионы, а вы ничего не заметили, — воскликнула Таня с живостью и затем рассказала следующее:
— Только что я вышла сегодня из дому, как за мной, откуда ни возьмись, шпион. Я взяла первого попавшегося навстречу лихача. Шпион принужден был довольствоваться простым «ванькой» и на время потерял меня из виду. Но на углу Бассейной нас задержала конка, что дало ему возможность снова нагнать меня. Когда мой лихач наконец двинулся дальше, шпион дал свисток, и к нему на дрожки вскочил другой субъект. Я велела извозчику ехать на Лиговку, потом на Пески, потом в Коломну к Архангелу Михаилу, словом, почти целый час я кружила по городу. Удостоверившись, что шпионы окончательно потеряли меня, я остановила извозчика около одной табачной лавки и зашла разменять деньги. Когда я вышла, на улице никого не было, кроме моего извозчика. Тогда я рассчиталась с ним и пришла домой пешком. Но я все-таки не уверена, что за мной не проследили.
Потом она сообщила все, что знала об аресте Михаилы. Они жили вместе, и потому она сама удивлялась, что и ее не арестовали.
Выслушавши ее рассказ и зная хорошо ее прошлое, я уговаривала ее убедительнейшим образом немедленно уезжать из Петербурга.
С минуту она колебалась.
— Нет, невозможно, — проговорила она задумчиво, как бы разговаривая сама с собой. — Мне надо очистить квартиру.
— Но отчего бы вам этого мне не поручить? Я бы могла это сделать за вас.
Таня молча покачала головою. Тогда я заметила ей, что если она не полагается на мою скромность, то это совершенно напрасно; что я ничего не буду читать, даже смотреть не стану на какие бы то ни было бумаги, письма и т. под. Мы сильно заспорили, чуть не поссорились. Признаться, я сильно боялась идти к террористам в их ужасные берлоги; но еще больше боялась пустить туда Таню, которой, в случае ареста, угрожала петля. Это-то и придавало мне храбрости, и я снова и снова повторяла свои настояния.
— Ну, так пойдем вместе, — сказала я наконец. — Вдвоем мы быстро очистим комнату, и затем вы можете сегодня же уехать из Петербурга.
— Нет, это невозможно, тем более что я должна ночевать дома.
При этих словах волосы у меня стали дыбом. Я умоляла ее образумиться. Для меня было несомненно, что ее арестуют, и я думала даже, что с отчаяния она умышленно идет на гибель.
Была минута, когда мне показалось, что она начинает сдаваться. Она задумалась, и это возбудило надежду во мне. Я стала приставать снова.
— Нет, невозможно, — решила она наконец. — Если я не буду ночевать дома, то дворник, который каждое утро в семь часов приносит воду, найдя квартиру пустою, сейчас пойдет в полицию. На всех станциях понаставят шпионов, и меня схватят наверняка. А уехать сегодня ночью мне нельзя: нужно повидать своих. Будь что будет, а я должна ночевать дома.
Отчаянию моему не было границ. Я предложила ей пойти туда и переночевать вместо нее.
— Когда придет дворник, — сказала я, — я отопру ему, скажу, что я сиделка и что хозяйка лежит больная. Не пойдет же он в спальню удостоверяться, правда ли это.
Но Таня, не знаю почему, отказалась и от такого плана. Однако она согласилась принять мою помощь в очистке квартиры на следующий день. Мы подробно условились, и свидание было назначено в десять часов на Могилевской.
Таня решила ехать в Москву, и так как предупредить об этом своих было нельзя, то ей приходилось остановиться в гостинице. Для этого ей нужен был чемодан, кулек с едою, белье и проч., чтобы не возбудить подозрения в прислуге.
Я должна была закупить все нужное и доставить на квартиру Слободиной. Таня упрашивала меня тратить как можно меньше, отказываясь даже от новых перчаток и шляпки, хотя старая была порядочно поношена.
— Черная траурная вуаль скроет это, — сказала она.
Когда все было улажено, возник вопрос о том, как ей теперь выбраться из дому. Таня была того мнения, что нам лучше всего выйти на улицу вместе, так как шпионы высматривают одну даму и, увидавши двух, могут, пожалуй, сбиться.
Мы вышли вдвоем. Едва мы успели сделать несколько шагов, как к нам подъехал извозчик и начал настойчиво предлагать свои услуги.
— Это шпион, — прошептала Таня, — я его знаю; увидите, как трудно нам будет отделаться от него. — Действительно, в продолжение минут десяти он не отставал от нас.
Пройдя несколько кварталов, мы нашли наконец на одном из перекрестков дрожки, на которых дремал извозчик. Таня взяла его и уехала.
Когда мы расстались, было уже не рано, и я поспешила к месту своего ночлега, так как приходить туда слишком поздно не дозволялось. Я тоже взяла извозчика и прямо поехала к назначенному дому, который должна была узнать по данным мне раньше приметам. У ворот, понятно, заседал дворник. Но ни спрашивать о чем бы то ни было, ни присматриваться к номеру не позволялось. Таково было правило. Я решительным шагом вошла, хотя благодаря близорукости далеко не была уверена, что попала как следует. Поднявшись на второй этаж, я очутилась перед тремя запертыми дверьми. В темноте я почти ничего не различала и с бьющимся от волнения сердцем позвонила наугад. Можете себе вообразить мою радость, когда на мой вопрос, теперь неизбежный, здесь ли живет такой-то, из глубины квартиры раздался удивительно симпатичный женский голос: «Да, да, здесь, пожалуйте».
На следующее утро в назначенный час я отправилась на свидание. Еще не дойдя до условленного пункта, я увидела Таню с корзиной, полной зелени, в руках и в черном платочке, какие носят обыкновенно хозяйки, отправляясь на рынок.
Мы пошли к ней. Но не доходя до дому, она дала мне ключ от квартиры и отправила меня вперед одну, чтобы дворник не видел нас входящими вместе.
Квартира Тани состояла всего из двух комнат с кухней. Меня поразил удивительный порядок. Кухонька, маленькая гостиная, где стоял письменный столик, — все было так мило и уютно. Настоящее гнездышко счастливой парочки.
Вскоре после меня пришла и Таня, нагруженная провизией для обеда, и зажгла огонь. Вся эта церемония проделывалась исключительно для дворника. Затем мы упаковали вещи в дорогу. Таня увозила с собой только то, что не было на виду, чтобы не возбудить подозрения у дворника, в случае если бы тот вошел в квартиру во время ее отсутствия при помощи двойного ключа, который всегда у них имеется.
Прежде чем мне уйти, Таня выглянула в окно посмотреть, что делают дворники. Те рубили дрова. Таня научила меня, как пройти через двор незаметно для дворников: нужно было улучить минуту, когда они понесут дрова кому-нибудь из верхних жильцов.
Я так и сделала и вышла от нее незамеченной, с порядочным узлом в руках. На улице я взяла извозчика и поехала к Слободиной. Там мы уложили вещи в чемодан, и я повезла их на вокзал.
Нужно было взять билет, сдать багаж и вообще сделать все, чтобы Тане пришлось показываться на станции по возможности меньше. Предполагалось, что она приедет туда минут за пять до отхода поезда и прямо пройдет в вагон. На беду, поезд был переполнен пассажирами. Не оставалось ни одного свободного места, так что стали прицеплять еще один вагон. Мы прождали на платформе пять лишних минут, показавшихся нам целой вечностью. Наконец вагон прицепили. Таня заняла место, и вскоре купе было битком набито народом. Но публика все была малоинтересная. Таня пожалела, что не захватила с собой какой-нибудь книги. Я передала ей бывшую у меня в кармане газету, прибавив, что на первой большой станции она может купить себе какую-нибудь книжку; потом указала ей на пакет с апельсинами, которые я нарочно положила ей в корзинку, потому что она их очень любила, и посоветовала ей на ухо не курить в дороге.
Она улыбнулась, поблагодарила за апельсины, а насчет курения сказала, что не обещает.
Выходя из вагона уже перед третьим звонком, я с платформы начала молоть, сама не знаю почему, всякий вздор:
— Кланяйтесь дяденьке! Поцелуйте детей! — и тому подобное.
Поезд тронулся, и вздох облегчения вырвался из моей груди. Таня уехала. Однако в Москве она пробыла недолго. Я читала одно из писем, написанных ею оттуда. Она писала, что в Москве ей нечего делать, что ей скучно и что она хочет вернуться в Петербург.
Действительно, она вскоре вернулась, но меня уже там не было. По приглашению одного приятеля, у которого было имение на Волге, я отправилась туда погостить. Едва ли нужно объяснять, как я была рада этой поездке.
Месяца через четыре после 1 Марта, когда все немного поуспокоилось, мне удалось через мужа одной своей подруги получить настоящий паспорт, чем и заканчивается моя «нелегальная» одиссея.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Двенадцать лет прошло со времени первого появления предыдущих очерков на итальянском языке; двенадцать лет — целая вечность в быстро сменяющемся калейдоскопе русской жизни!
«Тот век прошел, и люди те прошли; сменили их другие».
Что период этот один из наиболее замечательных в русской жизни и что титаническая борьба, которая его наполняет, является чем-то в своем роде единственным в летописях истории, об этом теперь уже не приходится спорить. И чем дальше мы будем удаляться от этого времени, тем оно будет казаться нам величественнее и тем грандиознее будут возвышаться богатырские фигуры людей, которые вынесли на своих плечах эту борьбу.
Мне мало где пришлось касаться в русском издании того, что относится к характеристике людей тогдашнего времени: последующие годы мало внесли поправок и дополнений, даже в смысле биографических материалов.
Но жизнь дала много нового в смысле освещения всей этой эпохи как целого, выяснив многие ошибки, разбив многие иллюзии, но указав зато на действительные заслуги и шансы партии, которых не подозревали сами участники борьбы. В дыму и огне сражения плохо видно поле битвы и трудно, подчас невозможно определить, когда, где и как решилась ее участь.
Эпоха и деятели, описанные здесь, отошли уже в область истории. Взглянем же на этот бурный период без пристрастия и партиозности, как подобает историку, желающему извлечь из прошлого опыта полезный урок для настоящего.
Никто не пытался, да никто и не смог бы составить хотя бы приблизительной статистики революционной партии того времени как таковой, то есть людей, разделявших взгляды и стремления революционеров.
Несомненно только, что силы эти были очень велики. Учащаяся молодежь, студенчество почти в полном своем составе, тысячи рабочих в столицах и больших городах и огромная масса интеллигентных людей, рассыпанных повсюду, — все это составляло тот контингент, на поддержку которого воинствующая организация могла рассчитывать и откуда она черпала новые силы и средства.
Но непосредственного участия в борьбе вся эта масса людей не принимала, да и не могла принимать. Заговор, тайное общество — вот единственная форма, в которой могла воплотиться в России деятельная оппозиция. А тайные общества не могут охватывать собою сколько-нибудь значительного числа людей. Заговор — это сетка, которая обладает большой растяжимостью, но неминуемо лопается, высыпая почти все содержимое, будучи переполнена далее известного, ограниченного предела. Никакие предосторожности не могут этому пособить. Абсолютной безопасности в революционной деятельности нет: безопасен только тот, кто сидит сложа руки. Рано или поздно всякое тайное общество должно быть открыто. Чем быстрее оно растет и чем энергичнее действует, тем роковая минута должна наступить скорее. Это математический закон, кровавый и неумолимый, который руководит судьбами всех конспирационных движений и которому неизвестны исключения.
В течение описываемого периода воинствующая организация всегда оставалась незначительной горстью людей, и возможность их борьбы и успехов объясняется лишь тем, что правительство было изолировано, как орда чужеземцев в завоеванной стране.
Вот несколько характерных фактов из революционной жизни того времени, которые жаль было бы опустить.
Следует заметить, что русские, вообще говоря, всегда были плохими конспираторами. Люди, подобные Софье Перовской и Александру Михайлову, составляют у нас редкое исключение. Широкая русская натура, привычка делать все «миром», тесность личных отношений и, нужно сознаться, славянская распущенность — все это трудно мирится с основным конспирационным правилом: говорить о деле только с тем, с кем должно говорить об этом, и никогда не с тем, с кем можно об этом говорить, хотя бы с полной видимой безопасностью.
Поэтому революционные тайны обыкновенно хранятся не очень строго, и, раз выскользнув из тесного кружка организации, они распространялись с удивительной быстротой по всему радикальскому миру. Тем не менее правительство никогда ничего не знало.
Так, например, до появления «Земли и воли», редактировавшейся людьми нелегальными, в Петербурге выходила довольно слабая подпольная газетка «Начало», которая издавалась маленьким независимым кружком[121] под редакцией четырех или пятерых «легальных» людей. Весь Петербург знал их и называл по имени. Полиция же не знала решительно ничего, хотя газетка стояла у нее бельмом в глазу и все жандармские ищейки лезли из кожи, чтобы напасть на след таинственных издателей. Никто из редакции арестован не был, и те, кто не попался в других делах, здравствует и по сю пору.
Продажа «Народной воли» производилась в Петербурге и в провинции почти открыто. Во всех высших учебных заведениях и во всех обособленных группах у адвокатов, литераторов, подчас чиновников — были известные всем люди, которые вели это дело, получая регулярно определенное число экземпляров газеты и продавая ее всем желающим по двадцать пять копеек номер в Петербурге и Москве и по тридцать пять в провинции.
Еще один факт, стоящий многих.
Громадный динамитный заговор, организованный Исполнительным комитетом в 1879 году в ожидании царского возвращения из Крыма, был едва ли не самым грандиозным делом, когда-либо предпринятым и доведенным до конца путем заговора. Наличных сил организации далеко не хватало на его выполнение, и поэтому приходилось по необходимости пользоваться в обширных размерах услугами посторонних людей, набранных из того многолюдного мира сочувствующих, который всегда окружает такую популярную организацию, как та, которой руководил в то время Исполнительный комитет. Не удивительно поэтому, что при такой массе участников слухи о предстоящих покушениях распространились очень скоро буквально по всей России. Конечно, публика не знала, где именно имеет быть взрыв. Но все студенты, адвокаты, литераторы, за исключением состоящих на откупу у полиции, знали, что царский поезд взлетит на воздух во время следования из Крыма в Петербург. Об этом разговаривали, как говорится, повсюду. В Одессе один довольно известный литератор[122] собирал почти открыто подписку на взрыв, и полученные таким путем полторы тысячи рублей были целостью доставлены комитету. Полиция же ничего не знала.
Из всех пяти готовившихся покушений только одно — Логовенковское было открыто заранее по чистой случайности. Арест Гольденберга в Елисаветграде с грузом динамита, происшедший тоже совершенно случайно, впервые возбудил подозрение полиции, что где-то замышляется взрыв, чем и объясняются все хитрости при отправке царского поезда.
Этот и подобные факты, которых можно бы привести множество, дают представление о взаимном положении борющихся сторон.
Революционеры имели дело не с правительством в европейском смысле слова, — при таких условиях борьба, по безграничному неравенству сил, была бы немыслима, — а с обособленной бандой, которая была ненавистна всей мыслящей России. Единственными союзниками правительства были шпионы и жандармы.
Начав в 1870–1873 годах с проповеди анархической теории невмешательства в политическую борьбу, как дело чисто буржуазное, не имеющее никакого интереса для рабочего класса, русские социалисты очень скоро узнали на собственной шкуре, что есть некоторая разница между русскими и швейцарскими или английскими порядками. Логика жизни неумолима. После того как тысячи дорогих товарищей погибли бесплодно на первых же шагах в первых попытках пропаганды, социалисты не могли не признать, что политическая свобода не только полезна, но необходима для них, как и для всех, у кого есть какие-нибудь идеи или убеждения, которые им дороги и которые им хотелось бы распространить между своими согражданами.
С 1879 года, как известно, русские революционеры выставляют политическую программу.
Стремления социалистов и всего русского общества сошлись, и революционеры провозглашали громко среди грохота взрывов и треска бомб то, что все думали про себя или лепетали робким голосом со всякими оговорками и недомолвками.
Чтобы в этом убедиться, достаточно прочесть многочисленные земские адреса[123], подаваемые в ответ на мольбы правительства о помощи, и просмотреть тогдашнюю печать.
То, что говорилось с глазу на глаз в частных собраниях, когда страх административных мероприятий и цензуры не связывал языка и пера, было, конечно, гораздо решительнее и резче этих открытых, довольно, впрочем, недвусмысленных заявлений.
Сильные этой поддержкой, одушевленные верой в народ, революционеры в течение нескольких лет не только выдерживали отчаянно неравную борьбу, но и достигли результатов, которые, принимая во внимание все обстоятельства, нельзя назвать иначе, как баснословными.
Покушениями горсти людей Александр II был доведен до того, что фактически сложил свои полномочия в руки человека, все преимущества которого заключались в уменье заигрывать с «общественным мнением».
Лорис-Меликов целый год ничего не делал и имел даже глупость заявить (в известном разговоре с представителями прессы)[124], что не имеет в виду предпринять чего-нибудь серьезного.
Результатом была катастрофа 1 Марта. Правительство было окончательно подавлено и расстроено — гораздо больше, чем после взрыва в Зимнем дворце. Оно неминуемо должно было бы серьезно обратиться за помощью и защитой к обществу и народу, продержись террор неослабно еще с год или два.
Все этого ожидали.
Испытав силу своего могучего оружия, Исполнительный комитет не намерен был бросать его на другой день после страшнейшего из своих ударов. В известном письме к Александру III[125] говорится без обиняков, как о вещи роковой, о которой не может быть и речи, что в случае упорства правительства «террор примет более резкие формы».
Одно время Александр III сильно колебался и готов был на уступки. Но потом он как-то нечаянно попал в полное распоряжение реакции. Произошел крутой поворот в политике. Самодержавие окрепло и оправилось и теперь перестало и думать об уступках. А террор между тем не только не принял более резких форм, какие сулил Александру III Исполнительный комитет, а даже вовсе прекратился; а затем замерло и самое движение. Революцию, казалось, ветром сдуло. Все грозное пятилетие можно было принять за большой динамитный взрыв, который промахнулся.
Посмотрим, как и почему все это случилось.
Post hoc, ergo propter hoc. — После этого, значит, по причине этого, такова людская логика.
Наблюдая чисто внешнюю сторону русской жизни, некоторые из людей, даже сочувствующих революции и террору, отвечают на вопрос, которым мы закончили предыдущую главу, очень просто: причиной неудачи движения 1879–1881 годов было Первое марта. Революционеры зарвались. Они должны были удовлетвориться скромными, но реальными результатами, которых они добивались, то есть возведением «либерала» Лорис-Меликова в диктаторы. Александр II с Лорис-Меликовым задумывали ряд преобразований, которые через несколько лет привели бы к конституции. Убийство же Александра II положило всему конец и отбросило Россию назад к чистой николаевщине.
Ввиду земских начальников, универсальной порки, уничтожения земства и городового положения, ввиду истребления печати, закрытия школ, еврейских гонений и всех безобразий нынешнего времени, такие фантазии извинительны и понятны, особенно в людях мечтательного маниловского типа.
Но присмотримся ближе к действительному, а не воображаемому положению дел в России накануне трагедии 1 Марта.
Мы можем сделать это в настоящее время на основании точных и несомненных данных. Перед нами брошюрка, «Конституция графа Лорис-Меликова»[126], дающая несколько драгоценных указаний относительно состояния умов и истинных намерений правительства.
Отсылаем читателя за подробностями к самой брошюре. Из нее он узнает, что правительство было просто подавлено страхом революции, но вовсе не считало свою песенку спетой, вовсе не думало отказываться от малейшей доли своих прерогатив.
Так называемая «конституция» сводилась к созыву совещательных комиссий в две инстанции, из коих первая (предварительная комиссия) имела быть назначенной целиком самим правительством, а во вторую (общая комиссия) допускался некоторый процент представителей, назначаемых земскими собраниями под охраной губернаторов. Эти комиссии не имели ни права почина в выработке законов, ни выбора предметов обсуждения, ни даже самостоятельного исследования. Все это предоставлялось теперешним министерствам на старых началах. Роль комиссии сводилась к разработке представленных министрами проектов, которые теперь обсуждаются в министерских канцеляриях. Затем эти проекты с министерским «заключением» поступали обычным порядком в Государственный совет, который оставался в своем теперешнем составе и удерживал не особенно великое право представлять свои разглагольствования и умозаключения на усмотрение государя. Последний сохранял безусловное право вязать и разрешать, соглашаться с большинством, или с меньшинством, или с «особыми мнениями» любого из им самим выбранных советников.
Легко видеть, что эти комиссии ничем существенным не отличались от какой-нибудь Кахановской комиссии или от комиссий сведущих людей, которыми впоследствии граф Игнатьев забавлял Россию[127]. Тех же щей, да пожиже влей.
Самодержавие оставалось в полной силе, — царь имел возможность во всякое время придать какой ему угодно ход событиям, направить куда ему угодно работы комиссии, сузить или расширить их область, продлить или вовсе их уничтожить — как ему заблагорассудится.
Лорис-Меликову удалось склонить Александра II на сторону своего проекта, только доказав ему, как дважды два четыре, что это не etats generaux[128] и что его «суверенитет» остается в полной неприкосновенности. И это было, несомненно, так. Но лиха беда начать. Несомненно также и то, что в общей комиссии заключался зародыш «etats generaux». При тогдашнем настроении общества и печати комиссия могла под предлогом обсуждения того или другого хотя бы из министерских проектов выступить с планом коренных реформ по государственному управлению; могла потребовать постоянной палаты выборных, ответственности министров, урегулирования того же «суверенитета».
Как отнеслось бы правительство к подобному «проекту»? Дало ли бы оно ему ход или преспокойно разослало депутатов по Вяткам и Вологдам, а то и подальше?
Это зависело целиком, безусловно и исключительно от одного: от силы революционной партии в данную минуту.
Вышеупомянутая брошюрка дает тому несомненные доказательства. Из нее ясно как день, что двигательной силой во всем кризисе был страх повторения новых покушений. Правительство не боялось ни земств, которые высказывались, однако, довольно ясно, ни общества. Призрак, заставлявший шевелиться перья всех либеральных прожектеров и мозги сановников, развязывавший языки всевозможной тле, туземной и заграничной, был призрак растущего терроризма.
Конечно, все сколько-нибудь здравомыслящие люди, даже из сановников, понимали, а иные даже повторяли, что терроризм только симптом общего недовольства. Но исчезни этот симптом, и исчезло бы действие коренной причины. Так копье, с которого сбито железное острие, из смертоносного оружия становится простой палкой, не особенно страшной для людей со скотининскими лбами.
Вся история нашей внутренней политики за последние двадцать лет, начиная с 1873 года и кончая нынешним временем, служит подтверждением этой зависимости между революционным движением и либеральной оппозицией. Можно сожалеть о таком сужении политического понимания и политической жизни великого народа, но факт отрицать нельзя.
Таким образом, вопрос о том, чем бы мог кончиться лорис-меликовский период, упрощается и сводится к следующему вопросу: какова была бы участь революционного движения, руководимого Исполнительным комитетом, если бы дело Первого марта не состоялось?
На этот вопрос нельзя ни минуты колебаться ответом.
При Александре III дотоле неодолимое движение было подавлено и организации разбиты, потому что по внутренним причинам, о которых ниже, Исполнительный комитет парализовал собственную деятельность. Революция застыла в бездействии. Для революции же политика выжиданий — смерть. Это то же, что для штурмующей колонны остановиться у самого рва неприятельской крепости и начать маневрировать под перекрестным огнем.
Что при Александре III было результатом собственной ошибки, то стало бы роковой необходимостью, останься на престоле Александр II и начнись в Петербурге хотя бы пустейшая комедия лорис-меликовских комиссий.
Терроризм, систематические попытки — оружие очень ограниченного действия по существу. Оно годится только в периоды безусловной безнадежности. Если бы Лорис-Меликов был менее куртизаном и более государственным человеком, а Александр II обладал некоторой долей гражданского мужества и твердости, а не был капризным и самолюбивым деспотом; если бы в своем вышеупомянутом разговоре с представителями печати Лорис-Меликов, вместо того чтобы повторить варшавское «Не захлебывайтесь!» (Pas d'lllusions!)[129] своего патрона, изложил своим гостям план хотя бы своей несчастной «конституции», — катастрофа Первого марта была бы невозможной.
Но для Александра II мишура всемогущества была дороже самой власти; а для Лорис-Меликова польстить слабости своего патрона казалось важнее, чем привлечь на свою сторону общественное мнение всей России. Общими стараниями диктатор и его патрон сделали Первое марта неизбежным.
Окончись эта попытка новой неудачей: промахнись Гриневицкий, уедь Александр II после рысаковской бомбы, — ни царь, ни его подручный не стали бы после этого дальновиднее. Лорис-Меликов по-прежнему рассчитывал бы исключительно на свое уменье водить за нос своего барина; он продолжал бы в доказательство своей благонамеренности душить свою собственную партию в печати и в земствах и революционеров, с которыми ему справиться было бы гораздо легче после неудачи, чем после кровавой победы.
А раз революционная сила была бы надломлена, все либеральное движение погибло бы само собою, перестало бы тревожить высшие сферы, которые понимают солидарность между обеими фракциями русской оппозиции лучше, чем, к сожалению, сами члены этой оппозиции.
Надобность в хитроумных затеях графа миновала бы, и он слетел бы и был бы сдан в архив несколькими месяцами раньше, чем это случилось на самом деле. Вот вся перемена, которую неудача Первого марта повлекла бы за собою.
Рассматривая в настоящее время старые народовольческие программы, нельзя не заметить их промахов и недостатков. Но, помня те условия, при которых эти программы писались, приходится удивляться не этим промахам, а тому здравому политическому смыслу и тому пониманию трудных и сложных задач русской демократии, которое в них обнаруживается. Общая постановка социалистического вопроса в России, то есть выделение аграрного переворота — передача земли народу — как реформы возможной и необходимой немедленно из общего плана экономического переустройства; признание необходимости постепенного эволюционного пути при переустройстве на социалистических началах фабричного производства; широкое место, отведенное местному и областному самоуправлению, установляющее бесспорно, что, несмотря на свои централизаторские стремления, эти люди понимали, что для России как государства единственная возможная форма политического устройства есть федерализм, — вот великие принципы, завещанные «Народной волей» и установление которых останется прочной заслугой этой партии. К ним мы должны причислить и стремление расширить революцию и превратить ее из дела кружка, организации — в общенародное, государственное дело, перенеся ее из конспирационного подполья на улицу и на площадь. Одно время все заставляло думать, что это удастся.
Годы 1881–1883 вплоть до дегаевщины[130] были апогеем силы революционного движения. Это факт, не подлежащий спору и сомнению. До Первого марта Исполнительный комитет не имел и четверти тех сил, какие вступили в его полное распоряжение после его грозной победы. Особенно важно то, что «Народная воля» приобрела множество приверженцев в войске, среди офицеров. Со времени декабристов революция не видела ничего, подобного народовольческой военной организации.
Исполнительный комитет доказал, — и в этом его великая историческая заслуга, — что, несмотря на сравнительную незначительность наших городов, несмотря на огромную концентрацию правительственных сил, и у нас мыслимо городское восстание, которое наверстало бы на войске то, что ему не хватает в гражданских силах.
Большинство членов военного заговора были, конечно, субалтерн-офицеры, молодежь до капитанского чина и ротного командира включительно. Но было немало и высших чинов, командиров батальонов и батарей и отдельных флотских частей и два полковника, из коих один, наиболее решительный (Ю. И. Ашенбреннер)[131], был, впрочем, на юге, подобно Пестелю.
Значительная доля этих сил была сосредоточена в Петербурге и окрестностях. В одном из гвардейских батальонов и в двух кронштадтских батареях все офицеры, кроме командира, были членами военной организации.
Параллельно с вербовкой офицеров шла пропаганда между солдатами их частей при помощи своих рабочих, при потворстве офицеров и их указаниях, и шла весьма успешно. Такие части были, конечно, без сравнения надежнее, чем те, где своими были одни офицеры.
На одной из кронштадтских броненосных лодок случилось, что многие из офицеров и солдат были «спропагандированы» самостоятельно, первые народовольцами, вторые — чернопередельцами, и потому ничего не знали друг о друге. И вот раз, зайдя неожиданно в казарму, один из офицеров вдруг застал своих солдат за чтением какой-то газетки, которая быстро исчезла под столом с его появлением. Он поинтересовался узнать, что это такое, — оказался свежий номер «Черного передела».
Он ушел, ничего не сказавши, и захватил с собою номер, чтоб показать товарищам свою находку.
Солдаты считали себя погибшими. Велика была их радость и удивление, когда через несколько дней они узнали от своих чернопередельцев, с которыми «Народная воля» успела снестись, что им бояться нечего и что их офицеры пристали к тому же делу, как и они.
В тот же день они отправили к своим офицерам депутацию с поклоном и заявлением, что «если в Петербурге что-нибудь начнется и им прикажут плыть туда и палить по Аничкову дворцу, то они рады слушаться. Наведут прицелы в наилучшем виде и в десять минут превратят дворец в кучу мусору». Так это заявление и было передано комитету.
Не считая рядовых, о которых у нас не имеется данных, к военной организации примкнуло за это время около трехсот человек офицеров разных частей и родов оружия.
Эти силы были очень разбросаны и по сравнению с силами правительства ничтожны. Но революция не иноземная война, которую нельзя начинать, не сравнявши сколько-нибудь свои силы с неприятельскими. Армия революции — это невидимая масса недовольных, не имеющих никакого касательства к заговору, но готовых схватиться за оружие при первом выстреле.
Если этой армии, этого энергичного, страстного, самоотверженного недовольства нет в стране, то устраивать заговоры — глупость и преступление, если не пред совестью, то пред историей. Если же она есть, то заговор должен составить лишь передовой отряд восстания, который смог бы продержаться ровно столько часов и минут, сколько нужно, чтобы собрать под его знамя эту невидимую армию.
Лучше ошибиться в сторону излишней дерзости, чем в сторону излишней осторожности, потому что решительность и энергия могут заменить недостаток сил, тогда как медлить с целью их увеличения — значит идти навстречу провалу и бесславной гибели.
Несомненно, что в 1881–1883 годах Исполнительный комитет имел в своем распоряжении силы, достаточные, чтобы рискнуть на открытое нападение, которое при большой, пожалуй, беспощадной энергии могло бы парализовать центральное военное и гражданское управление, ошеломить правительство и дать вспыхнуть восстанию в столице. Запас горючего материала был очень велик.
Молодежь, студенчество, вся столичная интеллигенция были возбуждены до энтузиазма, до исступления и рвались к делу. Но терроризм дела им не давал.
«Без восстания что могли сделать взволнованные террором мирные обыватели-либералы?[132]
Что могла сделать доведенная до белого каления масса студенчества?
Террор и все вызванное им настроение было сильной бурей, но в закрытом пространстве. Волны поднимались высоко, но волнение не могло распространиться. Оно только исчерпывало, истощало нравственные силы интеллигенции…»
Вера Засулич, «Социал-демократ», № 1
Они ждали восстания, мечтали, упивались мыслью о нем.
Тысячи человек молодежи, мужчины и женщины, бросились бы в уличную борьбу с беззаветным восторгом и дали бы ей порыв, увлечение, пример, каких, быть может, не видало ни одно восстание в мире.
В Петербурге массы фабричных и заводских рабочих. Ими «Народная воля», по справедливому замечанию наших социал-демократов, мало занималась, посвящая им лишь весьма незначительную часть сил. Но как люди более развитые, как горожане и столичные жители, непосредственно сталкивавшиеся с полицией и с высшим городским начальством, они сочувствовали революции. Та небольшая доля пропаганды, которая производилась среди них, имела необыкновенный успех и оставила прочный след. Они читали газеты. Террористическая борьба, совершавшаяся на их глазах, волновала и возбуждала их. При некоторых усилиях легко было организовать среди них кадры, которые в минуту восстания могли бы поднять их и двинуть на улицы.
Столичная революция — застрельщик общего движения, как заговорщицкое восстание — застрельщик столичной революции.
Без немедленного отклика в провинции всякое движение в Петербурге неминуемо было бы задушено в несколько дней.
И у нас есть класс, способный мгновенно разнести революцию по разным концам России. Этот класс после крестьян сильнейший в государстве, и он пропитан глубоким и сознательным недовольством. Он имеет крепкие корни в почве, и его не нужно организовывать, потому что он организован самостоятельно и довольно тесно путем общественной службы и постоянного интеллектуального общения. Мне не нужно называть его. Этот класс известен в радикальском мире под кличкой «либералов», причем он предполагается однородным по убеждениям и отождествляется с чисто буржуазными либеральными партиями, какие нам известны за границей.
Может быть, он и станет таковым со временем, как предсказывает наш «Социал-демократ»[133]. Об этом нам пока нечего беспокоиться. Важно, что теперь он совсем не такой. Даже г. Тихомиров заявляет, что наши «либералы» соответствуют французским радикалам[134]. На самом деле они более крайние. Значительная доля, если не большинство, наших «либералов» — сторонники передачи земли крестьянству, а крайние их фракции — чистые социалисты. Их настоящее отличие от «радикалов» в том, что они имеют оседлость и не занимаются конспирациями. «Радикал», который приобретет такую оседлость и отстанет от конспирации, будет окрещен именем «либерала», хотя бы он ни на волос не изменил своих социалистических убеждений. А либерал, хотя бы и более умеренных взглядов, вступивший в конспирацию и бросивший оседлость, станет тотчас же «радикалом».
В 1881–1883 годах эти «либералы» как класс были во всех своих подразделениях возбуждены революционным движением в небывалых размерах, и их симпатии революции уступали лишь энтузиазму студенчества. Наиболее крайние, несомненно, входили в состав той невидимой армии, на поддержку которой могло рассчитывать восстание.
Но почему же Исполнительный комитет не дал этим силам случая проявиться? Почему он не поднес горящей головни к им же заготовленным горючим матерьялам?
Не помню, кто из военных писателей, чуть ли не сам Наполеон, сказал, что хороший полководец должен быть, безусловно, лишен воображения, потому что оно ежеминутно сбивало бы его с толку; взамен этого он должен обладать сухой, точной, математической догадливостью, которая делала бы его всевидящим. Это сочетание качеств очень редко в человеческом мозгу: поэтому-то так мало великих полководцев. Еще труднее встретить его в революционных вождях, потому что самое участие в революции предполагает присутствие увлечения, энтузиазма, веры — качеств, органически связанных с развитием воображения.
Исполнительный комитет не воспользовался теми силами, которые были у него под руками, и, несомненно, обнаружил много воображения при смете сил, на которые он рассчитывал.
Пренебрегши городскими рабочими под влиянием остатков «народничества», сидевшего в партии гораздо крепче социализма, и «либералами» под влиянием западнических предрассудков, «Народная воля» осталась без надлежащей точки опоры на твердой почве.
Правда, Исполнительный комитет выступает как представитель народа, крестьянства, и действует его именем и во имя его интересов. Теоретически он был прав.
Но какую практическую поддержку могло дать крестьянство революции, направленной прежде всего против политического деспотизма, против царя? Русское да и всякое крестьянство к политике индифферентно, и монархизм свойствен деревенским массам всех наций, как поклонение идолам свойственно первобытным народам. Крестьянство — огромная стихийная сила, которой принадлежит будущее. Но стихийные причины недовольства в описываемую эпоху не успели еще произвести своего действия. Не произвели они его даже и теперь. А к идейной пропаганде крестьянство осталось глухо. Все революционное движение прошло мимо него, поверх его голов. «Народная воля» это сознавала и рассчитывала в сущности не на какую-нибудь поддержку крестьянства до или во время революции, а на его санкцию революции уже совершившейся. Совершить же революцию народовольцы предполагали, так сказать, на собственный счет при помощи тех сил, которые будут ими сорганизованы, признают их программу, подчинятся верховенству их Исполнительного комитета.
Вера в безграничную силу и расширяемость революционной организации заменила собою все.
Тут-то и возникла своеобразная идея народовольческой революции: государственный заговор, захват власти, учреждение временного правительства, созвание всенародного земского собора и затем передача временным революционным правительством власти земскому собору.
Этим обещанием сложить с себя революционную диктатуру, лишь только будет обеспечен законный порядок, народовольцы хотели успокоить общество, показав ему, что революционеры хотят служить народу, а не повелевать им; хотят развязать руки всем желающим работать на пользу народа, а не заменить самодержавную палку революционной. Что эти заявления были вполне искренни, в этом не может быть сомнения.
Когда они появились в другой форме — в письме к Александру III, — вся оппозиционная часть общества, «либералы», третируемые так свысока народовольцами, поверили им, потому что не было основания не верить. Письмо было предложением мирных условий, которые обе стороны могли добросовестно принять и соблюсти. «Дайте нам законный порядок, и мы будем действовать законными средствами», — говорили революционеры. Это было и разумно и естественно. И Александр III мог, если бы захотел, установить законный порядок тем путем, о каком говорилось в письме, потому что другого нет.
Но что возможно и естественно для правительства, установившегося и признанного массой, то было сущей фантазией в применении к революции. При всем желании общество не могло поверить народовольческой программе.
Ведь для того, чтобы прочно засесть в Петербурге и просидеть там два-три месяца, мирно наблюдая за правильностью выборов, Исполнительный комитет должен был бы «спропагандировать» и привлечь на свою сторону по меньшей мере сто или двести тысяч лучшего войска, которое стало бы под революционное знамя по первому звуку труб и оставалось верно ему без всяких дальнейших хлопот и усилий, «по долгу присяги», как обыкновенные солдаты.
Таких нелепых надежд Исполнительный комитет, очевидно, не мог питать.
Ошибка его заключалась в том, что он рассчитывал поднять Россию, или по крайней мере значительную ее часть, во имя отвлеченного конституционного принципа, который народной массе непонятен и неинтересен; во имя надежды на будущий земский собор, который величина совершенно неизвестная; во имя доверия к себе и своему бескорыстию и благородству.
Приобретя, и совершенно законно, безусловный авторитет у себя дома, в тесной революционной семье, Исполнительный комитет совершенно упустил из виду, что никакая подпольная организация, состоящая по самому существу из людей, стране абсолютно неизвестных, не может претендовать на доверие сколько-нибудь значительной массы своих сограждан.
С несколькими батальонами, вооруженными динамитными бомбами, можно прогнать дворцовый караул и овладеть дворцом. Нескольких сотен людей достаточно, чтобы овладеть главными правительственными учреждениями. Но захватить кипу министерских бланков еще не значит стать временным правительством. Власть или некоторое подобие ее могут иметь только люди, известные своей общественной деятельностью, имена которых действовали бы на умы, внушили доверие к силе и серьезности восстания.
Всякий класс имеет и теперь уже своих неофициальных представителей. Исполнительный комитет привлек Ашенбреннера, Похитонова. Но ни тот, ни другой не были представителями армии. Скобелев[135] был таким представителем, но, согласись он примкнуть к восстанию, львиная доля власти принадлежала бы ему, а не Исполнительному комитету. Только при участии людей с такими или хоть подобными именами в земстве и городском управлении может быть составлено нечто заслуживающее названия «Временного правительства». Решатся ли такие люди слить свою судьбу с шаткой судьбой революции — вопрос, на который ответит будущее. Мы думаем, что найдутся такие, которые решатся. Это будет зависеть в значительной степени от предварительных отношений между обеими партиями. Во всяком случае, привлечь таких людей вожди восстания могут не обещаниями вести себя смирно и никакого дебоша не делать, а, напротив, производя как можно больший дебош, который сделал бы их силою.
Никакая революция не шла да и не могла идти тем сонным, регламентарным способом, какой был начертан «Народной волей».
Выборы могут быть венцом здания торжествующего восстания. Они могут наступить «на другой день» (или, скажем, месяц) после революции. Самой же революции будет не до выборов, потому что все ее силы и нервы будут напряжены в борьбе на жизнь и на смерть с ее противниками. Единственная забота и цель восстания — продержаться, усилиться и распространиться. А сделать это можно, лишь совершая на деле все то, за что масса людей может ухватиться и что она будет защищать.
Земельный вопрос — вполне назревший и самый жгучий из наших вопросов, во имя которого только и может подняться крестьянство. Этот могучий рычаг неминуемо должен быть пущен во всю свою силу, разом, повсюду, где есть возможность, и не одними декретами, а путем прямого революционного примера и призыва брать то, что принадлежит народу по праву. Только таким образом можно закрепить революцию и парализовать темную силу реакции.
За социализм у нас рабочий класс не ухватится, подпольная пропаганда не может сделать того, что лишь отчасти достигнуто в свободных странах десятками лет широкой агитации при тысячах искусных и даровитых работников. Пока у нас большинство фабричных рабочих — пришлые крестьяне-земледельцы, которые тянут к деревне, призыв к экспроприации фабрик может иметь самые плачевные последствия.
Но, если бы в том или другом месте вследствие особого искусства пропагандистов и счастливого для них стечения обстоятельств такой призыв мог иметь шансы на успех, он должен быть сделан, что бы из него ни вышло. В борьбе все приносится в жертву шансам победы. А там, по замирении, земский собор пусть «для уравнения со сверстниками» вознаграждает владельцев, как это делает государство в случае военных реквизиций.
Что касается правительственных заводов — патронных, оружейных, литейных и иных, которые имеют постоянный состав рабочих и теперь уже эксплуатируются на общественных началах, только с казенными, а не выборными распорядителями, — то передача их рабочим на артельных началах едва ли встретит затруднения, и революция не может пренебречь таким действительным средством привлечь их всей массой на свою сторону.
Рабочие же как класс могут быть подняты во имя не столь широких, но вполне понятных и близких им классовых интересов: сокращения часов работы, улучшения условии труда — и во имя гражданских прав и политической свободы, которые им дороги как горожанам и открывают им путь к дальнейшим улучшениям.
Для образованных классов, для всех сознательных противников самодержавия, для провинции, для отзывчивых иноплеменных окраин национальная автономия, областное и провинциальное самоуправление являются рычагом столь же могучим и верным, как земельный вопрос для крестьян. Как может революция откладывать его действие до отдаленного земского собора, который и вовсе не состоится, если восстание будет подавлено?
Офицеры — интеллигенция, которые пристанут или не пристанут к восстанию по общим влечениям образованных классов. Но солдаты — народ. Они имеют свои специальные классовые интересы, заключающиеся в освобождении от обязательной службы. Такой клич найдет, несомненно, отзыв в войсках. Распустив армию и приступив к немедленному вооружению народа, революция гарантирует ему наивернейшим способом все его права. Иностранного вторжения бояться нечего: с миллионами социал-демократов за спиной немцы не полезут усмирять русскую революцию. Да и кто может быть опасен государству, способному выставить девять миллионов милиции?
Итак, все те существенные пункты программы, осуществление которых «Народная воля» хочет великодушно и скромно предоставить будущему земскому собору, все это революция, раз только она вспыхнет, совершит или начнет совершать сама. Революция — ускоренный органический процесс, в котором ломка старого и созидание нового идут одновременно. Она может держаться и расти, лишь совершаясь.
Если бы тем самым людям, которые писали народовольческую программу, довелось сделаться руководителями восстания, они первые бы нарушили собственные обещания.
Уверовать в народовольческую революцию, которая, подобно Моисеевой неопалимой купине, горит, ничего не сожигая, было так же трудно, как уверовать в возможность Исполнительному комитету когда-либо «захватить власть» и стать «Временным правительством».
Вне собственно революционного, заговорщицкого мира никто в это и не уверовал.
Пожелавши успокоить общество вполне и удовлетворить всех, «Народная воля» не успокоила общества вовсе и не удовлетворила даже тех, кто стал бы на сторону определенной и ясной, хотя бы и крайней программы.
Но это было еще с полгоря. Общее сочувствие революции в среде образованных классов было настолько велико, что не могло серьезно потерпеть от неудачного литературного произведения. Горе же было в том, что сами революционеры уверовали в свою программу. Люди уж так устроены, что при страстном желании уверовать и при частом повторении одного и того же они могут уверовать решительно во что угодно. Народовольцы уверовали и в свою «легальную» революцию, и в туманное пятно мужицкого земского собора, и в открывающий к нему путь гигантский заговор, который будет расти вечно из ничего, как философский гриб, пока под его сенью не приютятся, как под библейской смоковницей, все звери земные и птицы небесные.
В течение целых двух лет величайшего революционного возбуждения «Народная воля» не предприняла решительно ничего — ни покушений, ни открытых нападений. Первые отвергались в виду последних как опасная трата сил, а последние откладывались и откладывались в видах расширения организации до невозможных размеров.
И вот плели народовольцы свой вечный заговор, который ежеминутно обрывался, и плелся снова, и снова обрывался, как та веревка из кострики, которую в народной легенде отставной солдат должен был сплести, чтобы выбраться из ада. С тою только разницей, что в сказке солдат веревку свою все-таки сплел и выбрался, а народовольцы своей веревки не сплели и остались в аду сами и не могли помочь выбраться из него своей родине.
Говорю это не в суд и осуждение и не в умаление великих заслуг людей, стоявших во главе тогдашнего движения: выбрать удачно момент, когда бросить все силы в атаку, ставя на карту решительно все, — дело величайшей трудности даже в обыкновенной открытой войне. В подпольной, где ничего не видно, это много труднее. Силы для отчаянно дерзкого нападения достаточны; можно очертя голову броситься вперед. Но завязаны переговоры с офицерами двух-трех новых частей. Через неделю они будут наши, и шансы успеха удвоятся. Кто в подобных обстоятельствах поручится, что он бы подал голос за нападение? А между тем шпионы, быть может, доделывают свою лазейку; где-нибудь в тюремной клетке зреет предательство. В течение роковой недели разражается погром, и о попытке несколько месяцев нечего и думать.
Далека от меня всякая мысль осуждать кого бы то ни было. Хочу только сказать, что эти роковые проволочки были, несомненно, в значительной степени обусловлены слишком грандиозными целями, какие ставились заговору. Обидно, тяжело подумать, какие силы погибли понапрасну, какое время было упущено и из-за чего?..
Насколько сильна и реальна теоретическая часть народовольческой программы, которая с незначительными поправками[136] надолго может остаться программой движения, настолько же темна, фантастична и вредна практическая часть той же программы.
Все, что может взять на себя какая бы то ни было революционная партия, это почин восстания. Не задавайся «Народная воля» фантазиями о «захвате власти» и «Временном правительстве», все за то, что такой почин был бы сделан, и движению, даже в случае неудачи, был бы дан могучий толчок вперед.
Что же будет дальше? Притихла ли революция и собирается с силами или же уснула непробудным сном?
Если бы уснула, то и с богом — нет ничего более разорительного для умственного достояния народа, чем революция, — да не дают ей уснуть.
Лишь только не стало Исполнительного комитета, за потрясение основ принялся сам Александр III.
Остановив на минуту революционное движение, правительство пожелало обезопасить себя и, ломая все, силится отбросить поток народной жизни назад, как возможно дальше, к эпохе Николая, а то и Екатерины II.
Что под влиянием бесшабашной и безудержной реакционной ломки последних восьми лет общее глухое недовольство страшно усилилось, об этом говорить нечего. Вместе с тем революционные программы стали проще, реальнее[137], утратив прежний элемент фантастичности. Некоторая часть революционной молодежи, под влиянием весьма понятного и благородного чувства к прошлому, все еще силится верить в народовольческую программу во всей ее целости. Ввиду этого мы и сочли необходимым разобрать ее. Но вообще революция, несомненно, спустилась на землю и пустила в ней корни.
Однако закрывать глаза на правду нечего: несомненно также, что по сравнению с прошлым революционное движение очень слабо. Параллельно с этим ослабели, как всегда, и более умеренные формы оппозиции: глухое чувство таится в глубине общества, не проявляясь никакими открытыми действиями.
Мы в периоде затишья.
Откуда же и как может налететь буря? Возможно ли, что революция пойдет старым, испытанным и, по-видимому, кратчайшим путем, вполне доступным силам тайных обществ: путем возбуждения революционного духа рядом покушений?
Едва ли это возможно. На исторической сцене не играют вторых представлений, да и вообще ничего не делается по заранее составленному рецепту.
Единичные покушения на личности возможны и законны как проявления революционного самосуда; в минуту восстания они неизбежны и могут принять более широкие размеры. Специальные трудности русской борьбы узаконяют самые решительные средства. Но терроризм как система отжил свой век, и воскресить его невозможно. Для этого у одних нет и не может быть прежней веры; у других нет и не может быть прежнего страха.
Новый революционный период должен начаться с того, к чему уже подходил предыдущий: с открытых восстаний и открытых действий всякого рода. Ни того, ни другого одними усилиями тайных обществ создать нельзя. Для них нужна специальная атмосфера общего возбуждения, которая может создаться лишь каким-нибудь крупным историческим событием, которое потрясло бы умы, пробудило надежду в подавленных душах, пошатнуло уверенность в силе правительства и превратило бы медленно накоплявшееся глухое недовольство в недовольство говорящее, кричащее, готовое действовать.
Таким событием может быть и внешняя война, и революция у соседей, и финансовый кризис у себя дома. Но всего вернее и решительнее — стихийное крестьянское движение, которое приближается, роковое, неотвратимое, неся с собою уже не переворот, а грозный, всеобщий катаклизм.
Русский мужик не раб и рабом никогда не был, даже в эпоху рабства. Он страшно вынослив и терпит то, чего не выдержал бы ни один народ. Но он это делает не из трусости и малодушия, а во имя своих веками выработанных и всосанных с молоком матери представлений о долге пред государственной властью. Его понятия о законности нелепы и дики, но не менее тверды, чем у любого английского фермера, и в случае нужды он умеет за них постоять, не пугаясь ни штыков, ни пушек, ни розог, ни даже виселицы. Он это доказал во время холерных беспорядков[138], охвативших весь юг и направленных против почему-то не полюбившихся ему больничных бараков.
Крестьянство не только самое многочисленное, но и самое сильное из сословий в России. А между тем характерная особенность теперешней реакции это усилия во что бы то ни стало раздразнить мужика: голодом — с одной стороны, фактическим восстановлением крепостного права — с другой.
Народ бунтовал против крепостного права встарь. Теперь он и подавно не потерпит его, хотя бы старых помещиков и переименовали в земских начальников.
И с голоду он умирать не станет. У него есть свой кодекс обязанностей, из них же первая — платить подати, что он и выполняет не щадя живота. Но он считает своим неотъемлемым правом быть накормленным государством, когда его постиг неурожай. Он не вымаливает, а требует себе субсидии. Не сентиментальность, а страх вынудил правительство дать сто двадцать миллионов субсидии в 1891 году и пятьдесят — в следующем, в противность принятому решению ничего не давать.
Когда правительство давать будет не в состоянии, мужики будут брать силой. Конечно, они станут делать это царским именем, в глубоком убеждении, что царь послал им хлеб, а господа и чиновники скрыли. Но бунт остается бунтом и расшатывает «установленный порядок», какими бы легендами он ни сопровождался. Ведь и французские крестьяне, сделавшие наполовину французскую революцию, жгли замки во имя короля.
А тут еще всеобщая воинская повинность, поднявшая уровень развития солдат, рассыпавшая по ротам интеллигентных людей и сократившая до трех-четырех лет действительную службу в рядах. Две трети солдат крестьяне, взятые года полтора-два тому назад от плуга. Уже во время прошлогодних беспорядков было несколько случаев отказа войска стрелять в крестьян. Чем чаще будут повторяться крестьянские «бунты», тем такие случаи будут неизбежнее и чаще. Войско станет опасно посылать на усмирения.
Первые серьезные и продолжительные волнения среди крестьян расстроят и парализуют правительственную силу. Они же будут сигналом к такому «оживлению» революции в центрах, с которым не справиться уже никаким диктаторам.
Горячая симпатия к народу, которая характеризует русскую интеллигенцию, внимание, с каким следят у нас за всем происходящим в деревнях, и, наконец, известные всем примеры Запада служат тому гарантией.
Невозможно определить времени этого стихийного явления, но оно приближается фатально и неизбежно, как явления космические: стомиллионный народ не может вымереть, выродиться, сойти со сцены, не сделав никакого усилия постоять за себя.
Людям, предвидящим его приближение, остается только подготовлять те кадры, которые могли бы влить в движение сознательную струю.
Лозунгом нашего времени является поэтому слово «пропаганда» пропаганда среди интеллигенции, пропаганда среди городских рабочих, среди войска, среди крестьян, у которых уже народился свой интеллигентный класс.
Это скромная, муравьиная работа, но известно, что в экономии природы такая работа именно и дает громадные результаты, если только работников на нее поставлено много.
Их у нас всегда было много, нужно только, чтобы они не гибли преждевременно без нужды в пустой революционной толчее. Поменьше заговоров — для них время впереди; поменьше конспирации и организаций, объединений и союзов; и побольше частной инициативы и живого, непосредственного дела.
Двадцать лет не прошли даром ни для России, ни для революционеров. Не прежние люди пойдут теперь «в народ», и не то найдут они и в крестьянстве, и в обществе, и в рабочем классе. Почва для революционного сеятеля подготовлена реакцией; новые стремления назрели под влиянием тех культурных сил, которых не может устранить никакое правительство. Русский политический кризис не кончился: он развился, расширился, вступил в новую фазу, и его более или менее быстрое или отдаленное, более или менее легкое или мучительное и кровавое разрешение зависит целиком от энергии, с какой поведется эта подготовительная работа мирного времени. Стихийные силы могут лишь расшатать самодержавие и сделать возможным нападение на него. Но они только усилят болезненность разложения, если не будет в наличности сознательных сил, которые бы воспользовались этой возможностью.
Сентябрь 1893