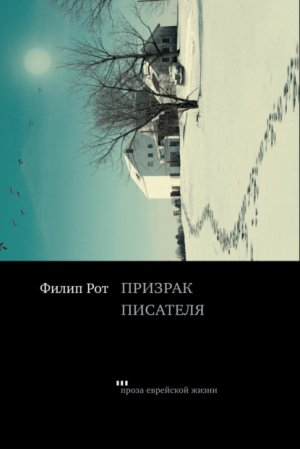
Philip Roth
The Ghost Writer
Роман
Перевод с английского Веры Пророковой
Москва, 2018
Посвящается Милану Кундере
1. Маэстро
Был последний час декабрьского дня — с тех пор минуло уже двадцать с лишним лет, мне тогда было двадцать три года, я писал и публиковал свои первые рассказы и, как многие герои Bildungsroman[1], уже обдумывал собственный объемистый Bildungsroman, — когда я прибыл в укромное жилище великого человека. Сельский дом, обшитый деревом, стоял в конце грунтовой дороги, на высоте четыреста метров в Беркширских горах, однако на человеке, появившемся из кабинета, дабы меня поприветствовать, был габардиновый костюм, вязаный синий галстук был пришпилен к белой рубашке строгой серебряной булавкой, черные министерские туфли сияли так, словно он только что вышел от чистильщика, а не из алтаря высокого искусства. Прежде чем я сосредоточился настолько, чтобы заметить, как властно, диктаторски вздернут его подбородок, как царственно, притом тщательно и не без изящества он расправляет одежду, перед тем как сесть, — заметить, собственно говоря, хоть что-то кроме того, что я, при моих нисколько не литературных истоках, чудесным образом сюда до него добрался, — у меня создалось впечатление, что Э. И. Лонофф выглядит как местный школьный инспектор, а не самый своеобразный из местных писателей со времен Мелвилла и Готорна.
Впрочем, наслушавшись нью-йоркских баек о нем, я должен был предполагать встречу с кем-то величественным. Когда незадолго до этого я упомянул его имя перед высоким судом, на своей первой манхэттенской вечеринке с издателями — я прибыл туда, волнуясь, как старлетка, под руку с пожилым редактором, — остроумцы в мгновение ока с ним разобрались, будто нет ничего комичнее того, что еврей его поколения, выходец из семьи иммигрантов, женился на девушке, чья семья не первый век обитала в Новой Англии, и все эти годы проживал «за городом» — то есть в гойской глуши среди птиц и деревьев, там, где Америка начиналась и давным-давно закончилась. Однако, поскольку все авторитеты, упомянутые мной на той вечеринке, казались тамошним просвещенным личностям слегка забавными, я скептически отнесся к их сатирическим описаниям знаменитого сельского затворника. По правде говоря, после того, что я увидел на этой вечеринке, я стал понимать, почему у писателя, неважно, еврейский он или нет, может возникнуть желание укрываться в горах на высоте четыреста метров, среди лишь птиц и деревьев.
Гостиная, в которую он меня провел, была аккуратной, уютной и скромной: большой круглый плетеный ковер, глубокие кресла в чехлах, потертый диван, полки с книгами, пианино, проигрыватель, дубовый письменный стол с разложенными в определенном порядке журналами. На светло-желтых стенах, снизу обитых белыми деревянными панелями, висело лишь несколько любительских акварелей со старым домом в разные времена года. На широких низких подоконниках разбросаны подушки, бесцветные хлопковые шторы строго собраны, из окон видны голые ветви огромных кленов и занесенные снегом поля. Чистота. Строгость. Простота. Уединение. Сосредоточенность, яркость, оригинальность — все это сберегалось для всепоглощающего, высокого, надмирного призвания. Я огляделся и подумал: вот так буду жить и я.
Подведя меня к паре кресел у камина, Лонофф убрал от камина экран, проверил, выдвинута ли заглушка. Деревянной спичкой он поджег поленья, видимо сложенные заранее — к нашей встрече.
Затем он вернул экран точно на прежнее место — будто для него был проложен желоб. Убедившись, что поленья занялись, и довольный тем, что развел огонь, не подвергнув опасности двухсотлетний дом и его обитателей, он наконец присоединился ко мне. Он поддернул, чтобы не смять складки, сначала одну брючину, затем другую — его почти женские руки были проворны и изящны — и сел. Для столь крупного и кряжистого мужчины двигался он с легкостью.
— Как вы предпочитаете, чтобы вас называли? — спросил Эмануэль Исидор Лонофф. — Натан, Нейт, Нат? Или вам нравится что-то иное? — Друзья и знакомые, сообщил он мне, зовут его Мэнни, и мне следует называть его так же. — Так разговор пойдет живее.
В этом я сомневался, но улыбнулся, давая понять, что, хоть от этого мне точно будет не по себе, я его послушаюсь. Тогда мастер стал расспрашивать меня дальше, сказав, что хочет услышать от меня что-нибудь о моей жизни. Само собой, мне в 1956 году о своей жизни было почти нечего рассказать — тем более тому, кого я считал столь знающим и глубоким человеком. Я вырос у любящих родителей, в не то чтобы бедном, но и не богатом районе Ньюарка; у меня был младший брат, который, по общему мнению, меня обожал; в хорошей местной школе и в прекрасном университете я показал те результаты, каких и ожидали от меня поколения предков; затем я служил в армии, на базе в часе езды от дома, — писал пресс-релизы для одного майора в Форт-Диксе, в то время как в Корее шла кровавая бойня, для которой, собственно, и было приуготовано мое тело. Демобилизовавшись, я жил и писал неподалеку от нижней части Бродвея, в квартире на пятом этаже без лифта, которую моя девушка, когда переехала ко мне и пыталась немного ее облагородить, называла жилищем грешного монаха.
Чтобы зарабатывать на жизнь, я три раза в неделю ездил за реку, в Нью-Джерси, занимался тем же, чем и в лето после первого курса, когда я откликнулся на объявление, обещавшее настырным продавцам высокие комиссионные. В восемь утра нашу команду вывозили в один из фабричных городков Нью-Джерси, и мы ходили по домам, продавали подписку на журналы, а в шесть вечера нас забирал у заранее оговоренного бара и вез назад наш начальник, Макэлрой, в центр Ньюарка. Этот щеголеватый, с усиками в ниточку, пьянчуга вечно твердил нам — двум возвышенным юношам, откладывавшим деньги на обучение, и трем вялым старожилам, бледным одутловатым мужикам, на которых валились все возможные несчастья: не заводите шашни с домохозяйками в бигудях, что торчат дома одни, — или муж в ярости переломает вам ребра, или вас подставят и будут шантажировать как насильников, или вы подхватите любую из пятидесяти грязных зараз, но главное — часов в сутках не так уж и много. «Либо с бабами забавляйтесь, — невозмутимо советовал он нам, — либо ‘Серебряный экран’ продавайте. Вам решать». Мы, два студента университета, прозвали его «Моисеем от Мамоны». Поскольку ни одна домохозяйка ни разу не выказала желания пригласить меня в дом — пусть просто передохнуть, — а я бдительно следил, не блеснет ли огонек похоти во взгляде женщины любого возраста, которая соглашалась хотя бы выслушать меня из-за сетчатой двери, я вынужден был совершенствоваться в работе, а не в радостях жизни и под конец долгого дня уговоров и агитации имел от десяти до двадцати долларов комиссионных на своем счете и незапятнанное будущее впереди. Прошло всего несколько недель, как я бросил эту безгрешную жизнь, равно как и девушку в квартире на пятом этаже без лифта, которую я больше не любил, и с помощью влиятельного нью-йоркского редактора получил на зимние месяцы приглашение пожить в колонии Квосей, где в сельском уединении работали деятели искусства, а находилась она в соседнем штате, за горой Лоноффа.
Из Квосея я послал Лоноффу ежеквартальные литературные журналы, где публиковались мои рассказы — пока что всего четыре, — и письмо, в нем я расписывал, как много он для меня значил, когда «несколько лет назад», учась в университете, я познакомился с его произведениями. Следом я упомянул, как стал читать его «сородичей» Чехова и Гоголя, а далее недвусмысленно демонстрировал, насколько я серьезный писатель, показывая одновременно, как я молод. Впрочем, ничто из написанного мной прежде не потребовало таких трудов, как это письмо. Все в нем было правдой, но — стоило мне об этом написать — оборачивалось неприкрытой фальшью, и чем искреннее я старался быть, тем фальшивее у меня получалось. В конце концов я послал десятый вариант, а затем пытался засунуть руку в почтовый ящик, чтобы выудить оттуда свое письмо.
В простой и уютной гостиной с автобиографией у меня получалось ничуть не лучше. Поскольку, сидя у старинного камина Лоноффа, я не мог выдавить из себя ни малейшей непристойности, моим попыткам изобразить мистера Макэлроя — друзья обожали эти мои представления — не хватало блеска. Не получалось у меня и с легкостью описать все то, насчет чего Макэлрой нас предостерегал, не осмеливался я и упомянуть, с какой охотой я бы поддался на соблазны, представься мне такая возможность. Можно было подумать, слушая выхолощенную историю моей и без того небогатой событиями куцей жизни, что приехал я не потому, что получил от знаменитого писателя теплое и благосклонное письмо с приглашением провести приятный вечер у него в доме, а чтобы защитить дело, чрезвычайно для меня важное, перед строжайшим из инквизиторов, и сделай я хоть один неверный шаг, я навеки лишусь чего-то неизмеримо ценного.
Так по сути и было, хотя я пока что не понимал, как остро нуждаюсь в его одобрении и почему. Невзирая на свой застенчивый сбивчивый рассказ — кстати, в те годы юношеской самоуверенности обычно такого за мной не водилось, — я нисколько не тушевался, и мне самому бы удивиться, почему я не распластался на плетеном ковре у его ног. Поскольку, видите ли, приехал я для того, чтобы предложить свою кандидатуру в качестве ни больше ни меньше как духовного сына Э. И. Лоноффа, нижайше просить его быть моим нравственным наставником и получить, если удастся, магическую защиту в виде его заступничества и любви. Разумеется, у меня имелся свой собственный любящий отец, у которого я в любое время дня и ночи мог просить что угодно, но мой отец был врачом по стопам, а не писателем, и недавно у нас в семье случились серьезные неурядицы из-за моего нового рассказа. Он был так им обескуражен, что кинулся к своему нравственному наставнику, некоему судье Леопольду Ваптеру, чтобы судья заставил его сына узреть свет истины. В результате после двух десятилетий более или менее непрерывного дружеского общения мы к тому времени уже пять недель не разговаривали, и я отправился искать отеческого одобрения в другом месте.
Причем не просто у отца, который был творцом, а не мозольным оператором, но у самого знаменитого литературного отшельника Америки, гиганта терпения, стойкости и самоотверженности, который за двадцать пять лет между своей первой книгой и шестой (за которую ему присудили Национальную книжную премию, а он преспокойно отказался ее принять) фактически не имел ни читателей, ни признания и неминуемо был бы сброшен со счетов — если бы и хоть когда-либо о нем упомянули — как курьезный реликт из гетто Старого Света, выпавший из времени собиратель фольклора, прискорбно не замечающий современных тенденций в литературе и обществе. Никто толком не знал, кто он и где живет, и почти четверть века никому до этого и дела не было. Даже среди его читателей имелись те, кто считал, что фантазии Э. И. Лоноффа по поводу американцев были написаны на идише где-то в царской России, после чего он предположительно там и умер (как на самом деле едва не погиб его отец) от увечий, полученных во время погрома. Меня восхищало в нем многое — не только стойкость, с которой он все это время продолжал писать рассказы в своей манере, но и то, что, когда его открыли и стали раскручивать, он отказался от всех наград и званий, равно как от членства во всяких почетных организациях, не давал интервью и предпочитал не фотографироваться, считая, что ассоциировать его лицо с его сочинениями глупо и неуместно.
Единственным фото, которое видел кто-либо из читающей публики, был размытый портрет в сепии, опубликованный в 1927 году на внутренней стороне суперобложки сборника «Это ваши похороны»: красивый молодой писатель с лирическими миндалевидными глазами, высоким завлекательным коком темных волос и манящей к поцелуям выразительной нижней губой. Теперь он был совершенно иным — не только из-за обвисших щек, животика и лысого черепа с седой опушкой, у него был образ совершенно другого толка, и я подумал (как только ко мне вернулась способность думать), что причина метаморфозы наверняка куда безжалостней, чем время: дело было в самом Лоноффе. Разве что густые лоснящиеся брови и чуть задранный к небесам упрямый подбородок роднили его, в пятьдесят шесть, с фотографией страстного, одинокого, застенчивого Валентино[2], который в десятилетие, когда царили Хемингуэй и Фицджеральд, написал сборник рассказов о евреях-скитальцах, не похожий ни на что написанное прежде евреями, доскитавшимися до Америки.
Собственно говоря, когда я — убежденный студент-атеист, будущий представитель интеллектуальной элиты — впервые читал сочинения Лоноффа, они лучше помогли мне понять, что я все еще отпрыск своей еврейской семьи, чем всё, что я донес до Чикагского университета с детских занятий ивритом, или с маминой кухни, или с бесед родителей с нашими родственниками об опасности межнациональных браков, проблеме Санта-Клауса и несправедливости квот на медицинских факультетах (из-за этих квот, понял я еще в детстве, мой отец стал подиатром и всю жизнь рьяно поддерживал Антидиффамационную лигу Бней-Брит[3]). В начальной школе я уже мог обсуждать эти темы с кем угодно (что и делал, когда приходилось); впрочем, когда я уехал в Чикаго, моя страсть уже улеглась и я с юношеским пылом уже был готов ратовать за гуманитарный факультет Роберта Хатчинса[4]. Но примерно в то же время я, как и десятки тысяч других читателей, открыл для себя Э. И. Лоноффа, чьи книги казались мне ответом на груз исключений и ограничений, все еще давивший на тех, кто меня растил, и из-за которого все наши родственники были буквально помешаны на положении евреев. Гордость, какую испытали мои родители, когда в 1948 году в Палестине была объявлена новая родина, где могли собраться все европейские евреи, кого не успели убить, по сути была схожа с той, что испытал я, когда впервые столкнулся с покореженными, скрытными, плененными душами в книгах Лоноффа и понял: из того унижения, от которого так стремился избавить нас мой собственный отец, труженик и смутьян, может беззастенчиво вырасти такая суровая и пронзительная литература. Мне казалось, будто галлюцинации Гоголя были пропущены через участливый скептицизм Чехова, благодаря чему в нашей стране и вырос первый «русский» писатель. Во всяком случае, такие аргументы я приводил в университетских эссе, где «анализировал» стиль Лоноффа, но ни с кем не делился пробужденным им во мне ощущением родства с нашим уже существенно американизированным кланом, начало которому положили нищие иммигранты-лавочники, жившие местечковой жизнью в десяти минутах ходьбы от центра Ньюарка, с его зданиями банков в колоннадах и страховыми компаниями в соборах с горгульями; более того, ощущением родства с нашими благочестивыми неведомыми предками, чьи мытарства в Галиции были мне, безбедно выросшему в Нью-Джерси, почти так же чужды, как странствия Авраама в земле Ханаанской. С его водевильной тягой к легендам и пейзажам (на последнем курсе в эссе о Лоноффе я назвал его Чаплином, который нашел подходящий реквизит, чтобы показать все общество и его мировоззрение); с его «переведенным» английским, придававшим слегка ироничный оттенок даже самым расхожим выражениям; с его загадочным, приглушенным, мечтательным звучанием, из-за которого такие маленькие рассказы говорили так много, — и кто же, вопрошал я, в американской литературе может с ним сравниться?
Типичный герой рассказа Лоноффа — герой, значивший очень много для начитанных американцев середины пятидесятых, герой, лет через десять после Гитлера сумевший сказать что-то новое и душераздирающее гоям о евреях и евреям о них самих, а читателям и писателям того восстановительного десятилетия в целом о двойственности благоразумия и о тревогах беспорядка, о жажде жизни, сделках с жизнью и ужасах жизни в их самых примитивных проявлениях, — герой Лоноффа чаще всего — никто, взявшийся ниоткуда, заброшенный далеко от дома, где по нему не скучают, но куда он должен незамедлительно вернуться. Его знаменитая смесь сострадания и безжалостности (увековеченная в «Тайм» как лоноффианская — после того, как Лоноффа не один десяток лет игнорировали) более всего потрясает в рассказах, где погруженный в свои мысли отшельник заставляет себя включиться в жизнь, но лишь обнаруживает, что, тщательно все обдумывая, он упустил время сделать кому-нибудь что-то хорошее, а действуя с несвойственной ему порывистостью, совершенно неверно оценивал, что же вытаскивало его из посильного существования, и в результате только все испортил.
Самые мрачные, смешные и тревожные рассказы, где, как мне казалось, безжалостный автор вот-вот сам себя угробит, были написаны в короткий период его литературной славы (он умер в 1961 году от воспаления костного мозга, а когда Освальд застрелил Кеннеди и на смену оплоту добропорядочности пришла исполинская банановая республика, его сочинения и полномочия, отданные им всему запретному в жизни, быстро потеряли «актуальность» для нового поколения читателей). Известность не взбодрила Лоноффа, наоборот, словно усугубила его самые трагичные фантазии, подтвердив его видение неминуемых ограничений, которые могли бы показаться недостаточно подкрепленными личным опытом, если бы мир так до самого конца и не вознаградил его. Лишь когда немного вожделенного изобилия стало ему доступно — только попроси, лишь когда стало совершенно ясно, насколько не приуготован он иметь что-то или владеть чем-то, кроме своего творчества, он вдохновился написать блистательный цикл юмористических притч (рассказы «Месть», «Вши», «Индиана», «Эппес Эссен»[5] и «Адман»), в которых изнуренный герой вообще не предпринимает попыток действовать — малейшие потуги к инициативе или самоотречению, не говоря уже об интригах или авантюрах, немедленно гасились правящим триумвиратом Здравомыслия, Ответственности и Достоинства, на помощь которому спешили их преданные прислужники — распорядок, ливень, головная боль, сигнал «занято», дорожные пробки и, самый верный из всех, нахлынувшее в последнюю минуту сомнение.
Продавал ли я какие-то еще журналы, кроме «Фотоигры» и «Серебряного экрана»? Говорил ли я в каждом доме одно и то же или подстраивал свои речи под клиента? Как я оцениваю свои успехи в качестве торговца? Что я думал о людях, подписывающихся на эти убогие журналы? Скучной ли была работа? Случалось ли что-нибудь необычное, когда я бродил по незнакомым мне районам? Сколько таких команд, как у мистера Макэлроя, было в Нью-Джерси? Как удавалось компании платить мне по три доллара за каждую проданную подписку? Бывал ли я когда-либо в Хакенсаке? Как там?
Трудно было поверить, что работа, которой я занимался лишь для того, чтобы содержать себя, пока не смогу вести такой же образ жизни, как и он, могла заинтересовать Э. И. Лоноффа. Он явно был человек обходительный и старался, чтобы я почувствовал себя в своей тарелке, но, даже старательно ответив на его подробные расспросы, я был уверен, что он вот-вот придумает, как избавиться от меня до ужина.
— А я вообще ничего не знал о том, как торгуют подписками, — сказал он.
Чтобы продемонстрировать, что я не обижаюсь на снисходительное ко мне отношение и пойму, если меня вскоре попросят покинуть этот дом, я залился краской.
— Я вообще почти ни о чем ничего не знаю. Тридцать лет я только фантазирую. Со мной ничего не случается.
И тут передо мной возникла потрясающая юная женщина — как раз когда он исполнял с едва различимыми нотками отвращения к себе эту невероятную ламентацию, а я пытался усвоить ее. С ним ничего не случается? Как так ничего не случилось? А талант, а искусство, он же провидец!
Жена Лоноффа, седовласая женщина, — впустив меня в дом, она тотчас удалилась, — распахнула дверь кабинета напротив гостиной, через холл, и я увидел ее — пышные черные волосы, светлые — серые или зеленые — глаза, высокий выпуклый лоб полумесяцем — как у Шекспира. Она сидела на ковре среди груды бумаг и папок, в твидовой юбке «нью лук»[6] — этот стиль на Манхэттене давно уже считался старомодным — и в объемном свободном свитере белой шерсти; ее вытянутые ноги скромно скрывались под широкой юбкой, а взгляд был устремлен куда-то за пределы комнаты. Где я видел эту суровую строгую красоту прежде? Где, как не на портрете кисти Веласкеса. Я вспомнил фотографию Лоноффа 1927 года, тоже в каком-то смысле «испанскую», и немедленно решил, что это его дочь. Я немедленно решил и кое-что еще. Миссис Лонофф не успела поставить на ковер рядом с ней поднос, а я уже видел себя женатым на этой infanta[7], живущим с ней в нашем собственном домике неподалеку. Только сколько же ей лет, если мама кормит ее печеньем, пока она доделывает на полу в папином кабинете домашнее задание? С лицом, чьи резко очерченные скулы выглядели так, будто их выточил куда более искусный скульптор, нежели природа, с таким лицом ей наверняка больше двенадцати. Впрочем, если нет, я могу и подождать. Эта идея привлекала меня даже больше, чем перспектива взять ее в жены этой весной, в этой гостиной. Что покажет силу моего характера, подумал я. Но что подумает ее знаменитый отец? Ему-то уж не надо напоминать о веском ветхозаветном прецеденте и о необходимости ждать семь лет, прежде чем обручиться с мисс Лонофф; с другой стороны, как он отреагирует, увидев, что я торчу в своей машине около ее школы?
Он тем временем говорил мне:
— Я кручу фразы. В этом моя жизнь. Пишу фразу, а потом кручу ее. Смотрю на нее и снова кручу. Потом обедаю. Потом возвращаюсь и пишу еще одну фразу. Потом пью чай и кручу новую фразу. Перечитываю две фразы и кручу обе. Потом ложусь на диван и думаю. Потом встаю, выкидываю их и начинаю сначала. И если я хотя бы на день выпадаю из этого режима, начинаю сходить с ума от скуки и ощущения бессмысленности. По воскресеньям я завтракаю позже и читаю вместе с Хоуп газеты. Потом мы идем гулять в горы, и я снова мучаюсь, что зря трачу время. По воскресеньям я просыпаюсь и чуть ли не бешусь, думая о бесполезных часах впереди. Я не нахожу себе места, я злюсь, но она же тоже человек, поэтому я иду. Чтобы я не дергался, она заставляет меня оставлять часы дома. В результате я просто смотрю на запястье. Мы гуляем, она болтает, потом я смотрю на запястье — и этого, если моего мрачного вида недостаточно, хватает. Она сдается, и мы отправляемся домой. А дома как отличить воскресенье от четверга? Я сажусь за свою малышку «Оливетти», перечитываю фразы, снова их кручу. И спрашиваю себя: почему я могу занимать себя только таким образом?
Хоуп Лонофф уже закрыла дверь в кабинет и пошла дальше хлопотать по хозяйству. Мы с Лоноффом слышали, как она жужжит миксером на кухне. Я не знал, что сказать. Жизнь, которую он описывал, казалась мне райской; то, что он не мог придумать себе лучшего занятия, чем крутить фразы туда-сюда, казалось мне благословением, ниспосланным не только ему, но и всей мировой литературе. Я гадал: а вдруг он рассчитывал, что его рассказ о своем дне, хоть и изложенный с каменным лицом, меня рассмешит, вдруг он был задуман как ехидная лоноффская миниатюра. Впрочем, если он говорил серьезно и действительно был этим так удручен, может, следовало напомнить ему, кто он и что значит для читающего человечества? Но разве ему это неизвестно?
Миксер жужжал, поленья потрескивали, ветер дул, деревья скрипели, а я в свои двадцать три пытался придумать, как развеять его тоску. Его откровенность, совершенно не вязавшаяся со строгой одеждой и педантичными манерами, ставила меня в тупик — я не привык выслушивать нечто подобное от людей вдвое меня старше, даже если его рассказ о себе был приправлен самоиронией. Тем более если он был приправлен самоиронией.
— Я бы после чая и не пытался писать, если бы знал, чем себя занять до вечера.
Он объяснил, что к трем часам у него нет ни сил, ни решимости, ни даже желания продолжать.
Но что еще можно делать? Если бы он играл на скрипке или на фортепьяно, было бы чем заняться кроме чтения, когда он не пишет. А посидеть днем и послушать в одиночестве пластинку тоже не получается: он начинает крутить в голове фразы и все равно оказывается за столом, сидит и скептически пересматривает написанное за день. Да, конечно, к счастью, есть колледж «Афина». Он с воодушевлением рассказывал о студентах обоих курсов, которые там ведет. В маленьком университете Сток-бриджа ему выделили место на факультете лет за двадцать до того, как им заинтересовался весь ученый мир, за что он будет вечно благодарен. Но, по правде говоря, он столько лет учил этих умных и способных девушек, что и он, и они уже начали повторяться.
— Может, стоит взять академический отпуск на год?
Я нисколько не волновался — ведь я уже провел первые пятнадцать минут в обществе Э. И. Лоноффа и теперь рассказывал ему, как следует жить.
— Брал я отпуск. Было только хуже. Мы сняли в Лондоне квартиру на год. И я мог писать каждый день. Плюс Хоуп страдала, потому что я не прерывался, не ходил с ней смотреть архитектуру. Нет, больше никаких отпусков. Ведь так я хотя бы два раза в неделю после обеда должен отвлекаться — без вопросов. К тому же поездка в университет — это важнейшее событие недели. Я беру портфель. Надеваю шляпу. Киваю людям, которых встречаю на лестнице. Пользуюсь общественным туалетом. Спросите Хоуп. Я возвращаюсь домой, насквозь пропахший этим пандемониумом.
— А у вас есть свои дети?
В кухне зазвонил телефон. Не обращая на него внимания, он сообщил мне, что младшая из их троих детей несколько лет назад окончила Уэллсли[8]; они с женой живут вдвоем уже больше шести лет.
Значит, та девушка — не его дочь. Кто же она, почему его жена приносит ей в кабинет перекусить? Его конкубина? Идиотское слово, да и сама мысль идиотская, но она засела в голову и заслонила все разумные и достойные мысли. Среди наград, полагающихся за то, что ты великий писатель, еще и конкубинат с веласкесовской инфантой и благоговейный трепет юношей вроде меня. Я снова растерялся — предаюсь столь низменным мечтаниям в присутствии того, кого считаю своей литературной совестью, впрочем, разве не те же низменные помыслы мучили аскетов и отшельников в лоноффских рассказах? Кому, как не Э. И. Лоноффу, знать, что живыми людьми нас делает не только высокая цель, но и наши скромные нужды и запросы. Тем не менее я счел, что лучше держать свои скромные нужды и запросы при себе.
Дверь кухни приоткрылась, и жена тихо сказала Лоноффу:
— Это тебя.
— Кто? Надеюсь, не этот наш гений.
— Разве я тогда сказала бы, что ты дома?
— Тебе надо научиться говорить людям «нет». Такие типы звонят по пятьдесят раз на дню. Вдохновение накатывает, и они кидаются к телефону.
— Это не он.
— У него непоколебимое неверное мнение обо всем. В голове полно мыслей, и все глупые. И почему он во время разговора тычет в меня пальцем? Почему ему так необходимо разобраться во всем? Прекрати сводить меня с интеллектуалами. Я не умею так быстро думать.
— Я же сказала, извини. И это не он.
— А кто?
— Уиллис.
— Хоуп, я тут с Натаном разговариваю.
— Извини. Скажу, что ты работаешь.
— Не используй работу в качестве оправдания. Меня это не устраивает.
— Могу сказать, что у тебя гость.
— Прошу вас… — сказал я, имея в виду, что я никто, даже не гость.
— Он вечно в восхищении, — сказал Лонофф жене. — Вечно глубоко тронут. Вечно вот-вот расплачется. Чему он так всегда сочувствует?
— Тебе, — ответила она.
— Такой участливый. Зачем столько эмоций?
— Он перед тобой преклоняется.
Лонофф встал и, застегнув пиджак, отправился отвечать на нежелательный звонок.
— Они либо врожденные идиоты, — объяснил он мне, — либо глубокие мыслители.
Я выразил сочувствие, пожав плечами, а сам, разумеется, задумался: а может, по моему письму меня можно было отнести к обеим категориям? Затем мои мысли снова обратились к девушке в кабинете. Она живет в колледже или приехала из Испании в гости к Лоноффу? Выйдет ли она из кабинета? Если нет, как мне туда зайти? Если нет, как мне устроить встречу с ней?
Я должен увидеть вас снова.
Я открыл журнал — лучший способ отогнать коварные мысли и ждать, как положено вдумчивому писателю. Листая страницы, я наткнулся на статью о политической ситуации в Алжире и на еще одну — о развитии телевидения, в обеих было множество подчеркнутых мест. Если читать их по порядку, получался идеальный конспект каждой статьи, школьнику это могло служить отличным примером того, как готовить доклад по текущим событиям.
Когда Лонофф вернулся — минуты не прошло — с кухни, он увидел у меня в руках «Харперс базаар» и тут же стал объяснять.
— У меня внимание рассеивается, — сообщил он мне, словно я был врачом, заглянувшим расспросить о его недавних странных и тревожных симптомах. — Дочитав до конца страницы, я пытаюсь пересказать себе прочитанное и не могу вспомнить ни слова — я, оказывается, сидел в кресле просто так. Разумеется, я всегда читал книги с карандашом в руке, но теперь, если я этого не делаю, даже читая журналы, я думаю не о том, что у меня перед глазами.
Тут она появилась снова. Но то, что издали казалось строгой и простой красотой, вблизи выглядело скорее загадкой. Она прошла через холл в гостиную как раз в тот момент, когда Лонофф закончил подробно описывать странное состояние, в которое впадал, читая журналы, и я заметил, что ее удивительная голова была задумана в куда более величественном масштабе, чем туловище. Мешковатый свитер и широченная твидовая юбка, конечно же, помогали скрыть ее миниатюрность, но все другие особенности ее облика (за исключением густых кудрявых волос) казались несущественными и расплывчатыми прежде всего из-за выразительного лица в сочетании с мягким и умным взглядом ее огромных светлых глаз. Не стану скрывать, глубокого спокойствия этого взгляда было бы достаточно, чтобы я сник от смущения, но я не мог смотреть ей прямо в глаза еще и потому, что негармоничное сочетание туловища и головы словно подсказывало мне, что в ее жизни были несчастья, какие-то тяжелые потери или поражения, а для баланса в чем-то пришлось переусердствовать. Я вспомнил о цыпленке, закованном в скорлупу, откуда он может высунуть разве что клювастую головку. Вспомнил каменных идолов-макроцефалов с острова Пасхи. Вспомнил лихорадящих больных на верандах швейцарских санаториев, вдыхающих воздух волшебных гор. Но я не стану преувеличивать пафос и оригинальность моих впечатлений, поскольку вскоре их сменили неоригинальные и непреодолимые мечтания: я теперь думал только о том, с каким торжеством я бы целовал это лицо и с каким наслаждением получал бы ответные поцелуи.
— На сегодня всё, — сообщила она Лоноффу.
Он взглянул на нее так грустно и обеспокоенно, что я подумал, уж не внучка ли она ему.
В мгновение ока он превратился в самого доступного из людей, свободного ото всех забот и обязательств. Быть может, подумал я, все еще пытаясь объяснить некоторую странность в ней, которую я не мог определить, она — дитя его умершей дочери.
— Это мистер Цукерман, он пишет рассказы, — сказал Лонофф, ласково меня поддразнивая, будто он стал моим дедушкой. — Я дал вам почитать его сочинения.
Я встал и пожал ей руку.
— А это мисс Беллет. Она когда-то была моей студенткой. Вот, приехала к нам на несколько дней и взяла на себя труд разобрать мои рукописи. Тут меня уговаривают отдать на хранение в Гарвардский университет те клочки бумаги, где я кручу свои фразы. Эми работает в библиотеке Гарварда. Библиотека «Афины» только что сделала ей исключительное предложение, но она говорит, что привыкла к жизни в Кеймбридже. А тем временем хитроумно использует свое пребывание здесь, чтобы убедить меня…
— Нет-нет-нет! — пылко возразила она. — Если вы так к этому относитесь, мои попытки обречены. — Особую мелодику речи мисс Беллет — хотя ей и так хватало очарования — придавал легкий иностранный акцент. — Маэстро, — объяснила она, повернувшись ко мне, — по своему характеру склонен к контрсуггестии.
— И к прочим контрам, — простонал он, давая понять, что психологический жаргон его утомляет.
— Я только что нашла двадцать семь вариантов одного рассказа, — сообщила она мне.
— Какого именно? — заинтересовался я.
— «Жизнь ставит в тупик».
— И ни один из них, — вставил Лонофф, — не получился.
— Вам за ваше терпение памятник должны поставить, — сказала она ему.
Он указал на выпиравшую из-под застегнутого пиджака округлость живота:
— Вот он, памятник.
— На занятиях по писательскому мастерству, — сказала она, — он говорил студентам: «В жизни главное — терпение». Мы никак понять не могли, что он имеет в виду.
— Вы понимали. Не могли не понимать. Дорогая моя юная леди, я научился этому, наблюдая за вами.
— Но я ничего не умею ждать! — сказала она.
— Умеете.
— Разрываясь от неудовлетворенности.
— Если бы вы не разрывались, — сообщил ей учитель, — терпение вам было бы ни к чему.
У шкафа в холле она сняла мокасины, в которых была в гостиной, надела белые шерстяные носки и красные сапоги. Сняла с вешалки клетчатую куртку с капюшоном, в рукав которой была засунута белая шерстяная шапочка с пушистым помпоном, висевшим на длинном витом шнурке. Только что я видел, как она перешучивалась со знаменитым писателем и держалась так легко и уверенно, что я и сам почувствовал себя чуть ближе к внутреннему кругу, — а тут вдруг эта детская шапочка! Теперь она была одета как маленькая девочка. Для меня было загадкой, как у нее получается вести себя так мудро и одеваться так по-детски.
Я стоял вместе с Лоноффом у открытой двери и махал ей на прощание. Теперь я благоговел перед двумя людьми в этом доме.
Пока что только дул ветер, снег еще не валил, но в саду Лоноффа уже почти стемнело и, судя по звуку, надвигалось нечто угрожающее. Между пустынной немощеной дорогой и домом первым барьером стояли две дюжины старых диких яблонь. Далее шли густые зеленые заросли рододендронов, затем широкая каменная стена с пробоиной — как гнилой зуб — в центре, затем метров пятнадцать занесенной снегом лужайки, и, наконец, уже у самого дома — будто оберегая его — нависали над крышей три клена — судя по размерам, ровесники Новой Англии. Сзади дом выходил на бескрайние поля, погребенные под снегом с первых декабрьских метелей. Дальше внушительно возвышались лесистые горы — череда тоже поросших лесом холмов, заползавшая на территорию соседнего штата. Я предположил, что даже у самого бешеного варвара ушло бы несколько зимних месяцев, чтобы преодолеть заледеневшие водопады и продуваемые ветрами леса этих гор и добраться до кромки лоноффских лугов, вышибить заднюю дверь дома, вломиться в кабинет и, размахивая шипованной дубиной над крохой «Оливетти», пророкотать басом писателю, печатающему двадцать седьмой вариант рассказа: «Ты должен изменить жизнь!» Но даже он мог дрогнуть и вернуться в лоно своей варварской семьи, доберись он до черных массачусетских гор в такую ночь, как эта, перед самым ужином и незадолго до новой бури, несущейся с самого края света. Нет, по крайней мере сейчас Лоноффу, похоже, внешний мир никак ничем не угрожал.
Мы постояли на крыльце, пока Лонофф не убедился, что она очистила и ветровое стекло, и заднее — они уже заледенели, и на них налип снег.
— Поезжайте как можно медленнее! — крикнул он.
Чтобы залезть в крохотный зеленый «рено», ей пришлось приподнять край юбки. Над сапогами я увидел кусочек ноги и тут же отвернулся, чтобы меня ни в чем не заподозрили.
— Да, будьте осторожны! — крикнул я, выступив в облике мистера Цукермана, писателя. — Там скользко, дорога обманчивая.
— У нее замечательная проза, — сказал мне Лонофф, когда мы вернулись в дом. — Лучшее из всего, что я читал у студентов. Поразительная ясность. Поразительное чувство юмора. Впечатляющий интеллект. Она писала рассказы об университете и в одной фразе могла поймать всю суть. Она использует все, что видит. И прекрасно играет на фортепьяно. Исполняет Шопена с невероятным обаянием. Когда она только приехала в «Афину», она играла на пианино нашей дочери. И я ждал вечера, чтобы ее послушать.
— Да, девушка удивительная, — сказал я задумчиво. — А откуда она родом?
— К нам она приехала из Англии.
— Но акцент…
— А он и делает ее обворожительной, — ответил он.
— Согласен, — только и осмелился сказать я и подумал: хватит стесняться, хватит по-мальчишески зажиматься и почтительно помалкивать. Передо мной, в конце концов, автор рассказа «Жизнь ставит в тупик», кто, если не он, знает, что к чему?
Мы стояли у камина и грелись. Я повернулся к Лоноффу и сказал:
— Думаю, я бы непременно потерял голову, если бы преподавал у таких красивых, талантливых и обворожительных девушек.
На что он ответил просто:
— Значит, вам не следует этим заниматься.
Сюрприз — да, еще один — ждал меня за ужином. Лонофф откупорил бутылку кьянти, уже стоявшую на столе, и произнес тост. Дав жене знак тоже поднять бокал, он сказал:
— За замечательного нового писателя!
Что ж, тут я наконец расслабился. Стал рассказывать о месяце, проведенном в Квосее, о том, как мне нравится тамошняя безмятежная красота, как нравится ходить на закате по тамошним тропам, а вечерами читать у себя в комнате — в последнее время я перечитывал Лоноффа, но об этом упоминать не стал. После его тоста мне стало ясно, что я не потерял в его глазах, признавшись, что меня увлекают умные хорошенькие студентки, и я не хотел рисковать и злить его лестью. С гиперчувствительным льстецом Уиллисом, запомнил я, он разговаривал по телефону меньше шестидесяти секунд.
Я рассказал Лоноффу, как приятно просыпаться по утрам, зная, что впереди долгие свободные часы, которые можно занять работой. Когда я был студентом, солдатом, продавцом подписок, у меня не выдавалось столько времени подряд для сочинительства, я не жил прежде в такой тишине и уединении, не бывало, чтобы мои немногие потребности удовлетворяли так быстро, как это делал персонал в Квосее. Все это казалось мне чудесным, волшебным даром. Всего несколько вечеров назад метель мела весь день, и после ужина я отправился вместе с рабочим колонии расчищать на снегоуборочной машине дороги, которые ветвились на много миль по лесам Квосея. Я описывал Лоноффу, как мне весело смотреть, когда машина сгребает снег, а затем эти холмы снега валятся в свете фар в лес; мороз и лязганье цепей на колесах — мне казалось, что после долгого дня за моей «Оливетти» мне больше ничего не надо. Я полагал, что вопреки самому себе я говорю, не питая никакой писательской корысти, но все рассказывал и рассказывал про долгие часы на снегоуборочной машине после долгих часов за столом: я не просто хотел убедить Лоноффа, что духом я чист и непоколебим, проблема была в том, что мне самому хотелось в это верить. Проблема была в том, что мне хотелось быть полностью достойным его пронявшего меня тоста.
— Я хотел бы так жить всегда, — заявил я.
— Не стоит, — сказал он. — Если вы так и будете читать, писать и смотреть на снег, кончите как я. Тридцать лет одни фантазии.
Слово «фантазии» в устах Лоноффа прозвучало как название хлопьев для завтрака.
И тут впервые подняла голос его жена, впрочем, учитывая, как скромно она держалась, точнее было бы сказать «опустила голос». Она была невысокого роста, с ласковыми серыми глазами и мягкими седыми волосами, с бледным лицом, исчерченным тонкими морщинками. Возможно, она и на самом деле была, как утверждали, забавляясь, литераторы, «наследницей из высокородных янки», которую Лоноффу удалось подцепить, притом великолепным образчиком данного вида, в самых скромно-девических его проявлениях, однако сейчас она выглядела как женщина, выжившая во фронтире, как жена фермера из Новой Англии, давным-давно покинувшего эти горы, чтобы начать новую жизнь на Западе. Для меня ее морщинистое лицо и робкая, почти пугливая манера были свидетельством трудной истории о муках деторождения, побегах от индейцев, голоде и лихорадке, о суровой жизни в фургонах — я не мог поверить, что она выглядит такой изнуренной лишь потому, что жила с Э. И. Лоноффом, пока он тридцать лет писал свои рассказы. Позже я узнал, что кроме двух семестров в школе искусств в Бостоне и нескольких месяцев в Нью-Йорке — да еще года в Лондоне, проведенного в попытках сводить Лоноффа в Вестминстерское аббатство, — Хоуп не отправлялась никуда дальше, чем ее предки, известные среди местных жителей юристы и священники, и унаследовала она лишь одну из «лучших» в Беркширских горах фамилий и прилагавшийся к этому дом.
Она познакомилась с Лоноффом, когда он в семнадцать лет устроился работать к фермеру, разводившему в Леноксе кур. Сам он воспитывался в пригороде Бостона, впрочем, до пяти лет жил в России. После того как его отец, ювелир, чуть не умер от увечий, полученных во время погрома в Житомире, родители Лоноффа эмигрировали в дикую Палестину. Там их обоих унес сыпной тиф, и о сыне заботились друзья семьи, жившие в еврейской сельскохозяйственной общине. В семь лет его одного отправили на корабле из Яффы к состоятельным родственникам отца в Бруклайн; в семнадцать он предпочел не учиться в университете за счет родственников, а бродяжничать, а затем, в двадцать, выбрал Хоуп — левантийский Валентино без роду без племени взял в супруги молодую образованную провинциальную девушку, которой по воспитанию и складу характера предопределен был более изысканный уклад — обустроенный дом вблизи старых гранитных надгробий, извещения о молитвенных собраниях на церквях, длинная дорога в горах, называвшаяся Уитлси: кто бы и откуда бы он ни был, ничего хорошего это ему не сулило.
Несмотря на все, что придавало Хоуп Лонофф послушный вид стареющей гейши, когда она осмеливалась заговорить или шевельнуться, я все ждал: не напомнит ли она ему, что в жизни он не только читал, сочинял и смотрел на снег — были в его жизни еще она и дети. Но в ее ровном голосе не было и тени упрека, когда она сказала:
— Не стоит так низко оценивать свои достижения. Тебе это не идет. — И добавила еще мягче: — Да и неправда это.
Лонофф вздернул подбородок.
— Я не мерял свои достижения. Я не оцениваю свою работу ни высоко, ни низко. Полагаю, я точно знаю, в чем мои достоинства и самобытность. Я знаю, куда и как далеко я могу зайти, не насмехаясь над тем, что мы все любим. Я только предположил — точнее, высказал догадку, что жить неупорядоченней, возможно, более полезно такому писателю, как Натан, чем гулять по лесу и пугать оленей. В его рассказах есть буйность, и это надо пестовать, причем не в лесу. Я только хотел сказать, что ему не следует глушить то, в чем определенно и есть его дар.
— Извини, — ответила его жена. — Я не поняла. Я думала, ты выражаешь недовольство своей работой.
— Я и выражал недовольство, — сказал Лонофф так же поучительно, как разговаривал с Эми о ее терпении и со мной, когда рассказывал о своих трудностях с чтением, — но не по поводу работы. Я выражал недовольство диапазоном своего воображения.
С самоуничижительной улыбкой, выражавшей намерение немедленно загладить свою дерзость, Хоуп сказала:
— Воображения или опыта?
— Я давно оставил все иллюзии относительно себя и опыта.
Она стала смахивать крошки с хлебной доски и вдруг с неожиданной и даже необъяснимой настойчивостью тихо призналась:
— Я никогда до конца не понимала, что это значит.
— Это значит, что я знаю, кто я такой. Знаю, какой я человек и какой писатель. Я по-своему смелый человек, и, прошу тебя, давай на этом остановимся.
Она и остановилась. Я вспомнил о еде и снова занялся содержимым своей тарелки.
— У вас есть девушка? — спросил меня Лонофф.
Я объяснил свою ситуацию — в той мере, в какой хотел.
Бетси узнала про меня и про одну свою знакомую — со времен балетной школы. Мы с ней целовались за бокалом вина на кухне, она игриво показала мне кончик лилового от вина языка, а я, возбуждавшийся быстро, тут же стащил ее с ее стула на пол у кухонной мойки. Случилось это в один из вечеров, когда Бетси танцевала в Городском центре, а ее подружка зашла забрать какую-то пластинку и разведать, не будет ли продолжения того флирта, который у нас начался несколько месяцев назад, когда Бетси уехала с труппой на гастроли. Я, встав на колени, стал ее раздевать, она, не слишком усердно сопротивляясь, сообщила мне, что я полный подонок, раз могу так поступать с Бетси. Я не стал намекать, что и она не идеал порядочности; обмениваться в любовном запале оскорблениями — не мой афродизиак, к тому же опасался, что, увлекшись, я потерплю фиаско. Поэтому я взвалил на себя груз предательства за нас обоих и пришпилил ее бедра к линолеуму, а она, улыбаясь влажными губами, продолжала описывать изъяны моего характера. Я в ту пору находился на той стадии эротического развития, когда ничто не возбуждало меня так, как половой акт на полу.
Бетси была девушкой романтической, нервической, чувствительной, ее могло бросить в дрожь от вспышки в цилиндре автомобильного двигателя, так что, когда через несколько дней подруга рассказала ей по телефону, что мне доверять нельзя, это ее чуть не доконало. У нее вообще тогда был плохой период. Одну из ее соперниц взяли маленьким лебедем в «Лебединое озеро», а она, четыре года назад, в свои семнадцать отмеченная Баланчиным как подающая большие надежды танцовщица, все оставалась в кордебалете, и теперь ей казалось, что это уже никогда не случится. А она так старалась стать лучшей! Для нее балет был смыслом жизни, и эта точка зрения была для меня столь же притягательной, как огромные подведенные цыганские глаза, и маленькое ненакрашенное обезьянье личико, и изящные, чарующие позы, которые она умела принимать, даже когда делала что-то вроде бы неэстетичное — например, полусонная брела посреди ночи писать в мою ванную. Когда нас познакомили в Нью-Йорке, я ничего не знал о балете, никогда не видел настоящих танцовщиков на сцене, тем более вне ее. Мой армейский приятель — они с Бетси выросли в Ривердейле, в соседних домах, — взял нам билеты на балет Чайковского и пригласил девушку, которая там танцевала, днем выпить с нами кофе рядом с Городским центром. Бетси, прямиком с репетиции, была очаровательно поглощена собой, развлекала нас рассказами о том, как ужасно требующее самопожертвования призвание — смесь, по ее словам, жизни боксера и жизни монашки. Ни минуты покоя! Она начала заниматься балетом в восемь лет и с тех пор только и беспокоится насчет своего роста, веса, ушей, соперниц, травм, возможностей — вот сейчас она в полном ужасе от предстоящего вечера. Я никак не мог понять, из-за чего ей беспокоиться (уж точно не из-за ушей), и был совершенно заворожен ее упорством и неотразимостью. В театре, когда зазвучала музыка и на сцену высыпала дюжина балерин, я, к сожалению, забыл, сказала ли Бетси, что она одна из девушек в лиловом с розовым цветком в волосах или что она — одна из девушек в розовом с лиловым цветком в волосах, поэтому весь вечер пытался хотя бы ее отыскать. Каждый раз, решив, что вот эти ноги и руки — точно Бетси, я готов был вопить от восторга, но тут по сцене пробегало еще с десяток балерин, и я думал: нет, вон та, та — точно она.
— Ты была изумительна, — сказал я ей после спектакля.
— Да? Тебе понравилось мое маленькое соло? Вообще-то, это не совсем соло, всего пятнадцать секунд. Но, по-моему, оно совершенно очаровательное.
— Оно великолепно! — сказал я. — И мне показалось, что оно длиннее пятнадцати секунд.
Через год наша артистическая и любовная связь оборвалась, когда я признался, что наша общая подруга была не первой, которую я повалил на пол, пока Бетси вкладывала всю душу в танец, а мне нечем было занять вечера и некому было меня остановить. Я признался, что уже некоторое время такое себе позволяю, а она не заслуживает такого отношения. Голая правда, разумеется, привела к куда более плачевным результатам, чем если бы я признался, что соблазнил лишь одну коварную соблазнительницу и этим бы ограничился; о других меня никто не спрашивал. Но увлеченный размышлениями о том, что раз уж я подлый изменник, буду хотя бы правдивым подлым изменником, я был более жесток, чем нужно и чем намеревался. В приступе вины и отчаяния я сбежал из Нью-Йорка в Квосей, где наконец сумел отпустить себе грех похоти и простить себе предательство, пока наблюдал, как щиток снегоочистителя разгребает дороги колонии для моих одиноких прогулок, прогулок, во время которых я в восторге, не стесняясь, обнимал деревья, вставал на колени и целовал сверкающий снег — настолько переполняли меня благодарность, ощущение свободы и обновления.
Из всего этого я рассказал Лоноффам только милую часть о том, как мы познакомились, добавив, что сейчас, увы, мы с моей девушкой временно расстались. Но я описывал ее с такой нежностью, что не только беспокоился, не переложил ли я сахару для этой старой четы, но и задумался о том, каким идиотом я был, предав ее любовь. Описывая ее удивительные достоинства, я почти погрузился в скорбь, будто несчастная балерина не выла от боли, требуя, чтобы я убирался вон и никогда не возвращался, а умерла у меня на руках в день нашей свадьбы.
Хоуп Лонофф сказала:
— Я знала, что она балерина — прочла о ней в «Сэтеди ревью».
В «Сэтеди ревью» напечатали статью о молодых неизвестных американских писателях, с фото и небольшими заметками — «Дюжина тех, на кого стоит обратить внимание», а отбирали кандидатуры редакторы основных литературных журналов. На фото я играл с Нижинским, нашим котом. Интервьюеру я признался, что моя «подруга» танцует в «Нью-Йорк Сити балет», а когда меня попросили перечислить трех ныне живущих писателей, которых я ценю больше всего, первым я назвал Э. И. Лоноффа.
Теперь меня встревожила мысль, что именно тогда Лонофф обо мне и узнал, — однако, надо признаться, отвечая на идиотские вопросы интервьюера, я надеялся, что, ответив так, обращу его внимание на свои рассказы. В то утро, когда журнал появился в киосках, я прочитал отрывок о «Н. Цукермане» раз пятьдесят. Я пытался просидеть назначенные себе шесть часов за пишущей машинкой, но у меня не вышло — каждые пять минут я хватал журнал и рассматривал фотографию. Не знаю, что мне должно было там открыться, быть может, будущее, названия моих первых десяти книг, но я помню, как подумал: эта фотография серьезного и вдохновенного молодого писателя, так ласково играющего с котенком, живущего в квартире на пятом этаже без лифта с юной балериной, могла бы пробудить во многих обворожительных женщинах желание занять ее место.
— Я бы никогда не согласился на интервью, — сказал я, — если бы понимал, как все обернется. Интервью длилось час, а из всего мной сказанного они выбрали какую-то чепуху.
— Не извиняйтесь, — сказал Лонофф.
— Правда, не стоит, — улыбнулась мне его жена. — Что плохого в том, что в газете напечатали ваше фото?
— Я не про фото, хотя и про него тоже. Я и подумать не мог, что они возьмут то, с котом. Я думал, они выберут то, где я за пишущей машинкой.
Нужно было догадаться, что не могут же они всех показывать за пишущей машинкой. Девушка, которая приходила меня снимать… — и которую я безуспешно пытался завалить на пол, — …сказала, что просто снимет кота для нас с Бетси.
— Не извиняйтесь, — повторил Лонофф, — если не уверены, что в следующий раз так не поступите. В ином случае — сделал и забыл. Не надо усложнять.
Хоуп сказала:
— Он имел в виду, что он вас понимает, Натан. Он относится к вам с большим уважением. К нам в дом приходят только те, кого Мэнни уважает. Он терпеть не может людей бессодержательных.
— Достаточно, — сказал Лонофф.
— Я просто не хочу, чтобы Натан решил, будто ты чувствуешь свое превосходство — это же не так.
— Моя жена была бы куда счастливее с менее требовательным спутником жизни.
— А ты менее требовательный, — сказала она. — Ко всем, кроме себя. Натан, вам ни к чему оправдываться. Почему бы вам не радоваться первому публичному признанию? Кто заслуживает признания, как не такой талантливый юноша, как вы? Подумайте, скольких никчемных людей возносят каждый день — кинозвезд, политиков, спортсменов. Раз вы писатель, из этого вовсе не следует, что вы должны лишать себя простых человеческих радостей, похвала и аплодисменты приятны всем.
— Простые человеческие радости не имеют к этому никакого отношения. К чертям простые человеческие радости. Молодой человек хочет стать творцом.
— Дорогой ты мой, — ответила она, — Натан, наверное, думает, что ты несгибаемый. А ты вовсе не такой. Ты самый великодушный, понимающий, скромный человек из всех, кого я знаю. Слишком скромный.
— Давай отвлечемся от моих добродетелей и перейдем к десерту.
— Да добрее тебя нет человека! Правда, Натан. Вы ведь видели Эми?
— Мисс Беллет?
— А вы знаете, что он для нее сделал? Когда ей было шестнадцать, она написала ему письмо. На адрес его издателя. Чудесное, искреннее письмо — такое смелое, порывистое. Она рассказала ему историю своей жизни, а он не забыл, написал ответ. Он всегда отвечает на письма — даже всяким болванам пишет вежливые записочки.
— А что у нее за история? — спросил я.
— Перемещенное лицо, — сказал Лонофф. — Беженка.
Он счел это сообщение достаточным, но его жена неслась, как фургон переселенцев, — я удивился, что она так разговорилась. Неужели вино — а выпила она совсем немного — так ударило ей в голову? Или в ней кипело что-то иное?
— Она сообщила, что она очень умная, талантливая и милая шестнадцатилетняя особа и сейчас живет в не столь умной, талантливой и милой семье в Бристоле, в Англии. Она даже сообщила, какой у нее коэффициент интеллектуального развития, — сказала Хоуп. — Ах, нет, это было во втором письме. В общем, она хотела начать жизнь с нового листа и подумала, что человек, чей прекрасный рассказ она прочитала в школьной антологии…
— Это была не антология, впрочем, можешь продолжать.
Хоуп попыталась прикрыться застенчивой улыбкой, но тут требовался накал посильнее.
— Думаю, я могу говорить об этом и без помощи. Я же просто излагаю факты, причем, как мне казалось, довольно спокойно. А то, что рассказ был в журнале, а не в антологии, не означает, что я потеряла контроль над собой. Более того, речь не об Эми, ни в коем случае. А о твоей удивительной доброте и милосердии. Ты заботишься обо всех нуждающихся, обо всех, кроме собственно тебя и твоих нужд.
— Собственно «меня», как ты выразилась, в обыденном смысле слова не существует. Следовательно, можешь прекратить этот поток похвал. И не беспокоиться о «нуждах».
— Собственно «ты» существует. И имеет полное право существовать, причем в обыденном смысле!
— Достаточно, — повторил Лонофф.
Она встала, чтобы убрать со стола перед десертом, и тут же в стену полетел бокал. Его швырнула Хоуп.
— Выгони меня вон! — закричала она. — Я хочу, чтобы ты меня выгнал. И не говори, что не можешь, потому что ты должен! Я этого хочу! Я помою посуду, а потом выгони меня, сегодня же! Я тебя умоляю! Уж лучше я буду жить и умру одна, уж лучше это, чем очередное проявление твоего мужества! Нет у меня больше нравственного стержня, хватит с меня разочарований! И твоих, и моих! Нет у меня сил жить с преданным, благородным супругом, у которого нет иллюзий относительно себя, никаких сил нет!
Сердце у меня, естественно, бешено колотилось, впрочем, не совсем потому, что для меня внове были звук бьющегося стекла и вид несчастной плачущей женщины. С месяц назад я это уже видел. В наше последнее утро вместе Бетси расколотила весь милейший сервиз из «Блумингдейла», купленный нами вдвоем, а потом, когда я мешкал с уходом — хотел объясниться, она взялась за стекло. Особенно меня озадачило то, какую ненависть я вызвал, рассказав всю правду. Если бы только солгал, думал я, если бы сказал, что подруга, сообщившая, что мне нельзя доверять, склочная сука, что она завидует удачам Бетси и вообще психованная, ничего этого бы не случилось. Однако поскольку я ей лгал, тут бы я ей солгал. За исключением разве того, что я сказал бы о ее подруге, я сказал бы правду! Я никак не мог этого понять. Как и Бетси, когда пытался ее успокоить и объяснить, какой я молодчина, что так честно все выложил. Собственно, тут-то она и пошла колотить тонкие бокалы, шведский набор из шести штук: несколько месяцев назад мы купили его взамен банок из-под джема во время как бы супружеской вылазки в «Бонньерс» (купили вместе с красивым скандинавским ковром, на который в свое время я пытался завалить девушку-фотографа из «Сэтеди ревью»).
Хоуп Лонофф тяжело опустилась на стул, решив обратиться к мужу через стол. Лицо ее было в пятнах — там, где она в припадке самоуничижения расчесывала дряблую, морщинистую кожу. Судорожные, нервные движения ее пальцев встревожили меня еще больше, чем страдание в ее голосе, и я подумал, не убрать ли сервировочную вилку со стола — не ровен час она воткнет ее зубцами в грудь и тем самым даст лоноффскому «я» свободу поступать так, как, по ее мнению, ему было нужно. Но поскольку я был всего лишь гостем — я почти во всем был «всего лишь», я не стал трогать столовые приборы и приготовился к худшему.
— Возьми ее, Мэнни. Хочешь ее — так возьми, — причитала она, — и тогда ты перестанешь быть таким несчастным, и все в мире перестанет быть таким тусклым. Она больше не студентка, она — женщина! Ты имеешь на нее право — ты вызволил ее из небытия, ты больше чем имеешь право: это единственное, в чем есть смысл. Скажи ей, пусть соглашается на эту работу, скажи, пусть остается! Она должна так поступить. А я уеду! Потому что я больше ни секунды не могу оставаться твоей надзирательницей! Твое благородство пожирает последнее, что осталось! Ты — памятник, ты можешь все сносить, а я, я — почти ничто, дорогой, и я не могу. Прогони меня! Прошу, сделай это сейчас же, прежде чем твоя порядочность и твоя мудрость погубят нас обоих!
После ужина мы с Лоноффом сидели вдвоем в гостиной, потягивая с достойной восхищения сдержанностью столовую ложку коньяка, который он разлил по двум большим бокалам. Прежде я пробовал коньяк только как временное домашнее средство от зубной боли: в нем вымачивали ватку, которую я держал на пульсирующей десне, пока родители не доставили меня к дантисту. Однако я принял предложение Лоноффа так, будто у меня вошло в привычку пить после ужина. Комизм усилился, когда мой хозяин, еще один выпивоха, пошел искать подходящие бокалы. Осмотрев всё, он в конце концов обнаружил их у задней стенки нижнего отсека подсервантника в холле.
— Подарок, — объяснил он. — Я думал, они еще в коробке.
Он отнес два бокала на кухню — смыть пыль, которая, похоже, копилась на них со времен Наполеона, имя которого значилось на закупоренной бутылке. А потом решил заодно помыть и четыре остальных бокала из набора и убрать их обратно, и только после этого вернулся ко мне — веселиться у камина.
Немногим позже — минут через двадцать после того, как он отказался хоть как-то реагировать на мольбы заменить ее Эми Беллет, — стало слышно, как Хоуп возится на кухне, моет посуду, которую мы с Лоноффом молча убрали со стола, когда она нас покинула. По-видимому, из их спальни она спустилась по задней лестнице — наверное, чтобы не мешать нашей беседе.
Помогая ему убирать посуду, я не знал, что делать с разбитым бокалом и блюдцем: его она случайно смахнула на пол, когда выскочила из-за стола. Будучи тут в амплуа инженю, я, очевидно, должен был избавить дородного человека в костюме от необходимости наклоняться, тем более что это был Э. И. Лонофф; с другой стороны, я все еще пытался делать вид, будто ничему кошмарному свидетелем не был. Чтобы не придавать этой истерической выходке слишком большого значения, он, наверное, даже предпочел бы, чтобы осколки остались там же и Хоуп потом убрала их сама — если прежде не наложит на себя руки в спальне.
Но пока мои представления о нравственных тонкостях и моя юношеская трусость боролись с моей наивностью, Лонофф, покряхтывая от натуги, смел осколки на совок и выудил блюдце из-под стола. Оно раскололось ровно пополам, и, осмотрев края, он сказал:
— Она может его склеить.
В кухне он положил блюдце ей на починку на длинный деревянный стол под окном, где в горшках росла розовая и белая герань. Кухня была светлая и приятная, чуть веселее и живее остальных комнат. Кроме герани, буйно цветущей даже зимой, в кувшинах, вазах и разномастных бутылках стояли травы и сухие цветы. Яркие застекленные полки выглядели мило и уютно, все продукты были безукоризненных марок: тунца «Бамбл би» хватило бы семье эскимосов в иглу, чтобы продержаться до весны, а банки с помидорами, бобами, грушами, дикими яблоками и так далее, похоже, Хоуп заготовила сама. Кастрюли и сковородки — дно каждой сияло начищенной медью — висели рядами около плиты, а на стене за обеденным столом было с полдюжины картинок в простых деревянных рамах: это оказались короткие стихотворения о природе с инициалами «X. Л.», переписанные изящным почерком и украшенные акварельными рисунками. Это действительно был штаб женщины, которая, держась тихо и скромно, могла склеить что угодно и сделать что угодно, вот только не могла придумать, как сделать мужа счастливым.
Мы говорили о литературе, и я был на седьмом небе, а также весь в поту — от внимания, которым он меня окружил. Каждую новую для меня книгу он наверняка давным-давно проработал с карандашом, однако он подчеркнуто интересовался моими соображениями, а не своими. Купаясь в его сосредоточенном на мне внимании, я выдавал одно незрелое наблюдение за другим, а потом, опираясь на каждый его вздох, на каждую гримасу, истолковывал то, что было лишь легким приступом несварения после ужина, как его оценку моего вкуса и ума. Я хоть и беспокоился, что слишком уж стараюсь рассуждать как глубокий мыслитель — к ним он не был расположен, — но не мог остановиться, находясь теперь под чарами не только человека, перед чьими достижениями я преклонялся, но и тепла пылающих поленьев, бокала с бренди в моей руке (но еще не самого бренди) и снега, тяжело падавшего за окнами с широкими подоконниками в подушках, — прекрасного и таинственного. Были и завораживающие имена великих писателей — их я произносил с придыханием, раскладывая у его ног свои кросс-культурные сравнения и новоиспеченный эклектичный энтузиазм; Цукерман с Лоноффом обсуждает Кафку — я не мог этого до конца осознать, тем более переварить. А был еще тост, произнесенный им за ужином. Стоило мне его вспомнить, и меня бросало в жар. Я клялся себе, что до конца жизни буду бороться за то, чтобы стать достойным его. Не поэтому ли он, мой новый безжалостный властелин, его произнес?
— Я только что дочитал Исаака Бабеля, — сказал я ему.
Он выслушал это безучастно.
— Я вот подумал, просто из интереса, не он ли недостающее звено? Эти рассказы — они соединяют вас, надеюсь, вы не возражаете, что я коснусь и ваших произведений…
Он сложил руки на животе и так их там и оставил, и этого жеста было достаточно, чтобы я сказал:
— Извините.
— Продолжайте. Соединяют с Бабелем. Как?
— Ну, «соединяют», конечно, не совсем точное слово. Как и «влияние». Я имею в виду фамильное сходство. Как я это вижу, получается, будто вы — один американский кузен Бабеля, а Феликс Абра-ванель — второй. Вы — через «Иисусов грех» и кое-что из «Конармии», через ироничные мечтания и прямолинейное изложение, и, разумеется, через само сочинительство. Вы понимаете, о чем я? В одном из его военных рассказов есть фраза: «Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади». Так вот, вы именно это и делаете — в каждой строчке изумительная картинка. Бабель говорил, что, если когда-нибудь напишет автобиографию, назовет ее «История одного прилагательного». Если вообразить, что вы пишете автобиографию — если такое можно хотя бы вообразить, — вы бы тоже выбрали такое название. Или нет?
— А Абраванель?
— А Абраванель — это Беня Крик и одесские воровские шайки: лихость, бандиты, все эти невероятные характеры. Он не то чтобы сочувствует злодеям — этого в Бабеле тоже нет. Это о трепете, с которым на них смотрят. Даже трясясь от ужаса, но все равно с трепетом. Глубоко мыслящие евреи, немного возбуждающиеся при неталмудическом звуке хрустящих костей. Чуткие еврейские мудрецы, как говорит Бабель, которые хотят лазать по деревьям.
— «В детстве я вел жизнь мудреца, выросши — стал лазать по деревьям».
— Да-да, именно эта фраза! — Я хоть и ожидал чего-то подобного, был впечатлен. И продолжил: — Возьмем «Хорошо ошпарить» Абраванеля. Кинобонзы, профсоюзные бонзы, бонзы рэкета, женщины — бонзы просто за размер бюста, даже опустившиеся бродяги, которые некогда были бонзами, они — бонзы среди опустившихся. Это бабелевское — его завораживают преуспевшие евреи, наглые казаки, все, кто живет по-своему. Воля как главная идея. Но только Бабель не выставляет себя таким положительным и важным. Он видит все по-другому. Он — Абраванель, из которого отжали поглощенность собой. А если отжать ее как следует, в конце концов получается Лонофф.
— А что насчет вас?
— Насчет меня?
— Да. Вы не закончили. Вы сам разве не американский кузен из бабелевского клана? Кто в этом всем Цукерман?
— Да никто. У меня напечатано только те четыре рассказа, которые я вам посылал. Я не имею отношения ни к кому. Мне кажется, я пока что в той точке, когда и моего отношения к моей собственной работе практически нет.
Сказав это, я тут же потянулся к бокалу, чтобы скрыть за ним свою лицемерную физиономию и ощутить на языке горький вкус бренди. Но Лонофф отлично прочитал мои хитроумные мысли; ведь когда я прочитал бабелевскую фразу о еврейском писателе, у которого на носу очки, а в душе осень, она вдохновила меня на продолжение: «а кровь прилила к пенису», и я записал себе эти слова, эту пламенную дедаловскую формулу я хотел выковать в кузнице моей души[9].
— А еще что? — спросил Лонофф. — Ну же, не стесняйтесь. Это очень увлекательно. Говорите, прошу вас.
— О чем?
— О книгах, что вы прочитали.
— Включая ваши или исключая? — спросил я.
— Как вам будет угодно.
Я сказал:
— О вас я думаю как о еврее, которому удалось сбежать.
— И что, помогает?
— Но в этом ведь есть доля правды, да? Вы сбежали из России, от погромов. Сбежали от террора — а Бабель нет. Вы сбежали из Палестины и с родины, с исторической родины. Вы сбежали из Бруклайна, от родственников. Вы сбежали из Нью-Йорка…
— И у кого все это написано? У Хедды Хоппер?[10]
— Кое-что там. Остальное я сам собрал воедино.
— С какой целью?
— Когда восхищаешься каким-то писателем, просыпается любопытство. Хочется найти его тайну. Подобрать ключи к его загадке.
— Но в Нью-Йорке я пробыл всего три месяца двадцать с лишним лет назад. Кто вам сказал, что я сбежал из Нью-Йорка?
— Кое-какие тамошние евреи, от которых вы сбежали.
— Я там пробыл три месяца и, по-моему, высказался всего однажды. Как высказался, уже не помню, но вдруг меня приписали к какой-то группировке.
— Вы поэтому уехали?
— Еще была девушка, я в нее влюбился и женился на ней. Ей там не нравилось.
— Почему?
— Потому же, почему и мне. Даже в те времена там были наводящие ужас интеллектуальные личности. Настоящие идейные Бени Крики, хоть и совсем сосунки. У меня не хватало твердых убеждений, чтобы продержаться там год. А у моей Хоуп и того меньше.
— И вы приехали сюда, сбежали окончательно.
— От евреев? Окончательно не получилось. Здешний егерь говорит, в лесах по соседству еще кое-какие имеются. Но вы более или менее правы. Фермеры ненавидят оленей на своих полях, а не тех немногих из нас, в лапсердаках, кого они тут встречают. Но в чем тайна, Натан? Где загадка?
— Вы живете вдали от всех евреев, но невозможно представить ваш рассказ, где нет еврея. Олени, фермеры, егерь…
— Не забудьте Хоуп. И моих светловолосых детей.
— И все же вы пишете только о евреях.
— И что это объясняет?
— А вот об этом, — сказал я осторожно, — я бы хотел спросить вас.
Он на мгновение задумался.
— Это объясняет, почему молодой рабби из Питтсфилда не может смириться с мыслью, что я не буду «активен».
Я ждал продолжения, но напрасно.
— Вы знакомы с Абраванелем? — спросил я.
— Натан, ну теперь-то вы наверняка поняли, как обстоят дела.
— Какие дела?
— Я никого не знаю. Я кручу фразы, вот и всё. Зачем Абраванелю со мной знакомиться? Я нагоняю на него сон. Прошлой весной он выступал в Амхерсте. Нам пришло приглашение, и мы поехали его послушать. Больше мы не встречались. Перед лекцией он подошел туда, где я сидел, и представился. Был очень любезен. Мой уважаемый младший коллега. После выступления мы выпивали с ним и с его актрисой. Очень благовоспитанный человек. Сатирик, которого распознаешь, только когда улавливаешь типаж из комедии дель арте. Вот там-то он и прячет свое презрение. На первый взгляд он — покоритель сердец. Черные очи и так далее. Его молодая жена-израильтянка — вулканическая женщина. Мечта любого гоя — еврейка с арбузными грудями. Копна жестких курчавых волос — как у него, только длинные. Такими можно кастрюлю начистить до блеска. Говорят, когда она снималась в фильме по Библии, она затмила саму историю создания мира. Итак, были эти двое и мы с Хоуп. И вот так, — сказал он, снова сложив руки на животе, — понимаю я, он меня комически изображает своим друзьям. Безо всякой злобы. Одна из моих бывших студенток столкнулась с ним в Париже. Это было после того, как он при полном аншлаге выступил в Сорбонне. Она сказала, что, услышав мое имя, он отозвался обо мне как о «совершенном человеке — настолько же невпечатляющем, насколько он сам не впечатляется».
— Вам он не очень нравится.
— Это вообще не моя сфера. «Нравится — не нравится» — это еще одна форма мошенничества. Но вы правильно делаете, что цените его творчество. Пожалуй, не в моем духе, при личном общении — сплошное тщеславие, но когда он пишет, он не просто маленький гуингнм, выбивающий копытами гимн своему превосходству. Он скорее доктор Джонсон[11], подсевший на опиум, — болезнь всей его жизни держит Абраванеля в тонусе. Собственно говоря, я им восхищаюсь. Восхищаюсь, как он напрягает свою нервную систему. Восхищаюсь, как страстно он стремится занять место в первом ряду. Красавицы жены, красавицы любовницы, алименты размером с национальный долг, экспедиции на полюс, репортажи с фронта, знаменитые друзья, знаменитые враги, нервные срывы, публичные лекции, романы на пятьсот страниц раз в три года, и все же, как вы отметили, хватает времени и сил на то, чтобы быть поглощенным собой. Все эти гигантские типажи в его книгах и должны быть такими огромными — так он соперничает сам с собой. Нравится он мне? Нет. Но впечатляет, это да. Безусловно. Жизнь эгоцентрика — не сахар. Не знаю, когда этот человек спит, если вообще спит — за исключением тех нескольких минут, когда он выпивал со мной.
За окном мело — точь-в-точь как в студии немых фильмов, где метель изображали, швыряя вату из матрасов на ветродуй. Об окно бились огромные рваные сгустки снега, и, услышав, как они льдистыми краями царапают стекло, а кто-то возится на кухне, я вспомнил: жена Лоноффа умоляла, чтобы он ее выгнал, и подумал: а звучали бы эти мольбы так серьезно солнечным весенним днем?
— Пожалуй, мне пора вызвать такси, — сказал я, показав на свои часы, — не то опоздаю на последний автобус.
Конечно же, мне вообще не хотелось уезжать. Правда, когда у Хоуп за ужином сдали нервы, мне тут же захотелось оказаться в своей хижине в Квосее: теперь же кризис волшебным образом вроде бы разрешился, и это лишь усилило мое преклонение перед Лоноффом, особенно за то, что он беззастенчиво назвал себя «по-своему смелым человеком». Если бы только я догадался поступить так же, когда Бетси взбесилась; если бы только держал рот на замке, пока она не кончит меня бранить, а потом собрал бы осколки разбитой посуды и уселся бы в кресло читать очередную книгу! А почему я так не сделал? Потому что мне двадцать три, а ему пятьдесят шесть? Или потому, что я был виноват, а он нет? Да, возможно, тут сыграли роль и его авторитет, и то, как быстро в доме были восстановлены здравомыслие и порядок. «Возьми ее! Это единственное, в чем есть смысл!» — кричала Хоуп, и причина легкой победы Лоноффа, возможно, крылась в том, что он этого и не хотел.
Мне никак не хотелось вызывать такси еще и из-за Эми Беллет. Я надеялся — вопреки здравому смыслу, — что, вернувшись с ужина с библиотекарем университета, она предложит отвезти меня в метель к автобусу. Раньше, когда Лонофф отмерял нам бренди, сосредоточившись, словно бармен, наловчившийся в Лос-Аламосе разливать из литровой бутылки всем поровну, я спросил, куда она отправилась. У меня не хватило духу расспрашивать о ее статусе перемещенного лица. Но за столом, когда он сказал, что она прибыла в «Афину» как беженка, я вспомнил о «голодающих детях из Европы» — о них мы в сытом Нью-Джерси много слышали в детстве. Если Эми была одной из них, возможно, этим объяснялось то, что мне казалось в ней задавленным и не до конца развившимся, несмотря на ее поразительную зрелость и строгую красоту. Не могла ли, думал я, темноволосая девушка-беженка со странной фамилией Беллет оказаться еврейкой, не пережила ли она в Европе чего-то страшнее, чем голод?
— Да, — сказал Лонофф, — пожалуй, вам лучше вызвать такси.
Я нехотя поднялся.
— Или, если хотите, — продолжил он, — можете остаться и переночевать в кабинете.
— Нет, думаю, мне надо ехать, — сказал я, проклиная свое воспитание: меня учили не жадничать и не брать добавку. Насколько было бы лучше, если бы я вырос в трущобах! Только вот как бы я из трущоб попал сюда?
— Как вам будет угодно, — сказал Лонофф.
— Я бы не хотел доставлять беспокойство вашей жене.
— Думаю, ее больше обеспокоит, если вы уедете. Она может счесть, что она тому причиной. Наверняка сочтет.
Я сделал вид, будто ужинал сегодня на Луне.
— Но почему?
— Садитесь. Останьтесь завтракать, Натан.
— Пожалуй, не стоит. Не надо.
— Вы знаете, кто такой Джимми Дуранте[12]?
— Конечно.
— Вы знаете старый номер Дуранте «У вас так бывает — чувствуешь, что хочешь уйти, и чувствуешь, что хочешь остаться»?
— Да.
— Садитесь.
Я сел — как мне было угодно, пользуясь его выражением.
— К тому же, — добавил он, — если вы сейчас уедете, ваш коньяк останется недопитым.
— Если я уеду, и ваш коньяк останется недопитым.
— Что ж, еврей, которому удалось выбраться, окончательно все равно не выбрался. — Он улыбнулся мне. — Вы вовсе не должны его допивать только потому, что остаетесь. Это не обязательно.
— Нет-нет, я хочу допить! — И я сделал самый большой глоток за вечер.
Он, приветственно подняв бокал, последовал моему примеру.
— Хоуп будет рада, — сказал он. — Она скучает по людям. Скучает по детям и их друзьям. Она училась в художественной школе в Бостоне — до того, как я привез ее сюда, где до ближайшей железнодорожной станции шестнадцать верст. Манхэттен нагонял на нее ужас, но Бостон — ее Москва, она хоть завтра туда готова переехать. Она думает, мне понравилось бы в Кеймбридже. Но я бы легко обошелся без этих званых ужинов. Да я лучше с лошадью побеседую.
— У вас есть лошадь?
— Нет.
Как я любил его! Да, этого человека без иллюзий я любил, именно любил, никак не меньше: любил за его прямоту, щепетильность, строгость, отстраненность; любил за то, как он беспрестанно пытается отринуть свое детское, самодовольное, ненасытное «я»; любил за упрямство художника и за недоверие к почти всему остальному; любил за подспудное обаяние, которое только что промелькнуло. Да, Лоноффу было достаточно сказать, что у него даже лошади нет — не может и с ней поговорить, и почему-то это все и решило — высвободило из меня сыновью и в то же время девичью любовь к человеку исключительно добродетельному и многого достигшему, который понимает жизнь, понимает сына и может его поддержать.
Здесь мне следует упомянуть, что тремя годами раньше, проведя несколько часов в обществе Феликса Абраванеля, я был потрясен не меньше. Если я не пал тотчас к его ногам, то только потому, что даже старшекурсник, так преклоняющийся перед писателями, как я, был в состоянии понять, что в случае Абраванеля столь безграничное обожание — во всяком случае, со стороны юного почитателя — обречено остаться без отклика. Пыл его книг, сочиненных среди солнечного покоя его калифорнийского каньона и кипящих безудержной и агрессивной невинностью, казалось, имеет мало что общего с самим автором, когда тот непринужденно вышел в падший мир, по поводу которого так пылко выступал в недрах своего каньона. Собственно говоря, писатель, находящий неотразимыми всех роковых и сомнительных личностей, в том числе прохиндеев обоих полов, топчущих сердца его оптимистичных и только-только входящих в жизнь героев; автор, который мог отыскать магнетическую суть в самом лицемерном карьеристе и помочь ему открыть собственным ярким языком глубины его вероломной души; писатель, настолько поглощенный «великим разладом человечества», что каждый абзац его текстов сам по себе был маленьким романом, каждая страница так же плотно, как у Диккенса или Достоевского, изобиловала последними известиями о маниях, искушениях, страстях, грезах, людьми, пылающими от чувств, — так вот, во плоти он производил впечатление человека, просто вышедшего пообедать.
Но это вовсе не подразумевает, что Феликсу Абраванелю недоставало обаяния. Напротив, обаяние его было как ров, причем такой необъятный, что за ним не разглядеть ту здоровенную штуку с башенками и контрфорсами, для защиты которой его вырыли. Даже подъемный мост было не найти. Он был как сама Калифорния, куда можно попасть только на самолете. Во время его публичной лекции было несколько моментов — это происходило в Чикаго, в мой последний год там, — когда Абраванель замирал за кафедрой, явно стараясь удержаться и не сказать с налету что-то слишком уж очаровательное, что аудитории трудно будет переварить. И он был прав. Вдруг — будь он еще хитрее, обворожительнее и мудрее — мы бы кинулись на сцену и съели его заживо? Бедный блистательный Абраванель (я говорю так без издевки) — даже то, что было предназначено охранять розетту его внутреннего великолепия, было само по себе до того прекрасно, что и бездарные толпы, и любители искусства не могли не признать, что так он еще притягательнее. С другой стороны, возможно, он этого и хотел. Очевидно, простого способа стать великим не существует — я постепенно начал это понимать.
После лекции меня заодно с профессором, чьим протеже я был, пригласили на прием в факультетском клубе. Когда нам наконец удалось прорваться через плотное кольцо поклонников, я был представлен как студент, рассказ которого будет обсуждаться следующим утром на занятии, куда Абраванель согласился прийти. На фотографии в его лице чувствовалась властность, и я даже не предполагал, что в жизни он выглядит столь отстраненным, а голова его размера на полтора меньше, чем подошло бы фигуре в сто восемьдесят сантиметров, которую она венчала. В окружении тех, кто готов был его обожать и восхвалять, он напоминал радиовышку, на вершине которой мигает красный огонек — предупреждение для летящих низко самолетов. На нем был чесучовый костюм долларов за пятьсот, бордовый шелковый галстук и сверкающие черные мокасины с кисточками, но все, что имело значение, все, что обуславливало очарование, и смех, и книги, и нервные срывы, было компактно сосредоточено на самом верху, на краю пропасти. Эту голову могли бы спроектировать японские инженеры, мастера создавать миниатюрные объекты, а потом передать евреям, чтобы те украсили ее редеющими темными волосами, как у торговца коврами, отстраненными и оценивающими темными глазами, изогнутым клювом тропической птицы. Полностью семитизированный маленький транзистор наверху, отличная одежда ниже, и все же общее впечатление какого-то суррогата.
Я подумал: в романах от него никогда ничего не ускользает, так как же получается, что, когда он здесь, всё будто мимо. Наверное, слишком многое на него валится, поэтому он решил на девяносто процентов себя закрыть от окружающего, чтобы не взорваться. Впрочем, может быть, подумал я, он просто вышел пообедать.
Абраванель вежливо пожал мне руку и уже собирался отвернуться, чтобы любезно пожать следующую, но тут профессор повторил мое имя.
— Как же, — сказал Абраванель. — «Н. Цукерман».
Он читал размноженный на мимеографе текст моего рассказа в самолете с Западного побережья, Андреа тоже его прочитала.
— Милая, — сказал он, — это Цукерман.
С чего начать? Андреа была старше меня всего лет на пять, но эти пять лет она потратила с пользой. Окончив колледж Сары Лоуренс, она явно продолжила образование у Элизабет Арден и Генри Бенделя[13]. Мы все знали — ее слава бежала впереди нее, что отец Андреа госслужащий за символический оклад «доллар в год» в первой администрации Рузвельта, а мать, Карла Петерсон Румбо — словоохотливая либеральная конгрессменша из Орегона. Еще учась в университете, она написала для «Сэтеди ивнинг пост» первый из ее портретов «Людей во власти» — серии, затем собранной в ставшую бестселлером книгу. Вне всякого сомнения (как тут же отметили завистники), ей помогли семейные связи, но было очевидно, что деловых и могущественных людей располагало к разговору присутствие самой Андреа, поскольку Андреа была исключительно сочной девушкой. Правда, — ощущение было такое, что, если ее выжать, можно выпить на завтрак стакан освежающей и целительной Андреа.
В то время она проживала с Абраванелем в его уютном убежище в Пасифик-Палисейдс, в нескольких милях от дома его друга и наставника Томаса Манна. («Великий разлад человечества» — так Манн определил тему творчества Абраванеля в хвалебном предисловии, которым он снабдил немецкое издание «Хорошо ошпарить».) После последнего из разводов Абраванеля (сопровождавшегося, по слухам, эмоциональным срывом) Андреа пришла брать у него интервью для серии в «Пост» и, как гласит трансконтинентальная литературная легенда, так и не ушла. Легенда также сообщала, что Абраванель не только был первым из людей литературы, названным человеком во власти, но и первым человеком во власти, на чьи чары Андреа поддалась. Сам я думал о том, была ли Андреа первой журналисткой, на чьи чары поддался Абраванель. По его виду скорее можно было предположить, что он из тех, кого соблазняют.
— Как замечательно наконец с вами познакомиться, — сказала Андреа, энергично пожав мне руку.
Резкость рукопожатия обезоруживающе контрастировала с нежной чувственной внешностью. Лицо сердечком, нежное, но рукопожатие говорило: «Не сомневайтесь, я — девушка, у которой есть все». Не то чтобы я собирался это оспаривать. Я в этом убедился еще за месяц до нашей встречи, когда мы переписывались по поводу отеля. Я был представителем студенчества в Лекционном комитете университета и, согласно ее инструкциям, забронировал им номер на двоих в «Уиндермере» — лучше гостиницы во всей округе не было. «Мистер Абраванель и мисс Румбо? — спросил портье. — Они муж и жена, сэр?» Этот вопрос был мне задан, имейте в виду, в марте 1953 года, так что, когда я солгал в ответ, чтобы оградить героя от скандала: «Миссис Абраванель — известная журналистка, разумеется, это ее профессиональное имя», — я был уверен, что вследствие богемного поведения мисс А. Румбо меня исключат из университета без диплома.
— Мне очень понравился ваш рассказ, — сказала она. — Такой смешной.
Я мрачно принял комплимент, сделанный грудастой девицей с лицом сердечком, цветом лица молочницы и рукопожатием солдата. Тем временем, поручив меня Андреа, чтобы отделаться от меня, Абраванель оказался окруженным, с подачи другого нашего профессора, группой аспирантов, которые, застенчиво стоя рядом со своим преподавателем, ждали, когда удастся задать серьезные вопросы.
— Знаете ли, — услышал я, как он говорит с убийственным смешком, — нынче у меня нет времени думать о «влияниях», Андреа не дает мне передохнуть.
— Феликс, — рассказывала она мне, — тоже от него в восторге. Видели бы вы его в самолете! Как он запрокидывал голову и хохотал! Когда вы собираетесь его опубликовать? Может, Феликсу стоит поговорить с…
Она назвала имя, Кнебель, но для того, чьи рассказы печатались пока что только в ежеквартальном университетском литературном журнале, эффект был бы не более сногсшибательным, скажи она: «После приема мне нужно вернуться в гостиницу, взять в баре интервью у маршала Тито, а пока я буду занята, Феликс может подняться из вестибюля на небеса и обсудить ваш рассказик, распечатанный на мимеографе, с автором ‘Братьев Карамазовых’. Мы все познакомились в Сибири, когда мы с Феликсом путешествовали по лагерям». Где-то за моей спиной Абраванель разбирался со следующим серьезным вопросом от аспирантов.
— Утрата чувства реальности? Ох, — усмехнулся он, — пусть кто-нибудь другой его утрачивает.
Одновременно с этим Андреа сообщила мне:
— Он встречается с Саем в Нью-Йорке завтра вечером…
(Сай — это и был Кнебель, уже двадцать лет занимавший пост редактора нью-йоркского интеллектуального журнала, который я читал запоем последние два года.)
На следующий день Абраванель посетил наше занятие по писательскому мастерству в сопровождении — к удивлению тех, кто готов жить только ради искусства — напористой Андреа. Она сидела ослепительная, бесстыдная на самом первом ряду (белое платье джерси, золотая грива волос — какой-то буколический рай), и, глядя на нее, я вспомнил октябрьские послеполуденные часы полжизни назад, когда я, как преступник в тюрьме, прикованный к школьной парте, потел над чистописанием, а на каждой бензоколонке Америки все радиоприемники транслировали прямой эфир Мировой серии[14]. Тогда-то я и понял, что терзает души хулиганов и бездельников, которые ненавидят школу и учителей и мечтают, чтобы все это провалилось в тартарары.
Абраванель, засунув руки в карманы и небрежно опершись о стол преподавателя, говорил о моем рассказе с намеком на восхищение, защищал его, главным образом посмеиваясь, от нападок моих консервативных соучеников, утверждавших, что мой герой-рассказчик «двухмерен», в нем нет «многогранности», как в тех персонажах, о которых они читали в «Аспектах романа»[15]. Но в тот день я был неуязвим для критики. Андреа — вот о чем я думал всякий раз, когда эти болваны поминали «многогранность».
После занятия я был приглашен Абраванелем выпить кофе в местном буфете — вместе с Андреа, моим профессором и преподавателем с кафедры социологии, старинным приятелем Абраванеля, поджидавшим у дверей аудитории, чтобы ностальгически с ним обняться (писатель благосклонно на это пошел, хотя и чуть отступил назад). Абраванель сам (о чем я позже написал родителям) включил меня в эту компанию, и в его голосе впервые прозвучало что-то вроде искреннего сочувствия: «Они на вас жестко накинулись, Цукерман. Идемте с нами, вам нужно оправиться». Я предположил, что за чашкой кофе он скажет, что отвезет мой рассказ в Нью-Йорк, покажет Сеймуру Кнебелю. Я пребывал в восторге по множеству причин. Когда он позвал меня с ними «оправиться», я почувствовал себя таким «многогранным», как никогда прежде. Он сделает для меня то, что сделал для него Манн! Вот так творится история литературы. И хорошо, что там была Андреа — она все это опишет для грядущих поколений.
Но за кофе Абраванель не сказал ни слова, просто устроился поудобнее на стуле, длинный, тощий, похожий на довольного кота, предлагающего себя погладить, в своем преподавательском костюме — серые брюки из мягкой фланели, розовато-лиловый пуловер, кашемировая спортивная куртка. Изящно скрестив руки и ноги, он предоставил вести беседу своей молодой энергичной спутнице — и та сыпала живыми, забавными историями, в основном о старике отце Феликса, маляре из Лос-Анджелеса, об уморительных замечаниях, которые он выдавал на забавной смеси двух языков. Даже профессор социологии был сражен, хотя из университетских сплетен я знал, что он близкий друг первой жены Абраванеля, с которой тот долго судился, и порицал писателя за то, как он к ней относился — сначала в жизни, а потом в своих произведениях. Более того, поговаривали, что он вообще не одобряет того, как Абраванель относится к женщинам, а вдобавок еще считает, что писателю такого ранга негоже допускать, чтобы статьи о нем печатали в «Сэтеди ивнинг пост». Однако теперь профессор социологии старался говорить погромче, чтобы Андреа его услышала. Мальчишкой он тоже восхищался нелепыми фразочками отца Феликса и жаждал об этом сообщить. «Тот тип, — кричал социолог, подражая старому Абраванелю, — нетути его больше, он покончил с обоями». Может, Абраванель и считал, что маляр на пенсии знаменит тем, что за всю жизнь так и не избавился от акцента английского кокни, но никак это не выказывал. Он держался так элегантно, уверенно, аристократично, слушая истории Андреа, что я в этом засомневался. На виду у всех Абраванель не изливался в любви к старым лос-анджелесским временам: подобные всплески он оставлял для читателей своих романов, обожавших перенасыщенный эмоциями мир его детства так, будто это был их мир, их детство. Он, похоже, предпочитал смотреть на нас сверху вниз, как лама или верблюд.
«Удачи», — вот и все, что он сказал мне, когда они уходили, чтобы успеть на нью-йоркский поезд, а Андреа и того не сказала. На этот раз, поскольку мы уже были знакомы, она протянула мне пять своих мягких пальчиков, но это прикосновение сказочной принцессы для меня значило не больше, чем солдатское рукопожатие на факультетском приеме. Она забыла, подумал я, о Кнебеле. Или сказала Абраванелю, решив, что он этим займется, и он забыл. Или она сказала ему, а он ответил: «Забудь и думать». Глядя, как она уходит из буфета под руку с Абраванелем, как ее волосы касаются его плеча, как уже на улице она привстает на цыпочки, чтобы шепнуть что-то ему на ухо, я понял: когда они вечером вернулись в «Уиндермир», им, кроме моего рассказа, было о чем подумать.
И вот поэтому из Квосея я послал свои четыре опубликованных рассказа Лоноффу. Феликс Абраванель явно не нуждался в сыне двадцати трех лет.
Около девяти, взглянув на часы, Лонофф допил последнюю каплю бренди, уже минут тридцать дожидавшуюся его на дне бокала. Он сказал, что ему пора, но я могу остаться в гостиной и послушать музыку или, если предпочту, удалиться в его кабинет, где мне предстояло спать. Мне уже постелено свежее белье на кушетке, достаточно только снять покрывало. Одеяла и вторая подушка здесь, в шкафу, на нижней полке, чистые полотенца внизу, в комоде в ванной — не надо стесняться, берите полосатые, они поновее и лучше подходят для душа, в том же комоде, в глубине второй полки зубная щетка в пластиковой упаковке и новый тюбик «Ипаны». Есть вопросы?
— Нет.
Что еще мне может понадобиться?
— Спасибо, все прекрасно.
Вставая, он поморщился — прострел, объяснил он: в тот день пришлось крутить слишком много фраз — и сказал, что ему еще предстоит чтение на ночь. Чтобы отдать должное какому-либо писателю, он должен читать его несколько дней подряд, не менее трех часов кряду. Иначе, сколько бы он ни делал пометок, он мог утратить связь с внутренней жизнью книги — и пришлось бы читать ее заново. Иногда, если все-таки приходилось пропускать день, он возвращался назад и начинал читать с начала, чтобы не мучиться тем, что обошелся с серьезным писателем несправедливо.
Он рассказал мне это с той же скрупулезностью, с какой описывал, где лежат полотенца и зубная паста: Лонофф, изъяснявшийся нарочито просто, разговорно, без велеречивости, похоже, чередовался с Лоноффом — придирчивым администратором крупного универмага, его официальным представителем за пределами письменного мира.
— Моя жена считает это серьезным недостатком, — добавил он. — Я не умею расслабляться. Скоро она мне будет говорить, чтобы я сходил развлечься.
— Ну, до этого еще далеко, — сказал я.
— Так оно и должно быть, — сказал он, — чтобы остальные считали меня дураком. Но я сам себе такой роскоши позволить не могу. Как еще мне читать по-настоящему глубокую книгу? Для «удовольствия»? Чтобы нагнать сон? — Устало — я бы решил по его утомленному, раздраженному тону, что ему скорее пора спать, а не сосредоточиваться сто восемьдесят минут на внутренней жизни глубокой книги серьезного автора, — он спросил: — Как еще мне управлять своей жизнью?
— А как бы вы хотели?
Что ж, наконец я вырвался из пут сковывавшей меня рефлексии и запредельной вдумчивости, оставил внезапные потуги на остроумие в лоноффовском духе — и задал ему простой, прямой вопрос, ответ на который очень хотел услышать:
— А как бы я мог хотеть?
Мне было чрезвычайно приятно видеть, что он не уходит и серьезно обдумывает мой вопрос.
— Да, как бы вы жили сейчас, если бы могли поступать по-своему?
Он потер поясницу и ответил:
— Я бы жил на вилле где-нибудь под Флоренцией.
— Да? С кем?
— Разумеется, с женщиной.
Он ответил без колебаний — словно я был такой же взрослый человек.
И, сделав вид, что я такой и есть, я спросил:
— А сколько бы ей было лет, этой женщине?
Он усмехнулся:
— Мы оба слишком много выпили.
Я продемонстрировал ему, что у меня в бокале еще остался бренди.
— Для нас, — добавил он и, на сей раз не удосужившись подтянуть складки на брюках, довольно неуклюже плюхнулся обратно в кресло.
— Прошу вас, — сказал я. — Я вовсе не хочу отвлекать вас от чтения. Я и один прекрасно побуду.
— Иногда, — сказал он, — я воображаю, будто прочитал последнюю в жизни книгу. И последний раз взглянул на часы. А вы как думаете, сколько ей должно быть лет? — спросил он. — Той женщине во Флоренции. Вы писатель, каковы ваши предположения?
— Думаю, вам стоит задать мне этот вопрос лет через тридцать. Я не знаю.
— Скажем, лет тридцать пять. Как вам это?
— Нормально, раз вы так говорите.
— Ей будет тридцать пять, и она сделает мою жизнь прекрасной. Сделает жизнь удобной, красивой, новой. Днем она будет возить меня в Сан-Джиминьяно, в Уффици, в Сиену. В Сиене мы пойдем в собор и будем пить кофе на площади. К завтраку она будет выходить в длинной женственной ночной рубашке и в прелестном халате. Которые я купил ей в магазинчике у Понте Веккьо. Я буду работать в прохладной комнате с каменными стенами и окнами в пол. В вазе будут стоять цветы. Она будет срезать их и ставить в вазу. И так далее, Натан, в том же духе.
Большинство мужчин хотят снова стать детьми, или королями, или футбольными нападающими, или мультимиллионерами. А Лонофф, похоже, хотел только женщину тридцати пяти лет и год за границей. Я подумал об Абраванеле, этом собирателе плодов, и об израильской актрисе — «вулканической» женщине, третьей жене Абраванеля. И о той «многогранной» Андреа Румбо. В чьих морях теперь качается Андреа?
— Если это всё… — сказал я.
— Продолжайте. У нас с вами пьяный разговор.
— Если это всё, это нетрудно устроить, — услышал я свой голос.
— Да? А есть ли такая молодая женщина, которая ищет лысого мужчину пятидесяти шести лет, чтобы поехать с ним в Италию?
— Вы не обычный лысый мужчина пятидесяти шести лет. Италия с вами — это не Италия с кем угодно.
— Что это значит? Я должен продать семь книг, чтобы заполучить себе бабенку?
От неожиданного перехода на уличный жаргон я вдруг почувствовал себя администратором магазина с бутоньеркой в петлице.
— Я не это имел в виду. Хотя, конечно, такое случается, такие вещи бывают…
— Да, в Нью-Йорке наверняка такого полно.
— В Нью-Йорке те, у кого семь книг, не довольствуются одной бабенкой. Ее получают за пару строчек. — Я сказал это так, будто знал, о чем говорю. — Я только имел в виду, что вы же не гарем хотите.
— Как сказала толстуха о платье в горошек: «Миленько, но это не Лонофф».
— А почему нет?
— Почему нет? — повторил он не без презрения.
— Точнее, почему этого не может быть?
— А почему это должно быть?
— Потому что… вы этого хотите.
Его ответ:
— Этой причины недостаточно.
У меня не хватило смелости снова спросить: «А почему?» Пусть пьяные, тем не менее пьяные евреи. До сих пор, но не дальше я был в этом уверен. И оказался прав.
— Нет, — сказал он, — нельзя выгнать женщину после тридцати пяти лет потому, что тебе за утренним соком хочется видеть новое лицо.
Я подумал о его прозе: интересно, пускал ли он когда-нибудь туда ее или детей, которые, как рассказывал он мне раньше, вносили некоторое разнообразие и веселье в его мир, пока жили дома. В семи сборниках его рассказов я не помнил ни одного героя, который не был холостяком, вдовцом, сиротой, найденышем или женихом поневоле.
— Но речь же о чем-то большем, — сказал я. — Не просто о новом лице… Так ведь?
— Что, о постели? Постель у меня была. Я знаю, в чем моя исключительность, — сказал Лонофф, — и чем я за нее плачу. — И тут он резко завершил нашу пьяную беседу. — Мне пора читать. Давайте я перед уходом покажу вам, как работает проигрыватель. У нас отличная коллекция классической музыки. Вы умеете протирать пластинки? Есть салфетка…
Он с трудом поднялся, медленно и тяжело, как слон. Все его упорство куда-то подевалось, то ли из-за нашего разговора, то ли из-за боли в спине, или он устал от своей исключительности — не знаю. Может быть, так заканчивался каждый его день.
— Мистер Лонофф… Мэнни, — сказал я, — можно я напоследок, пока мы одни, спрошу вас о своих рассказах? Не знаю, правильно ли я понял, что вы имеете в виду под «буйностью». За ужином. Не то что я ловлю вас на слове, но любое слово от вас… Я хочу быть уверен, что я все понял. То есть мне безумно приятно уже и то, что вы их прочитали, и я до сих пор потрясен тем, что меня сюда пригласили, да еще ночевать оставили — этого должно быть достаточно. И да, достаточно. А тост, который вы произнесли… — Я уже был не в силах справиться со своими эмоциями, как было, к моему удивлению, когда я получал на глазах у родителей университетский диплом. — Надеюсь, я смогу быть этого достоин. Для меня эти слова очень важны. Но насчет самих рассказов мне бы хотелось знать, что, по вашему мнению, с ними не так, что я мог бы сделать… чтобы писать лучше?
Как ласково он улыбнулся! Хоть его и скрутило из-за прострела.
— Не так?
— Да.
— Слушайте, сегодня утром я сказал Хоуп: у Цукермана очень убедительный голос, я такого много лет не встречал, тем более у начинающих.
— Правда?
— Я говорю не о стиле. — Он поднял вверх палец, чтобы подчеркнуть разницу. — Я говорю о голосе, о том, что начинается под коленками и вздымается выше головы. Не беспокойтесь о том, так что-то или не так. Просто двигайтесь дальше. И доберетесь туда, куда надо.
Куда надо. Я пытался представить себе это, но не мог. Это было больше, чем я мог воспринять, находясь здесь.
Сегодня утром я сказал Хоуп.
Тем временем, застегнув пиджак, поправив галстук и кинув на наручные часы тот взгляд, который губил для его жены каждое воскресенье, он перешел к последнему деловому пункту повестки дня. Как работает проигрыватель. Я перед этим прервал его ход мыслей.
— Хочу показать вам, что бывает, когда головка проигрывателя не доходит до конца пластинки.
— Конечно, — сказал я. — Непременно.
— В последнее время он капризничал, и никто не может это исправить. Иногда работает нормально, а потом ни с того ни с сего опять ломается.
Я подошел с ним вместе к проигрывателю, но о пластинках классической музыки думал куда меньше, чем о своем голосе, том, что начинается под коленками.
— Это, само собой, громкость. Это пуск. Это стоп, надо нажать…
А это, осознал я, невыносимая скрупулезность, то самое безумное, пристальное внимание к каждой детали, оно и делает тебя великим, оно поддерживает тебя, оно тебя вытащило наверх, а теперь тащит вниз. Склонившись с Э.И. Лоноффом над непослушной головкой проигрывателя, я впервые понял суть этого знаменитого феномена: человек, его судьба, его творчество — все едино. Какая страшная цена победы!
— И, — напомнил он мне, — пластинкам будет лучше, да и вам удовольствия больше, если вы не забудете их сначала протирать.
О, эта подробность, эта дотошность! Администратор во плоти! Суметь из этого несчастья выковать благословенную прозу — блеклым словом «победа» такое не описать.
Мне вдруг захотелось его поцеловать. Знаю, с мужчинами это случается чаще, чем об этом упоминают, но я слишком недавно стал мужчиной (собственно говоря, пять минут назад) и был озадачен силой чувства, которое с тех пор, как начал бриться, я и к родному отцу редко испытывал. В тот момент оно казалось сильнее, чем то, что непременно накатывало на меня, когда я оставался наедине с длинношеими, воздушными подругами Бетси, ходившими, очаровательно выворачивая ступни наружу, и казавшимися (совсем как Бетси!) такими маняще изможденными, легкими, подъемными. Но в этом доме, где царила воздержанность, мне удавалось лучше подавлять любовные порывы, чем в последние месяцы моей раскованной манхэттенской жизни.
2. Натан Дедал
Кто бы после такого заснул? Я даже пытаться не стал, даже лампу не выключил. Бесконечно долго рассматривал аккуратный стол Э. И. Лоноффа — ровные стопки бумаги для машинки, все — разных палевых оттенков, видимо, для разных вариантов. Наконец я встал и, хоть это и было святотатством, уселся в трусах на его рабочий стул. Неудивительно, что у него спина болит. На таком стуле не расслабиться — тем более при его-то габаритах. Я легонько коснулся пальцами нескольких клавиш на его портативной пишущей машинке. Почему у человека, который никуда не ездит, портативная машинка? Почему не огромная, черная, как пушечное ядро, предназначенная для постоянной работы? Почему не мягкое внушительное кресло, где удобно откинуться и поразмышлять? Да уж, почему…
К доске, висящей позади стола, пришпилены — единственные украшения этой кельи — маленький календарь из местного банка и две каталожные карточки. На одной — обрывок фразы, озаглавленный «Шуман о Скерцо № 2 си-бемоль минор, ор. 31 Шопена». Там написано: «…так переполнено нежностью, дерзостью, любовью и презрением, что его можно — и весьма уместно — сравнить со стихотворением Байрона». Я не понимал, к чему все это, точнее, к чему это было Лоноффу, пока не вспомнил, что Эми Беллет совершенно пленительно играет Шопена. Быть может, она это для него и напечатала — с подробным описанием и так далее — например, присовокупив к подаренной ему пластинке, чтобы он вечерами мог слушать Шопена, даже когда ее не будет рядом. Быть может, над этими самыми строками она и размышляла, когда я впервые увидел ее, на полу в кабинете, размышляла — поскольку описание, похоже, подходит к ней так же, как и к музыке…
Если она — перемещенное лицо, что сталось с ее родственниками? Они погибли? Не это ли объясняет ее «презрение». Но на кого же тогда направлена переполняющая любовь? На него? Раз так, презрение может быть и к Хоуп. Раз так, раз так…
Чтобы догадаться, к чему относится цитата на другой карточке, особой проницательности не требовалось. После того, о чем Лонофф говорил весь вечер, я мог понять, зачем он повесил у себя над головой эти три фразы, а сам сидел под ними и докручивал свои. «Мы работаем во тьме — делаем что можем — отдаем что имеем. Наши сомнения суть наша страсть, и наша страсть есть наша цель. Остальное — это безумие искусства». Чувства по поводу неизвестного мне рассказа Генри Джеймса «Зрелые годы». Но «безумие искусства»? Я бы сказал, что безумно все, кроме искусства. Разве искусство не есть самое здравое? Или я что-то упускаю? До исхода ночи я прочитал «Зрелые годы» дважды, словно утром должен был держать по этому рассказу экзамен. Но тогда у меня было непреложное правило: я должен был написать тысячу слов на тему «Что Генри Джеймс имеет в виду под ‘безумием искусства’?», как если бы этот вопрос написали на моей бумажной салфетке за завтраком.
Фотографии детей Лоноффа стояли на книжной полке позади рабочего стула: один мальчик, две девочки, в чертах которых отцовских генов не прочитывалось. Одна из девочек, светловолосая, веснушчатая, в роговых очках, выглядела, собственно, так, как, вероятно, выглядела ее застенчивая, прилежная мать, будучи ученицей художественной школы. Рядом с ее фотографией, в такой же рамке — открытка, отправленная августовским днем девятью годами ранее из Шотландии в Массачусетс и адресованная лично писателю. Видимо, этим и объяснялось то, что этот сувенир хранился под стеклом. Многое в его жизни указывало на то, что общение с собственными детьми у него не сложилось — как, например, не сложилось достаточное представление о Манхэттене тридцатых. «Дорогой папа! Мы сейчас в Банфшире (Шотландское нагорье), и я стою среди развалин замка Балвени в Дуффтауне, где однажды останавливалась Мария Стюарт. Вчера мы ездили на велосипедах в Ковдор (тан Ковдора, ок. 1050 года, ‘Макбет’ Шекспира), где был убит Дункан. До скорого! С любовью, Бекки».
Также прямо позади его стола располагались несколько полок его книг в переводах на иностранные языки. Сев на пол, я попытался перевести с французского и немецкого фразы, которые впервые прочитал у Лоноффа по-английски. С более экзотическими языками у меня получалось разве что отыскивать на сотнях не поддающихся расшифровке страниц имена героев. Пехтер. Маркус. Литтман. Винклер. Вот они, окруженные со всех сторон финскими словами.
А ее язык какой? Португальский? Итальянский? Венгерский? На каком она переполняется как стихотворение Байрона?
В большом линованном блокноте, вынутом из пухлого Bildungsroman портфеля — пять кило книг, пять известных лишь узкому кругу журналов и бумаги достаточно, чтобы записать целиком мой первый роман, если он вдруг явится ко мне, пока я езжу туда-сюда на автобусе, — я стал методично записывать названия всех не читанных мной книг с его полок. Немецкой философии там оказалось больше, чем я ожидал, и, дойдя лишь до середины страницы, я, похоже, приговорил себя к пожизненному каторжному труду. Однако я — честь мне и хвала — продолжал записывать, повторяя себе лестные слова, которые он сказал мне, прежде чем удалился читать. Они, равно как и произнесенный тост, целый час звучали у меня в голове. На чистом листе я наконец записал то, что он сказал, чтобы в точности понять, что он имел в виду. Всё, что он имел в виду.
Как оказалось, я хотел, чтобы это увидел кое-кто еще, потому что вскоре я позабыл о грядущем испытании Хайдеггером и Витгенштейном и уселся со своим блокнотом за стол Лоноффа, пытаясь объяснить своему отцу — мозольному оператору, первому из моих отцов — про «голос», который, согласно такому специалисту по голосам, как Э. И. Лонофф, начинается у меня под коленками и вздымается выше головы. С письмом я сильно задержался. Он уже три недели ждал осознанного проявления раскаяния за обиды, нанесенные мной тем, кто больше всех меня поддерживал. А я уже три недели его мариновал — если так можно описать состояние, когда просыпаешься от дурных снов в четыре утра и кроме как об этом больше ни о чем думать не можешь.
Неприятности начались, когда я дал отцу рукопись рассказа, основанного на истории о старой семейной распре, в которой он два года выступал как миротворец, пока противники не дошли до скандала в суде. Этот рассказ был самым значительным из мною написанного — пятнадцать тысяч слов, — и мне представлялось, что на этот раз мотивы мои были не менее благонамеренными, чем когда я из университета слал стихи родителям до того, как они появлялись в студенческом поэтическом журнале. Я не нарывался на неприятности, а ждал восхищения и похвалы. По самой старой и укоренившейся привычке я хотел доставить им удовольствие и дать возможность погордиться мной.
Что было нетрудно. Многие годы я давал ему повод погордиться мной, просто посылая вырезки для его «архивов» — объемного собрания журнальных и газетных статей, среди которых была и полная серия расшифровок «Собрания жителей Америки в эфире»[16] по, как он выражался, «жизненно важным вопросам». Всякий раз, когда я приезжал навестить родителей, мама — а она любила повторяться, неизменно напоминала мне с видом глубокого удовлетворения, с каким восторгом он сообщал своим пациентам (ознакомив их с занимавшей его ум жизненно важной проблемой): «Как раз сегодня утром получил письмо на эту тему. Мой сын Натан прочитал об этом в колледже. Он учится в Чикагском университете. Круглый отличник по всем предметам. Поехал учиться в шестнадцать лет — спецпрограмма. Так вот, он увидел это в одной из чикагских газет и прислал для моего архива».
Как легко мне было добиться успеха у родителей! Их сын мог оказаться дурачком или садистом, и погордиться им не пришлось бы. Я оказался не тем и не другим; я был исполнительным и заботливым и так восторгался собственным полетом, что не мог быть неблагодарным к тем, кто дал мне старт. Несмотря на бурные стычки в подростковый период — и спать я ложился поздно, и обувь не ту носил, и тусовался в старших классах черт-те где, и якобы вечно стремился настоять на своем, — пройдя, как по учебнику, все пятьдесят уроков по домашнему разладу, мы сохранили тесную родственную связь и сильные чувства. И дверями я сколько раз хлопал, и войну сколько раз объявлял, но я по-прежнему любил их сыновней любовью. Понимал ли я до конца, насколько я был от этого зависим, но их любовь была мне нужна — и ее запасы, полагал я, неисчерпаемы. Я не мог — или не хотел? — и предположить, что может быть иначе, и это в значительной степени объясняет, почему я был столь наивен и ждал, что они, как обычно, одобрят рассказ, в основу которого легла наша семейная история, но мой образцовый отец воспринял его как постыдное и позорное нарушение благопристойности и доверия семьи.
Начинался мой рассказ с изложения следующих фактов.
Моя двоюродная бабушка Мима Хая завещала на обучение двух своих росших без отца внуков немалую сумму денег — их она старательно откладывала, работая портнихой у сливок ньюаркского общества. Когда Эсси, вдова и мать близнецов, попыталась взять из этого фонда сумму, чтобы дать детям после университета медицинское образование, ее младший брат Сидни — он должен был унаследовать деньги, оставшиеся от наследства Мимы Хаи после того, как мальчики получат высшее образование, — подал на нее в суд, чтобы запретить это. Четыре года Сидни ждал, когда Ричард и Роберт окончат Ратгерс[17], — ждал в основном, судя по рассказам родственников, в бильярдных и в салунах, — чтобы купить на причитавшееся ему наследство парковку в центре города. Сидни громогласно — по своему обыкновению — заявил, что не намерен откладывать свое счастье только ради того, чтобы еще два фасонистых докторишки могли разъезжать по Саут-Оринджу в «кадиллаках». Те из членов семьи, кто презирал Сидни за распутство и сомнительные знакомства, немедленно встали на защиту мальчиков и их достойных устремлений, а Сидни остался с когортой единомышленников, в которую входили его замордованная и забитая жена Дженни и его таинственная польская подружка Энни, чьи скандально цветастые шматас[18] бурно обсуждались, пусть никем и не виденные, на семейных свадьбах, похоронах и т. д. К той же когорте, хоть пользы Сидни от этого было немного, принадлежал и я. Я восхищался им издавна, с тех пор, как он служил во флоте, когда он выиграл четыре тысячи долларов, возвращаясь домой на боевом корабле «Канзас», и, как рассказывали, кинул в воды Тихого океана, на съедение акулам, не умевшего достойно проигрывать парня из Миссисипи, который под конец длившейся всю ночь игры в покер назвал сорвавшего большой куш грязным жидом. Тяжба, исход которой зависел от того, насколько Мима Хая углубилась в завещании в громкое понятие «высшее образование», была наконец решена судьей — гоем — в пользу Сидни, однако всего через несколько лет парковка на бульваре Реймонд, купленная им на наследство, стала таким лакомым кусочком, что местные гангстеры ее у него национализировали. За причиненный ущерб Сидни присудили десятую часть стоимости, и вскоре сердце его лопнуло, как воздушный шар, в кровати очередной расфуфыренной крошки не нашего племени. Тем временем несгибаемая мать давала моим братьям Ричарду и Роберту после университета медицинское образование. Проиграв суд, Эсси бросила работу в универмаге в центре города и следующие десять лет разъезжала, торгуя гонтом и сайдингом. Она была настолько несгибаемой, что, когда наконец закупила ковровое покрытие и жалюзи для новых кабинетов, арендованных для Ричарда и Роберта в одном из пригородов Северного Джерси, во всем штате не осталось ни одного рабочего района, который она не обшила сайдингом. Как-то жарким полднем — близнецы тогда были в интернатуре — Эсси разъезжала по торговым делам и решила часок передохнуть в оборудованном кондиционером кинотеатре в Пассейик. За все тысячи дней и ночей, когда она искала клиентов и заключала сделки, это, говорят, был первый случай — до сих пор она позволяла себе разве что перекусить или позвонить мальчикам. Но теперь две ординатуры — по ортопедии и дерматологии — были уже практически в кармане, и мысль о наступлении новой эры вкупе с августовской жарой слегка вскружила ей голову. Однако в темном зале кинотеатра Эсси и пот со лба не успела утереть, как мужчина с соседнего кресла положил ей руку на колено. Мужчина, видно, был совсем одинокий — колено у нее было весьма мощное; тем не менее она ему сломала руку в запястье молотком, что все эти годы носила в сумочке, дабы защитить себя и будущее своих лишенных отца сыновей. Мой рассказ под названием «Высшее образование» заканчивался тем, как Эсси прицеливается.
— Ну, ты точно ничего не опустил?
Так начал свой критический разбор отец в то воскресенье, когда я приехал попрощаться — я отбывал на зиму в Квосей. Перед этим я вместе с любимыми дядей и тетей и бездетными супругами, нашими соседями, которых я тоже с колыбели звал дядей и тетей, поучаствовал в традиционном в нашей семье воскресном бранче. Почти всю мою жизнь пятьдесят два раза в год по воскресеньям отец шел на угол за копченой рыбой и теплыми булочками, мы с братом накрывали на стол и выжимали сок, и на три часа мама оставалась в собственном доме без работы. «Как королева» — так она описывала свое положение. Затем, когда родители прочитывали воскресные ньюаркские газеты и прослушивали по радио «Вечный свет» — получасовые постановки о великих событиях еврейской истории, — нас, мальчиков, собирали, и мы вчетвером отправлялись на машине навещать родственников. Отец, давно соревновавшийся со слишком самонадеянным старшим братом за вакантное место патриарха в семье, обычно в какой-то момент читал назидание тому, кто, по его мнению, в нем нуждался, после чего мы уезжали домой. И всегда в сумерках, прежде чем собраться снова за кухонным столом для ритуалов воскресного вечера — разделить священную трапезу из кулинарии и запить ее священной содовой и ждать вместе сошествия к нам с небес Джека Бенни, Рочестера и Фила Харриса[19], — «мужчины», как называла нас мама, отправлялись на короткую прогулку в ближайший парк. «Привет, док! Как дела?» Так соседи, попадавшиеся нам на пути, всегда приветствовали моего всеми любимого и словоохотливого отца, и хотя он вроде и не придавал этому значения, было время, когда его сынишка, озабоченный сословными различиями, считал, что, не будь квот и стань отец настоящим врачом, его бы называли «доктором Цукерманом». «Док» — так обращаются к аптекарю, который делает молочные коктейли и продает леденцы от кашля.
— Так что, Натан, — начал отец, — ты точно ничего не опустил?
Я к тому времени подустал выполнять свой долг, мне не терпелось отправиться в Нью-Йорк, чтобы собраться в Квосей. Мой визит на бранч затянулся на целый день и, к моему удивлению, был отмечен приходами и уходами бесчисленных родственников и старинных друзей семьи — они, похоже, заскакивали лишь повидаться со мной. Болтая, вспоминая, перекидываясь шутками на идише и поедая слишком много фруктов, я проваландался так, пока гости не разошлись, а затем по просьбе отца остался — он хотел поделиться своими соображениями по поводу моего рассказа. Он зловеще сообщил, что ему нужен час со мной наедине.
В четыре часа дня, в куртках и шарфах, мы вдвоем отправились в парк. Каждые полчаса от ворот в парк на Элизабет-авеню отходил автобус в Нью-Йорк, и я намеревался, когда отец выговорится, сесть в один из них.
— Я много чего опустил. — Я сделал вид, будто не понимаю, о чем он, как не понимал, когда посылал ему рассказ, хотя, едва он дома сообщил, что хочет поделиться своими «соображениями» (вместо того чтобы потрепать по голове), я тотчас осознал, насколько был легкомыслен. Дождался бы — буде она случится — публикации и показал бы ему уже в напечатанном виде. Или так было бы еще хуже? — Пришлось опустить — там всего пятьдесят страниц.
— Я о том, — с грустью сказал он, — что ты не опустил ничего мерзкого.
— Нет? Да? Об этом я как-то не подумал.
— Натан, у тебя все получились ужасно жадными.
— Так они и были жадными.
— Да, конечно, можно и так на это посмотреть.
— Так ты на это посмотрел. Поэтому ты и расстроился, что они не пошли на компромисс.
— Суть в том, что наша семья к этому не сводится. И ты это знаешь. Надеюсь, сегодняшний день напомнил тебе о том, какие мы люди. Мало ли, может, ты в Нью-Йорке подзабыл.
— Папа, я был рад всех повидать. Но тебе незачем было устраивать проверочный урок, я и так знаю все о том, какие у нас чудесные родственники.
Но он не унимался.
— А люди, которые тебя обожают? Ведь у каждого, кто сегодня приходил, лицо светилось, когда они на тебя смотрели. И ты, ты был такой добрый со всеми, такой милый. Я смотрел на тебя со всеми нашими родственниками и ближайшими друзьями и думал: так о чем же тогда этот рассказ? Зачем он так пишет о давно забытом прошлом?
— Когда все происходило, забытым прошлым это не было.
— Тогда это было просто чепухой.
— Ты так не думал. Ты год с лишним бегал от Эсси к Сидни и обратно.
— Суть же в том, сынок, что наша семья — это нечто большее, чем то, что описано в твоем рассказе. Твоя двоюродная бабушка была женщина добрая, любящая, трудолюбивая — таких уже и не бывает. И твоя бабушка, и ее сестры — все до единой. Эти женщины думали только о других.
— Но рассказ-то не о них.
— Но они же — часть этой истории. С моей точки зрения, основная часть. Без них и рассказа-то не было бы! Да кто он такой, этот Сидни? Ни один нормальный человек о нем сейчас даже не вспомнит. Для тебя, мальчишки, он, наверное, был увлекательной личностью, восторга полные штаны — то появится, то исчезнет. Легко могу понять — горилла шести футов ростом, штаны клеш, на запястье опознавательный браслет позвякивает, сыплет байками без умолку, будто он на флоте был адмирал Нимиц[20], а не палубы драил. А ему-то ничего существенней и не поручали. Помню, пришел он как-то к нам, уселся на пол и стал тебя и твоего братишку учить кости бросать. Ради хохмы. Как мне тогда хотелось вышвырнуть его из дома!
— Я такого даже не помню.
— А я помню. Я много чего помню. Всё помню. Миме Хае Сидни только душу рвал. Маленьким детям невдомек, что из-за балабола, который валяется с ними на полу и шутки шутит, другие люди навзрыд рыдают. А твоя двоюродная бабушка из-за него нарыдалась, он как подрос и за порог шасть, ей только горе и нес. И все же, все же она оставила ему часть из накопленного тяжким трудом — питала надежду, что как-то это ему поможет. Она оказалась выше всех тех несчастий и унижений, которым он был причиной, — такая вот замечательная женщина. «Хая» значит «жизнь», было в ней и это, этим она и делилась. Только это ты опустил.
— Я этого не опустил. На первой странице я именно об этом и упомянул. Но ты прав — о жизни Мимы Хаи я не распространялся.
— А там хватило бы на рассказ.
— Но мой рассказ о другом.
— Ты хоть понимаешь, как воспримут такой твой рассказ, когда он будет опубликован, люди, которые нас не знают?
Мы как раз спустились по нашей улице к Элизабет-авеню. И каждая лужайка, каждый проулок, гараж, фонарь, каждая кирпичная ступенька — все они были мне родными. Здесь я отрабатывал крученую подачу, здесь свалился с санок и сломал зуб, здесь впервые тискал девчонку, здесь мама дала мне затрещину за то, что я дразнил друга, здесь я узнал, что умер мой дед. Бесконечная вереница воспоминаний о том, что случалось со мной на этой улице с кирпичными домиками на одну семью — примерно такими же, как наш, принадлежали они евреям — примерно таким же, как мы; за них — шесть комнат с «отделанным» цокольным этажом и верандами, выходящими на улицу с развесистыми деревьями, — евреи не уставали благодарить, потому что помнили, с какой части города начинали.
По другую сторону улицы был вход в парк. Там обычно усаживался — каждое воскресенье на одну и ту же скамейку — отец и наблюдал, как мы с братом, вопя во все горло, играем в салочки — после долгих часов благонравного поведения с дедушками и бабушками, родными и двоюродными, с дядями и тетями: мне порой казалось, что в Ньюарке Цукерманов больше, чем негров. Я их за год столько не видел, сколько успевал повидать родственников за воскресную поездку по городу с отцом. «Ох, — говорил он, — до чего же вы, мальчишки, любите поорать!» — и приглаживал наши взмокшие вихры, одному левой рукой, другому правой, пока мы шли из парка назад, вверх по нашей улице. «Им бы поиграть да поорать, — говорил он маме, — и они уже на седьмом небе». Теперь мой младший брат смирился и, преодолевая тоску, учится на зубного техника, забросив (поскольку отец лучше знает) вялые попытки стать актером, а я… Я, видно, так и продолжаю орать.
Я сказал:
— Знаешь, я, пожалуй, сразу на автобус. Давай сегодня без парка. День был длинный, а мне еще собираться — завтра в Квосей ехать.
— Ты не ответил на мой вопрос.
— Толку от этого не будет, пап. Давай ты просто отправишь мне рассказ назад по почте и постараешься обо всем забыть.
На это предложение отец только язвительно хмыкнул.
— Ладно, — резко бросил я, — можешь не забывать.
— Успокойся, — сказал он. — Я провожу тебя на автобус. И подожду с тобой.
— Ты бы лучше домой пошел. Холодает.
— Мне вполне тепло, — сообщил он.
На автобусной остановке мы стояли молча.
— По воскресеньям они часто задерживаются, — сказал он наконец. — Может, вернешься домой, поужинаешь? А с утра пораньше поедешь.
— Мне с утра пораньше надо ехать в Квосей.
— Они что, подождать не могут?
— Я не могу.
Я шагнул на дорогу посмотреть, не идет ли автобус.
— Ты так себя угробишь.
— Может быть.
— Итак, — сказал он, когда я наконец, настоявшись вволю на проезжей части, вернулся на тротуар, — что ты собираешься делать с этим рассказом? Пошлешь в журнал?
— Для журнала он слишком длинный. Боюсь, никакой журнал его не напечатает.
— Да уж напечатают! «Сэтеди ревью» делает тебе имя. Это высокая оценка, огромная честь — в твоем-то возрасте пройти такой отбор.
— Ну, посмотрим.
— Нет-нет. Ты встал на свой путь. Столько экземпляров «Сэтеди ревью», сколько продали с твоей фотографией в Норт-Джерси, никогда не продавали. Думаешь, почему все сегодня пришли, Фрида с Дейвом, тетя Тесси, Верди, Мюррей, Эдельманы? Потому что видели твое фото и гордятся тобой.
— Они мне об этом сказали.
— Знаешь, Натан, ты уж выслушай меня. А потом можешь ехать, и там, в своем творческом поселении, в тишине и покое, может, подумаешь о том, что я пытаюсь тебе втолковать. Если бы ты был никем, я бы так серьезно к этому не отнесся. Но я к тебе отношусь серьезно — и ты должен серьезно относиться к тому, что ты делаешь. Прекрати высматривать этот чертов автобус и, пожалуйста, послушай меня. Можешь и на следующем поехать! Натан, ты уже не школьник. Ты — старший брат, ты вышел в большой мир, и я воспринимаю тебя соответственно.
— Это я понимаю. Но это не значит, что мы с тобой не можем иметь разные мнения. Наоборот, можем!
— По накопленному за жизнь опыту я знаю, что думают обычные люди, когда читают что-то вроде этого рассказа. А ты не знаешь. Не можешь знать. Тебя всю жизнь от этого оберегали. Ты вырос здесь, в этом районе, и ходил в школу с еврейскими детьми. Когда мы отправлялись на побережье и снимали дом с Эдельманами, ты тоже был среди евреев, даже летом. В Чикаго твоими лучшими друзьями, которых ты и домой водил, были только еврейские мальчики. Не твоя вина в том, что ты не знаешь, что думают гои, когда читают нечто подобное. Но я тебе скажу. Они не думают, великое ли это искусство. Они в искусстве не разбираются. Может, и я в искусстве не разбираюсь. Может, никто в нашей семье не разбирается — так, как разбираешься ты. Но я вот о чем. Люди не ради искусства читают — они читают о людях. И по прочитанному о них судят. Так как же, думаешь, они оценят людей из твоего рассказа, к какому выводу придут? Ты об этом подумал?
— Да.
— И что решил?
— Ну, в двух словах не скажу, вот так, на улице. Я пятнадцать тысяч слов написал не потому, что могу обойтись двумя.
— А я скажу. И что с того, что на улице? Потому что я знаю эти слова. Вот я думаю, понимаешь ли ты до конца, как мало в этом мире любви к евреям. Я не про Германию говорю, не про нацистов, я про обычных американцев, про мистера и миссис Добрых Людей, которых во всем прочем мы с тобой считаем совершенно безобидными. Натан, это всё есть. Точно тебе говорю, есть. Я знаю, что есть. Я это видел, я это чувствовал, даже когда об этом не говорят словами.
— Но я этого и не отрицаю. Почему Сидни швырнул того обормота за борт?
— Сидни, — возмутился он, — он не просто обормота за борт швырял. Сидни выкинул за борт наглого бугая! Сидни был мелким хулиганом, которому было плевать на всех и на вся, кроме дорогого. Сидни.
— И который существовал на самом деле, папа, причем был ничуть не лучше, чем я его изобразил.
— Лучше? Да он хуже был! Тебе и близко не понять, каким он был подлецом. Я бы мог такое тебе порассказать об этом ублюдке — у тебя волосы бы дыбом встали.
— Тогда о чем мы вообще разговариваем? Если он был хуже… Слушай, мы так ни к чему не придем. Я тебя умоляю — уже темнеет, сейчас снег повалит — иди домой. Я тебе напишу, когда доберусь до места. Но обсуждать тут больше нечего. Мы не сошлись во мнениях. Точка.
— Ну хорошо, — сказал он твердо, — хорошо.
Но я понимал, он просто хочет, чтобы мы расстались мирно.
— Папа, прошу тебя, иди домой.
— Да ничего со мной не случится, если я подожду с тобой. Не хочу бросать тебя тут одного.
— Я отлично и сам справлюсь. Уже много лет справляюсь.
Минут через пять мы увидели за пару кварталов от нас свет фар — похоже, нью-йоркского автобуса.
— Ну что ж, — сказал я, — я вернусь через несколько месяцев. Буду на связи… Позвоню…
— Натан, твой рассказ — с точки зрения гоев — он про одно, и только про одно. Выслушай меня напоследок. Про жидов. Про жидов и их любовь к деньгам. Я тебе точно говорю, наши друзья, добрые христиане, только это и увидят. Это не история об ученых, учителях, юристах, которыми они становятся, не о том, что эти люди делают для других. Не история об иммигрантах вроде Хаи, которые работали, откладывали каждый грош и жертвовали всем, чтобы добиться в Америке приличного положения. Не о чудесных мирных днях и ночах, когда ты рос в родном доме. Не о замечательных друзьях, что всегда были с тобой. Нет, это история об Эсси и ее молотке, о Сидни и его хористках, об адвокатишке Эсси и его поганом рте и, как мне это видится, о том, каким болваном я был, умоляя их найти компромисс, чтобы не выкладывать все семейные дрязги судье-гою.
— Я не выставлял тебя болваном. Господи, и близко такого не было! — взвился я. — Я старался изобразить тебя, считай, с нежностью.
— Да неужели? Так вот, это у тебя не получилось. Слушай, сын, не исключено: я был болваном, когда пытался вразумить этих людей. Я нормально воспринимаю, когда надо мной посмеиваются — меня это мало волнует. Я многое в жизни повидал. Но я не могу принять то, чего ты не видишь, чего ты не хочешь видеть. В этом рассказе мы — не мы, хуже того, и ты — не ты. Ты добрый мальчик. Я весь день следил за тобой, как ястреб. Я всю жизнь за тобой слежу. Ты хороший, любящий, заботливый юноша. Ты не из тех, кто может написать такой рассказ, а потом делать вид, что так все оно и есть.
— Но написал-то его я! — Загорелся зеленый сигнал светофора, нью-йоркский автобус двинулся к нам через перекресток, и он обнял меня за плечи. Что только укрепило мой воинственный дух. — Я — из тех, кто пишет такие рассказы!
— Ты не такой, — продолжал уговаривать он меня, слегка встряхнув.
Но я вскочил в автобус, пневматическая дверь, окаймленная куском жесткой резины, захлопнулась за мной с чересчур уж соответствующим глухим ударом — в литературе такие символические подробности принято опускать. Этот звук вдруг напомнил мне боксерские бои в Лавровом саду, где раз в год мы с братом делали наши грошовые ставки друг против друга, и каждый по очереди болел то за белого боксера, то за цветного, а док Цукерман тем временем в толпе болельщиков обменивался приветствиями со знакомыми, среди которых однажды оказался Мейер Элленштейн, дантист, первый еврей в городе, ставший мэром. Я услышал тот самый тяжелый стук, который следует за отвешенным наотмашь нокаутирующим ударом, звук, с каким поверженный тяжеловес валится на брезентовый настил. А выглянув попрощаться на зиму, я увидел своего невысокого, элегантно одетого отца, облачившегося по случаю моего приезда в новенькое полупальто, кофейного цвета — в тон — брюки и клетчатую кепку, во все тех же серебряных очках, с теми же аккуратно подстриженными усиками, за которые я хватался, лежа в колыбели; я увидел на темном углу улицы, рядом с парком — когда-то он был нашим раем, — отца: он стоял один, ошарашенный, и думал, что я своим необъяснимым предательством беспричинно опорочил и поставил под удар и его, и всех евреев в целом.
Но этим не закончилось. Он так растревожился, что несколько дней спустя, вопреки советам мамы и после неприятного телефонного разговора с моим младшим братом — тот из Итаки пытался убедить его, что я, узнав об этом, буду весьма недоволен, — он решил добиться аудиенции у судьи Леопольда Ваптера, самого — после Элленштейна и раввина Иоахима Принца — почитаемого еврея города.
Ваптер родился в семье галицийских евреев, в трущобах по соседству с фабриками и заводами, где новые иммигранты трудились как каторжные, и было это лет за десять до того, как мои предки прибыли из Восточной Европы в 1900 году. Мой отец еще помнил, как один из братьев Ваптер — возможно, это был сам будущий судья — его спас, когда компания хулиганов-ирландцев развлекалась, перебрасывая друг другу семилетнего еврейчика. В детстве я не раз слышал эту историю, обычно — когда мы ехали мимо ландшафтного сада и каменного особняка с башенками на Клинтон-авеню, где жил Ваптер со своей дочерью, старой девой, одной из первых в колледже Вассар студенток-евреек, сумевшей завоевать уважение преподавателей-христиан, и женой, унаследовавшей сеть универмагов, чья благотворительность обеспечила ее родовому имени то же признание среди евреев округа Эссекс, каким оно было, говорят, окружено в ее родном Чарльстоне. Поскольку Ваптеры пользовались тем же почетом и уважением в нашем доме, что и президент Рузвельт и его супруга, я, мальчишкой, представлял ее в шляпах и платьях, как у вдовствующей миссис Рузвельт, и разговаривающей, что для еврейской женщины странно, с величавыми англизированными интонациями первой леди. Мне и в голову не приходило, что раз она родом из Южной Каролины, то на самом деле еврейка. Ровно то же самое она подумала обо мне, прочитав мой рассказ.
Чтобы получить доступ к судье, отец сначала должен был обратиться к нашему влиятельному родственнику, адвокату, жителю пригорода и полковнику в отставке, который несколько лет был президентом ньюаркской синагоги, куда ходил судья. Наш родственник Тедди однажды уже помог ему обратиться к судье — когда отец втемяшил себе в голову, что я должен быть одним из пяти юношей, которым Ваптер ежегодно писал рекомендации для руководителей университетских приемных комиссий, что, по рассказам, всегда срабатывало. Чтобы предстать перед судьей Ваптером, я должен был среди бела дня в синем костюме проехать в автобусе, а затем, выйдя на Четырех углах (это наш Таймс-сквер), пройти до самой Маркет-стрит мимо череды отправившихся за покупками горожан, которые, по моему представлению, должны были падать замертво, увидев меня в моем единственном парадном костюме в такой час. Мне предстояло пройти собеседование в здании окружного суда Эссекса, в его «судейских покоях» — эти слова мама на все лады так часто и неизменно с благоговением произносила по телефону всю предшествующую неделю, что не иначе как они стали причиной семи походов в уборную, прежде чем я смог наконец облачиться в синий костюм.
Тедди позвонил накануне вечером — посоветовать, как мне следует себя вести. Этим и объяснялись костюм и черные шелковые носки отца, державшиеся на его же подвязках, а также портфель с выгравированными на нем моими инициалами — подарок на окончание начальной школы, который я до того момента никогда не вытаскивал из шкафа. В сверкающем портфеле я нес десять машинописных страниц написанного годом ранее эссе по декларации Бальфура[21].
Как меня и учили, я сразу же «высказался» и предложил судье ознакомиться с моим эссе. Меня несколько успокоило, что «судейские покои» оказались одной комнатой, а не десятью, и комната эта была не больше кабинета директора нашей школы. А у загорелого полноватого и жизнерадостного судьи не было, вопреки моим ожиданиям, копны седых волос. Он хоть и был повыше моего отца, но уж точно на треть метра пониже Авраама Линкольна, бронзовый памятник которому стоял по дороге к зданию суда. Собственно говоря, он выглядел на несколько лет моложе моего вечно обеспокоенного отца и был куда менее серьезен. Он считался прекрасным игроком в гольф и, судя по всему, либо вернулся с игры, либо на нее собирался — этим я впоследствии и объяснил его носки в ромбик. Но заметив их, когда он откинулся в кресле, пролистывая мое эссе, я был шокирован. Будто это он зеленый, неопытный соискатель, а я в тугих, как жгут, отцовских подвязках — судья. «Натан, можно, я это пока себе оставлю? — спросил он, с улыбкой листая мои испещренные op. cit.[22] и ibid.[23] странички. — Хочу домой взять — жене показать». Затем началось собеседование. Вечером я готовился (по совету Тедди), читал Конституцию США, Декларацию независимости и передовицу ньюаркских «Ивнинг ньюс». Имена членов кабинета Трумэна, а также лидеров большинства и меньшинства в обеих палатах Конгресса я, разумеется, уже знал наизусть, однако перед сном всех их перечислил маме, чтобы она немножко успокоилась.
На вопросы судьи я дал следующие ответы. Журналист. Университет Чикаго. Эрни Пайл[24]. Один брат, младший. Чтение и спорт. «Джайантс» в Национальной лиге и «Тайгере» в Американской. Мел Отт и Хэнк Гринберг[25]. «Крошка Эбнер»[26]. Томас Вулф. Канада; Вашингтон, округ Колумбия; Рай, штат Нью-Йорк; город Нью-Йорк; Филадельфия и побережье Нью-Джерси. Нет, сэр, во Флориде не был.
Когда секретарь судьи объявил имена пятерых еврейских мальчиков и девочек из Ньюарка, которым Ваптер дал рекомендации в университет, среди них было и мое.
Я больше никогда не встречался с судьей, но чтобы доставить удовольствие отцу, послал во время ознакомительной недели первого курса в Чикагском университете своему спонсору письмо и еще раз поблагодарил его за то, что он для меня сделал. Из письма, полученного мной семь лет спустя, на второй неделе моего пребывания в качестве гостя в Квосее, я и узнал, что они с отцом встречались и обсуждали «Высшее образование».
Дорогой Натан!
Мое знакомство с твоей чудесной семьей случилось, как тебе должно быть известно, в начале века, на Принс-стрит, когда все мы, бедные люди в новой стране, изо всех сил боролись за кусок хлеба и крышу над головой, за гражданские права, за свое человеческое достоинство. Я прекрасно помню тебя как одного из еврейских мальчиков, блистательно окончивших школу в Ньюарке. Мне было очень приятно узнать от твоего отца, что твои достижения в университете были так же высоки, как и в школе, и что ты уже получаешь признание как автор рассказов. Поскольку для судьи нет ничего приятнее, чем порой оказаться правым, я обрадовался, узнав, что мои надежды на тебя, тогда еще выпускника школы, оправдались, когда ты вышел в большой мир. Я надеюсь, что в самом близком будущем твоя семья и твоя община дождутся твоих новых серьезных достижений.
Твой отец, зная, как меня интересуют успехи нашей незаурядной молодежи, недавно спросил, не смогу ли я, отвлекшись от своих обязанностей судьи, выделить время и высказать тебе свое мнение по поводу одного из твоих рассказов. Он сообщил мне, что ты скоро намереваешься послать рассказ под названием «Высшее образование» в один из ведущих американских журналов, и хотел узнать, считаю ли я, что изложенное в рассказе подходит для подобной публикации.
В нашей продолжительной и содержательной беседе здесь, в моей судейской, я рассказал ему, что так уж повелось, на протяжении веков во всех странах творцы всегда считали себя выше устоев общества, в котором жили. Великих художников и писателей, как подтверждает история, снова и снова преследовали те трусливые и необразованные люди, которые не понимают, что творец — существо особое, он может сделать неповторимый вклад в культуру. Сократа считали врагом народа и развратителем молодежи. Норвежского драматурга, лауреата Нобелевской премии Хенрика Ибсена вынудили уехать из страны, поскольку его соотечественники не смогли принять суровой правды его великих пьес. Я объяснил твоему отцу, что сам никогда не хотел бы быть уличенным в нетерпимости, какую выказывали греки по отношению к Сократу или норвежцы к Ибсену. С другой стороны, я, как и все люди, верю, что художник несет ответственность перед другими людьми, перед обществом, в котором живет, перед делом правды и справедливости. Опираясь на эту ответственность, а только она для меня главный критерий, я могу попытаться высказать мнение касательно того, уместна ли публикация в общеамериканском журнале твоего недавнего литературного опуса.
Ниже ты найдешь опросник по твоему рассказу, подготовленный мной совместно с женой. Поскольку миссис Ваптер интересуется литературой и искусством и поскольку я решил, что будет несправедливо полагаться исключительно на мое прочтение, я взял на себя смелость заручиться и ее мнением. Вопросы серьезные и трудные, и мы с миссис Ваптер хотим, чтобы ты уделил на них всего час своего времени. Мы не ждем от тебя ответов, которые удовлетворят нас, мы хотим, чтобы они удовлетворили тебя. Ты — молодой человек с блестящими задатками и, мы все так считаем, еще не раскрытым большим талантом. Но с большим талантом приходит и большая ответственность, а также обязательства по отношению к тем, кто поддерживал тебя в начале пути, чтобы твой талант мог раскрыться. Мне хочется думать, что, если и когда придет день и ты получишь приглашение в Стокгольм на вручение Нобелевской премии, толика нашей заслуги будет в том, что мы пробудили твою совесть и обратили твое внимание на ответственность за свое призвание.
Искренне твой,
Леопольд Ваптер
P. S. Если ты еще не видел бродвейскую постановку «Дневника Анны Франк», настоятельно рекомендую тебе сделать это. Мы с миссис Ваптер были на премьере; жаль, что Натан Цукерман не был с нами — это незабываемое действо пошло бы ему на пользу.
Список вопросов, подготовленный Ваптерами, выглядел следующим образом:
ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ НАТАНУ ЦУКЕРМАНУ
1. Если бы ты жил в нацистской Германии в тридцатые годы, ты бы написал такой рассказ?
2. Считаешь ли ты, что шекспировский Шейлок и диккенсовский Фейгин не сыграли на руку антисемитам?
3. Соблюдаешь ли ритуалы иудаизма? Если да, то как? Если нет, на каком основании ты считаешь возможным писать о еврейской жизни в общеамериканском журнале?
4. Можешь ли ты утверждать, что персонажи в твоем рассказе достоверно отображают людей, составляющих современное еврейское сообщество?
5. По какой причине в рассказе о еврейской жизни описывается физическая близость между женатым евреем и незамужней христианкой? Почему в рассказе о еврейской жизни должны присутствовать а) адюльтер; б) непрекращающиеся бои с родственниками за деньги; в) извращенное поведение?
6. Исходя из какого набора эстетических ценностей ты полагаешь, что низость существеннее благородства, а гнусность правдивее возвышенного?
7. Что в твоем характере побуждает тебя соотносить уродство жизни с еврейским народом?
8. Можешь ли ты объяснить, почему в твоем рассказе, где появляется и раввин, не нашлось места образцам красноречия, подобным тем, какими и Стивен С. Вайз, и Абба Гиллель Сильвер, и Цви Маслянски[27] трогали сердца и души своих слушателей?
9. Помимо финансовой выгоды для тебя, какую, по-твоему, пользу принесет публикация этого рассказа во всеамериканском журнале а) твоей семье; б) твоей общине; в) иудаизму; г) благополучию еврейского народа?
10. Можешь ли ты честно сказать, что в твоем рассказе нет ничего такого, от чего возрадовались бы какой-нибудь Юлиус Штрейхер[28] или Йозеф Геббельс?
Через три недели после того, как я получил письмо от судьи и миссис Ваптер, и всего за несколько дней до моей поездки к Лоноффу около полудня ко мне явилась секретарь колонии. Она пришла ко мне в домик в пальто, извинилась за беспокойство и сказала, что мне звонят по междугородному и-звонящий сообщил, что дело срочное.
Мама, услышав мой голос, расплакалась.
— Понимаю, не стоит тебя отвлекать, — сказала она, — но у меня нет сил это терпеть. Еще одного такого вечера я не перенесу. Я просто не выдержу еще один ужин.
— Что такое? Что случилось?
— Натан, ты получил письмо от судьи Ваптера или нет?
— Получил, все получил.
— Так… — она была ошеломлена, — почему ты на него не ответил?
— Мама, не стоило ему по этому поводу обращаться к судье Ваптеру.
— Дорогой ты мой, может, и не стоило. Но он обратился. Обратился, потому что знает, как ты уважаешь судью…
— Да я судью даже и не знаю.
— Вот это неправда. Он столько для тебя сделал, когда ты поступал в университет. Он так замечательно тебя поддержал. Оказывается, у него до сих пор хранится то самое эссе по декларации Бальфура, что ты писал в школе. Его секретарь нашел письмо в архивах судьи. Папа своими глазами его видел — в судейской. Почему ты не уважил его ответом… Папа просто вне себя. Отказывается в это верить.
— Придется ему поверить.
— Он же только одного хочет — чтобы ты себе не навредил. Ты и сам это знаешь.
— Я решил, что вас всех только одно беспокоит — как бы я не навредил евреям.
— Дорогой мой, умоляю, ради меня, ответь ты судье Ваптеру. Что тебе стоит уделить на него тот час, о котором он просит? Есть же у тебя час времени написать письмо. Тебе всего двадцать три года, не можешь же ты просто проигнорировать такого человека! В двадцать три года не следует враждовать с людьми, которых так любят и уважают, причем не только евреи.
— Так вот что отец говорит?
— Да, Натан, так он и говорит. Уже три недели прошло!
— А откуда ему известно, что я не ответил?
— От Тедди. От тебя он известий не получил, вот и позвонил ему. Сам можешь себе представить. Тедди немного вышел из себя. Он тоже к такому отношению не привык. Он же все-таки тоже ради нас для тебя постарался, когда ты решил отправиться в Чикаго.
— Мам, мне не хотелось так говорить, но вполне вероятно, что знаменитое письмо судьи, ради которого все так ему зад лизали, имело на Чикагский университет такое же воздействие, как если бы о моих достижениях написал Рокки Грациано[29].
— Натан, где твоя смиренность, где твоя скромность, куда подевалась твоя учтивость?
— А куда мозги у отца подевались?
— Он только одного хочет — спасти тебя!
— От чего?
— От ошибок!
— Поздно, мама. Ты читала «Десять вопросов Натану Цукерману»?
— Читала, дорогой. Он послал нам копию — и вопросы, и письмо.
— Большая тройка, мама! Штрейхер, Геббельс и твой сын! А где смиренность судьи? Где его скромность?
— Он же только об одном: что случается с евреями…
— В Европе, а не в Ньюарке! Мы же не узники Бельзена! Мы не жертвы тех преступлений!
— Но мы могли ими быть, окажись мы на их месте. Натан, ты же знаешь, сколько было насилия над евреями!
— Мам, хочешь знать, какому физическому насилию подвергаются евреи в Ньюарке, сходи к пластическому хирургу, где девочкам носы переделывают. Вот где в округе Эссекс льется еврейская кровь, вот где наносят удары — молотком хирурга. По их костям — и по их гордости!
— Прошу тебя, не кричи на меня! Мне такого не выдержать, поэтому я и звоню. Судья Ваптер не сравнивал тебя с Геббельсом. Боже упаси! Он только был немного потрясен твоим рассказом. Как и все мы — это-то ты понимаешь.
— Так, может, вас просто слишком легко потрясти? Евреям выпадали потрясения посерьезнее, чем те, что у меня в рассказе, где разве что есть мошенник Сидни. И молоток Эсси. И адвокат Эсси. Ты сама это прекрасно знаешь. Сама только что об этом сказала.
— Дорогой, ну так и ответь судье. Напиши ему то, что мне сейчас сказал, и дело с концом. Отец будет счастлив. Напиши ему хоть что-нибудь. Ты умеешь писать такие замечательные, такие прекрасные письма. Когда бабушка умирала, ты написал ей письмо — оно было как стихи. Оно было словно по-французски — такое прекрасное. А о декларации Бальфура как ты прекрасно написал, — а тебе тогда было всего пятнадцать. Судья вернул твое эссе отцу и сказал, что до сих пор помнит, как оно ему понравилось. Натан, он вовсе не против тебя. Но если ты будешь артачиться и выкажешь ему свое неуважение, вот тогда он будет против. И Тедди тоже, а он много чем может помочь.
— Ничто из того, что я могу написать судье, его не переубедит. И его жену тоже.
— Ты можешь сказать ему, что сходил на «Дневник Анны Франк». Хоть это ты можешь?
— Я не ходил на спектакль. Я читал книгу. Ее все читали.
— Но она ведь тебе понравилась?
— Вопрос не в этом. Как она может не понравиться? Мама, я не стану рассыпаться в банальностях, чтобы угодить взрослым!
— Но ты же только что сказал, что читал книгу и она тебе понравилась… Потому что Тедди сказал папе — Натан, но это же неправда, да? — что ты, похоже, не очень-то любишь евреев.
— Тедди все перепутал. Это я его не очень-то люблю.
— Дорогой, не умничай! Умоляю, не начинай вот это всё — за кем последнее слово. Ты просто ответь мне, я во всем этом совсем запуталась. Натан, скажи мне одну вещь.
— Какую?
— Я только цитирую Тедди. Дорогой…
— В чем дело, мам?
— Ты действительно антисемит?
— Это ты сама решай. Ты как думаешь?
— Я? Я никогда такого не слыхала. Но Тедди…
— Я помню, он выпускник университета и живет в Миллбурне, где все сплошь в коврах. Но и среди таких встречаются круглые болваны.
— Натан!
— Извини, но у меня такое мнение.
— Ох, я совсем ничего не понимаю, и все из-за этого рассказа! Если не хочешь делать то, о чем я прошу, позвони хотя бы отцу. Он уже целых три недели ждет от тебя хоть слова. А твой отец, он привык действовать, он не умеет ждать. Дорогой, позвони ему на работу. Позвони сейчас. Ради меня.
— Нет.
— Я тебя умоляю!
— Нет.
— Я просто не верю, что это ты.
— Да я это!
— А как же… как же любовь отца?
— Я теперь сам по себе!
В тот вечер в кабинете Лоноффа я снова и снова начинал письмо отцу, пытался объяснить ему что-то про себя, но всякий раз, переходя к похвалам Э.И. Лоноффа в мой адрес, я в ярости рвал написанное. Я ничего не обязан был ему объяснять, да он бы все равно мои объяснения не принял, даже если бы их понял. Узнав, что мой голос начинается под коленками и вздымается выше головы, он нисколько бы не смирился с тем, что я описал неприглядное поведение наших родственников, которое никого, кроме нас, не касается. Бесполезно было и объяснять, что размахивающая молотком Эсси получилась в моем рассказе фигурой впечатляющей, а вовсе не позором семьи; и дело не в том, что посторонние будут говорить о женщине, которая позволила себе такое, а потом еще в суде бранилась, будто мужик в баре. Да и обзор восковых фигур в моем литературном музее — от одесских бандитов Бабеля до лос-анджелесских циников Абраванеля — не убедит его в том, что я живу в соответствии с обязательствами, возложенными на меня его героем, судьей. Одесса? А почему не Марс? Он говорил о том, что скажут, прочитав мой рассказ, люди в Нью-Джерси, откуда мы все родом. Он говорил о гоях, которые и так уже смотрят на нас с необоснованным презрением и с большой радостью лишний раз обзовут жидами, так как я всему миру открыл, что евреи за деньги друг другу глотки перегрызут. Не мне бы пробалтываться о том, что такое в принципе возможно. Я хуже, чем доносчик, — я коллаборационист.
Все это бессмысленно, полный идиотизм, думал я и рвал очередное наполовину написанное письмо в свою защиту. А что наши отношения так стремительно портились — оттого, что он понес мой рассказ Ваптеру, оттого, что я отказался оправдываться перед старейшинами, — так неминуемо и случилось бы, раньше или позже. И Джойса, и Флобера, и Томаса Вулфа, романтического гения, которого я обожал в старших классах, всех их обвиняли либо в измене, либо в предательстве, либо в безнравственности как раз те, кто считал себя оклеветанным в их произведениях. Даже судье было известно, что история литературы — это в том числе и история о том, как писатели приводили в бешенство своих соотечественников, родственников и друзей. Да, конечно, наш спор еще не вошел в литературные анналы, однако, повторял я себе, писатели не были бы писателями, если бы не находили в себе сил устоять перед лицом неразрешимого конфликта и продолжать делать свое дело.
А что насчет сыновей? Это же не отец Флобера и не отец Джойса корили меня за бесшабашность, речь же о моем отце. И обвинял он меня в том, что я очернил и представил в ложном свете не каких-то ирландцев, а евреев. К которым и сам принадлежу. И которых всего-то пять тысяч дней назад было на миллионы больше.
Однако стоило мне снова начать объяснять свои мотивы, я только сильнее злился. Это ты себя унизил, вот и живи теперь с этим, тоже мне морализатор! А этот Ваптер — никчемный пустомеля! Тоже мне столп общества! А благочестивая красавица женушка, любительница искусств! Сама стоит десять миллионов, а меня корит за «финансовую выгоду». Да еще Аббу Гиллеля Сильвера приплели! Не тратьте время на меня, блудного сына, не расписывайте мне величие Сильвера, мадам, вы моему покойному родичу Сидни и его дружкам-гангстерам Цви Маслянски цитируйте — как вы делаете в загородном клубе у восемнадцатой лунки!
Около одиннадцати я услышал, как городская снегоуборочная машина расчищает грунтовую дорогу за яблоневым садом. Потом грузовик с прикрепленным спереди отвалом снегоочистителя заехал на подъездную аллею и сбросил нападавший за ночь снег в сад — поверх снега за предыдущие тридцать ночей. Маленький «рено» приехал последним, полчаса спустя, медленно подкатил к дому: одна фара сияла, вторая еле светила, дворники на лобовом стекле дергались на последнем издыхании.
Едва услышав, что ее машина подъезжает, я выключил все лампы в кабинете и подполз к окну на коленях — посмотреть, как она идет к дому. Ведь не спал я не только потому, что не мог забыть об укорах отца или о тосте Э.И. Лоноффа: кроме этого, я не хотел пребывать в бессознательном состоянии, когда очаровательная и загадочная гостья этого дома (еще, разумеется, более манящая в образе эротической соперницы Хоуп) будет этажом выше переодеваться в ночную рубашку. Я понятия не имел, как мне этим воспользоваться. Однако просто лежать раздетым в кровати и не спать, пока она тоже будет не спать и лежать почти раздетой в своей кровати, всё лучше, чем ничего. Хоть какое-то начало.
Но, вполне предсказуемо, это оказалось хуже, чем ничего, и никакое не начало нового. Фонарь на занесенном снегом столбе между домом и гаражом погас, а затем, стоя на коленях у двери кабинета, я услышал, как она входит в дом. Она прошла по холлу, поднялась по устланным ковром ступеням, и больше я ее не видел и не слышал еще почти час — я к тому времени воспользовался счастливой возможностью и познакомился еще с одним блестящим курсом — на этот раз для вечернего отделения Школы искусств Лоноффа. Все остальное, ради чего я не ложился спать, мне, естественно, пришлось воображать. Но это куда проще, чем выдумывать что-то, сидя за пишущей машинкой. Для такого рода фантазий не нужно, чтобы твое фото напечатали в «Сэтеди ревью». Даже букв знать не нужно. Достаточно быть молодым — и с этой задачей ты справишься с блеском. Да и молодым не нужно быть. Никем не нужно быть.
Добродетельный читатель, если ты считаешь, что после совокупления всякое животное грустно, попробуй помастурбировать на кушетке в кабинете Э. И. Лоноффа, посмотрим, что ты почувствуешь после этого. Чтобы избавиться от ощущения полного собственного убожества, я немедленно переключился на возвышенное и взял с полки томик Генри Джеймса с рассказом «Зрелые годы» — из него взята одна из двух цитат, пришпиленных к доске. И там, где я позволил себе самым неджеймсовским образом отступить от благопристойности, я прочитал рассказ два раза подряд, пытаясь отыскать все, что могу, о сомнениях — главной страсти писателя, о страсти — его главной цели, и о безумии — надо же! — искусства.
Денкомб, писатель «с именем», после изнурительной болезни поправляет здоровье на английском курорте, куда издатель присылает ему экземпляр его последнего романа «Зрелые годы». Денкомб, сидя в одиночестве на скамейке с видом на море, нехотя открывает книгу и обнаруживает творческую мощь, которой он прежде не достигал. Увы, его талант расцвел, когда у него уже нет более сил отточить ‘«последнюю методу’… которая вберет в себя все его сокровища». Для этого нужна вторая жизнь, а все свидетельствует о том, что первая подходит к завершению.
Когда Денкомб со страхом размышляет о близящемся конце, к нему на скамейку подсаживается словоохотливый молодой человек с собственным экземпляром «Зрелых лет». Он начинает пылко убеждать в достоинствах книги тихого джентльмена, который, как оказывается, читает ее же. Поклонник — «величайший поклонник… которым и гордиться незазорно» — оказался доктором Хью, врачом богатой эксцентричной английской графини, которая, как и Денкомб, живет в отеле и оправляется после некоей тяжелой болезни. Доктор Хью, обуреваемый восторгом по поводу «Зрелых лет», открывает книгу, дабы зачитать вслух один особенно удачный пассаж, но, взяв по ошибке экземпляр Денкомба, а не свой, обнаруживает, что печатный текст в дюжине мест испещрен карандашными правками. На этом сохраняющий анонимность и слабеющий автор, которого вот-вот могут разоблачить — «страстный корректор», вечно стремящийся к совершенству, — чувствует, как болезнь овладевает им, и теряет сознание.
В последующие дни Денкомб, прикованный к постели, тешит себя надеждой, что некое снадобье, чудесным образом подобранное внимательным молодым доктором, вернет ему силы. Однако, когда он узнает, что графиня намеревается лишить доктора Хью огромного наследства, если он и впредь будет пренебрегать ею ради писателя, Денкомб призывает доктора последовать за ней в Лондон. Однако доктор Хью не в силах расстаться с предметом своего обожания, и когда он наконец, последовав совету Денкомба, спешит к своей работодательнице, он уже перенес «тяжкий удар», в чем Денкомб считает повинным себя: графиня скончалась от приступа, спровоцированного ревностью, и не завещала молодому врачу ни пенни. «Я должен был выбрать», — говорит доктор Хью, вернувшись с ее могилы к умирающему, которого он боготворит.
«— Вы выбрали упустить наследство?
— Я решил принять последствия своего увлечения, какими бы они ни были, — улыбнулся доктор Хью. Затем, с большей игривостью, добавил: — Черт с ним, с наследством! Это ваша вина, что я не могу выбросить из головы ваши творения».
Слово «игривостью» в книге Лоноффа было подчеркнуто тонкой черной линией. И мелким, почти нечитаемым почерком писатель отметил с собственной ироничной игривостью: «И ваша же вина, если могу».
С этого места до последней страницы, где описывается смерть Денкомба, Лонофф прочертил на полях с обеих сторон по три вертикальные линии. И тут уже ничто не говорило об иронии. Скорее эти шесть хирургически точных линий отображали последовательность тонких впечатлений, которые коварный рассказ Джеймса о сомнительных чарах писателя произвел на неподдающийся разум Лоноффа.
Когда Денкомб узнает, к каким последствиям привело доктора его страстное увлечение — к последствиям, столь противоречащим его собственным достойным убеждениям, — и поняв, какую роль он сыграл в этом, Денкомб испускает «протяжный озадаченный стон» и лежит «много часов, много дней бездвижно, безучастно».
Наконец Денкомб дал знак доктору Хью выслушать его, и, когда тот опустился на колени у его подушки, поманил его ближе.
— Из-за вас я подумал, что все это мираж.
— Все, но не ваша слава, мой дорогой друг, — пробормотал молодой человек.
— Моя слава — что в ней! Слава в том, чтобы пройти испытания, показать, на что — пусть и малое — ты способен, сотворить малое чудо. Главное — сделать так, чтобы кого-то это затронуло. Вы, разумеется, сумасшедший, но это не опровергает правила.
— Вы добились таких успехов! — сказал доктор Хью, и в его голосе прозвучал звон свадебных колоколов.
Денкомб лежал, впитывая эти слова. Он набрался сил, чтобы заговорить вновь.
— Второй шанс — вот обман. Шанс есть только один. Мы трудимся впотьмах — мы делаем что в наших силах, — мы отдаем что имеем. Сомнения — наша страсть, и в нашей страсти — наша цель. Все остальное — безумие искусства.
— Если ты сомневался, если отчаивался, значит, ты что-то сделал, — еле слышно возразил его гость.
— Все мы что-то делаем — так или иначе, — уступил Денкомб.
— Так или иначе — это главное. Это то, что исполнимо. Это то, что и есть в вас!
— Утешаете! — иронически вздохнул бедный Денкомб.
— Но так оно и есть, — настаивал его друг.
— Это правда. Разочарование не в счет.
— Разочарование — это жизнь, — сказал доктор Хью.
— Да, и она проходит.
Бедного Денкомба было едва слышно, но этими словами он отметил конец своего первого и единственного шанса.
Едва услышав приглушенные голоса у себя над головой, я встал на кушетку — палец еще лежал на странице, там, где я остановился, — и, вытянувшись во весь рост, попытался разобрать, что и кто говорит. Это не помогло, и я решил залезть на стол Лоноффа: он был сантиметров на тридцать выше кушетки, и ухо мое оказалось бы всего в нескольких сантиметрах от низкого потолка. Но я мог упасть, мог на миллиметр сдвинуть его бумагу для машинки, мог каким-то образом оставить отпечатки ног — нет, так рисковать не стоило, даже думать об этом не следовало. Я и так слишком далеко зашел, оккупировав угол его стола, когда сочинял полдюжины неоконченных писем домой. Мое представление о приличиях, равно как и радушное гостеприимство хозяина дома, должны были удержать меня от столь мерзкого и низкого поступка.
Однако я его совершил.
Плакала женщина. Которая, о чем, кто ее утешал — или был причиной ее слез? Поднимись я чуть повыше, смог бы это выяснить. Отлично сгодился бы толстый словарь, но «Вебстер» Лоноффа лежал на полке с огромными справочниками, на уровне рабочего кресла, и мне только удалось, дабы подняться еще на несколько сантиметров, подсунуть себе под ноги томик Генри Джеймса.
О, непредполагаемые обстоятельства, нежданная помощь искусства! Денкомб бы понял. И Джеймс бы понял. Но понял бы Лонофф? Только не упади.
— Вот теперь ты рассуждаешь разумно. — Это говорил Лонофф. — Тебе надо было самой увидеть, и ты увидела.
Что-то бумкнуло прямо над моей головой. Кто-то рухнул в кресло. Утомленный писатель? Он уже в халате или все еще в костюме с галстуком и в начищенных туфлях?
И тут я услышал Эми Беллет. А что на ней в этот час?
— Ничего я не увидела — только страдание и тут и там. Конечно, я не могу жить тут — но и там я больше жить не могу. Нигде не могу жить. Жить не могу.
— Давай потише. С нее на сегодня хватило. Дай ей отдохнуть, пусть поспит спокойно.
— Она всем жизнь портит.
— Не вини ее в том, за что обижена на меня. Это я здесь говорю «нет». А теперь отправляйся спать.
— Не могу. Не хочу. Давай поговорим.
— Мы уже поговорили.
Тишина. Может, они стоят на коленях и прислушиваются через пол ко мне? Они давно уже могли слышать, как барабанит мое сердце.
Скрипнула кровать. Лонофф укладывается рядом с ней!
Нет, это Эми вылезла из кровати, а не Лонофф залез. Ее ноги легонько прошлись по полу всего в нескольких сантиметрах от моих губ.
— Я тебя люблю. Я так тебя люблю, па-почка! Никто с тобой не сравнится. Все они такие кретины.
— Ты моя хорошая.
— Можно к тебе на колени? Обними меня, мне больше ничего не надо.
— С тобой все хорошо. С тобой всегда в конце концов все хорошо. Ты умеешь выживать.
— Да нет, я просто самая сильная в мире слабачка. Ну, расскажи мне сказку. Спой песенку. Спой как великий Дуранте, сегодня мне это очень нужно.
Поначалу мне показалось, что кто-то кашляет. Но потом я расслышал — да, он пел ей, очень тихо, подражая Джимми Дуранте, «Я к нему, а он ко мне», я разобрал только эту строчку, но по ней вспомнил всю песню, ее Дуранте пел в своей радиопередаче, своим знаменитым вульгарным голосом, с подкупающей хрипотцой, которую воспроизводил сейчас у меня над головой знаменитый писатель.
— Еще! — потребовала Эми.
Она садит у него на коленях? Эми в ночнушке, а Лонофф в костюме?
— Спи давай, — ответил он.
— Еще! Спой «Обойдусь без Бродвея».
— «Да я обойдусь без Бродвея, но… обойдется ли Бродвей без меня-ааа…»
— Ах, Мэнни, мы могли бы быть так счастливы — во Флоренции, милый ты мой, мы могли бы ни от кого не скрываться.
— А мы ни от кого и не скрываемся. И не скрывались.
— Это когда так, как сейчас. А в остальное время все так фальшиво, так неправильно, так одиноко. Мы могли бы сделать друг друга совсем счастливыми. И там я бы не была твоей маленькой девочкой. Только когда мы играем, а в остальное время я была бы твоей женой.
— Мы были бы такими же, какими были всегда. Прекрати мечтать.
— Нет, по-другому! Без нее…
— Хочешь, чтобы ее смерть была на твоей совести? Через год она умрет.
— Да на моей совести и так уже есть один труп. — Скрипнули половицы, когда на них опустились обе ее ноги. Значит, она таки сидела у него на коленях. — Гляди!
— Прикройся!
— Это мой труп.
Шарканье ног. Тяжелая поступь уходящего Лоноффа.
— Спокойной ночи.
— Посмотри на него!
— Что за мелодрама, Эми! Прикройся.
— Ты предпочитаешь трагедию?
— Что ты разлеглась? Неубедительно получается. Решила держаться — так уж держись.
— Но я с ума схожу! Я не могу жить с тобой врозь! Не умею. Надо было соглашаться на эту работу — и переезжать назад. И черт бы с ней!
— Ты поступила правильно. Ты отлично знаешь, что надо делать.
— Да, от всего отказаться!
— Точнее, отказаться от фантазий.
— Ой, Мэнни, ну что тебе стоит просто поцеловать мои груди? Или это тоже фантазии? Никто же не умрет, если ты просто их поцелуешь?
— Прикройся.
— Пап-почка, ну пожалуйста!
Но тут я услышал, как Лонофф в шлепанцах — да, он был не в костюме, а одетый ко сну — шаркает по верхнему коридору. Я как мог бесшумно соскользнул со стола и прокрался на цыпочках к кушетке, куда — изнуренный подслушиванием с элементами акробатики — и рухнул. Потрясение от подслушанного, стыд за то, что так коварно нарушил его доверие, облегчение от того, что меня на этом не поймали, — все это было ничто по сравнению с накатившим отчаянием: сколь же скудно мое воображение, и чем это чревато. Пап-почка, Флоренция, великий Дуранте: ее ребячливость и желание, его безумная, героическая сдержанность… О, если бы я мог вообразить ту сцену, которую подслушал! Если бы мои фантазии были так же безудержны, как настоящая жизнь! Если бы когда-нибудь я смог приблизиться к уникальности и трепетности того, что происходит в действительности! Но даже сумей я это, что бы они обо мне подумали — отец и судья? Как бы почтенные старцы это вынесли? А если бы не вынесли, если бы удар по их чувствам оказался слишком болезненным, как бы я вынес то, что меня ненавидят, поносят, отрекаются от меня?
3. Femme Fatale[30]
Эми рассказала Лоноффу всю свою историю только год назад. Однажды ночью она, истерически рыдая, позвонила ему из нью-йоркского отеля «Билтмор»; насколько он сумел понять, утром она одна приехала поездом из Бостона — на дневной спектакль — и собиралась вечером поездом же вернуться домой. Однако, выйдя из театра, она сняла номер в отеле, где с тех пор и «укрывалась».
В полночь Лонофф, который только что дочитал свою вечернюю порцию и лег в постель, сел в машину и отправился на юг. К четырем он добрался до города, к шести она рассказала ему, что приехала в Нью-Йорк посмотреть спектакль по дневнику Анны Франк, но только к полудню она хоть более или менее внятно смогла объяснить, что ее связывает с этой новой бродвейской постановкой.
— Дело не в спектакле — я бы его довольно легко перенесла, будь я одна. Дело в людях, которые его смотрели вместе со мной. К театру тянулись вереницы женщин, в меховых шубах, в дорогих туфлях, с роскошными сумочками. Это не для меня, подумала я. Рекламные щиты, фотографии, неоновые вывески над входом — это я могла вытерпеть. Но меня пугали женщины, их семьи, их дети, их дома. Сходи в кино, сказала я себе, или в музей. Однако я протянула билет, вошла вместе с ними, и, естественно, это случилось. Не могло не случиться. Там так всегда. Женщины плакали. Все вокруг меня были в слезах. А в конце какая-то женщина позади меня воскликнула: «Ой, нет!» Поэтому я и помчалась сюда, мне нужна была комната с телефоном, чтобы отсидеться, пока я не найду отца. Но как только я здесь оказалась, я забилась в ванную, думала: вот если бы он знал, если бы я ему сказала, им бы пришлось после каждого спектакля выходить на сцену и объявлять: «На самом деле она жива. Не волнуйтесь, она выжила, ей сейчас двадцать шесть лет, у нее все хорошо». Я бы ему сказала: «Ты должен хранить нашу тайну, никто кроме тебя не должен об этом узнать». А если бы его вычислили? Или нас обоих? Мэнни, я не могла ему позвонить. Поняла, что не могу, когда та женщина завопила: «Ой, нет!» Тогда я поняла то, что знала всегда: я никогда больше его не увижу. Я должна быть мертва для всех.
Эми лежала на смятой постели, туго завернувшись в одеяло, а Лонофф сидел в кресле у окна и молча слушал. Он вошел в незапертый номер, обнаружил ее в пустой ванне, все еще в лучшем платье и лучшем пальто: пальто она не снимала, потому что ее так и била дрожь, а в ванне — потому что так она была дальше всего от окна, что было на двадцать этажей выше улицы.
— Ты, наверное, думаешь: что за жалкая история! Что за шутка… — сказала она.
— Шутка? Над кем? Никакой шутки я в этом не нахожу.
— Ну, то, что я это тебе рассказываю.
— Я тебя по-прежнему не понимаю.
— Так это же словно из твоего рассказа. Из рассказа Э.И. Лоноффа… под названием… ну, ты придумаешь, как его назвать. И придумаешь, как рассказать это на трех страницах. Бездомная девушка приезжает из Европы, посещает — она не глупа — занятия профессора, слушает его пластинки, играет на пианино его дочери, буквально растет в его доме, а потом однажды из беспризорницы превращается в самостоятельную женщину, и в один прекрасный день в отеле «Билтмор» она между делом сообщает…
Он встал с кресла, подошел и сел рядом с ней — она снова теряла над собой контроль.
— Да, — сказал он, — абсолютно «между делом».
— Мэнни, я не сумасшедшая, я не псих, я не какая-нибудь девчонка — ты уж поверь, — которая пытается интересничать и подражать твоим сочинениям!
— Мой милый друг, — сказал он, обнял ее и стал баюкать, как малого ребенка, — если все это настолько…
— Ох, па-почка, боюсь, что настолько…
— В таком случае моим сочинениям до тебя далеко.
Вот что рассказала Эми наутро после того, как она одна сходила в театр «Корт», где сидела среди безутешно рыдающих зрителей на знаменитой нью-йоркской постановке «Дневника Анны Франк». Это история, в которую, как рассчитывала молодая женщина двадцати шести лет с потрясающим лицом, завораживающим акцентом, отличным литературным стилем и терпением, по мнению Лоноффа, не уступающим его собственному, он поверит.
После войны она стала зваться Эми Беллет. Она взяла новое имя не для того, чтобы скрыть свое истинное — тогда в этом еще не было нужды, — а чтобы, так она тогда предполагала, забыть свою жизнь. Несколько недель она была в коме, сначала в вонючем бараке с другими больными и голодающими заключенными, потом в убогом походном изоляторе. Дюжину умирающих детей эсэсовцы загнали в помещение на двенадцать коек, укрыли одеялами, чтобы продемонстрировать приближавшимся к Бельзену войскам союзников блага жизни в концентрационном лагере. Тех из двенадцати, что еще были живы, когда туда пришли англичане, перевели в военный полевой госпиталь. Там-то она наконец и очнулась. Она понимала иногда меньше, а иногда больше того, что объясняли ей медсестры, но говорить не говорила. Вместо этого, без воплей и галлюцинаций, она пыталась отыскать способ поверить, что она где-то в Германии, что ей еще нет шестнадцати и что все ее родные умерли. Таковы были факты, оставалось их усвоить.
«Маленькая красавица» — так называли медсестры молчавшую истощенную темноволосую девочку, и однажды утром, решив, что пора заговорить, она сообщила им, что ее фамилия Беллет. Имя «Эми» она взяла из американской книжки «Маленькие женщины», над которой обрыдалась в детстве. За долгое время молчания она решила, что взрослеть хочет в Америке, раз в Амстердаме ей жить больше не с кем. После Бельзена, поняла она, лучше всего, если между ней и тем, что ей нужно забыть, будет океан размером с Атлантику.
О том, что отец выжил, она узнала, когда ожидала приема у семейного дантиста Лоноффов в Стокбридже. К тому времени она провела три года в приемных семьях в Англии, почти год проучилась на первом курсе в колледже «Афина», и, листая в приемной врача старый номер «Тайм», она вдруг увидела фотографию еврейского бизнесмена по имени Отто Франк. В июле 1942 года, примерно через два года после начала оккупации, он спрятал жену и двух малолетних дочерей в укрытии. Вместе с другой еврейской семьей Франки двадцать пять месяцев жили в относительной безопасности на верхнем этаже в выходящей во двор части амстердамского дома, где у него прежде была контора. Затем, в августе 1944 года, их местонахождение выдали — видимо, сделал это один из рабочих склада, располагавшегося внизу, и об этом убежище стало известно полиции. Из тех восьмерых, что жили в комнатах под крышей, в концентрационном лагере выжил только Отто Франк. Когда после войны он вернулся в Амстердам, голландская семья, помогавшая им, передала ему тетради, спрятанные их пятнадцатилетней дочерью, погибшей в Бельзене: дневник, несколько тетрадей, в которых она писала, и стопку бумаг — их нацисты выкинули из ее чемодана, когда обыскивали чердак, ища ценности. Франк перепечатал дневник и сначала давал его читать узкому кругу — в память о своей семье, но в 1947 году его опубликовали под названием «Het Achterhuis» — «В заднем доме». Голландских читателей, писали в «Тайм», потряс рассказ девочки-подростка о том, как преследуемые евреи пытались жить обычной жизнью, несмотря на лишения и страх быть обнаруженными.
В статье «Горе выжившего» была фотография отца девочки, «ему теперь шестьдесят лет». Он стоял один, в пальто и шляпе, перед зданием на канале Принценграхт, где был последний дом его погибших родных.
Затем последовала ее часть рассказа, которая Лоноффу показалась слишком уж невероятной. Сама же она вовсе не считала странным, что ее считают мертвой, когда на самом деле она жива; никто из тех, кто знал, какой хаос царил в последние месяцы войны — бомбардировки союзников, отступающие эсэсовцы, — не счел бы это невероятным. Утверждавшие, будто видели, что она умерла от тифа в Бельзене, либо перепутали ее со старшей сестрой Марго, либо предположили, что она мертва, потому что видели, как долго она находилась в коме, или наблюдали за тем, как ее, полумертвую, увезли капо.
— Бельзен был третьим лагерем, — рассказала ему Эми. — Сначала нас отправили в Вестерборк, к северу от Амстердама. Там можно было общаться с другими детьми, мы снова могли дышать свежим воздухом, и кроме того, если бы мы не были напуганы, все было не так уж ужасно. Папа жил в мужском лагере, но, когда я заболела, как-то ухитрился ночью пробраться в женский — нашел мою койку, держал меня за руку. Мы там провели месяц, а потом нас повезли в Аушвиц. Три дня и три ночи в товарных вагонах. А потом открыли двери, и больше я его не видела. Мужчин погнали в одну сторону, нас в другую. Было начало сентября. Маму я последний раз видела в конце октября. Она тогда уже едва могла говорить. Когда нас с Марго увозили из Аушвица, вряд ли она это поняла.
Она рассказала ему о Бельзене. Те, кто выжил в телячьих вагонах, жили поначалу в палатках на болоте. Спали на голой земле, в каком-то тряпье. День за днем без еды и свежей воды, а когда осенними ветрами сорвало палатки, они спали под открытым небом, и в дождь, и в ветер. Когда их наконец перевели в бараки, за оградой лагеря они видели рвы, наполненные телами — телами умерших на болоте от тифа и голода. К зиме все, кто оставался в живых, были либо больны, либо сошли с ума. А потом, когда медленно умирала ее сестра, она и сама заболела. После смерти Марго она уже не могла вспомнить женщин, которые ей помогали, и не знала, что с ними сталось.
Также было вполне вероятно, что выздоровление шло долго и, выйдя из больницы, она не поехала по швейцарскому адресу туда, где ее родственники договорились встретиться, если они потеряют друг друга из виду. Да и отправилась бы шестнадцатилетняя девушка в путешествие, для которого нужны деньги, визы, нужна надежда, только для того, чтобы узнать в чужой стране, что она, как и опасалась, осталась одна-одинешенька?
Нет, невероятным было другое: вместо того чтобы позвонить в «Тайм» и сказать: «Этот дневник писала я. Найдите Отто Франка!» — она записала в блокнот дату выхода журнала и, когда ей поставили пломбу, пошла со своими школьными учебниками в библиотеку. Невероятным — необъяснимым, непростительным, терзавшим ее совесть — было то, что она, как всегда спокойно и прилежно, поискала в указателе к «Нью-Йорк таймс» и «Путеводителе читателя по периодическим изданиям» Франк, Анну и Франка, Отто и, ничего там не обнаружив, спустилась на нижний этаж библиотеки, где хранилась периодика. Там она и провела оставшийся до ужина час — перечитывала статью в «Тайм». Читала, пока не выучила наизусть. Она внимательно рассмотрела фотографию отца. Теперь ему шестьдесят. И именно эти слова все изменили — она снова стала его дочкой, которая подстригала его на чердаке, дочкой, у которой он был учителем, а она делала заданные им уроки, дочкой, которая бежала к нему в кровать и прижималась к нему под одеялом, когда бомбардировщики союзников летали над Амстердамом, и вдруг она стала той дочкой, для которой он стал всем тем, чего она больше не могла иметь. Она очень долго плакала. Но когда она пошла на ужин в столовую, она сделала вид, что с Анной Отто Франка ничего катастрофического не случилось.
Ведь она с самого начала твердо решила не рассказывать о том, что пережила. Оставшись сама по себе, она отлично научилась принимать решения. Как бы иначе она выжила? Одной из тысяч причин, по которым она терпеть не могла дядю Дэниэла, первого из ее приемных отцов в Англии, было то, что рано или поздно он непременно начинал рассказывать любому, кто приходил в дом, что пережила Эми во время войны. Была еще мисс Гиддингс, молодая учительница в школе к северу от Лондона, она всегда на уроках истории бросала на маленькую сиротку-еврейку сочувственные взгляды. Как-то раз после уроков мисс Гиддингс повела ее в местное кафе, угостила пирожным с лимонным кремом и расспрашивала о концентрационных лагерях. Когда Эми — не отвечать ей она не могла — подтвердила, что истории, которые она слышала и раньше, но не до конца им верила, правдивы, глаза мисс Гиддингс наполнились слезами. «Ужас, — сказала она, — какой ужас!» Эми молча пила чай и ела вкусное пирожное, а мисс Гиддингс словно сама стала одной из своих учениц и пыталась осмыслить прошлое. «Ну почему, — воскликнула наконец расстроенная учительница, — почему столько веков люди ненавидят евреев?» Эми вскочила. Она была потрясена. «Вы не меня об этом спрашивайте, — сказала девочка, — а тех психов, которые нас ненавидят!» И больше она никогда не вела дружеских разговоров как с мисс Гиддингс, так и со всеми, кто спрашивал ее о том, чего понять не мог.
Как-то в субботу — она уже несколько месяцев жила в Англии и поклялась, что, если еще хоть раз услышит из уст дяди Дэниэла сочувственное «Бельзен», убежит в Саутгемптон и зайцем отправится на корабле в Америку — досыта нахлебавшись в школе высокомерного сочувствия от чистокровных английских учителей, Эми, гладя блузку, обожгла руку. Услышав ее крики, примчались соседи, ее отвезли в больницу. Когда повязку сняли, вместо лагерного номера был багровый шрам размером с пол-яйца.
После «несчастного случая» — так называли это ее приемные родители — дядя Дэниэл сообщил в Еврейский попечительский совет, что ввиду плохого здоровья его жены они больше не могут держать Эми у себя. Девочку отправили в другую приемную семью, а потом еще в одну. Всем, кто спрашивал, она отвечала, что ее эвакуировали из Голландии вместе с группой других еврейских детей за неделю до вторжения нацистов. Иногда она даже не говорила, что дети были еврейские, за что ее мягко укоряли еврейские семьи, взявшие за нее ответственность и озабоченные тем, что она врет. Но она не могла выносить, когда ей с состраданием клали руки на плечи — из-за Аушвица и Бельзена. Если хотят считать исключительной, то пусть не из-за Аушвица и Бельзена, а за то, чего она с тех пор сумела достичь.
Эти добрые и заботливые люди пытались показать ей, что в Англии она вне опасности. «Не надо ничего бояться, опасаться, что тебя обидят, — уверяли они ее. — И стыдиться ничего не надо». — «Я ничего и не стыжусь. В этом все дело». — «Бывает и в этом — многие молодые люди пытаются скрыть свое еврейское происхождение». — «Кто-то, может, и пытается, — отвечала она, — но не я».
В субботу, после того как она обнаружила фото отца в «Тайм», она отправилась утренним автобусом в Бостон, где во всех магазинах иностранной книги искала — безрезультатно — экземпляр «Het Achterhuis». Две недели спустя она снова поехала — поездка занимала три часа — в Бостон, и на этот раз целью ее был главпочтамт, где она арендовала почтовый ящик. Она заплатила за него наличными, после чего отправила письмо, привезенное в сумочке, а также почтовый перевод на пятнадцать долларов в издательство «Контакт» в Амстердаме: она просила их послать (пересылка оплачена) на магазин иностранной книги «Пилигрим», п/я 152, Бостон, Массачусетс, США, экземпляров книги «Het Achterhuis» Анны Франк на пятнадцать долларов.
Для него она была мертва уже четыре года, ничего страшного, если так и будет еще месяц-другой. Странным образом она не так уж и страдала, разве что ночью, в постели плакала и просила прощения за то, как жестоко поступает со своим идеальным отцом, которому теперь уже шестьдесят.
Почти через три месяца после того, как она отправила заказ в амстердамское издательство, теплым солнечным днем в начале августа в Бостоне ее ждала посылка — такая большая, что в почтовый ящик магазина «Пилигрим» она не помещалась. На ней были бежевая льняная юбка и чистая белая блузка — она их отгладила с вечера. Волосы, подстриженные весной «под пажа», были с вечера вымыты и уложены, она прекрасно загорела. Каждое утро она проплывала по миле, после обеда играла в теннис и в целом была спортивной и подтянутой — как положено двадцатилетней девушке. Может быть, поэтому, когда почтовый работник вручил ей посылку, она не стала зубами рвать бечевку и не свалилась в обмороке на мраморный пол. А отправилась, размахивая посылкой из Голландии, в парк Коммон и шла, пока ей не попалась свободная скамейка. Сначала она села на скамейку в тени, потом встала и отправилась дальше — гуляла до тех пор, пока не нашла идеальное местечко на солнце.
Внимательно изучив голландские марки — послевоенных она еще не видела — и рассмотрев штемпель, она стала прикидывать, насколько аккуратно удастся распаковать посылку. Она нарочито проявляла невозмутимое терпение, но именно так ей и хотелось. Она ликовала, голова у нее немного кружилась. Выдержка, думала она. Терпение. Терпение — главное в жизни. Когда она наконец развязала бечевку и развернула, ничего не порвав, несколько слоев толстой коричневой бумаги, у нее было ощущение, что то, что она так тщательно освободила от оберток и положила на колени, на чистую и красивую бежевую юбку настоящей американской девушки, это и есть ее выживание.
Van Anne Frank[31]. Ее книга. Ее собственная.
Она начала вести дневник всего за три недели до того, как Пим сказал ей, что они отправляются в укрытие. Пока не кончились страницы и не пришлось перейти на бухгалтерские книги, она делала записи в тетради с картонной обложкой, которую он подарил ей на тринадцать лет. Она все еще помнила большую часть того, что случилось с ней в achterhuis, кое-что в мельчайших подробностях, но она не помнила, чтобы из пятидесяти тысяч слов, это описывавших, она записала хоть одно. Она не помнила толком и ничего из того личного, чем делилась со своей воображаемой подругой, которую она назвала Китти, — целые страницы ее излияний казались ей новыми и незнакомыми — как и ее родной язык.
Может быть, оттого, что «Het Achterhuis» была первой голландской книгой, которую она прочитала с тех пор, как ее написала, закончив читать, она первым делом подумала о своих амстердамских друзьях детства, о мальчиках и девочках из школы Монтессори, где она училась читать и писать. Она пыталась вспомнить имена детей-христиан, которые наверняка выжили в войну. Пыталась вспомнить имена учителей — начиная с детского сада. Представляла себе лица хозяев лавочек, почтальона, молочника, который знал ее ребенком. Соседей, живших рядом, на Мерведеплейн. А потом она увидела, как каждый из них закрывает книгу и думает: кто мог предположить, что она такая талантливая? Кто понял, что среди нас жила писательница?
Первые отрывки, которые она перечитала, были написаны за год с лишним до появления на свет Эми Беллет. Читая первый раз, она загнула угол страницы, во второй раз, достав из сумочки ручку, начертила на полях черную многозначительную линию и написала, разумеется, по-английски, «поразительно». (Все, что она отмечала, она отмечала для него, или делала вид, что это его отметка.) «Как странно, иногда я вижу себя словно бы глазами другого человека. Я неторопливо озираю дела некоей Анны Франк и листаю книгу собственной жизни, как будто это чужая жизнь. Раньше, дома, когда я еще не так много думала, мне временами казалось, что я неродной ребенок в своей семье и всегда буду отличаться от Мансы, Пима и Марго. Бывало, по полгода сама для себя играла роль сиротки…»[32]
Затем она снова прочитала все с самого начала, делая — чуть морщась — маленькие пометки на полях всякий раз, когда натыкалась на то, что он наверняка счел бы «слишком пышным», или «неточным», или «туманным». Но в основном она отмечала куски, которые, как ей казалось, она не могла написать так, ведь она была тогда почти ребенком. До чего красноречиво, Анна, — у нее мурашки по телу бежали, когда она шептала свое имя в Бостоне, — до чего лихо, до чего остроумно! Вот было бы здорово, думала она, если бы я могла писать так для семинара мистера Лоноффа. «Очень хорошо, — слышала она его голос, — это лучшее, что вы написали, мисс Беллет».
Ну, разумеется, у нее же была «отличная тема», как сказали девочки из ее английского семинара. «Нам ничего другого не остается, как только, насколько возможно, терпеливо ждать, пока придет конец этим несчастьям. Как евреи, так и христиане ждут, весь земной шар ждет, и многие ждут своей смерти». Но когда она писала эти строки («Тихое, но пылкое чувство — вот в чем соль. Э. И. Л.»), она не тешила себя мечтами, что ее скромный дневник, написанный в убежище, когда-нибудь станет частью свидетельств о больших несчастьях. Никому другому, а только себе она объясняла — забыв о своих больших надеждах, — что она просто описывала, как тяжелы были эти испытания. Записывала, и это помогало все выдерживать; с дневником она общалась, он помогал ей не сойти с ума, а когда быть дочерью становилось такой же мукой, как и сама война, ему она исповедовалась. Только с Китти она могла свободно говорить о том, что все ее попытки поддакивать матери так, как Марго, оказывались безнадежными; только Китти она могла в открытую признаваться в том, что даже не может произнести слово «мамуля» вслух, и признаваться в глубине своих чувств к Пиму, отцу, от которого она хотела, чтобы он любил ее, и только ее, никого больше, «не только потому, что я его ребенок, но потому, что я — Анна».
Разумеется, в конце концов ей, «помешанной на книгах и чтении», должно было стать понятно, что она пишет собственную книгу. Но в основном в свои четырнадцать она думала, как выжить, а не о литературных амбициях. А в писателя она превращалась не потому, что решила каждый день садиться за стол и работать, а потому, что они жили в такой удушающей атмосфере. Вот что вскормило ее талант! В самом деле, не будучи заточенной в этом achterhuis, оставаясь «болтушкой», окруженной друзьями, «резвясь и смеясь», будучи вольной ходить куда угодно, дурачиться, осуществлять все свои желания, разве смогла бы она писать так искусно, так убедительно, так остроумно? Быть может, в этом-то и проблема семинара, думала она, — не в отсутствии больших тем, а в наличии озера, теннисных кортов и Тэнглвуда. Отличный загар, льняные юбки, моя растущая репутация Афины Паллады колледжа «Афина» — быть может, это мне и мешает. Быть может, если бы я снова оказалась запертой в какой-нибудь каморке, питалась бы гнилой картошкой, одевалась в тряпье и сходила бы с ума от страха, тогда бы я сумела написать пристойный рассказ для мистера Лоноффа!
Только когда все с восторгом и нетерпением стали ждать, когда же союзники высадятся, немцы будут разгромлены и начнется золотой век — он в achterhuis назывался «после войны», — она смогла объявить Китти, что дневник, возможно, скрашивал ее подростковое одиночество, но не только. Она два года шлифовала свою прозу и наконец почувствовала, что готова к великим свершениям: «Ты уже давно знаешь, что я больше всего хочу стать когда-нибудь журналисткой, а потом знаменитой писательницей». Но это было в мае 1944 года, когда мысль о том, что в будущем она станет знаменитой, казалась ей не более и не менее несбыточной, чем возвращение в школу в сентябре. О, тот май упоительных надежд! Не будет больше зимы в achterhuis. Еще одна зима, и она бы сошла с ума.
Первый год там было не так уж и плохо; все были заняты обустройством, отчаиваться у нее и времени не было. Они так усердно трудились, чтобы превратить чердак в «суперпрактичный» дом, что отец вынудил всех согласиться и выделить дополнительный закуток, чтобы взять еще одного еврея. Но когда союзники начали бомбардировки, суперпрактичный дом превратился для нее в пыточную. В течение дня две семьи вздорили из-за любой мелочи, а ночью она не могла спать — была уверена, что во тьме придут гестаповцы и всех их заберут. Она ложилась спать, и ее посещали кошмарные видения: перед ней представала ее школьная подружка Лис, которая укоряла ее, что она лежит себе в безопасности в своей постели в Амстердаме, а не в концентрационном лагере, как все ее еврейские друзья: «О Анна, почему ты меня покинула? Помоги, о, помоги мне, спаси меня из этого ада!» Она видела себя «в темнице, без папы и мамы», и это было не самое худшее. До последних часов 1943 года ей представлялось «самое жуткое». Но потом все вдруг прекратилось. Чудесным образом. «А что этому помогло, профессор Лонофф? Об этом написано в ‘Анне Карениной’. Об этом написано в ‘Мадам Бовари’. Об этом — половина западной литературы». Желание — вот оно, чудо. Она вернется в школу в сентябре, но вернется не той девочкой, что прежде. Она уже не девочка. При мысли об обнаженной женщине у нее по щекам катились слезы. Ее мучительные менструации стали источником страннейшего наслаждения. Ночью, в постели, она возбуждалась от собственной груди. Вот какие ощущения — но в одночасье предчувствие жуткой смерти сменилось жаждой жизни. В один прекрасный день она полностью выздоровела, а на следующий, разумеется, влюбилась.
Их невзгоды сделали ее в четырнадцать лет независимой женщиной. Она стала посещать отдельный закуток на самом верхнем этаже, где обитал только Петер, семнадцатилетний сын Ван Даанов. Ее не останавливало то, что она, быть может, крадет его у Марго, и хоть родители и были шокированы, это ее не остановило: сначала она заходила после обеда, потом пошли вечерние встречи, затем она написала огорченному отцу вызывающее письмо. В тот волшебный май, третьего числа: «Я молодая, и многие мои качества еще не раскрылись, я молодая и сильная и переживаю великое приключение». Два дня спустя отцу, который спас ее от ада, поглотившего Лис, Пиму, чьим самым любимым существом она всегда стремилась стать, она послала собственную декларацию независимости, «душой и телом», как она без обиняков заявила: «Я могу жить совсем без матери и вообще без чьей бы то ни было поддержки..? не чувствую ни на грош ответственности перед родителями… за свои поступки я отвечаю только перед самой собой».
Что ж, сила независимой женщины оказалась не в том, как ей представлялось. Да и сила любящего отца тоже. Он сказал ей, что никогда не получал столь неприятного письма, а когда она расплакалась — она вела себя так низко, что не выразишь словами, — он заплакал вместе с ней. Он сжег письмо, прошли недели, и она поняла, что разочаровывается в Петере. Собственно говоря, в июле она уже подумывала, как бы при таких обстоятельствах «отдалить его», но эта проблема решилась в одну солнечную августовскую пятницу: утром, когда Пим помогал Петеру с английским, а она занималась самостоятельно, пришли из голландской Зеленой полиции, и тайному убежищу, где во главу угла ставились порядочность, послушание, благоразумие, самоусовершенствование и взаимное уважение, навсегда пришел конец. Пришел конец и семейству Франк как единому целому, и, весьма вовремя, подумала автор дневника, закончились ее хроники о том, как они пытались достойно продержаться, несмотря ни на что.
В третий раз она прочитала книгу в тот же вечер, возвращаясь в Стокбридж. Сможет ли она когда-нибудь прочитать другую книгу? Как — если эту отложить не может? В автобусе она самым нескромным образом размышляла о том, что она написала — «сотворила». Быть может, рокочущее, бескрайнее, наэлектризованное, лилово-синее небо, преследовавшее автобус по всей дороге от Бостона, — вот что ее завело: за окном было тревожно, как на полотне Эль Греко, за окном грохотала с библейскими раскатами гроза, а в автобусе сидела, согнувшись над книгой, Эми, и ее не покидало ощущение трагического величия, которое она впитала в тот день от настоящих Эль Греко в Бостонском музее изящных искусств. Да, она была изнурена, что, впрочем, тоже способствует фантастическому видению. Все еще завороженная первыми двумя прочтениями «Het Achterhuis», она помчалась в музеи Гарднер[33] и Фогга[34], где в завершение этого удивительного дня за опьяненной собой загорелой девушкой с летящей походкой увязалось не меньше десятка студентов летней школы Гарварда, мечтавших с ней познакомиться. Три музея, потому что в «Афине» она хотела говорить только правду, пусть и не всю, о большом дне в Бостоне. Мистеру Лоноффу она намеревалась подробно рассказать о всех новых выставках, которые она посетила по совету его жены.
Гроза, картины, ее безумная усталость — на самом деле и без этого в ней зародились бы надежды: оттого только, что она трижды за день прочитала свой опубликованный дневник. Хватило бы и навалившегося на нее ощущения собственной значимости. А может, она просто была очень юной писательницей, ехавшей в автобусе и мечтавшей о том, о чем мечтают очень юные писательницы.
Все ее доводы, все фантазии о высоком предназначении ее книги проистекали из одного: из дневников не следует, что она или ее родители были религиозными или соблюдающими традиции евреями. Мама вечером в пятницу зажигала свечи, вот, собственно, и все. Что до праздников, так День святого Николая — с ним она познакомилась в убежище — показался ей куда веселее Хануки, они с Пимом придумали всякие умные подарки и даже написали стихи о Санта-Клаусе — пусть будет интереснее отмечать. Когда Пим решил подарить ей на праздник детскую Библию, чтобы она узнала что-нибудь о Новом Завете, Марго этого не одобрила. Марго твердо решила, что станет акушеркой в Палестине. Она единственная из них всех серьезно размышляла о религии. В дневнике Марго, если бы его когда-нибудь нашли, оказалось бы куда больше рассуждений об иудаизме и планов жить согласно его законам, чем в дневнике сестры. И уж конечно она и вообразить не могла, чтобы Марго даже подумала, а не то что написала в дневнике пылкое «станем же мы когда-нибудь опять людьми, а не только евреями!».
Эти слова она, конечно же, написала, еще не оправившись от испуга после того, как на склад внизу ночью залезли воры. Все были уверены, что после этой кражи полиция уж точно их обнаружит, и много дней еще обмирали от ужаса. Она же кроме страха и чувства странного облегчения испытывала чуть виноватое недоумение, когда осознала, что в отличие от Лис судьба опять пощадила ее. После той кошмарной ночи она снова и снова пыталась понять, за что же их преследуют, и то писала о несчастье быть для врагов евреями, и только евреями, то надеялась: «Быть может, когда-нибудь именно наша вера научит добру все человечество… Мы не можем быть только голландцами, или только англичанами, или людьми какой-нибудь другой нации, наряду с этим мы остаемся евреями, — должны, но и хотим оставаться евреями»; а заканчивала заявлением, которое уж точно не появилось бы в «Дневнике Марго Франк»: «Раз уж я спасена, я решила сразу же после войны принять нидерландское гражданство. Я люблю голландцев, люблю эту страну, люблю этот язык и хочу работать здесь. И даже если мне придется самой написать королеве, я не отступлюсь, пока не достигну цели».
Нет, это говорила не мамина Марго, это говорила папина Анна. В Лондон — учить английский, в Париж — знакомиться с модой и изучать искусство, в Голливуд, штат Калифорния, — брать интервью у звезд под именем Анна Франклин, пока самоотверженная Марго принимает роды в пустыне. По правде говоря, когда Марго думала о Боге и родине, если она каких богов себе и представляла, то это были боги из греческой и римской мифологии — ее она постоянно изучала в укрытии и была от нее в восторге. По правде говоря, девочка из ее дневника была по сравнению с Марго едва-едва еврейкой, но в этом полностью оставалась дочерью своего отца, который успокаивал ее страхи, читая ей на ночь не Библию, а Гете по-немецки и Диккенса по-английски.
Но в этом и была суть — это-то и давало ее дневнику силу сделать кошмар реальностью. Ждать, что огромный бездушный и безразличный мир будет заботиться о дочери благочестивого бородатого отца, живущего по указке раввинов и по традиции, было бы полным безумием. Обычного человека, не принимающего даже малейшие различия, положение такой семьи нисколько не волновало бы. Обычным людям скорее казалось бы, что они сами накликали на себя беду, упорно отвергая все современное и европейское, чтобы не сказать христианское. Но семья Отто Франка — это же другое дело! Разве могли даже самые недалекие из обычных людей игнорировать то, что делали с евреями только за то, что они евреи, разве могли даже самые косные из неевреев не понять это, прочитав в «Het Achterhuis», что раз в год Франки пели безобидную ханукальную песенку, произносили несколько слов на иврите, зажигали несколько свечек, обменивались какими-то подарками — весь ритуал длился минут десять, — и только за это их считали врагами. Да даже этого не требовалось. Ничего не требовалось — вот в чем ужас. И это было правдой.
В этом и была сила ее книги. Франки могли собираться вместе и слушать по радио музыку Моцарта, Брамса и Бетховена, могли занимать себя чтением Гете, Диккенса и Шиллера, она могла вечер за вечером изучать генеалогические древа всех европейских королевских фамилий, подыскивая подходящие партии для принцессы Елизаветы и принцессы Маргарет Роуз[35], могла со страстью писать в дневнике, как она любит королеву Вильгельмину и как жаждет, чтобы Голландия была ее отечеством, но это ничего не меняло. Европа была не их, и они, такая европеизированная семья, Европе не принадлежали. Они только жили на третьем этаже дома над чудесным амстердамским каналом, ютились на тридцати квадратных метрах вместе с Ван Даанами, изолированные от мира, презираемые, как все евреи всех гетто. А почему? Да потому, что еврейский вопрос должен был быть решен, дегенератами, с чьим существованием цивилизованные люди не могли больше мириться, были они сами, Отто и Эдит Франк и их дочери Марго и Анна.
И этот урок, уверилась она по дороге домой, у нее есть силы преподать другим. Но только если все будут считать, что она умерла. Если станет известно, что автор «Het Achterhuis» жива, книга так и останется тем, чем и была, ничем больше — дневником девочки-подростка о трудных годах, проведенных ею в убежище, во время немецкой оккупации Голландии, книжкой, которую мальчики и девочки могли бы читать на ночь наряду с приключениями швейцарской семьи Робинзон[36]. Но мертвая она могла предложить нечто большее, чем развлечение для детей от 10 до 15 лет; если она мертва, получается, что она написала, не рассчитывая на это, шедевр, который наконец заставит людей все понять.
А когда люди наконец все поймут? Когда они осознают, что у нее хватило силы научить их чему-то, что тогда? Будут ли они воспринимать страдания по-новому? Сможет ли она действительно сделать их более человечными — и не только на те несколько часов, пока они будут читать ее дневник? В своей комнате в «Афине», спрятав в комоде три экземпляра «Het Achterhuis», она думала о своих будущих читателях куда спокойнее, чем в автобусе, в бушующую грозу. Она ведь уже не была той пятнадцатилетней девочкой, которая, прячась от смертельной опасности, могла написать Китти: «Я до сих пор верю в доброту человеческой души». Ее юношеские идеалы выстрадали все то, что выстрадала она в товарном вагоне из Вестерброка, в бараках Аушвица, на пустоши в Бельзене. Она не возненавидела человечество за то, какое оно — да и каким оно могло быть, только таким, как есть, — но и петь ему хвалу у нее желания не было.
Что произойдет, когда люди наконец все поймут? Реалистичный ответ один — ничего. Верить во что-либо еще значило бы питать надежды, в которых даже она — а она умела надеяться — теперь имела право сомневаться. Держать свое существование в тайне от отца, чтобы сделать человечество лучше… Нет, теперь уже поздно. Улучшать их жизнь — их дело, не ее; они могут улучшать себя, если им так заблагорассудится, а нет — так нет. Она ответственна перед мертвыми — перед сестрой, мамой, перед всеми уничтоженными школьниками, которые были когда-то ее друзьями. Вот цель ее дневника, вот ее предназначение: в напечатанном слове сделать их снова живыми… хоть им это и не поможет. На самом деле ей хотелось орудовать не печатным словом, а топором. На лестничной клетке в конце коридора в ее корпусе висел здоровенный топор с огромной красной рукоятью — на случай пожара. А если на случай ненависти — как насчет смертельной ярости? Она часто на него смотрела, но у нее никогда не хватало духу снять его со стены. А окажись он у нее в руках, чью голову ей бы захотелось раскроить? Кого она могла убить в Стокбридже, чтобы отомстить за прах и черепа? Это еще если бы она смогла им орудовать. Нет, у нее другое орудие: «Het Achterhuis», van Anne Frank. И чтобы она могла им ранить до крови, ей придется снова исчезнуть, в другом убежище, на сей раз без отца, в одиночку.
Поэтому она укрепилась в вере в свои триста без малого страниц, а с ней и в решимости утаить от отца в его шестьдесят, что она выжила. «Ради них, — воскликнула она, — ради них», — имея в виду тех, кого настигла миновавшая ее судьба, ради них она и притворялась. «Ради Марго, ради мамы, ради Лис».
Теперь она каждый день ходила в библиотеку, читала «Нью-Йорк таймс». Каждую неделю она внимательно просматривала журналы. По воскресеньям читала все о новых книгах, выходящих в Америке: о романах, называемых «заметными» и «значительными», — но вряд ли они были более заметными и значительными, чем ее посмертно опубликованный дневник; о никчемных бестселлерах, из которых настоящие люди узнавали о придуманных, которых в жизни существовать не могло, да и существуй они, это ни на что не повлияло бы. Она читала хвалебные отзывы об историках и биографах, чьи книги, сколь бы ни были хороши, вряд ли были достойны признания так, как ее дневник. И в каждом обзоре в каждом журнале, который имелся в библиотеке — американском, французском, немецком или английском, она искала свое настоящее имя. Не могло же все ограничиться тем, что несколько тысяч голландских читателей покачали головой и вернулись к своим делам — слишком уж важной была ее книга. «Ради них, ради них» — снова и снова, неделю за неделей, «ради них» — пока она наконец не подумала: а вдруг то, что она выжила в убежище, не погибла в лагерях смерти, скрывается здесь, в Новой Англии, под чужой личиной, делает это яростное желание «вернуться» в роли призрака отмщения чем-то весьма подозрительным и слегка безумным. Она стала опасаться, что поддается своей установке не поддаваться.
И что с того? Она же пыталась притвориться той, которой и была бы, не случись убежища и лагерей смерти. Эми не была другой. Та Эми, что спасла ее от ее воспоминаний и вернула к жизни, — привлекательная, здравомыслящая, смелая и практичная Эми — это и была она. И имела полное право быть такой. Ответственность перед мертвыми? Резонерство для ханжей! Мертвым дать нечего — они мертвы. «Вот именно. Так называемое значение этой книги — болезненная иллюзия. Изображать из себя мертвую — напыщенно и отвратительно. А прятаться от папы и того хуже. Не нужно никакого искупления, — сказала Эми Анне. — Позвони Пиму и скажи, что ты жива. Ему уже шестьдесят».
Она тосковала по нему еще сильнее, чем в детстве, когда больше всего на свете хотела, чтобы он любил только ее. Но она молодая, сильная, она жива, у нее увлекательная жизнь, но она ничего не предприняла, чтобы сообщить ему или кому-то еще, что она жива; а ведь может оказаться слишком поздно. Никто бы ей не поверил, никто, кроме отца, не захотел бы поверить. Теперь люди каждый день приходили в их тайное убежище, смотрели на фотографии кинозвезд, которые она повесила у себя над кроватью. Они приходили смотреть на таз, в котором она мылась, на стол, за которым она занималась. Они смотрели из чердачного окна, где Петер и она сидели в обнимку, любуясь звездами. Они разглядывали шкаф, маскировавший дверь: через нее вошли полицейские, чтобы их увести. Они смотрели на открытые страницы ее тайного дневника. Это ее почерк, шептали они, это ее слова. Они разглядывали в убежище все, до чего она дотрагивалась. Скромные коридоры и обустроенные комнатки, которые она, как прилежная ученица в сочинении, описывала Китти четкими, понятными, будничными голландскими фразами — суперпрактичное убежище стало теперь местом поклонения, Стеной Плача. Они уходили оттуда в молчании — скорбели, будто она была им родной.
Но это они были ей родными. «Они плакали обо мне, — сказала Эми, — они жалели меня, молились за меня, просили у меня прощения. Я стала воплощением миллионов непрожитых жизней, украденных у убитых евреев. Сейчас поздно становиться живой. Я стала святой».
Такую она рассказала историю. И что подумал Лонофф, когда она закончила свой рассказ? Что она готова поручиться за каждое слово, но ни одного слова правды там не было.
Эми приняла душ, оделась, выписалась из отеля, и он повел ее пообедать. Из ресторана он позвонил Хоуп и сообщил, что привезет Эми домой. Она будет гулять по лесу, смотреть на опавшую листву, спокойно спать в кровати Бекки; а через несколько дней сможет собраться с силами и вернется в Кеймбридж. О ее срыве он сказал, что, по-видимому, она переутомилась. Он пообещал Эми, что больше ничего не расскажет.
По дороге в Беркширские горы, пока Эми рассказывала ему, каково ей было все эти годы, когда ее читали на двадцати разных языках двадцать миллионов человек, он решил, что нужно проконсультироваться с доктором Бойсом. Бойс работал в Риггзе, психиатрической больнице Стокбриджа. Всякий раз, когда выходила новая книга, доктор Бойс присылал милое письмо Лоноффу с просьбой подписать ему экземпляр, а раз в год его с Хоуп приглашали к Бойсам на большое барбекю. Однажды по просьбе доктора Бойса Лонофф нехотя согласился прийти на семинар для сотрудников больницы, обсудить «творческую личность». Он не хотел обижать психиатра, к тому же это могло на время успокоить его жену — ей хотелось верить, что, если он чаще будет встречаться с другими людьми, в доме станет поспокойнее.
Выяснилось, что у участников семинара есть свои — слишком фантазийные на его вкус — соображения о писательстве, но он не стал доказывать им, что они ошибаются. Да и не был так уж уверен, что он прав. Они видели это по-своему, он видел как Лонофф. И точка. У него не было никакого желания кого-то переубеждать. Литература заставляет людей говорить всякие странности — так что пусть уж так и будет.
Встреча с психиатрами длилась всего час, когда Лонофф сказал, что вечер был очень приятный, но ему пора домой. «Мне еще предстоит вечернее чтение. Не почитав, я сам не свой. Впрочем, вы можете обсудить мою личность и без меня». Бойс, ласково улыбнувшись, ответил: «Надеюсь, мы хоть немного развлекли вас своими наивными рассуждениями». — «Это мне было бы приятно вас развлечь. Прошу прощения, что был так скучен». — «Нет-нет, — сказал Бойс, — пассивность в столь уважаемом человеке имеет собственное очарование и загадку». — «Да? — сказал Лонофф. — Надо рассказать об этом жене».
Но потраченный пять лет назад впустую час ничего не определял. Он доверял Бойсу и понимал, что психиатр не предаст его доверия, поэтому на следующий день он пошел поговорить с ним о своей бывшей ученице и псевдодочери, молодой женщине двадцати шести лет, которая открыла ему свою тайну: из всех еврейских писателей, от Франца Кафки до Э. И. Лоноффа, она самая знаменитая. А то, что он сам предал доверие своей псевдодочери, большого значения не имело, поскольку Эми, находясь в плену своих бредовых иллюзий, выдавала все новые подробности.
— Знаешь, почему я взяла такое милое имя? Не для того, чтобы оградить себя от воспоминаний. Я не прятала ни прошлое от себя, ни себя от прошлого. Я пряталась от ненависти, от тяги ненавидеть людей так, как люди ненавидят пауков и крыс.
Мэнни, мне казалось, что меня освежевали. Будто бы с половины моего тела содрали кожу. С половины лица — и теперь до конца моей жизни все будут пялиться на меня с ужасом. Или же будут пялиться на другую половину, неповрежденную; я представляла себе, как они улыбаются, делая вид, будто ободранной стороны нет, общаются с другой стороной. Я слышала, как ору на них, видела, как поворачиваюсь своей жуткой стороной к их нетронутым лицам, чтобы они по-настоящему ужаснулись. «Я была красивой! Я была неповрежденной! Я была солнечной, живой девочкой! Смотрите, смотрите, что со мной сделали!» Но на какую сторону они ни смотрели бы, я все равно кричала: «Смотрите на другую! Почему вы не смотрите на другую?» Вот о чем я думала по ночам в больнице. Как бы они на меня ни смотрели, как бы со мной ни разговаривали, как бы ни пытались меня успокоить, я так навсегда и останусь наполовину ободранной. Я никогда не буду молодой, никогда не буду доброй, никогда не успокоюсь, никогда никого не полюблю, я буду ненавидеть их всю жизнь.
Так что я взяла это милое имя, чтобы оно воплощало в себе все, чем я не являюсь. И я отлично умею притворяться. Вскоре я уже могла вообразить, что я вовсе не притворяюсь, что я стала такой, какой все равно бы стала. А потом появилась эта книга. Пришла посылка из Амстердама, я открыла ее, и вот оно все передо мной: мое прошлое, я сама, мое имя, мое нетронутое лицо, и я захотела одного — отмщения! Не ради мертвых, это не было попыткой вернуть мертвых или покарать живых. Я мстила не трупам — я мстила оставшемуся без матери, без отца, без сестры, исполненному мести и стыда, наполовину ободранному клокочущему гневом существу. Себе самой. Я хотела, чтобы слезы, их христианские слезы текли рекой — как еврейская кровь — по мне. Я хотела их жалости — хотела самым безжалостным образом. И я хотела любви, хотела, чтобы меня любили нещадно и бесконечно, так же, как меня погубили. Хотела себе, новой жизни и нового тела, очищенного, незамаранного. И для этого было нужно двадцать миллионов человек. Десять раз по двадцать миллионов.
Ах, Мэнни, я хочу жить с тобой! Вот что мне нужно! Миллионам этого не сделать, это можешь только ты! Я хочу вернуться домой, в Европу с тобой. Выслушай меня, не отказывайся сразу. Этим летом я увидела, что сдается домик, каменный домик на склоне холма. Под Флоренцией. С розовой черепичной крышей и садом. Там был номер телефона, я его записала. Он у меня сохранился. О, когда я видела в Италии что-нибудь прекрасное, я думала о том, как бы ты был счастлив там и как бы была счастлива я, ухаживая за тобой. Представляла себе наши поездки. Представляла, как мы днем ходим по музеям, а потом пьем кофе где-нибудь на берегу реки. Как вечерами мы вместе слушаем музыку. Как я готовлю тебе еду. Представляла, как буду перед сном надевать чудесные ночные рубашки. Ах, Мэнни, их Анна Франк останется их Анной Франк, я хочу быть твоей Анной Франк. Мне хочется наконец быть самой собой. На роль девочки-мученицы и святой я больше не гожусь. Да никто меня и не примет такой, какая я есть — вожделеющая чужого мужа, уговаривающая его бросить свою верную супругу и бежать с девицей вдвое его младше. Мэнни, разве так важно, что я ровесница твоей дочери, а ты ровесник моего отца? Конечно, я люблю в тебе пап-почку, как иначе? И если ты любишь во мне ребенка, что с того? В этом нет ничего странного — у половины людей так. Любовь должна с чего-то начинаться, и у нас она начинается с этого. А что до того, кто я… Что ж, — сказала Эми, и тон у нее был ласковый и победный, как никогда прежде, — надо же кем-то быть. Иначе нельзя.
Дома ее уложили в постель. Лонофф на кухне пил с женой кофе, который она ему сварила. Всякий раз, когда он представлял Эми в приемной дантиста читающей об Отто Франке в журнале «Тайм», или среди библиотечных стеллажей ищущей упоминание своего «настоящего имени», всякий раз, когда он представлял ее в бостонском парке Коммон готовящей для своего преподавателя по писательскому мастерству глубоко личное описание «ее» книги, ему хотелось дать себе волю и расплакаться. Никогда прежде он не страдал так страданиями другого человека.
Разумеется, он не рассказал Хоуп о том, кем Эми считает себя. Но в этом и не было нужды: он догадывался, что она ему ответит: ради него, великого писателя, Эми решила стать Анной Франк; это объясняло все, никакой психиатр тут не нужен. Ради него, к этому ее подвигла ее страстная влюбленность: она хотела очаровать его, околдовать, прорваться через его щепетильность, мудрость, порядочность к его воображению, и там, в качестве Анны Франк, стать femme fatale Э. И. Лоноффа.
4. В браке с Толстым
На следующее утро мы все завтракали вместе — будто счастливая семья из четырех человек. Женщина, которую Лонофф после тридцати лет брака не мог бросить просто потому, что ему хотелось за стаканом утреннего сока видеть перед собой новое лицо, с гордостью сообщила нам, когда мы пили свой сок, чего добились дети, на чьих стульях сидели мы с Эми. Она показала нам их свежие фотографии, где оба были со своими детьми. Вечером Лонофф даже не упомянул (мне), что у него уже несколько внуков. Да и к чему?
За ночь Хоуп преобразилась из стареющей, подавленной, заброшенной жены в счастливую сочинительницу милых стихов о природе, что висели в рамочках по стенам кухни, мастерицу ухаживать за геранями, женщину, о которой Лонофф сказал, когда разбилось блюдце: «Она его склеит». Да и Лонофф не выглядел прежним: сознательно или нет, но к завтраку он вышел, напевая «Голубые небеса». И почти сразу начал язвительно паясничать — явно с расчетом повеселить Хоуп.
Отчего же такие перемены? Оттого, что после завтрака Эми возвращалась в Кеймбридж.
Но я не мог больше думать о ней как об Эми. Мысли мои все время возвращались к тому сюжету о ней и Лоноффе, который я сочинил в темноте кабинета, вдохновляясь его похвалой и возмущаясь отказавшим мне в одобрении отцом, — и, разумеется, потрясенный тем, что произошло между моим кумиром и восхитительной молодой женщиной перед тем, как он мужественно вернулся в постель к жене.
За завтраком у меня не шли из головы отец, мама, судья и миссис Ваптер. Я провел бессонную ночь и теперь не мог здраво думать ни о них, ни о себе, ни об Эми — так я ее называл. Я все представлял себе, как возвращаюсь в Нью-Джерси и говорю родственникам: «В Новой Англии я познакомился с восхитительной молодой женщиной. Я люблю ее, а она любит меня. Мы собираемся пожениться». — «Пожениться? Так скоро? Натан, она еврейка?» — «Да, еврейка». — «Так кто же она?» — «Анна Франк».
— Я слишком много ем, — сказал Лонофф, когда Хоуп доливала ему в чай кипятка.
— Тебе нужны физические нагрузки, — сказала Хоуп. — Надо больше ходить. Ты перестал гулять днем и стал набирать вес. Ты же почти ничего не ешь. И точно не ешь того, от чего поправляются. Все из-за того, что ты проводишь столько времени за столом. И дома сидишь.
— Я не вынесу больше ни одной прогулки. Видеть уже не могу эти деревья.
— Тогда ходи в другую сторону.
— Я десять лет ходил в другую сторону. Поэтому я и начал ходить в эту сторону. Да и гуляя, я не гуляю. По правде говоря, я и деревьев-то не вижу.
— Это не так, — сказала Хоуп. — Он любит природу, — сообщила она мне. — Знает названия всех растений.
— Буду ограничивать себя в еде, — сказал Лонофф. — Кто хочет яйцо со мной пополам?
— Сегодня утром ты можешь побаловать себя целым яйцом, — радостно воскликнула Хоуп.
— Эми, хочешь, я поделюсь с тобой яйцом?
Он включил ее в беседу, поэтому у меня наконец появилась возможность взглянуть на нее без смущения. Это было так. Могло бы быть. Тот же разумный, безо всякой воинственности облик, тот же задумчивый взгляд безмятежного предвкушения… Лоб был не шекспировский — это был ее лоб.
Она улыбалась, будто была в прекрасном расположении духа, будто ночью он не отказался поцеловать ее груди.
— Никак не могу, — сказала она ему.
— Даже половинку? — спросил Лонофф.
— Даже шестнадцатую часть.
Это моя тетя Тесси, это Фрида и Дейв, это Верди, это Мюррей… Видишь, у нас огромная семья. А это — моя жена. Именно о такой я всегда и мечтал. Кто сомневается — посмотрите на ее улыбку, послушайте, как она смеется. Помните затененные глаза, невинно смотрящие вверх, помните умное личико? Помните темные волосы, убранные под заколку? Так вот она… Анна, говорит отец, это та самая Анна? О, почему я не понял сына? Как мы все ошибались!
— Поджарь яйцо, Хоуп, — сказал Лонофф. — Я съем половину, и ты съешь половину.
— Ты можешь съесть его целиком, — ответила она. — Главное — возобнови прогулки.
Он с мольбой посмотрел на меня:
— Натан, съешьте половину.
— Нет-нет! — сказала его жена и, развернувшись к плите, торжествующе заявила: — Ты съешь целое яйцо!
Побежденный, Лонофф сказал:
— И в довершение всего я сегодня утром выкинул бритву.
— А почему, — спросила Эми, делая вид, что тоже все еще наслаждается голубыми небесами, — вы так поступили?
— Я все обдумал. Мои дети окончили университет. За дом я все выплатил. У меня медицинская страховка от «Синего креста». У меня «форд» 56-го года. Вчера мне пришел чек на сорок пять долларов, авторские из Бразилии — нежданно-негаданно. Выкинь ее, сказал я, возьми новое лезвие. Потом я подумал: этой бритвой можно побриться еще разок, а то и два. К чему такая расточительность? Но потом я еще подумал: у меня семь книг изданы в мягкой обложке, меня издают в двадцати странах, на доме новая гонтовая крыша, в цокольном этаже новая печь, в маленькой ванной Хоуп заменены все трубы. Счета оплачены, более того, в банке еще остались деньги, которые приносят три процента дохода — нам на старость. Черт с ним, подумал я, хватит думать — и вставил новое лезвие. Полюбуйтесь, как я себя раскроил. Чуть ухо не отрезал.
Эми:
— Что доказывает, что вам не следует поддаваться импульсу.
— Я только хотел посмотреть, каково это — жить как все.
— И? — спросила Хоуп.
Она вернулась к столу со сковородкой.
— Я же сказал. Чуть ухо себе не отрезал.
— Вот твое яйцо.
— Я хочу половинку.
— Дорогой, попируй в порядке исключения, — сказала Хоуп, целуя его в макушку.
Дорогие мама и папа! Мы уже три дня у отца Анны. Они оба с нашего приезда так тронуты, так взволнованы…
— А вот твоя почта, — сказала Хоуп.
— Я раньше всю почту смотрел только под конец дня, — объяснил он мне.
— Даже заголовки в газетах не читал, — сказала Хоуп. — Он и завтракать-то с нами начал всего несколько лет назад. Но когда дети разъехались, я отказалась сидеть за столом в одиночестве.
— Но я все равно не разрешал тебе со мной разговаривать, помнишь? Это тоже только недавно.
— Давай я пожарю тебе еще одно яйцо, — сказала она.
Он отодвинул пустую тарелку.
— Спасибо, милая, я наелся.
Дорогие родные… Анна беременна и говорит, что даже представить не могла, что будет когда-нибудь так счастлива…
Он перебирал письма, штук пять. Сказал мне:
— Это мне пересылают от издателя. Читать есть смысл одно из ста. Из пятисот.
— Может, нужен секретарь, письма просматривать? — спросил я.
— Ему совесть не позволит, — объяснила Хоуп. — Он так не может. К тому же секретарь — это еще один человек. Мы не можем превращать наш дом в Центральный вокзал.
— Секретарь — это еще шесть человек, — сообщил он ей.
— Что на этот раз? — спросила она, когда он просматривал исписанные карандашом страницы. — Прочитай нам, Мэнни.
— Сама прочитай. — Он протянул жене письмо. — Пусть Натан поймет, каково это, когда тебя возвращают из забвения. И не приходит, не барабанит нам в дверь со словами, что не этого он хотел.
Она вытерла руки о фартук и взяла письмо. У нее было удивительное утро, утро совершенно новой жизни. А все почему? Потому что Эми уезжала.
— «Уважаемый мистер Лонофф! — начала читать она. — Очень хочется, чтобы вы, человек такого таланта, написали рассказ со следующим сюжетом. Нееврей приезжает с Запада в Нью-Йорк и впервые встречает евреев. Будучи человеком добрым и хорошим, он оказывает им некоторые услуги. Когда на работе он тратит часть своего обеденного перерыва на то, чтобы им помочь, они ведут себя по-свински и хотят урвать как можно больше его времени. Когда он помогает своим сослуживцам и закупает для них шариковые ручки по оптовой цене, происходит то же самое. Они хотят, чтобы он закупил еще — для каких-то чужих людей, говоря: „Один мой знакомый хочет купить дюжину ручек“, а потом заявляют: „Я не говорил ‘купи’, не просил покупать для него, я просто сказал тебе, что хочу две дюжины, и ты не можешь утверждать, что я сказал тебе купить ему две дюжины“. В результате он начинает испытывать к евреям неприязнь. Затем он выясняет, что неевреи, которые не пытаются его использовать, хотят лишить его работы, но когда начальник хочет его уволить, евреи встают на его сторону. Когда он заболевает, евреи сдают для него кровь. В конце он беседует с одним человеком, который рассказывает ему, как в ходе истории евреи стали такими расчетливыми. Искренне ваш, Рэй У. Оливер. Р. Б. Я тоже пишу рассказы и очень хочу написать по этому сюжету рассказ в соавторстве с вами».
— Я тоже, — сказала Эми.
— Последствия его страсти, — сказал я. Это была строка из «Зрелых лет», но даже Лонофф, похоже, ее не опознал. — Из Генри Джеймса, — добавил я, покраснев. — Остальное — безумие искусства.
— Ага, — сказал Лонофф.
Кретин! Идиот! Меня поймали, когда я похвастался своей эрудицией. Ага. Он знает всё.
Но вместо того чтобы попросить меня удалиться — за то, как я вел себя в его кабинете, он открыл второй конверт и достал оттуда небольшую каталожную карточку. Прочитав, он передал ее Хоуп.
— A-а, эти, — сказала она. — Они меня просто бесят.
— Однако стиль есть, — сказал Лонофф. — Мне нравится отсутствие приветствия. Просто натянула веревку и развесила белье. Прочитай вслух, Хоуп.
— Как же я такое ненавижу!
— Давай! Натану в назидание.
Так он не знает. Или знает, но простил меня.
— «Я только что дочитала твой блистательный рассказ ‘Индиана’, — прочитала Хоуп. — Да что ты знаешь о Среднем Западе, ты, кусок еврейского дерьма? Твое еврейское всезнайство обычному человеку так же поперек горла, как твое жидовское чувство ‘прекрасного’. Салли М., Форт-Уэйн».
Лонофф тем временем аккуратно вскрывал голубой заграничный конверт.
— Нью-Дели, — объявил он.
— Вас сделали брахманом, — сказала Эми.
Хоуп улыбнулась девушке: ведь она уезжала меньше чем через час.
— Он на это не согласится.
— Что ж, — ответила Эми, — может, ему повезло и его сделали неприкасаемым.
— Или и того хуже, — сказал Лонофф и отдал письмо Хоуп.
— Всего получить никогда не получается, — сказала ему Эми.
На этот раз Хоуп стала читать без лишних уговоров.
— «Уважаемый сэр! Мне двадцать два года, я живу в Индии. Я вынужден сам представиться, поскольку у меня нет иного способа познакомиться с вами. Возможно, вами не овладеет восторг от знакомства с неизвестным, который намерен вас использовать».
Тут вдруг уверенность ее покинула, не понимая, что делать дальше, она взглянула на Лоноффа.
— Продолжай, — сказал он ей.
— «…намерен вас использовать. Молю вас о помощи, полностью осознавая те барьеры касты, веры и т. д., которые нас разделяют. Поскольку я лишь нищий в ином обличье, я выскажу свою просьбу немедленно. Я имею желание обосноваться в Америке. Будьте добры, как-нибудь помогите мне выбраться из моей страны. Если мое образование недостаточно годится, чтобы приехать в Америку как студент, и если другие способы не сработают, согласитесь ли вы просто усыновить меня — это будет последняя надежда. Мне очень стыдно излагать эту просьбу, поскольку я уже взрослый и у меня есть родители, которые зависят от меня, чтобы я обеспечивал их в старости. Я согласен на любую работу и постараюсь быть вам хоть как-то полезен. Сэр, теперь вы уже воссоздали в уме невпечатляющую фигуру невысокого, темного, честолюбивого индийца, в чьем характере явно просматривается немалое количество зависти. Если вы подумали, как описано, вас ожидает сюрприз. Поскольку описание подходит ко мне полностью. Я хочу убежать от суровых реальностей, жить в некотором спокойствии и продолжать, сколько возможно, образование. Сэр, прошу вас, дайте знать, есть ли у вас возможность помочь вашему покорному слуге…»
Хоуп прижала письмо к груди: она увидела, что Эми отодвинула стул и встает.
— Извините, — сказала ей Хоуп.
— За что? — натужно улыбнулась Эми.
У Хоуп задрожали руки.
Я взглянул на Лоноффа, но тот молчал.
Эми с едва заметным раздражением сказала:
— Не понимаю, за что вам извиняться.
Хоуп принялась складывать письмо из Индии — и не так складывать, как комкать. Переведя взгляд на герань, она сказала:
— Я не собиралась вас смущать.
— Но я не смутилась, — невинно ответила Эми.
— А я и не говорила, что вы смутились, — признала Хоуп. — Я сказала, что не собиралась вас смущать.
Эми промолчала — намеренно. Она ждала, как Хоуп будет продолжать.
— Прошу вас, забудьте об этом, — сказала Хоуп.
— Все забыто, — примирительно сказал Лонофф.
— Я сейчас поеду, — сказала ему Эми.
— Прямо сейчас? — спросил Лонофф. — И кофе не допьете?
— Вы и так уже на полчаса отстали от своего графика, — ответила Эми. — После столь запутанных переговоров насчет яйца вам еще пол-утра в себя приходить.
— Да! — вскочил я. — Мне тоже пора.
— Так рано автобуса нет, — сообщил мне Лонофф. — Первый автобус на север приходит в одиннадцать двадцать.
— Но если она подбросит меня до города, я просто пройдусь — если это не нарушит ваши планы, — добавил я и так же смущенно, как и вчера, взглянул на девушку, которую я окутал сонмом разных образов, но так еще и не сумел разглядеть.
— Как вам будет угодно, — сказал Лонофф.
Он встал, обошел стол и поцеловал Эми в щеку.
— Не пропадайте, — сказал он ей. — И спасибо за помощь.
— Мне, кажется, хотя бы удалось разложить все по книгам. Хотя бы это в порядке.
— Замечательно. С остальным мне надо самому разобраться. И обдумать. Не уверен, друг мой, что это мне нужно.
— Прошу, — сказала она, — заклинаю вас, ничего не уничтожайте.
Говорили они загадками, но я все-таки понял, что она имеет в виду листы черновиков его старых рассказов — их она разбирала для коллекции рукописей Гарварда. Но Хоуп слышала в просьбе девушки не столь невинные намерения. Не дав им обменяться в ее присутствии еще какими-то двусмысленностями, Хоуп выскочила из комнаты.
Мы слышали, как она поднимается по лестнице, а затем у нас над головой захлопнулась дверь спальни.
— Прошу меня извинить, — сказал Лонофф и, застегнув пиджак, последовал за женой.
Мы с Эми молча вынули наши вещи из шкафа в коридоре и оделись — подготовились к выходу на мороз. Мы стояли, не зная, как поступить дальше, и я сдерживался как мог, чтобы не сказать: «У вас так бывает — чувствуешь, что хочешь уйти, и чувствуешь, что хочешь остаться?»
То, что я произнес, было немногим лучше:
— Вчера вечером за ужином он рассказал мне о письме, что вы прислали ему из Англии.
Она приняла это к сведению и продолжала ждать. На голове у нее была белая вязаная шапочка с пушистым белым помпоном на длинном шерстяном шнурке. Ну конечно же! Он дал ей эту шапку в ее первую зиму здесь, в Беркширских горах, и теперь она не могла с ней расстаться — как не могла расстаться с ним, со своим вторым Пимом.
— Когда это было? — спросил я. — Когда вы жили в Англии?
— Боже мой!
Она закрыла глаза, прижала ладонь ко лбу. И тут я заметил, как она устала. Оба мы не спали предыдущую ночь, она думала, какой бы стала, живя с Лоноффом во Флоренции, а я — о том, кто она такая. Рукав ее пальто задрался, и я, естественно, увидел, что на руке у нее никакого шрама нет. Ни шрама, ни книги, ни Пима. Нет, любящий отец, от которого его ребенку надо отказаться ради искусства, был не у нее, а у меня.
— Я была невысокая, мрачная, честолюбивая. И мне было шестнадцать. Одиннадцать лет назад, — сказала она.
Ровесница Анны Франк, если бы та выжила.
— А до Англии где вы жили?
— Это долгая история.
— Вы пережили войну?
— Война прошла мимо меня.
— Как так?
Она вежливо улыбнулась. Я начинал ее раздражать.
— Повезло.
— Наверное, так же она прошла и мимо меня, — сказал я.
— А что у вас было взамен? — спросила она.
— Мое детство. А у вас что было взамен?
— Чье-то другое, — сухо ответила она. — Нам, пожалуй, пора отправляться, мистер Цукерман. Мне пора. Поездка долгая.
— Я бы предпочел попрощаться.
— Я бы тоже, но лучше нам поехать.
— Уверен, он хотел, чтобы мы подождали.
— Неужели? — сказала она странным тоном, и я прошел за ней в гостиную, где мы сели в глубокие кресла у камина. Она села в кресло Лоноффа, а я в соседнее. Она сердито стащила с головы шапку.
— Он был ко мне так великодушен, — объяснил я. — Незабываемый визит. Для меня, — добавил я.
— Да, он великодушен.
— Он помог вам приехать в Америку.
— Да.
— Из Англии?
Она взяла журнал, который я листал предыдущим вечером, пока Лонофф разговаривал по телефону.
— Извините мою навязчивость… — сказал я.
Она рассеянно улыбнулась и стала просматривать журнал.
— Просто… вы чем-то похожи на Анну Франк.
Меня пробила дрожь, когда она ответила:
— Мне это уже говорили.
— Да?
— Но, — сказала она, устремив умные глаза прямо на меня, — к сожалению, я — не она.
Молчание.
— Вы ведь читали ее книгу?
— Не то чтобы читала, — сказала она. — Я ее видела.
— О, это удивительная книга!
— Неужели?
— О, да! Она была замечательная, эта юная писательница. Для тринадцати лет — просто поразительно. Следить, как она набирает мастерство, — все равно что смотреть в ускоренной съемке фильм о формировании лица у эмбриона. Вам непременно нужно прочитать эту книгу. Она вдруг открывает для себя рефлексию, появляются портретные зарисовки, наброски характеров, вдруг идет долгое и сложное описание череды событий, изложенное с таким блеском, словно за ним — десяток черновых вариантов. И нет никакого разъедающего желания быть интересной или серьезной. Она просто есть. — Я весь взмок от усилия — нужно было сжать все мои размышления и изложить их ей до того, как вернется Лонофф и мне помешает. — В ней был пыл, в ней была энергия — всегда в движении, всегда что-то затевала, быть скучной было ей так же непереносимо, как скучать, правда, потрясающая писательница. И фантастически трогательный ребенок. Я тут подумал, — мысль, разумеется, пришла ко мне, пока я истово хвалил Анну Франк той, которая могла ею оказаться, — она будто пылкая младшая сестра Кафки, его потерявшаяся дочка — родство просматривается даже в чертах лица. Мансарды и каморки Кафки, тайные чердаки, где предъявляют обвинения, потайные двери — все, что он нафантазировал в Праге, для нее было реальной амстердамской жизнью. То, что он выдумал, она отстрадала. Помните первую фразу «Процесса»? Мы с мистером Лоноффом вчера об этом говорили. Она могла бы быть эпиграфом к ее книге. «Кто-то, по-видимому, оклеветал Анну Ф., потому что однажды утром, не сделав ничего дурного, она попала под арест».
Однако, несмотря на мой пыл, мысли Эми где-то блуждали. Но и мои тоже — они унесли меня в Нью-Джерси, где прошло счастливое детство. Как бы вступить с тобой в брак, думал я, моя недосягаемая сторонница, моя неприступная союзница, моя защита от их обвинений в отступничестве и предательстве, в опрометчивом и гнусном разглашательстве! Стань моей женой, Анна Франк, оправдай меня в глазах родных, сними с меня это идиотское обвинение! Пренебрегаю чувством еврейства? Равнодушен к тому, как евреям выжить?. Плюю на их благополучие? Да кто посмеет обвинить в таких немыслимых грехах супруга Анны Франк?
Но, увы, я не мог вытащить ее из ее священной книги и сделать персонажем реальной жизни. Вместо этого напротив меня сидела Эми Беллет (кем бы она ни была) и листала журнал Лоноффа, впитывала в себя все подчеркнутые им места, ждала, не изменит ли он в последний миг свою жизнь, а заодно и ее? Все остальное было сплошной литературой, неопровержимым ответом на вопросник Ваптеров, который я собирался им дать. И эту литературу, вовсе не неопровержимую, не могущую снять с меня их обвинения и вернуть меня в заветное состояние беспорочности, они сочли бы глумлением куда отвратительнее того, что они обнаружили в ими прочитанном.
Хоуп спустилась, одетая для улицы — защитного цвета суконное пальто с капюшоном, шерстяные брюки заправлены в теплые сапоги. Одной рукой она, чтобы не упасть, крепко держалась за перила, в другой несла небольшой чемоданчик.
Лонофф стоял наверху лестницы.
— Не надо так, — сказал он мягко. — Это же чистое…
— Пусть каждый из нас получит то, что хочет.
Она говорила, не обернувшись к нему: в ее волнении первым делом ей надо было справиться со ступенями.
— Вряд ли ты этого хочешь.
Она остановилась.
— Именно этого я хотела долгие годы.
И она продолжила движение к выходу.
— Возвращайся сюда. Ты сама не понимаешь, что говоришь.
— Ты просто испугался, — проговорила она сквозь зубы, — что тебе не с кем будет скучать.
— Хоуп, я тебя не слышу.
Опасные ступени были пройдены, и маленькая женщина обернулась, посмотрела наверх.
— Ты просто волнуешься, получится ли у тебя писать, читать, размышлять, если не будешь скучать со мной. Что ж, теперь поскучай с кем-нибудь еще! Теперь пусть кто-нибудь другой тебя не беспокоит!
— Прошу тебя, поднимись сюда.
Но она словно не услышала его просьбы, вошла с чемоданчиком в гостиную. Навстречу ей встал только я.
— Снимайте пальто, — сказала она Эми. — Теперь вы тридцать пять лет будете этим заниматься! — И она затряслась от рыданий.
Лонофф осторожно спускался с лестницы.
— Хоуп, хватит разыгрывать спектакль. Возьми себя в руки.
— Я ухожу, — сказала она ему.
— Никуда ты не уходишь. Поставь чемодан.
— Нет! Я уезжаю в Бостон. Но не беспокойся, она знает, где что. Она здесь уже практически как дома. Ни минуты драгоценного времени не будет потрачено впустую. Она может повесить свои вещи обратно в шкаф и начать навевать на тебя скуку, как только за мной закроется дверь. Ты даже разницы не заметишь.
Эми, не в силах больше смотреть на Хоуп, опустила голову, на что Хоуп тут же отреагировала:
— Ах, она, кажется, считает иначе! Ну, разумеется. Я видела, как она разглаживала каждый листок черновиков. Она думает, что при ней здесь будет царить искусство. О да, навечно! Пусть она попробует тебе угодить, Мэнни! Пусть она тридцать пять лет побудет фоном для твоих размышлений. Пусть она увидит, как благороден и отважен становишься ты к двадцать седьмому варианту. Пусть она готовит тебе замечательные блюда и зажигает за ужином свечи, пусть подготовит все, чтобы сделать тебя счастливым, а потом увидит, с каким каменным лицом ты вечером выходишь к столу. Сюрприз к ужину? Ах, милая девочка, как же иначе после неудачного дня работы. Это его нисколько не раздражает. Свечи в старых оловянных подсвечниках? Свечи после стольких-то лет? Как же это убого, думает он, как пошло — ни дать ни взять жалкое кафе былых времен. Да, пусть она дважды в день набирает горячую ванну для твоей бедной спины, а потом с ней неделю никто не будет разговаривать, уж тем более обнимать в постели. Спросишь его в кровати: «Что случилось, дорогой, в чем дело?» И ведь прекрасно знаешь, в чем дело, знаешь, почему он тебя не обнимет, почему даже не помнит, что ты тут. Пятидесятый вариант!
— Достаточно, — сказал Лонофф. — Довольно подробно, очень точно и достаточно.
— Разглаживать эти твои черновики! Она еще увидит! Да за два месяца 1935 года меня в час пик в метро больше погладили чужие люди, чем здесь за двадцать лет! Снимайте пальто, Эми, вы остаетесь. Все, о чем вы мечтали в школе, сбывается! Вы получаете творческую личность — а я ухожу!
— Она не остается, — снова мягко сказал Лонофф. — Остаешься ты.
— Еще на тридцать пять таких лет — нет!
— Ой, Хоули… — Он погладил ее по лицу, все еще мокрому от слез.
— Я еду в Бостон! Я еду в Европу! Поздно меня гладить! Я отправляюсь в кругосветное путешествие и сюда больше не вернусь! А вы, — она сверху вниз посмотрела на Эми, так и сидевшую в кресле, — вы никуда не поедете. И ничего не увидите. А если когда-нибудь отправитесь поужинать, если раз в полгода вы уговорите его пойти к кому-нибудь в гости, будет только хуже: за час до выхода из дома ваша жизнь превратится в кошмар — он будет ныть по поводу того, как это будет, когда эти люди начнут высказывать свои идеи. Если вы осмелитесь сменить мельницу для перца, он спросит, в чем дело, что было не так со старой? Ему нужно три месяца только для того, чтобы привыкнуть к новой марке мыла. Поменяешь мыло, а он ходит и морщит нос, будто на раковине в ванной лежит чей-то трупик, а не кусок «Палмолив». Ничего не трогать, ничего не менять, все должны соблюдать тишину, дети должны молчать, их друзей нельзя пускать раньше четырех… Вот, моя юная преемница, в чем суть его искусства — в отрицании жизни! Теперь вы будете той женщиной, с которой он не живет!
Эми поднялась из кресла, надела свою детскую шапочку с помпоном на веревочке. Глядя мимо Хоуп, сказала Лоноффу:
— Я поеду.
— Это я поеду! — крикнула Хоуп.
Мне Эми сказала:
— Я сейчас уезжаю — если хотите, подвезу до города.
— Это я сейчас уезжаю, — сказала ей Хоуп. — Снимите эту дурацкую шапку! Школа кончилась. Вам двадцать семь лет! Теперь это официально ваш дом.
— Нет, Хоуп, — сказала Эми и наконец расплакалась. — Это ваш дом.
В этот момент, капитулировав, она выглядела такой раздавленной и жалкой, что я подумал: ну конечно, вчера ночью она не впервые сидела у него на коленях, ну конечно, он и раньше видел ее раздетой. Они — любовники! Однако когда я попытался представить Э.И. Лоноффа без костюма лежащим на спине, а Эми обнаженной верхом на нем, у меня ничего не получилось, как не получилось бы у любого сына.
Думаю, я бы непременно потерял голову, если бы преподавал у таких красивых, талантливых и обворожительных девушек.
Значит, вам не следует этим заниматься.
О, отец, неужели это правда, ты был любовником этой жаждущей любви, преклоняющейся перед тобой бездомной дочери вдвое тебя моложе? Отлично понимая, что никогда не оставишь Хоуп? И ты тоже не устоял? Быть не может! Ты!
Близость? Близость у меня была.
Убедившись теперь, что это было не так, что ни у кого, ни у кого никогда на самом деле близости не было, я тем не менее упорно продолжал верить, что так оно и было.
— Делайте, как я говорю, — снова велела Хоуп Эми. — Оставайтесь и ухаживайте за ним. Он не может жить здесь один!
— Но я не буду один, — объяснил ей Лонофф. — Ты же знаешь, я не буду один. Достаточно, уже достаточно, и ради тебя же. Это все потому, что у нас были гости. Все потому, что в доме ночевал новый человек. Мы все вместе завтракали, ты переволновалась. Теперь все уезжают — и на тебя вдруг нашло. Ты почувствовала себя одинокой. Испугалась. Все всё понимают.
— Мэнни, послушай, это она ребенок, не надо со мной как с ребенком! Она здесь юная невеста…
Но прежде чем Хоуп описала ее во всех подробностях, Эми метнулась мимо нее и выскочила вон.
— Вот ведь сучка маленькая! — выкрикнула Хоуп.
— Хоуп, — сказал Лонофф, — не надо. Не заводи эту песню.
Но когда она, заливаясь слезами, выбежала с чемоданчиком из дома, он и с места не сдвинулся, чтобы ее остановить.
— Хотите, чтобы я… что-нибудь сделал? — спросил я.
— Нет, не стоит. Пусть все идет своим чередом.
— Хорошо.
— Успокойтесь, Натан. Мы все по одному постепенно успокоимся.
И тут мы услышали вскрик Хоуп.
Я кинулся вслед за ним к окну, ожидая увидеть кровь на снегу. Но нет, Хоуп сидела в сугробе в нескольких метрах от дома, а машина Эми медленно выезжала задом из гаража. Клубились выхлопные газы, а все остальное сверкало так, словно утром взошло не одно солнце, а два.
Хоуп смотрела, мы смотрели. Машина свернула на подъездную аллею. Затем выехала на дорогу и скрылась из виду.
— Миссис Лонофф упала.
— Вижу, — грустно сказал он.
Мы видели, как она с трудом поднялась на ноги. Лонофф постучал костяшками пальцев по замерзшему стеклу. Хоуп, не пожелав даже обернуться на дом, подняла валявшийся на дорожке чемоданчик и осторожными маленькими шагами засеменила к гаражу, где села в «форд» Лоноффа. Но когда она попыталась завести мотор, автомобиль только взвизгнул; она предпринимала все новые попытки, но раздавался только тот же отчаянный зимний звук.
— Аккумулятор, — объяснил он.
— Наверное, свечи залило.
Она снова попыталась завести мотор — с тем же результатом.
— Нет, это аккумулятор, — сказал он. — Целый месяц такое. Сколько ни заряжай, все без толку.
— Видимо, новый придется покупать, — сказал я, поскольку говорить он хотел об этом.
— Это ни к чему. Машина практически новая. На ней только в город ездят.
Мы еще подождали, и Хоуп наконец вылезла из машины.
— Очень кстати, что мотор не завелся, — сказал я.
— Может быть.
Он прошел в прихожую, распахнул входную дверь. Я продолжал наблюдать из окна.
— Хоуп! — позвал он. — Иди в дом. Хватит уже.
— Нет!
— Как же я буду жить один?
— Пусть с тобой этот мальчик поживет.
— Не говори ерунды. Мальчик уезжает. Иди в дом. Не то опять поскользнешься и ударишься. Родная моя, тут скользко и адски холодно…
— Я отправляюсь в Бостон.
— Как ты туда доберешься?
— Пешком пойду, если придется.
— Хоуп, сейчас семь градусов мороза. Иди сюда, согреешься, успокоишься. Выпьешь со мной чаю. А потом мы поговорим о переезде в Бостон.
Она обеими руками шмякнула чемоданчик на снег.
— Ох, Мэнни, ты же в Стокбридж не хочешь переезжать, потому что там улицы заасфальтированы, разве мне вытащить тебя в Бостон? Да и что в Бостоне изменится? Ты будешь ровно таким же, если не хуже. Как тебе в Бостоне сосредоточиться — там же толпы народу. Там еще не дай бог кто спросит тебя о твоей работе!
— Тогда, может, лучше остаться здесь?
— Да ты и здесь не в состоянии думать, если я просто жарю на кухне тосты — мне нужно выхватить тост до того, как он выскочит из тостера, чтобы не помешать тебе работать в кабинете!
— Ох, Хоули, — сказал он со смешком, — ты утрируешь. Следующие тридцать пять лет делай свои тосты спокойно, не думай обо мне.
— Не могу.
— Учись, — строго велел он.
— Нет!
Она подхватила чемоданчик, развернулась и зашагала по дорожке. Лонофф закрыл дверь. Я продолжал смотреть в окно — хотел убедиться, что она не упала. Снегоочиститель нагреб такие высоченные сугробы, что, свернув на основную дорогу, она тотчас скрылась из виду. Впрочем, она и росточка была маленького.
Лонофф в прихожей натягивал боты.
— Мне пойти с вами? Помочь? — спросил я.
— Нет-нет. После этого яйца мне нужна физическая нагрузка. — Он потопал ногами, чтобы не пришлось лишний раз наклоняться и поправлять боты. — Вам наверняка есть что записать. Бумага у меня на столе.
— Бумага для чего?
— Для ваших лихорадочных записей. — Он вытащил из шкафа огромное темное пальто с поясом, чем-то напоминавшее лапсердак, и я помог ему его надеть. Натянув на лысину темную шапку, он стал окончательно похож на главного раввина, архидьякона, сурового верховного жреца вечной скорби. Я протянул ему шарф, который выпал из рукава пальто. — Вы сегодня утром много чего наслушались.
— Не так уж и много, — пожал плечами я.
— Не так много, как вчера вечером?
— Вчера вечером?
Так он знает все то, что знаю я? Но что я, собственно, знаю, кроме того, что могу вообразить?
— Мне любопытно будет как-нибудь взглянуть, какими мы все получились. Может выйти занимательная история. Когда вы пишете, вы не такой милый и вежливый, — сказал он. — Вы другой человек.
— Правда?
— Хотелось бы надеяться. — И тут, словно в завершение ритуала моей конфирмации, он серьезно пожал мне руку. — На дороге она куда свернула? Налево?
— Да, вниз по холму.
Он нашарил в карманах перчатки и, взглянув на часы, распахнул дверь.
— Это все равно что жить в браке с Толстым, — сказал он и, оставив меня делать лихорадочные записи, отправился за своей сбежавшей супругой, которая уже пять минут как отправилась на поиски менее благородного призвания.
Коротко об авторе
В 1997 году Филип Рот получил Пулитцеровскую премию за роман «Американская пастораль». В 1998-м в Белом доме ему вручили Национальную медаль США в области искусств, а в 2002-м — высшую награду Американской академии искусств и литературы — Золотую медаль за выдающиеся достижения в области литературы. Этой медалью ранее были также награждены Джон Дос Пассос, Уильям Фолкнер и Сол Беллоу. Филип Рот дважды получал Национальную книжную премию, Премию ПЕН/Фолкнер и Национальную книжную премию общества критиков. В 2005 году за «Заговор против Америки» Филипу Роту была присуждена премия Общества американских историков «за выдающийся исторический роман на американскую тему 2003–2004» и премия У. Г. Смита за «Лучшую книгу года»; таким образом, Филип Рот стал первым писателем, получившим эту премию дважды за все сорок шесть лет ее существования.
В 2005 году Американская библиотека опубликовала полное академическое издание произведений Филипа Рота. Этой чести до Филипа Рота при жизни удостоились лишь два писателя.
В 2011 году в Белом доме Филипу Роту вручили Национальную гуманитарную медаль США, позже в том же году он стал четвертым писателем, получившим международную Букеровскую премию. В 2012-м он был удостоен высшей награды Испании — премии принца Астурийского, а в 2013 году высшей награды Франции — ордена Почетного легиона.
Филип Рот скончался 22 мая 2018 года в возрасте восьмидесяти пяти лет в Нью-Йорке.