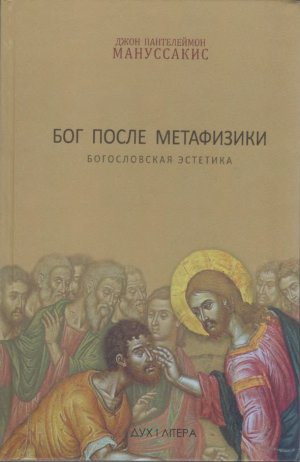
Люди услышали, что таинственный Создатель посетил этот мир; что совсем недавно на самом деле по миру ходил Тот, о Ком гадали мыслители и сплетничали мифотворцы; Человек, который создал мир. Все великие мыслители и все прекрасные легенды всегда предполагали, что за пределами всего должен существовать Некто высший; но этого никто из них предположить не мог… Самые великие пророки называли себя Его глашатаями. Самые великие мистики говорили, что видели Его отблеск, а чаще — отблеск других, низших существ. Самые глубокие мифы сообщали, что Творец присутствует в Творении. Но никто и помыслить не мог о том, что Творец ходит в гости, беседует с мелкими чиновниками, участвует в будничной жизни Римской империи и уж тем более что в это будет верить не одну тысячу лет великая цивилизация. Ничего более дикого человек не сказал с тех пор, как произнес первое слово… Это разносит в пух и прах всякий сравнительный анализ религий.
Г. К. Честертон, Вечный человек[1]
Благодарность
Ядро этой книги возникло в результате моих исследований и работы над докторской диссертацией по философии в Бостонском Колледже (2001–2005). В это время плодоношения немалую пользу моему труду принесло научное руководство Ричарда Керни, сотрудника кафедры философии им. Чарльза Б. Силига, который с отеческой заботой и непрестанным поощрением наблюдал за каждым моим шагом на этом пути. Профессор Жан–Люк Марион одарил эту работу немалым числом прозрений, несущих неизгладимый след его гения, но главное, за что я признателен ему, — это за дар его дружбы. Я благодарен, что он многажды вычитывал мой текст от первых набросков до завершенного вида и знакомил меня с различными философскими системами, которые оказали огромное влияние на мою мысль; среди них я должен особо упомянуть Ганса Урса фон Бальтазара. Я также признателен о. Гэри М. Гертлеру за многочасовые беседы; без его совета многие недостатки моей книги были бы гораздо более очевидны. Моему первому наставнику в Академии и другу в дальнейшей жизни, Николасу Констасу, я обязан более чем можно выразить словами. На протяжении последних лет в Бостонском колледже я многому научился у своих преподавателей, но также и у своих студентов, многие из которых, уверен, даже не подозревают об их вкладе в мой труд. Среди этих людей — список которых был бы слишком длинным — я хотел бы особо поблагодарить Кристофера Мюррея за его неожиданные инсайты, порой слишком таинственные для меня.
Я также хочу выразить признательность Диссертационному обществу Шарлотты В. Ньюкомб за предоставленную ими поддержку (2004); помимо чести получить столь престижную стипендию, эта щедрая помощь обеспечила мне год безраздельного погружения В' исследования. Благодарю Мерольда Вестфала и Кевина Харта за чтение моей рукописи и за. ряд полезных советов, а также моего спонсора и издателя; Ди Мортенсен, за ее неизменное внимание к этому проекту. Накбнец, хочу сказать спасибо д–ру Джорджу Пелайо, без незаменимой, помощи и дружбы которого все это было бы невозможно.
Non intratur in veritatem, nisi per charitatem.
Вознесение 2006
Предисловие к киевскому изданию
Небольшое рассуждение о языке, предлагаемое читателю в четвертой и пятой главах этой книги, не могло исчерпать всей сложности этого феномена. Как и все человеческое, язык разделяет нас и объединяет; порой он следует путем оружия, порой прокладывает пути мира. В царстве Александра Великого язык преуспел в «завоевании» народов империи даже больше, чем армия. Однако это был тот же самый язык, который приготовил путь Царствию Божьему: ведь Священное Писание, переведенное на эту общую лингвистическую валюту, стало доступно множеству различных народов. Диалог между Вавилонской башней и горницей Пятидесятницы продолжает разворачиваться в истории, и труд переводчика расположен в самом центре этих дебатов, где недоверие соседствует с обращением.
Как сможет убедиться читатель, настоящее исследование с самого начала создавалось как труд перевода, призванный привести современную континентальную философию, и прежде всего феноменологию, в диалог с православным богословием. Я прекрасно понимаю, что в эту беседу я вступаю не первым, и я не надеюсь сказать в ней последнее слово. Если я взял на себя обязанность перевести идиоматику одного языка на другой — как уж смог, — то это обусловлено очень личным причинами: дело в том, что мне самому так было легче понять и философию, которой меня учили, и веру, которую я исповедую.
Издательство «Дух и литера» и конференции «Успенские чтения», которые оно ежегодно организует, занимаются тем же служением, знакомя традиционно православную аудиторию с ключевыми текстами и авторами современной западной интеллектуальной традиции. Поэтому перевод на язык, имеющий столь богатую литературную традицию, как русский, не мог бы найти лучшего дома, чем это издательство, которому я выражаю сердечную благодарность — особенно проф. Константину Сигову, проф. Юрию Черноморцу, Ирине Пастернак и моей переводчице Дарье Морозовой.
Русский — для меня иностранный язык, а видеть свой труд на чужом языке — это хорошее напоминание, что «наш» труд, на который мы привычно распространяем права обладания, на самом деле нам не принадлежит. Этот опыт отчуждения, напоминающий явления вроде эмиграции, плена или изгнания, вновь возвращает нас к двойственности языка. Мы ли говорим нашим языком, или язык говорит нами?
К этим кратким комментариям мне хочется добавить еще одно замечание личного характера: сказанное только что о языке можно приложить и к нашим именам — ведь каждый из нас зовется своим именем, но также можно сказать, что каждый из нас призван к своему имени. В конечном счете, это даже трудно назвать «своим» именем, ведь многие из нас названы в честь других людей. Имя, данное мне родителями, — Джон (Яннис) — принадлежало святому, который родился в Киеве, воевал в Русско–Турецкой войне 1710 г., был взят в плен и прожил остаток своих дней в чужой земле и чужой языковой среде. Даже теперь, через много лет после смерти, его нетленное тело покоится на чужом для него, но родном для меня острове Эвбея, где он широко известен как св. Иоанн Русский. Этот перевод я хотел бы посвятить ему и его памяти.
Дж. П. М. Бостон, 22 августа 2014
Список сокращений
Ad Theo = Григорий Нисский, Ad Tlteophilum, GNO III
An et res = Григорий Нисский, DeAnima et resurrectione, PG46
Cant Григорий Нисский, In canticum canticorum, GNO VI
СЕ = Григорий Нисский,
Contra Eunomium libri IV, GNO I и II
CH = Дионисий Ареопагит,
De Coelesti Hierarchia// Corpus
Dionysiacum II, ed. Gunter Heil and Adolf Martin Ritter (Berlin: Walter de Gruyter, 1991)
DN = Дионисий Ареопагит,
De Divinis Nominibus// Corpus
Dionysiacum I, ed. Beater Regina Suchla (Berlin: Walter de Gruyter, 1990)
Hex. = Григорий Нисский, Apologia in Hexaemeron, GNO IV 1
GNO = Werner W Jaeger et al., Gregorii Nysseni Opera (Leiden: Brill, 1960- 1996)
Inscr = Григорий Нисский,
In inscriptions Psalmorum, GNO V
PG = J. P. Migne, Patrologia Cursus Completus,
Series Graeca (Paris: 18571866)
SanctPasch = Григорий Нисский, In sanctum Pascha, GNO IX
Trid spat = Григорий Нисский, De tridui… spatio, GNO IX
Введение
Ключевой вопрос этой книги — «Как возможно мыс лить Бога после метафизики?». Однако здесь я должен сразу сделать оговорку: «после» здесь не обязательно означает «вопреки» или «без». Слово «after» — «после» или «по» — я использую в следующих значениях: (а) в смысле последовательности (post) — логической, хронологической или иной, (б) в смысле следования (secundum), как мы говорим, что полотно написано по картине Рубенса, и (в) в смысле преследования (petitio), — как в выражениях «going after» или «being after» — поиска, но также и требования. Это означает, что то мышление о Боге, которого мы ищем здесь, одновременно должно следовать метафизической традиции (secundum) и все же быть иным по отношению к ней (post). Этого можно достичь, только предъявляя претензии (petitio) к привычному концептуальному аппарату атрибутов Божественного — таких как бытие, вездесущие, всемогущество, всеведение, актуальность и вечность. При этом я не собираюсь заменять старые метафизические категории какимилибо новыми, возможно, свежеиспеченными в рамках метафизики или за ее пределами. Что меня интересует, так это определенные топосы в истории философии, понятия или парадигмы, которым обычно не уделяют должного внимания, не замечая их или забывая о них. Такая топология приведет нас к мышлению о Боге личностном, а не концептуальном; о Боге, соотносящемся[2] с нами через икону и просопон[3]; о Боге, пребывающем в темпоральности кайрос[4] и внезапно являющем Себя в момент эксайфнес[5] (часть 1). О Боге, познаваемом скорее доксологическим языком хвалы и музыкой песнословий, чем систематическим логосом и теологией (часть 2). Наконец, о Боге, Который прикасается к нам и скандально приглашает нас прикасаться к Нему, — и в этом перекресте прикосновения открывается совершенно новое измерение познания, в свете которого бессильно блекнет пропасть субъект–объектного дуализма, разрыв между Собой и Другим.
Следует также подчеркнуть, что термин «эстетика», который фигурирует в нашем подзаголовке и в тексте, не имеет ничего общего с прекрасным, как его рассматривает отрасль философии, изучающая понятие красоты и прекрасного в искусстве (основанная в конце XVIII века Александром Готлибом Баумгартеном). Мы используем это слово в изначальном смысле греческого глагола айстаномаи[6] воспринимать посредством чувств. Именно в таком значении данный термин употребляется, например, Кантом в его первой Критике. В самом начале раздела Критики чистого разума, озаглавленного «Трансцендентальная эстетика», Кант определяет «эстетику» как «чувственность», т. е. «способность (восприимчивость) получать представления тем способом, каким предметы воздействуют на нас» (А191). Таким об разом, следуя определению Канта, мы могли бы описать богословскую эстетику именно как ту сферу, которая исключается из «трансцендентальной эстетики» Канта: сферу, которая рассматривала бы Бога как возможный «объект» опыта (В73). Это сфера, которая изучала бы возможность данности Бога; если угодно, «интуицию» Бога — будь то максималистичную или минималистичную — интуицию, которую не надо автоматически отождествлять с пониманием как производством концепций. Скорее речь идет об уходе от всяких концептов, сформированных пониманием, и о перемещении наших отношений с Богом в область способности восприятия — способности наших чувств. Итак, представленная здесь богословская эстетика чает вернуть Бога человеческой плоти. И только таким путем — путем новых актуа лизаций события воплощения (возможных благодаря историческому Воплощению) — мы сможем дать ответ на провокативную аксиому Канта, что «интуиции без концептов слепы» (А51/ В75). (Именно поэтому в первой части данного труда будет обсуждаться слепое зрение).
Впрочем, именно восхищение прекрасным, или, как это понимали греки[7], зов (калео) прекрасного (то калон), оказывается тем первым шагом, на который мы можем ответить в категориях чувственности и восприятия, в категориях эстетики. Этот двойственный принцип эстетики — как чувственного восприятия и как привлекательности, которой чувственное побуждает нас его воспринимать, — составляет теоретический стержень книги Ханса Урса фон Бальтазара Слава Господа[8], в подзаголовке которой значится: Богословская эстетика. Как дань уважения к мысли Бальтазара и как признание своего долга перед ним, я решил снабдить и свой труд тем же самым подзаголовком.
«Эстетика, — писал Хайдеггер в Происхождении произведения искусства, — рассматривала произведение искусства как объект — объект эстезиса, чувственного восприятия в широком смысле. Сегодня такое восприятие называют „опытом“»[9]. Однако, это понимание прекрасного как «объекта» эстетического опыта, и — более того — сама концепция такого эстетического опыта, привела к смерти искусства. Ведь, как пишет Хайдеггер, «опыт — это та стихия, в которой искусство умирает». В этой оценке Хайдеггер опирается на Гегеля, провозгласившего искусство «отошедшим в прошлое»[10]. Не была ли эта смерть искусства необходимым условием его объ ективации и последующего возведения в ранг «науки», а именно эстетики? Иначе говоря, чтобы стать предметом науки, искусство должно было превратиться в объект.
К летальному исходу искусства приводит, несомненно, забвение прекрасного, — точнее, наша «глухота» к зову прекрасного (то калон). В другой книге, где Хай деггер также обсуждает искусство, он пишет:
Как только человека, взирающего на бытие, это бытие захватывает, он возносится над собой, как бы простирается между собой и бытием и оказывается вне себя. Эта превознесенность-над–собой и унесенность–от–себя (Uber‑sichhinweg‑gehoben), а также привлеченность самим бытием (Angezogenwerden) есть эрос. Лишь в той мере, в какой бытие раскрывает человеку свою «эротическую» мощь, он может думать о самом бытии и преодолевать его забвение[11].
Этот отрывок примечателен тем, что Хайдеггер, как кажется, приписывает здесь Бытию эротичность. Но если это действительно так, как это возможно, чтобы человек испытывал эротическое притяжение к Бытию? Хайдеггер заимствует ответ из Платонова Федра, связывая Бытие с прекрасным. «Итак, именно прекрасное вырывает нас из забвения бытия и не дает угаснуть нашему взору, обращенному к бытию»[12]. Красота — наи более зрима (то экфанестатон), а потому наиболее привлекательна (то эрасмиотатон) (Федр, 250d). Этот двойственный признак приводит человека в экстаз (совершенно буквально: эк–стасис, «ис–ступление»), описанный Хайдеггером здесь. Без эротического исступления невозможно было бы созерцать явление прекрасного (впрочем, пожалуй, только «прекрасного» как эстетического объекта), — и обратно: без восприятия человек никогда не отступился бы от самого себя, восхищенный прекрасным.
По контрасту с опытом «эстетики» (в смысле науки об опыте объекта искусства), я намерен говорить об этом двойственном характере эстезиса (как экстасиса, дающего место проявлению, и проявления, приводящего к экстасису). Это потребует разработки новой парадигмы, противоположной парадигме опыта, а имен но парадигме контропыта[13] (особенно в богословской эстетике, которой мы занимаемся тут, поскольку Бог ни когда не может дать Себя нам в качестве объекта нашего опыта). Если в структуре художественного опыта мы видим пережитки платонизма, то в эстетическом контропыте мы встречаемся с антиномичностью Воплощения. В самом деле, опрокидывание платонизма, которой так рьяно добивался Ницше, была достигнута только Христианством[14]. Если суть платонизма — в иерархии, возводящей чувственное к сверхчувственному (как бледный отпечаток — к первообразу), то христология Халкидона — не что иное, как удар по этой системе. Воплощение не просто переворачивает всю платоническую схему, помещая чувственное «вверху», а сверх чувственное — «внизу» (как поступают сегодня многие философы–имманентисты), или отбрасывает сверх чувственное ради чувственного, — такие инверсии оставили бы платонизм неприкосновенным, сохраняя само иерархическое соотношение «низа» и «верха»[15]. Христианство идет дальше: когда Павел утверждает, что Христос— образ Бога невидимого (Кол. 1:15), он вовсе не возвращается к платонической модели видимого об раза, отображающего невидимый оригинал (Идею). То, что говорит Павел, куда более радикально — он заявляет, что без образа оригинал невозможен, как без Сына нет Отца. Он говорит, что Отец избрал явить Себя в Сыне, с Которым Он един. Причем, чтобы оценить значение этого тезиса для философии, не обязательно даже при нимать его вероучительный смысл[16].
очами, что рассматривали и что осязали руки наши. Соответственно, я решил разделить книгу на три части, по количеству упомянутых Иоанном чувств: зрение, слух, осязание. Далее, оставалось решить, из скольких глав должны составляться эти части. В философии существует традиция в отношении каждого чувства различать чувствующее, чувствуемое и «посредник» чувствования (например, в случае зрения, глаз — это чувствующее, видимый мир — чувствуемое, а видимость — это «по средник» чувства). Обыгрывая эту традицию, я разделил каждую часть на главы по количеству составляющих того чувства, которое она представляет: три для зрения (часть 1), три для слуха (часть 2), но только два для осязания (часть 3), поскольку это единственное чувство, которое вовсе не требует никаких «посредников», и, более того, выражается как раз в преодолении всякого опосредования между осязающим и осязаемым.
Когда я уже пришел к этой структуре, разработал не кий скелет, который оставалось лишь облачить в плоть и кровь, путешествие в Мадрид снабдило меня послед ним ключом. При посещении музея Прадо мне довелось оказаться в так называемой «комнате пяти чувств». Таким образом аллегорические полотна Брейгеля очутились в предисловиях к каждой из частей этой книги. Из этих картин я почерпнул для себя немало нового — в том числе, об аллегории и анагогии, — но, главное, они научили меня, как то, что не может быть показано, становится видимым, будучи спрятанным на самом видном месте. Так в Брейгеле я узнал своего предшественника в области богословской эстетики: то, чего он добился в живописи, мы в настоящей книге стремимся достичь в философии.
Из сказанного уже должно быть ясно, что двумя главными ресурсами, из которых черпает наше обсужде ние, являются феноменология и герменевтика. Три ключевые структуры нашего исследования — зрение, слух и осязание — функционируют как различные горизонты, в которых феномен Бога может быть дан соответственно (или не соответственно) интенциям и интуициям как действиям сознания. Во всяком случае, в своих основных чертах мой анализ остается верен феноменологии, и даже там, где я пытаюсь преодолеть ее ограничения, я продолжаю пользоваться категориальным аппаратом Гуссерля и его последователей.
В то же время я позволяю себе обращаться и к Писаниям, которые будут часто приводиться и обсуждаться на этих страницах, — не столько как к воплощению догматических истин, сколько как к текстам, которые в нашей традиции постоянно формируют понятия и идеи о Боге. Святое Писание, более нежели какой‑либо иной текст, призывает к герменевтическим усилиям, о чем недвусмысленно свидетельствует долгая традиция экзегетических комментариев и толкований, к которой я здесь присоединяюсь.
Вопреки всем этим оговоркам, прилагательное «богословская» в нашем подзаголовке все‑таки является необходимым. Ведь речь идет, в конце концов, о Боге; не о религиозном феномене, не о религии в целом, — а о Самом Боге. Это никого не обязывает классифицировать мое исследование в качестве «теологии» (как особой научной дисциплины). Бог — никоим образом не монопольная собственность теологии. Начиная с первой философии Аристотеля, если не раньше, Бог также оста ется понятием — причем центральным — философского мышления. Тот факт, что Бог занимает столь важное место в метафизическом мышлении, невозможно прос то списать на «похищение» метафизики христианской Церковью, как поспешно заявляют многие. Согласно Хайдеггеру, это было изначально заложено в метафизике как таковой: «Теологический характер онтологии заключается поэтому не в том, что греческая метафизика позднее была воспринята церковным богословием христианства и им преобразована. Он заключается скорее в том способе, каким от раннего начала бытие как бытие вышло из потаенности»[17]. Именно это первоначальное откровение сущих в эпохальной истории Бытия и заставляет нас сегодня осмысливать и переосмысливать Бога после метафизики через призму эстезиса.
Иными словами, наше предприятие состоит в по пытке освободить Бога от навязанной Ему метафизикой трансцендентности (эпекина), учась распознавать образы Его прикосновения к нашей имманентности (энтафта) — то есть концентрируясь на Воплощении. На что‑то подобное, как мне кажется, намекает Хайдеггерово чтение анекдота, пересказанного Аристотелем, о том, как некие чужестранцы, пришедшие в гости к Гераклиту, обнаружили великого мыслителя греющимся у очага. Найдя его в столь обыденной обстановке, они разочарованы и растеряны; Гераклит, как сообщают, приветствовал их словами: «Здесь ведь тоже присутствуют боги!». От себя Хайдеггер заключает:
Και ενταύθα, «здесь тоже», у духовки, в этом обыденном месте, где каждая вещь и каждое обстоятельство, любой поступок и помысел знакомы и примелькались, т. е. обычны, «здесь ведь тоже», в среде обычного, είναι θεούς — дело обстоит так, что «боги присутствуют»[18].
Часть первая. Зрение
Что было от начала… видели своими очами
1 Ин: 1
«Ключ» к чтению трех аллегорических полотен Брейгеля таится неизменно в картине, изображенной на каждом из них. Чтобы расшифровать их значение, зритель должен изучить эти «привилегированные» картины, «спрятанные» в сюжетах Брейгеля. В общем, это касается и всякой аллегории: она всегда приглашает прочитать (и понять) ее в своих собственных категориях — скажем так, изнутри, а не извне. К примеру, «разгадку» аллегорического текста следует искать в нем самом. В картинах Брейгеля, художник (или точнее, само полотно) представляет как загадку, так и ее разгадку. Ключ к головоломке — в ней самой, спрятан на самом видном месте. В первом полотне, которое я решил здесь представить — Зрение — все кажется очевидным. Живопись, сама принадлежащая к визуальным искусствам, не могла не принести дань взгляду. Итак, на первый взгляд, нет ничего удивительного, что полотно, посвященное живописи, содержит в себе другие полотна (также как статуи и бюсты, представляющие скульптуру, телескопы и секстанты, представляющие астрономию, геометрические фигуры и приборы, одним словом, все, обращенное к зрению).
Однако, одна картина (Картина Б) занимает в композиции Брейгеля совершенно особое место. Похоже, это именно то полотно, к которому художник стремится привлечь наше внимание, — однако не делает этого сам (что было бы несколько бестактно), а доверяет это одному из своих персонажей — маленькому крылатому Эроту, представляющего картину вниманию Афродиты.
О чем же эта картина? При ближайшем рассмотрении становится понятно, что она изображает известный евангельский сюжет о чудесном исцелении слепого. Уместно, ничего не скажешь. В самом центре аллегории зрения созерцающему взору Афродиты (и нашему) предстает слепой. Именно в этом штрихе выражается гений Брейгеля. В картине, которая просто завалена объектами зрения, которая бесконечно играет с самими условиями видимости (отдаленный пейзаж, раскрывающийся за одной из дверей, интерьер самой комнаты, представленный в искусном перспективном сокращении), в этом пространстве, которое заключает в себе, замещает собою и исчерпывает все, что связано со зрением, живописец поместил в самом центре пронзительное напоминание об ограничениях зрения: слепоту.
Попробуем разобраться в этом запутанном обмене взглядами. Полотно разворачивается перед глазами зрителя, предлагая нам все, что только может увидеть око. Главный персонаж полотна, Афродита, не удостаивает взгляда ни рассматривающего ее зрителя, ни прочие окружающие ее предметы, кроме одного из них: картины о том, кто ничего не видит. Простая редукция: от многого к единому, от единого — к ничто. Однако, поскольку картина в картине посвящена исцелению слепого, его глаза впервые отверзаются и его взгляд встречает Единого — благодаря Которому он теперь может видеть. В этом смысле, слепой (и прозревший) составляет определенную симметрию с Афродитой, которая также «слепа» ко всему окружающему, кроме картины, которую показывает ей Эрот. Точно посреди между видением слепого и «слепотой» Афродиты располагается та линия, которая делит композицию Брейгеля на две половины. Именно здесь проходит ось инверсии, где зрение слепнет, а слепота прозревает. Это и есть «слепое пятно» (punctum caecum) картины, нулевая точка зрения, в которой картина как бы схлопывается и из которой она разворачивается вновь. Отношение между двумя картинами можно изобразить схематически:
| Картина А | ---------------------------> | Картина Б | |||
| Многое-> | Единое-> | Ничто | Ничто-> | Единое-> | Многое |
Глядя на полотно Брейгеля, мы осознаем, что наш взгляд постоянно воспроизводит и повторяет один и тот же путь: от многого (полнота предметов, представленных на картине) к одному особому полотну, к которому нас привлекает взгляд Афродиты. Далее утрата зрения слепым приглашает нас пережить опыт слепоты, чтобы наши глаза могли раскрыться вновь в момент исцеления, к Единому и Единым, в Котором нам вновь дается многое (множественные возможности видения мира). И последний вопрос, прежде чем мы покинем аллегорию Брейгеля: почему Афродита и Эрот? На какие мысли нас должен наводить этот выбор персонажей?
Я уже говорил о своего рода редукции или же анагогии, ведущей нас от многого к единому, — о движении, параллельном лестнице красоты (скала каллонис), описанной Платоном в Пире. Подобно Платоновому влюбленному, зритель картин Брейгеля возводится от множества прекрасных вещей, посредством эротического восхождения, к самой Идее Прекрасного (персонифицированной здесь в образе Афродиты). Однако Брейгель идет еще на шаг далее Платона, дополняя эротическое восхождение (от многого к единому) его контрапунктом— кенотическим нисхождением Влюбленного, Который в мир пришел (от единого ко многому).
На первом уровне (Картина А), мы управляем своим взглядом (как зрители, т.е. привилегированные субъекты картины); на втором уровне (картина Б), взгляд уже дается нам как дар, через слепое зрение, и здесь мы открываем себя по ту сторону видимости — уже не как видящие, а как видимые. Это и есть то зрение, которое я хочу обсудить в следующих трех главах.
Глава 1. Метафизический перекрест
Den ihr verehret, Werdet ihr schauen.
И. В. Гете, Фауст II, Акт V (11,932-11,933)
Область, в которой философское мышление подвергается наибольшему риску утратить себя (но также и получает наибольший шанс себя вернуть), — это область вопрощаций о Боге, Мысль о Боге это par excellence то, что не принадлежит мысли[19]: «идея» Бога выходит за горизонт мышления и исчерпывает возможности мысли. Тем не менее, мысль о Боге, как вопрос и проблема философии, всегда выдвигается в рамках философского мышления, представляя ему постоянный вызов.
Мысль о Боге: что наводит на эту мысль, если не само мышление? В истории философии довольно примеров, когда фраза «мысль о Боге»[20] [21] понималась исключительно как моя мысль о Боге; в таком случае Бог оказывался не более чем объектом этой мысли. В самом деле, объективация Бога — это симптом неспособности метафизики помыслить Бога именно как возможную невозможность мысли, как ту крайнюю точку, где мысли приходится «прыгнуть выше головы».
В некотором смысле, для метафизики, Бог (т.е. идея Бога) всегда является в пределах разума; конечно, «является» — не совсем подходящее слово, ведь «в пределах разума» ничего по-настоящему не является. При чтении того, что философам приходится говорить о Боге, нередко возникает впечатление, что философия (или, по крайней мере, та традиция, которую Хайдеггер критиковал как «онто-теологию») верит лишь в человека, создающего Бога «по своему образу и подобию» (Быт. 1:27). В какой-то степени это впечатление оправдано; как мы убедимся далее (в гл. 5), св. Григорий Нисский относился к нашим представлениям о Боге с осторожностью, поскольку все, постигаемое о Боге нашим интеллектом, — наше, а не Божье. Ведь, заметим, даже Откровение Сына Божьего было явлено «под покровом» плоти — т.е. того, что наше. Поэтому Бернард Клервосский пишет: «то, что мы в Нем видим, — наше, но то, что мы от Него слышим, — Его» (Толкования на Песнь песней, XXVIII, 3). Итак, задача видения — это задача рассуждения (diacritical): наше зрение должно научиться различать в Нем то, что не наше.
Эта «мысль о Боге» — не более чем замаскированная мысль человека о себе самом. Это мысль, обреченная, согласно Аристотелю, мыслить себя самое. Однако можно ли дерзнуть вообразить мышление, которое не содержало бы мысль о Боге, а предстояло бы Ему «лицом к лицу»? Можно ли вообразить случай, когда Бог не размещался бы в пределах разума, а являлся ему? Явление, в котором сознание обнаружило бы себя удивленным Тем, Кто внезапно (έξαίφνης) явился ему? Иными словами, можно ли помыслить феномен Бога? На что может быть похож такой феномен и как он может быть дан сознанию? Может ли вообще Я пережить опыт Бога.[22]
Такой опыт должен был бы удовлетворять двум разным — и антитетическим — предпосылкам. Согласно первой, опыт Бога возможен лишь в том случае, если Бог будет воспринят моими чувствами (ведь omnis cognitio incipit а sensu [всякое познание начинается с чувства]). Вторая предпосылка, однако, исключает возможность, постулируемую первой: всякий опыт Бога, ощущаемый моими чувствами, всякий феномен, оказавшийся во власти моего разума, уже стал моим, а значит, уже не есть Бог, — мне остается лишь идол[23]. С феноменологической точки зрения, напряжение между этими двумя предпосылками выражено в знаменитом «принципе всех принципов» Гуссерля:
Каждое созерцание, которое дает себя изначально, должно быть нормативным источником познания, и все, что изначально предлагается нам в интуиции (так сказать, в живой действительности), надлежит просто воспринимать так, как оно себя дает, но и только в тех рамках, в которых оно себя здесь (da) дает[24].
Этот принцип сочетает два одновременных жеста, которые следует оценивать в Халкидонской перспективе, — нераздельно, но также и неслиянно. Первый — это вопрос о возможности феномена; все, что угодно, само по себе имеет право представать моему сознанию, и само это представание (presenting) есть «достаточное основание», чтобы принимать феномены как таковые. Другой жест, параллельный первому и делающий его возможным, это вопрос о феномене возможности как таковой; «достаточное основание» („sufficient reason“), чтобы нечто явилось и его явление стало возможным, само возможно лишь в «сфере разума» („zone of reason“), в рамках которой должен явиться каждый феномен, чтобы стать таковым. «Вопрос о возможности феномена, — пишет Марион, — предполагает вопрос о феномене возможности» (Насыщенный феномен, Р. 103). В своем «принципе всех принципов» Гуссерль афористически заявляет, (1) что феномен не может явиться, если интенция не получает никакой интуиции, но также (2) что при отсутствии интенции, которая могла бы воспринять интуицию, нет феномена какой бы то ни было возможности явления. Одно основывается на другом.
Это представляется краеугольным камнем той проблемы, которая радикализовалась при т.н. «богословском повороте» феноменологии. Прежде казалось осмысленным мнение, что все являемое должно «обращаться» к моему интенциональному горизонту, а значит, получать основание в конституирующем Я. Однако, как становится понятно вскоре, такое основание (какого бы то ни было явления — объекта, понятия и даже другого человека) означает, что все феномены рассматриваются конституирующим Я в некоторой симметрии с его собственной самостью, и, более того, эта симметрия предполагает своего рода присвоение. Таким образом, мир оказывается неким собственным театром сознания — непререкаемого режиссера и одновременно эксклюзивного зр„ителя этого спектакля. Гуссерль ясно осознавал возникающее в этом пункте «серьезное возражение»: как он пишет в Пятом картезианском размышлении, рассуждающее Я может выродиться просто в solus ipse [«только сам»][25]. В понятой таким образом самотождественности (ipseity) Я, где царствует самоидентичное и аутичное Я, нет места для Другого. Другой претерпевает несправедливость и насилие; а если Другой оказывается, в данном случае, совсем Другим, Другим par excellence, все становится еще сложнее. Обосновать безосновательное и ограничить неограниченное, свести бесконечное к конечным измерениям.— как еще может быть описан этот парадокс? Чтобы Бог оставался Богом (совсем Другим, tout autre, как это обозначает Деррида), а не сводился к идолу, воздвигнутому моим восприятием и воображением, Он вынужден уклоняться от явления вообще, вынужден оберегать Свою отчужденность, так сказать, высоту высот, которую так часто приписывает Ему Левинас, или, как другие описывают это, Свое «право отказаться от явления, право сохранять трансцендентность, утверждая Свою идентичность»[26]. Итак, возможность религиозного феномена, возможность явления Бога, становится невозможной, и Сам Бог оказывается этой невозможностью (the impossible). Всё остальное означало бы усилие свести инаковость Другого к тождественности того же самого.
Однако именно эту стратегию избирает Гуссерль, чтобы показать, как трансцендентальная феноменология может избежать вырождения в трансцендентальный солипсизм! Редукция к собстенной сфере (ownness) — трудно себе представить более дерзкий й непредсказуемый ход. Его хорошо прокомментировал Поль Рикер, говоря:
Смысл «Другого» основывается на смысле «себя», ведь чтобы понять «Другого» и «мир Другого», необходимо прежде понять «себя» и «свое». «Чужое» (etranger) может существовать лишь потому, что существует «свое» (propre), и не наоборот[27].
На мой взгляд, в этом комментарии Рикера акцент следует ставить не просто на приоритете «собственной сферы» („ownness“) перед всяким «инаковым», а скорее на гораздо более важной зависимости последнего от первого, зависимости все более необратимой. Наличие Другого прямо обусловлено его представанием «мне» — явление Другого требует дательного падежа. Применительно к вопросу о возможности феномена Бога эта зависимость означает, просто говоря, что если Богу вообще дано явиться, то это может быть только благодаря мне. Бог как предельный религиозный феномен, нуждается в человеческом существе как той единственной точке, где есть место Богу. Таким образом, каждое человеческое существо рассматривается как священный топос Божественной эпифании.
Я понимаю, что такого рода заявление кому-то может показаться слишком рискованным и требует разъяснений. Нам придется вернуться к началу нити наших рассуждений, чтобы переформулировать поставленный вопрос в рамках феноменологической методологии.
Возможность как таковая, для Гуссерля, существенно обусловлена воображением. Возможность возможного явления в рамках интенционального горизонта моего сознания определяется модальностью «как бы»[28]: то есть границы возможности совпадают с границами воображения субъекта. Такой вывод означал бы, что все, не входящее даже в самые отдаленные пределы моего воображения, следует рассматривать как невозможное. Итак, невозможное в принципе имеет нулевые шансы явиться мне, поскольку оно не может иметь оснований в моем опыте — актуальном или воображаемом, а значит, должно быть исключено из феноменологии в собственном смысле. В таком случае, невозможное есть не-феномен, неявляемое (а-фантон).
Здесь и локализуется проблематика феноменальности Бога. В случае Бога, возможность Его явления определяется границами горизонта (а «горизонт» и означает границу); и этот горизонт — всегда мой, это горизонт Я, создающего значения. Все, что выпадает из этого горизонта, не просто невообразимо и невозможно, но и бессмысленно (meaningless). Убеждение, что вне этого горизонта ничто не может являться, — или, иными словами, что если бы нечто и явилось, это было бы «ничто для меня» (Критика чистого разума, В132),— отображает Кантово рассечение реальности на феномены и ноумены. Однако эта проблема рассматривается иначе Плотином в знаменитом пассаже Эннеад: «И глазу нашему приходится ждать, пока солнце не взойдет и не явит себя. Из-за какого же горизонта восходит Тот, кому наше солнце есть лишь некоторое подобие? На какой высоте, выше чего Он является? Конечно, Он выше даже ума созерцающего» (V, 5, 8: 6-10[29]). Здесь сам горизонт сознания предстает потрясенным и превзойденным (тема, глубоко созвучная избыточному феномену Мариона) тем явлением, которое всегда сопряжено с потрясением и преодолением. Ведь когда «Он» приходит,— настаивает Плотин,— «Он просто является, ниоткуда не придя» (V, 5, 8: 15), так что созерцающий Его ум может лишь, «не видя ничего, узреть нечто» (V, 5, 7: 29).
Тем не менее, чтобы явление Бога было зафиксировано мною как опыт, я должен каким-то образом Его «увидеть». Я должен «увидеть» Его либо посредством физических чувств, либо в свободной игре воображения. Почему? Потому что только этими дргими путями Другой — в т.ч. совсем Другой — может явиться мне. Возвращаясь к моему чтению Пятого картезианского размышления, редукция к «собственной сфере» (первый шаг Гуссерля к «открытию» сознания присутствию и опыту Другого) воплощается— несколькими страницами ниже — в моем теле:
Если мы теперь допустим, что в область нашего восприятия вступает другой человек, то в первопорядковой редукции это означает, что в области восприятия моей первопорядковой природы появляется некое тело, которое, как тело первого порядка, естественно, составляет лишь определенную часть меня самого (имманентную трансцендентность). Поскольку в этой природе и в этом мире мое живое тело является единственным телом, которое конституировано и может быть конституировано изначально как живое тело (функционирующий орган), тело, находящееся там, которое тем не менее воспринимается как живое, должно получить этот смысл от моего живого тела в результате апперцептивного перенесения С самого начала ясно, что только подобие, благодаря которому внутри моей первопорядковой сферы тело, находящееся там, связывается с моим телом, может служить основанием для мотивации восприятия по аналогии> при котором это тело воспринимается как живое тело «другого» (§ 50).
Но представление об инаковости Другого не может быть получено через сферу перцепции (или, в данном случае, представления), посредством аппрезентации и аналогического сопоставления тел. В сфере воображения я также способен, посредством свободных вариаций, пуститься в игру возможностей, открывающих измерение иного (otherwise): «если бы я был там», которое вскоре превращается в «если бы я был Другим»:
Мое живое тело, как соотнесенное с самим собой, обладает способом своей данности в качестве центрального «здесь»; всякое другое тело и, таким образом, тело «другого» обладает модусом «там». (...) Посредством свободного варьирования своих кинестезисов и, в частности, посредством передвижения я могу изменять свое положение таким образом, чтобы всякое «там» превратить в «здесь» (...). Ведь в апперцепции я воспринимаю «другого» не просто как дубликат самого себя, т.е. как обладающего моей — ничем не отличающейся от моей — изначальной сферой и в том числе способами явления в пространстве, которые свойственны мне в моем «здесь», но, при более тщательном рассмотрении, как обладающего такими способами, какими в точности обладал бы я сам, если бы переместился «туда» и пребывал «там» (§ 53).
Аналогическое постижение (apprehension) Другого напоминает analogia entis схоластической философии, но именно здесь и заключается проблема: я не могу постигать Бога по аналогии, как я вижу Другого человека, из-за фундаментальной асимметрии между мною и Богом[30]. Можно проиллюстрировать эту трудность простым примером: имея тело, я могу по аналогии «переживать» восприятие своего тела Другим человеком. Однако Бог бестелесен[31]; каким бы самоочевидным не казалось это утверждение, оно ставит нас перед рядом острых проблем: как я могу своим ограниченным сознанием воспринимать безграничное? Каким образом Я может — если может — интуитивно воспринимать бесконечное, невозможное, непредставимое? Ответить на эти вопросы помогает одно место из Книги Царств:
И сказал (Господь Илии): выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь (3 Цар. 19:11—12а).
Что дает нам это описание — это парадигматический пример невозможности достичь необходимого соответствия между интенцией (ожиданием Илии увидеть проходящего Господа) и интуицией (явлением Господа, Который дает Себя ни в чем). Возможность феномена должна опираться на феномен возможности. При несовпадении этих двух модусов, настаивает Гуссерль, очевидность не возникает: Господь был не здесь, и интенция Илии осталась нереализованной. Бог не дал Себя в том, в чем Он был наиболее ожидаем: в сильном ветре, в землетрясении, в огне. В библейском повествовании Господь, наконец, все-таки явился Илии, но это откровение указывало на парадоксальность, а то и невозможность Его явления: «.. .После огня веяние тихого ветра. Услышав сие Илия закрыл лице свое милотью своею» (3 Цар. 19:12 Ъ — 13). Итак, Бог является, но все же остается непостижимым. «Веяние тихого ветра», иначе говоря, «небольшая прохлада»[32], это именно то, что проходит незамеченным, то, что не заявляет о себе. Это означает полный минимум данности (иными словами, минималистическая феноменология, парадоксально, может обеспечивать основание для максималистической эстетики, которую мы и исследуем в этой книге). Тем не менее, даже такое явление было достаточно грозно, чтобы Илия скрыл свое лицо от этого постижения[33].
Отталкиваясь от приведенного библейского отрывка, мы можем приступить к распутыванию ряда сложных вопросов. Если мы обратимся к Библии за другими случаями божественного явления, мы найдем их тут немало. Рассмотрим пример Пятидесятницы (в повествовании Книги Деяний): здесь Господь является вовсе не в нежном шепоте ветра, как в пещере Илии; теперь это «шум с неба как бы от несущегося сильного ветра», который внезапно (άφνω, вариант слова έξαίφνης) раздается по всему городу (Деян. 2:2-3). Кажется, что Бог может выбирать из целого репертуара эпифаний, от идола до иконы, от следа до насыщенного феномена. Однако ничего из этого не дает нам целый феномен Бога как таковой, ведь все эпифании, о которых повествуют греческие, иудейские и христианские источники, какими бы темными и неуловимыми они ни были, возможны лишь в модальности «как бы» — в виде предположения, воображения, репрезентации, сигнификации — в модальностях, управляемых Я. Откровения и явления Бога, насыщенные или нет, должны восприниматься где-то и кем-то. Они должны (возвращаясь к принципу Гуссерля) созерцаться и ощущаться телесно, должны быть воплощены в образах, контурах, цветах, звуках и запахах, если они хотят вообще быть эпифаниями (эпифания— это то, что является, файнестай, кому-то, а значит, это также феномен)[34]. Пророки и мистики описывают свои видения с помощью метафор, уподоблений, нарративов — значит, они обрабатывают их посредством языка, чтобы превратить их в свой опыт, которым можно поделиться с другими. Но все это не может не создавать определенных рамок, определенных условий, что исключает возможность «чистого», необусловленного даяния (giving) Бога:
Мы думаем, что видение превысшего Естества (τής ύπερεχούσης φύσεως) было всегда по мере силы (κατά το μέτρον τής δυνάμεως) каждого из приемлющих Божественное явление: большее и достойнейшее Бога для тех, которые могли достигнуть высоты, меньшее же и менее достойное (σμικροπρεπεστέρα) для тех, которые неспособны вместить большего[35].
Этими словами Григорий устанавливает принцип, который станет каноническим постулатом относительно не только мистического опыта, но и всякого опыта Бога вообще: даруя Себя, Бог всегда уважает уникальное расположение каждого[36]. Он никогда не дает ни больше, чем человек может принять, ни меньше, чем он желает принять. Он может быть обретен в исключительных феноменах (где Его присутствие ожидается), но также и там, где Он не ожидается, в обычной повседневности. Именно эта соразмерность божественного явления спровоцировала Божье предельное Откровение (парадоксальное откровение, скрывающее то, что оно открывает) в плоти Назарянина:
Итак, если бы все, подобно Моисею, могли войти во мрак, в котором 0н видел Незримого, или подобно высокому Павлу, — вознестись превыше третьего неба и в раю научиться неизреченному о предметах, превышающих слово, или с ревнителем Илиею на огне вознестись в эфирное пространство, не чувствуя тяжести тела, или с Иезекиилем и Исаиею видеть на престоле славы или подъемлемого херувимами, или прославляемого серафимами; тогда, конечно, не было бы нужды в явлении Бога нашего во плоти [ούδ’ αν έγένετο πάντως χρεία τής διά σαρκός του Θεού ήμών έπιφανείας], если бы все были таковыми[37].
Однако феноменологии надлежит допускать лишь одно исключение, а именно исключение исключения. Кажется — именно это ставка Мариона в его Избыточном феномене, где он решительно переворачивает модель Гуссерля, пытаясь представить феномен, избыточествующий интуицией: когда интуиция превышает и покрывает всякую интенцию:
Дойдя до этого пункта, мы можем задаться вопросом о диаметрально противоположной гипотезе: не следует ли в некоторых случаях, которые нам еще предстоит определить, противопоставлять ограниченной возможности феноменальности — феноменальность, которая, в конечном счете, абсолютно возможна? Нельзя ли противопоставить феномену, предположительно обнищавшему интуицией, феномен, изобилующий интуицией? Почему феномену, который обычно характеризуется как эффект интуиции, а значит, как обманутость интенциональной цели или, в некоторых случаях, как равенство интуиции и интенции, не может соответствовать возможность феномена, в котором интуиция давала бы больше, неизмеримо больше, чем интенция когда-либо способна себе намерить или предположить? (112[38])
Несколькими абзацами ниже он дает более развернутое объяснение того, что можно назвать избыточным феноменом: «Он был бы, следовательно, невидим по своему количеству, невыносим в плане качества, абсолютен в плане отношения, и недоступен для взгляда в плане модальности» (113). На этот парад отрицаний, доводящих до предела феноменологию и вместе с ней человеческий опыт, можно справедливо возразить вопросом: останется ли тогда вообще что-то, что можно видеть, ощущать или переживать? И как возможно жить дальше своей жизнью, однажды увидев эту опустевшую сцену, чрезмерную в своем избытке? В самом деле, никак. Яйца Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых (Исх. 33:20). Это вековечный вопрос, греза, переполненная борением, тревога, мучащая воображение пророка: И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? (Мал. 3:2) Соответственно, трудно было бы представить себе, что субъект такого опыта способен пережить превосходящее его столкновение с чрезмерностью избыточного феномена. Марион вполне отдает себе отчет в этой опасности, признавая, что интенсивность невыносимого зрелища может, в некоторой мере, ослеплять (114). Таким образом, необусловленный, неограниченный и неопосредованный «опыт» Бога предстает единственной возможной невозможностью, ведь если бы он имел место, это привело бы к уничтожению субъекта. Илья скрыл свое лицо, Моисей поступил так же; наверное, они знали, что делали.
Следовательно, как кажется, если мы хотим пережить опыт Бога, у нас остаются два варианта: или Бог должен быть редуцирован к модальностям «как бы» и «если бы», определяемых воображением и опытом Субъекта (но тут мы рискуем обратить Бога в идола), или Бог должен явиться в ничем не обусловленной чрезмерности Своей славы, — с риском для самого субъекта.
Однако действительно ли опыт Бога совершенно невозможен без субъекта? Неужели настолько необходимо, чтобы опыт вообще ограничивался субъективностью? Медиальный залог глаголов опыта (как латинское experior, так и греческое πειράομαι— отложительные глаголы[39]) указывает, что субъект действует, но в то же время претерпевает (рефлексивно) собственное действие, будучи как бы собственным объектом. А чтобы еще более уточнить словарь опыта в философском плане, субъект следовало бы выражать не только номинативными конструкциями (Я), но также и аккузативными (меня).
Некоторые ценные наблюдения, помогающие переосмыслить роль субъективности в моем опыте Другого, можно почерпнуть в обсуждении Жаном-Полем Сартром типичного примера интерсубъективных отношений. Читая Сартров феноменологический анализ взгляда, мы видим, как он переворачивает фундаментальный принцип видения. Поскольку всякий взгляд взаимен, пишет Сартр, когда я вижу Другого, всегда есть возможность, что Другой видит меня. Наблюдая Другого как человека, проходящего мимо моей скамейки в парке, или, скажем, нищего на углу, я вижу его/ ее как объект. Другой становится действительно Другим лишь в тот решающий момент, когда Другой видит меня. Когда я перестаю смотреть на Другого, позволяя ему/ ей видеть меня (в чуде обмена взаимными взглядами), Другой перестает быть вещью среди других вещей и возвращает себе свой статус «субъекта» в отношении и в общении со мною (в свою очередь, Я, утрачивая свою центральную позицию, предстает уязвимым в своем отношении с Другим)[40]. Итак, когда то, что я не вижу, ставится выше того, что я вижу, тогда Другой получает позволение явиться[41].
Взгляд Другого удивляет нас. Он внезапно заставляет нас осознать себя: «Впервые я существую как я для своего нерефлексивного сознания. Как раз это мое вторжение чаще всего описывали: я вижу себя, поскольку некто видит меня»[42]. Во взгляде Другого нам не только даруется Другой: самым парадоксальным образом этот взгляд являет наше собственное существо.
Таким образом, Эго раскалывается на конституирующее Я и конституируемое Меня. Первые две возможности явления Бога, описанные нами выше, обращались к конституирующему Я и управлялись им. В этом случае Я являюсь субъектом, а Бог должен явиться моему сознанию как объект, в модальности «как бы». Впрочем, избыточный феномен, превосходящий субъект своей чрезмерностью, дает нам некое первое представление о феноменологической оценке не-субъективных отношений. Такой опыт указывает тропинку к третьей возмож ности явления Бога, открываемой взглядом Другого, где Бог действует как субъект, которому является Я. Но это уже не конституирующее Я, а Я в винительном падеже, т.е. конституируемое Меня.
Не может ли это быть третьим путем, который позволит Богу являться, не принижая Его инаковость? Нельзя ли помыслить феноменологию, где Я не смотрит и не видит, а испытывает взгляд Другого? Когда Я, вместо того, чтобы видеть, оказывается видимым, когда Я обнаруживает себя в поле зрения Бога, когда Я является Богу, а не Бог является Я? Возможно ли, наконец, чтобы Я «видел» Бога, хотя бы и с закрытыми глазами?[43]
Итак, я способен созерцать лицо Божье, но только как videre videor [видеть, будучи видимым][44] или, точнее, как videntem videre [будучи на виду, видеть][45]. Покуда мы остаемся в сфере videre, мы стараемся увидеть Бога, воспроизводя модальность intelligere (постижения): видеть — значит знать, и наше притязание видеть Бога — это замаскированное желание познать Бога, обреченное на неудачу. Однако «видеть» Бога, будучи видимым (videor) Им, означает перейти от модальности intelligere к модальности sentire: «ощущать» Бога, как мы ощущаем прикасающегося к нам (подробнее об этом в третьем разделе данной книги). Невозможно «прикоснуться» к чему бы то ни было так, чтобы в то же время и в том же самом жесте не ощутить прикосновения иного к себе. Прикосновение предполагает неминуемую взаимность, значительно превосходящую всякую очевидность, создаваемую зрением. Взаимность, которая несет «знание» куда более надежное и несомненное, чем любая концептуальная абстракция. Взаимность, которая возвращает знание Другого в мою телесность, и, посредством этой телесности, дистанция от Другого в некотором смысле преодолевается и его отличность несколько уменьшается.
В своем изложении конкретных случаев избыточности Марион, обсуждая феноменологическую притягательность живописи (под заголовком «Идол»), пишет, что «только лицо» может на нас смотреть, «поскольку лишь оно одно выражает себя в модусе встречи»[46]. В моей встрече с Другим «Другой получает статус некоего меня, иного, нежели я... Чтобы явиться мне как таковым, другой проявляет меня, подвергая меня некой интенциональности, столь же первичной, как и моя собственная. Так возникает лицо — некая обратная интенционапьность»[47]. Для Мариона, Другой может являться мне только «иначе» — не таким способом, как «идол»; этот иной способ (путь контринтенционалъности) он именует «иконой»[48]. Поэтому именно в главе об иконе Марион возвращается к теме контринтенционалъности, чтобы подробнее изобразить ее траекторию. Здесь Марион, упражняясь в парадоксальной логике, которая управляет различными типами избыточных феноменов, относит «икону другого человека» к тем феноменам, на которые «невозможно смотреть», согласно их модальности, феноменам, которые «избегают всяких отношений с мыслью вообще»[49].
Он поясняет:
Я не могу иметь видение этих феноменов, поскольку я не могу конституировать их, исходя из однозначного смысла, тем паче производить их в качестве объектов. Что я вижу в них — если я что-либо вижу из них — вытекает не из той конфигурации, которую я хотел бы приписать им в видимом, а эффекта, который они производят на меня. И, на самом деле, это происходит наоборот, так что мой взгляд оказывается подчинен, в модусе обратной интенциональности. Тогда я уже не трансцендентальное Я, а скорее свидетель, конституируемый происходящим с ним или с нею. Отсюда пара-докс, обращенная докса. Таким путем феномен, приключающийся нам и случающийся с нами, обращает весь строй видимого, поскольку он обусловлен уже не моей интенцией, а своей собственной обратной интенциональностью[50].
Возможно, это объясняет то смущение, которое мы часто ощущаем, глядя на икону. Эта неловкость происходит из понимания, что Он видел нас еще прежде, чем мы взглянули на Него, что Его взгляд обращен к нам прежде, чем мы обратим внимание на Него, и что этот пронизывающий взгляд — взгляд, который исходит от нарочито увеличенных очей и проницает наши тела — будет следовать за нами через все дни нашей жизни. Обращение к иконе в этом месте нашего обсуждения далеко не случайно. С художественной точки зрения, как мы отметили, икона уникальным образом воплощает этот поворот от позиции видящего к позиции видимого. Этот поворот четко выражается в особенностях перспективы, техническое название которой, umgekehrte Perspektive, указывает именно на это: обратная или обращенная перспектива[51]. Обращению классической феноменологической модели (интенциональность) соответствует обращение классической перспективы репрезентации. Модель, по отношению к которой технику иконописи можно назвать обратной, это схема, разработанная Ренессансом: фон полотна прочерчен горизонтальной линией, в которой исчезает всякая точка — так воплощается живописный эффект глубины. Все, что приближается к наблюдателю, обретает «реалистичные» измерения, но по мере отдаления от этой привилегированной точки зрения оно засасывается ненасытным расстоянием, зияющим между зрителем и отдаленным горизонтом. В иконе, напротив, горизонт спроецирован вовне, он находится позади зрителя, к которому он всегда простирается. Позади изображенного на иконе взгляд остановить не на чем — там нет горизонта: горизонт теперь с другой стороны, с нашей стороны (как предсказывал Плотин в вышеприведенном отрывке). Но, перемещение перспективы, ее экстериоризация, воплощает требование иконы не быть видимой, — это икона видит нас. Следовательно, икона, строго говоря, отказывается быть объектом наблюдения (не случайно, что икона всегда изображает только субъекта— лицо), она отвергает наши притязания превратить ее в объект зрения; это мы — в аккузативной форме нас [слав, ны] — предстаем перед иконой, а не наоборот.
Начиная, как минимум, с начала 1980-х Марион работает над тем, чтобы дать терминам «икона» и «идол» полноправную прописку в философской терминологии. Во вступительной главе своей книги Бог без бытия[52] он заявляет, что икона и идол «обнаруживают феноменологический конфликт — конфликт между двумя феноменологиями» (GWB, 7). Два термина характеризуют «два модуса бытия существ» (GWB, 8), два, можно сказать, противоположных способа, которыми существа оказываются сущими. Различие между ними Марион описывает так: «Если идол создается взглядом, нацеленным на него, то икона бросает вызов взгляду, мало-помалу насыщая видимое невидимым» (GWB, 17; курсив мой). Предваряя, таким образом, свой дальнейший анализ избыточного феномена[53], он описывает икону не только как модус видимого, который способен представлять невидимое (оставаясь в то же время собой), но также как точное обращение модальности видения (сродни обратной интенциональности): «Здесь взгляд уже не принадлежит зрителю, даже если он нацеливается на первое видимое, ни тем более художнику; такой взгляд принадлежит самой иконе, где невидимое впервые становится видимым... Икона смотрит на нас, она затрагивает нас» (GWB, 19; курсив оригинала)[54].
Икона — лишь один пример того, как и где мы можем ощущать взгляд Бога. Его также можно ощутить во взгляде всякого подобного нам человека, которого мы встречаем в повседневной жизни. Совсем Другой (tout autre а la Деррида) воплощен в этом Другом[55]. Его или ее лицо несет в себе авторитетность Божьего взгляда, ту же неисчерпаемость, которая приходит из запредельной реальности и бросает вызов нашим действиям: лицо Другого запрещает насилие и требует уважения. Марион свидетельствует о близости между иконой и лицом: «Икона раскрывается в лице... Дерзнем сказать, что только икона показывает нам лицо (иными словами, всякое лицо дается как икона)» (GWB, 19). Отсюда синонимичное употребление терминов эйкон (икона) и просопон (лицо, личность) в патриотическом богословии (мы вернемся к отношению между этими двумя терминами и их роли в патристике в третьей части этой главы). Лицо Другого создает пространство, где разворачиваются отношения. Итак, не случайно, что Гуссерль, переходя к анализу трансцендентальной интерсубъективности, оставляет терминологию монады (понятие, взятое у Лейбница) и начинает говорить о личности. Поль Рикер проницательно подмечает это изменение:
Выходит, что личность конституируется в полной мере лишь на этом уровне [трансцендентальной интерсубъективности], который представляет источник интериоризации для этих культурных миров. Так, у Гуссерля личность не является синонимом ни Я, ни даже «человека» (Гуссерль всегда говорит о человеке по отношению к псюхэ, следовательно, все еще оставаясь на уровне натурализма). Скорее, личность коррелирует с общностью и ее «привычными свойствами»[56].
Общность (community) — это модус бытия личности, а значит, личность существует только в связи с некоей общностью. Но как взгляд Другого может относиться к общинному бытию личности? Личность означает существо, открытое взгляду Другого. Чтобы полнее оценить эту внутреннюю связь между модусом бытия личностью и модусом бытия-видимым. Другим, достаточно просто обратиться к этимологии греческого слова просопон (πρόσωπον). Термин просопон (греческий эквивалент «личности») обозначает существо, открытое взгляду Другого и, более того, конституируемое этим взглядом. Личностное бытие — это не что-то, полученное нами раз и навсегда как частная собственность, это скорее процесс творения, обусловленный постоянной и взаимной подверженностью Другому.
Эстетика
Просопон обычно переводят как «лицо» и, следовательно, «личность». Действительно, просопон — это лицо и личность, но это слово означает намного больше. Стоит упомянуть, что этот термин употребляется исключительно с глаголом «быть» и никогда не с глаголом «иметь». Осмысленно лишь утверждение, что некто есть просопон. Сказать, что некто имеет просопону означало бы свести это понятие к тому, что можно иметь — к маске. Что означает быть просопон? «Прос» означает «перед», «в направлении», а «опое» (генитив существительного ώψ) означает лицо, и именно глаз (как в нашем слове «оптика»). Следовательно, быть прос-опон означает не что иное, как быть-в-направлении-к-лицу, предстоять чьему-то лицу, быть в его/ ее присутствии, у него/ нее на глазах.
Важно отметить тот факт, что в классической греческой литературе термин просопон лишь изредка фигурирует в той форме, в какой мы употребляем его здесь, — в единственном числе. К примеру, Гомер отдает предпочтение множественному числу, просопа, даже говоря об одном человеке (напр., Илиада VII.211 -12). Это множественное число идет вразрез со строгими правилами грамматики и синтаксиса, ведь единственный субъект предложения определяется существительным во множественном числе. Наблюдая многочисленные примеры этой аномалии в поэзии Гомера (напр., Илиада XVIII.414, Одиссея ΧΙΧ.361) и Софокла (Электра 1277, Эдип в Колоне 314), легко убедиться, насколько драматичны ее последствия. Греческий язык слишком строг, чтобы допустить такое нарушение без достаточных оснований. Возможно, поскольку просопон, по определению, не может существовать в качестве единственного лица, он всегда нуждается, по крайней мере, в одном другом лице, в отношениях между ними, и всегда отсылает к ним. Бытие-в-направлении-к-лицу предполагает Другого, которому мы предстоим. В свою очередь, предстоящий мне Другой также должен быть просопон.
Обе части слова имеют любопытные особенности. Во-первых, обратимся к префиксу «прос». Быть просопон означает быть в пути к Другому. Это объясняет мое бытие как постоянную эк-зистенцию (экзистенцию как экстаз), ис-ступление из себя и бытие-к-Другому. Просопон,, как термин, означающий взаимное движение к Другому, обнажает экстатический характер личностных (просопических) отношений. Взгляд и лицо Другого, которому я предстою, призывает меня к исходу в неизвестную, непознаваемую, и все же обетованную землю Другого. Сделать шаг в сторону этой земли, однако, означает поступить из всего знакомого, из себя самого, из моей самости, которую я призван оставить позади. Это отложение Тождественного ради Другого определяет мою экзистенцию как определенный переход от того, чем я был когда-то, но уже не являюсь, к тому, чем я должен стать, но еще не стал. На пути между этими двумя полюсами, ни в одном из которых я не нахожусь, я пребываю нигде. Просопон отчетливо предполагает взаимность взгляда, в котором самость получает запрос от Другого и, в конечном счете, сама становится «другой». Шаг к Другому подвергает мою экзистенцию страху и трепету перед бесконечными возможностями, ожидающими меня. В этом смысле динамичный (т.е. наделенный потенциалом) характер личности делает категорию «возможного» личностной (просопической) par excellence. Личностность — вовсе не то же, что самость или идентичность; она никогда не может быть понята как свершившийся факт или как нечто данное нам во владение раз и навсегда. Скорее, быть личностью предполагает длящийся процесс, обусловленный открытостью доверия Другому.
Возможно, семантику просопон легче понять, прибегнув к противопоставлению. Антоним просопон в греческом языке описывается термином атомон. Просопон и атомон — это два диаметрально противоположных полюса, между которыми располагаются экзистенциальные возможности, открытые человеческому бытию. Быть атомон означает бытие в фрагментации (от отрицательного префикса «а» и глагола тэмно, «отрезать»; а-томон — это то, что уже невозможно более измельчить). Как и в английском языке индивид— это тот, кто был «разделен» столько раз, что достиг точки, где дальнейшее расщепление уже просто невозможно. Индивид остро противостоит просопон. Тогда как последнее собирает и объединяет, первое отсекает, отделяет, отчуждает и отрицает. К чему же тогда принадлежит индивид? Можно сказать, он принадлежит Аду (Hades), пространству небытия, нижнему миру, месту, лишенному видения. А-ид (Αϊδης) как раз и означает место, где нет ни взгляда, ни лица, где возможность видеть Другого, лицом к лицу, утрачена вместе с динамикой бытия просопон и бытия вообще. Аид окружает река Лета; здесь нет места а-летейе (истине). Это царство экзистенциальной смерти. Как пишет Керни, переворачивая формулу Сартра, единственный ад, в такой перспективе, это самость, обреченная на себя саму. «Пустая избирающая воля. Идолопоклонство каждого-за-себя»[57].
Этика
Кьеркегор называет индивидуализм атомона демоническим. Обсуждая тревогу о благе, он показывает, что демоническое определяется самим отказом от отношений и общения. «Демоническое — это несвобода, стремящаяся отгородиться», солипсическая замкнутость (det Indesluttede), «замыкающаяся на себе самой»[58]. По контрасту с экстатическим движением просопон, демоническое остается заключенным в этой одиночной камере, созданной осколками зеркала, в которых отражаются самотождественные образы себя. Обреченные на это монотонное существование, мы не должны удивляться меткому наблюдению Кьеркегора, что монолог — это демонический модус высказывания, а оторванность внезапного[59] — всегда одного и того же, без воспоминаний или ожиданий — становится формой его проявления[60]. И еще одна красноречивая деталь: демоническое не «общается» (соттипгсеге), т.е. не участвует в общении, но также не «приобщается», т.е. чуждо причастию[61]. Итак, этическое обсуждение личностного бытия требует указать, что просопон сопротивляется инструментальному использованию и сведению его к средству достижения цели. Модальность просопон запрещает рассматривать Другого как средство осуществления наших намерений или желаний. Говоря о просопон, мы должны различать два типа желаний: желание Другого и желание для Другого. Сластолюбец, взирая на Другого как на тело, созданное для его наслаждения, видит только это (а значит, не видит личности, сводя инаковость Другого к своему желанию). Аналогично, сребролюбец, взирая на Другого как на источник дохода, сводит личность к покупателю или клиенту, отбрасывая прочие его/ ее личностные характеристики.
Эти описания выражают модальности восприятия Другого как «то» или «это», при которых Другой «является» или, точнее, «превращается» в то, чем я хочу его видеть. Наше желание не дает Другому явиться в качестве такового или, по выражению Хайдеггера, «явить себя в себе» (Бытие и время, 28). Таким образом, наше желание находит в других «лишь то, что мы сами вложили в них» (Критика чистого разума, В xviii). А это означает, что в моем желании Другого утрачивается как раз инаковосгь Другого, Другой постепенно перестает быть другим (отличным от меня). Поскольку Другой лишь отражает мое собственное желание, он превращается в нарциссический идол моей самости. От такого желания может избавить только желание для Другого (вместо властного генитива, выражаемого предлогом of, здесь мы находим предлог for, «для», выражающий экстатическое движение просопон: за пределы себя, к Другому, что позволяет мне наконец встретить Другого — не в «здешности» моей самости, а в «тамошности», где пребывает Другой).
Свое лучшее поэтическое выражение просопическбе отношение нашло в словах Пауля Целана: «Ich bin du, wenn ich ich bin» [«Я— Ты, когда Я — Я»] (в стихотворении Lob der Ferne). Это вопль почти эротического томления, с которым просопон взывает к Другому, в котором распознает источник себя — «Я — Ты, когда Я — Я», или, как говорит Павел в Послании к Галатам, «уже не я живу, но живет во мне Христос» (2:20). Вопреки Хайдеггерову анализу аутентичности, ядро моей аутентичной экзистенции составляет вовсе не «самобытность» (Eigentlichkeit) связанного со мной бытия, «которое всегда мое» (Бытие и время, 42), а как раз Другой и парадоксальное понимание, что я есмь лишь постольку, поскольку есть Другой. Или, иначе говоря, я — свой лишь постольку, поскольку я — Его[62]. Поэтому на такое экстатическое / эротическое исповедание просопоп голос Другого может ответить странными словами: sis tu tuus et ego его tuus — «будь своим, и Я буду твоим» (Николай Кузанский, De Visione Dei, vii, 25).
Религия
Уже в заглавии своей книги, De Visione Dei [«О видении Бога»], Николай Кузанский дает место двусмысленности двойного генитива, ведь она указывает на двусмысленность самого видения Бога — видеть (Бога) и быть видимым (Богом):
Что же еще, Господи, есть видение Твое, когда взираешь на меня оком благоутробным, как не видение Тебя мною? Видя меня, Ты даешь и мне Тебя видеть, Бога сокровенного. Никто Тебя видеть не может, разве что насколько Ты даешь Себя видеть. И видеть Тебя — это не что иное, как видение Тобою видящего Тебя (V, 13)[63].
По сути, принцип, на который опирается это понимание видения Бога — это принцип обратной интенциональности. Я могу видеть Бога лишь будучи видимым Им. Отнюдь не случайно, что в качестве отправного пункта и даже сердцевины всех его утверждений у Николая Кузанского фигурирует икона. Это речь, которая делает то, что говорит, и влияет на то, что описывает, ведь как только его речь касается субъекта Боговидения, Кузанец пишет уже не очерк об иконе, а слово, обращенное к иконе. Богословие Боговидения, по его мнению, не может быть отделено от богословия иконы.
Текст Николая, кажется, отсылает к тому эпизоду Книги Бытия, где Агарь, рабыня Авраама и мать Измаила, встречает Бога. Вот это место: И нарекла Господа, Который говорил к ней, сим именем: Ты Бог видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня (Быт. 16:13)[64]. В греческом тексте Септуагинты имя Божье выражено словами ενώπιον είδον. И Агарь называет источник, у которого с ней говорил Бог, «Беэр-лахайрои»[65], что также переведено на греческий ενώπιον είδον. Слово энопион (ένώπιον) буквально означает «лицом к лицу» (по словарю Лидделла и Скотта) и имеет тож же этимологический корень, что и просопон (πρόσωπον). Бог, Который говорит с Агарью и Которого она называет «Богом видящим меня», — это личностный Бог, а именно — Бог, Который позволяет видеть Свое лицо тому, кто, будучи призван к бытию этим общением лицом к лицу, обретает статус личности (просопон). Видеть Его Лицо означает быть видимым Им.
Но Кто — это Лицо?
Библейский опыт Бога характеризуется в обоих Заветах фактом, что «невидимый» и «недоступный» по существу Бог входит в сферу тварной видимости, не через посредников, а Сам... Эту структуру библейского откровения не стоит ни недооценивать, ни преувеличивать... Преувеличивать ее — означает полагать, что все, установленное Богом для нашего спасения, кульминацией чего является Его Воплощение, есть, в конечном счете, лишь нечто предварительное, что в конце концов будет трансцендировано некой мистической или эсхатологической непосредственностью, которая упразднит и сделает избыточной саму форму нашего спасения — а именно человечество Иисуса Христа. Эта последняя опасность не так далека от платонизирующих течений христианской духовности, как кому-то хотелось бы верить: импульсивный поиск непосредственного видения Бога, которое уже не было бы опосредовано Сыном Человеческим, т.е. формой пребывания Бога в мире, составляет осознанное или неосознанное основание многих эсхатологических спекуляций... Воплощение — это эсхатон и, как таковое, оно не может быть упразднено[66].
В этом «импульсивном поиске непосредственного видения Бога» мы узнаем наше собственное желание видеть Бога и видеть Его непосредственно. В этом отрывке фон Бальтазар подчеркивает, что непосредственный опыт Бога невозможен и никогда не будет возможен, поскольку нам дан Посредник (Христос, см. 1 Тим. 2:5). Мы можем «видеть» Бога, так сказать, только во Христе и через Христа (вспомним слова: никто не приходит к Отцу, как только через Меня, Ин.14:6). Это кажется парадоксом. Ведь во Христе мы не видим Бога. Как нам кажется, «безумие Воплощения» (тот факт, что Бог «явился» во плоти, по сути, скрывая плотью Свое явление) играет с двойственностью всякого Боговидения: в видении Бога можно увидеть лишь себя. Это очень легко применить ко Христу: вполне можно сказать, что видя Христа, я вижу лишь подобного мне простого человека. Это действительно так, но это лишь половина правды. Видя Бога, я должен признать инаковость других человеческих существ. А последнее имеет очень далекоидущие последствия. Если, как энергично настаивает фон Бальтазар, я могу видеть Бога только во Христе, и никакое иное видение никогда не будет дано мне, то это означает, что я могу видеть Бога только в другом человеке («в человечестве Иисуса Христа»). Все Евангелие, кажется, служит указующим перстом к такому пониманию; в этом свете понятнее становится буквальное значение слов вроде этих: Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших [алчущих и жаждущих, странников, больных и заключенных], то сделали Мне (Мф.25:40)[67]. С другой стороны, не следует тривиализировать уникальность личности Христа, распространяя Его свойства (Божий посредник, Слово воплощенное) на всех, как бы говоря: «Христос — это мы все». Тем не менее, если мы можем видеть в каждом из нас Адама, первого человека, по закону тождества, то мы должны также научиться узнавать в каждом Христа, Второго Адама и последнего человека, по закону инаковости. Не в этом ли принцип Воплощения — а именно что «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом»? Конечно, к этой формуле следует относиться как к приглашению, а не как к состоявшемуся факту (fait accompli) уже реализованному Воплощением. Если мы обратим внимание на предлог «чтобы» в этой формуле, мы поймем, что Воплощение — это открытая для нас возможность. Наше Адамово тело мы получили благодаря рождению в мир; мы стяжаем наше тело Христово посредством нашего возрождения в Церкви. Вочеловечение Христа открывает — и указывает — нам путь к обожению человека (теозис, о котором так много говорили Отцы-мистики). «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:26-27). То, что Павел высказал в этом отрывке и многократно повторил во всех своих Посланиях, выражено отцами в сжатой формуле: Christianus alter Christus — христианин это другой Христос.
Для фон Бальтазара, как и для Николая Кузанского, лицо Божье — не что иное, как только лицо Христа. Однако когда мы вступаем в общение лицом к лицу с Христом, каждое лицо отображает Его лицо:
Итак, осознавая, что это лицо есть истина и адекватнейшая мера всех лиц, я застываю в изумлении. Это лицо, которое есть истина всех лиц, — не количественно... Таким образом, я понимаю, Господи, что лик Твой предваряет всякое создаваемое [formabilem] лицо и является образцом и истиной всех лиц, и что все лица — это образы лица Твоего... Итак, каждое лицо, которое способно зреть Твое лицо, видит не что-либо иное или отличное от себя; оно видит собственную истину (VI, 18)[68].
Мы — иконы истины этого лица, истинные иконы (vera iсопа) Его лица, подобно первообразной и нерукотворной иконы с плата Вероники, о котором рассуждает Данте, вдохновляя Хорхе Луиса Борхеса на следующие слова:
Люди утратили один-единственный и ничем на земле не восполнимый лик. Кто бы теперь не хотел быть на месте того паломника (воображая себя уже в эмпиреях, под Розой), который увидел в Риме плат Вероники и простодушно прошептал: «Иисусе Христе, Боже мой, Боже истинный, вот, значит, какой ты был»?... Черты теряются, как теряется в памяти магическое число, составленное из обычных цифр, как навсегда теряется узор, на миг сложившийся в калейдоскопе. Позже мы его, возможно, видим, но уже не узнаем. Профиль еврея, встреченного сейчас в подземке, мог принадлежать Спасителю; руки, совавшие из кассы сдачу, — те же, которые римский солдат пригвождал к кресту. Может быть, черты распятого подстерегают в любом зеркале. Может быть, лицо исчезло, стерлось, чтобы Бог стал каждым[69].
Как мы уже убедились, икона воплощает этот поворот (так красноречиво описанный Николаем Кузанским) от позиции видящего к позиции видимого. Подобно его философскому синониму — просопон — икона также внутренне соотнесенна (relational). Один из защитников иконопочитания во второй период иконоборческой полемики[70], патриарх Никифор, не обинуясь, обратился даже к Аристотелевой терминологии, чтобы определить икону как чисто соотнесенный феномен. Он заметил, что икона — это образ чего-либо (πρός τι), а значит, она указывает на отношение (согласно Категориям Аристотеля)[71]. Красноречивый нюанс: предлог πρός, помогающий нам понять подлинный статус иконы, оказывается в то же время префиксом слова просопон. Соотнесенный характер иконы, однако, не исчерпывается такими этимологическими нюансами. Прежде всего, он выражается в теологии. Ведь икона делает наглядным — буквально являет взгляду — все тонкости тринитарного и христологического догмата; а точнее, как показал кардинал Кристофер Шенборн, именно истины, выраженные в христианском учении, делают икону возможной. Ведь как иначе мы могли бы объяснить парадокс, которым притязает быть каждая икона, — а именно видимым образом невидимого Бога? Ответ на этот ключевой вопрос имеет значение для нашего обсуждения именно постольку, поскольку он демонстрирует соотнесенный (а значит, просопический) характер иконы.
Описание (или же очерчивание, περιγραφή) внешности Бога становится возможно благодаря Воплощению Второй Ипостаси Троицы в Иисусе. Ведь икона может изображать исключительно Иисуса, и только благодаря Его Воплощению (Отец и Святой Дух отнюдь не могут быть представлены на иконе). Христологическое обоснование здесь вполне очевидно: во Христе две радикально различные природы соединяются неслитно, но и нераздельно (согласно формуле IV Вселенского Собора в Халкидоне): невидимая, а значит, неизобразимая божественная природа, и видимая, а значит, изобразимая человеческая природа. Благодаря единению с последней, первая также оказалась в некотором смысле описуема, не только в историческом времени, но и в пространстве художественной репрезентации. На первом уровне, таким образом, икона являет нам отношение между двумя природами в лице Христа[72].
Вопрос, который возникает далее, несколько усложняет картину. Какая конкретная характеристика (т.е. ипостасис) божественной природы Христа позволяет ей соединиться с человеческой природой?[73] Этот вопрос касается самой сердцевины тринитарной тайны, поскольку то, о чем мы вопрошаем, можно найти лишь в отношениях между Тремя Лицами. Максим Исповедник показывает, что именно то, что отличает Отца от Сына (Его рожденность), объединяет Его с нашей плотью[74]. Что отличает Отца от Сына — это Его «сыновство» (будучи Сыном Отца. Он также является единосущной иконой Личности— просопон— Отца). «Сыновство» Сына описывает именно Его отношение к Отцу. Итак, именно это отношение (обозначающее и перихоретическое единство усии, и различие Ипостасей) связывает Отца, в Лице Христа, с нашим человечеством; Итак, на втором уровне икона также являет нам отношения между Лицами Троицы.
На третьем и последнем уровне икона связывает исторический момент Воплощения (имевший место в прошлом) с эсхатологическим обещанием, относящимся к грядущему. Нетрудно понять, каким образом иконописное изображение Христа основано, как мы только что объясняли, на событии Воплощения: в этом плане икона являет нам Христа, каким Он был. Однако если мы доверяем свидетельству ангелов в день Вознесения (Деян 1:11: Мужи Галилейские! Что стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо), икона также являет нам Христа, каким Он будет. Ведь Воплощение, как справедливо заметил фон Бальтазар в приведенном отрывке, и есть эсхатон. Всякое изображение Христа, Богородицы и святых — возможное благодаря Воплощению — как таковое уже эсхатологично. В иконе мы не видим (насколько мы тут видим вообще) биологической или исторической сущности святых, — мы видим их эсхатологическую сущность, преображенную и обоженную: «Именно это преображенное тело воскресения, исполненное света Святого Духа, и пытается символически изобразить иконописец»[75]. Таким образом, икона по своей природе соотнесенная в каждом из рассмотренных аспектов икона всегда «соотносит» с чем-то за пределами себя: человечество Христа отсылает к Его божеству, Сын отсылает к Отцу, Воплощение обещает эсхатон.
Вместо заключения здесь стоит сделать небольшую ремарку относительно иконописной техники. De Visione Dei было написано в 1453 году. Когда Николай Кузанский пишет этот текст — не что иное, как мистическую медитацию над искусством иконы, — около него происходят значительные изменения в мире искусства. Примерно тридцатью годами ранее (около 1425 года) Мазаччо написал одну из своих Мадонн («Мадонна с Младенцем и Св. Анной», Уфицци, Флоренция), работу, которая движется между двумя мирами — средневековьем и Ренессансом, — обозначая переход от одного к другому. Здесь Мазаччо использует революционную технику chiaroscuro, разработанную ранее Джотто. Умелое использование света и тени позволяет создать ложное впечатление глубины двухмерной поверхности полотна. Таким образом, перспектива, наконец, достигнута. В «Мадонне с Младенцем» Мазаччо мы все еще видим икону (этот строгий и несколько «застывший» стиль византийской техники), но, возможно, уже в последний раз. В то же время здесь уже можно видеть нечто совершенно новое — живопись (натурализм и живоподобие Ренессанса). После Мазаччо западное искусство будет использовать перспективу ad nauseam [до тошноты] более пяти веков. По прошествии этого времени, когда иллюзии перспективы давно себя исчерпали, дерзновение (или же наивность) художника, тщившегося запечатлеть природу настолько точно, насколько возможно, наконец, было насыщено. На самом деле, оно было не просто насыщено, а пресыщено, что очевидно по радикальности откачки маятника к иконоборчеству, энергично представленному абстрактной живописью. Имея в виду этот исторический контекст, интересно читать текст Николая Кузанского как похвалу иконам, этим поблекшим доскам, лишенным, кажется, всякого чувства перспективы и, на фоне шедевров Ренессанса, подобных (по крайней мере, на взгляд некоторых современных исследователей) примитивным карикатурам. Тем не менее, 1453 — это год не только нововведений в искусстве. Это год падения Константинополя, а с ним — более чем тысячелетней Византийской Империи, которая породила и воспитала духовность иконы. De Visione Dei было прощальным панигириком Николая цивилизации, которой он глубоко восхищался, и городу, который он видел сам, хотя и в лучах его заката.
Казалось бы, с падением Византии иконы должны были безвозвратно уйти в прошлое. Действительно, впоследствии мы разучились созерцать их — и это забвение сегодня выражается в распространении своеобразной моды на иконы, использующей их в совершенно новом качестве объектов искусства минувшей эпохи[76]. А ведь именно такой объективации и сопротивляется иконография, с ее обратной перспективой. В современности русский апофатизм — в особенности супрематизм Малевича — энергично выступил против «эпохи варварства» в западном искусстве — против его стремления воспроизводить средствами репрезентации и против его тенденции объективировать репрезентированное. «Затмение объектов», провозглашенное манифестами абстракционистов, было мощным средством против объективации. Не случайно современное русское искусство (я имею в виду творчество Кандинского и Малевича) настолько близко подходит к своему литургическому прошлому. Яннис Зиогас убедительно продемонстрировал влияние икон на работы Малевича, особенно на его знаменитый «Черный квадрат», в своей книге Византийский Малевич[77]. Зиогас начинает с напоминания, что процесс изготовления иконы существенно отличается от других видов живописи, следуя строгой процедуре наложения определенных слоев формы и цвета в наперед заданной последовательности. Первый слой— это т.н. «основа» (гр. κάμπος, «поле») иконы, темная поверхность подготовленной доски. На этом первом слое иконописец сперва прорисует контур изображаемой фигуры (слой 2) и окружит его листовым золотом, составляющим золотой фон иконы (слой 3). Далее последуют три слоя цвета и тени (слои 4-6), которые будут дополнены надписями, именующими изображенных, сверху или рядом с ними (7 слой). Икону завершает последний слой (8 слой), обрамляющий изображение. Эти последовательные слои функционируют как ряд покровов, наложенных один на другой и перекрывающих друг друга, которые, скрывая друг друга, открывают завершенную икону. Итак, уже по своей структуре икона предстает символом целого космоса (как это видел, к примеру, Дионисий); ведь только в многообразном покрове мира сего может являть Себя свет божественных лучей (ούδέ δυνατόν έτέρως ήμίν έπιλάμψαι τήν θεαρχικήν άκτίνα μή τη ποικιλία των ιερών παραπετασμάτων, ЦИI, 121Β). Если бы покров мира можно было убрать, посредством гиперболического сомнения или радикальной редукции, мы увидели бы ничто (то самое ничто творения ex nihilo). Как просвечивающие (diaphanous) покрова цвета и формы, наложенные один на другой, являют нам икону, так и богоявленное (theophanous) творение являет нам Творца:
Не следует понимать Бога и творение как две различные реалии, но как одно и то же. Ведь творение субсидирует в Боге; Бог же, являя Себя, дивным и неизреченным образом создается в создании, невидимый делает Себя видимым и непостижимый — постижимым, и сокровенный— открытым... И, творя все, творится во всем и, создавая все, создается во всем... И так Он становится всем во всем[78].
Этот маленький экскурс в технологию иконописи был необходим, чтобы показать, что «Черный квадрат» Малевича, вовсе не будучи апофеозом иконоборчества, каким его обычно считают, скорее представляет собою своего рода икону.
По мнению Зиогаса, в «Черном квадрате» Малевич намеренно избирает лишь два слоя, составляющих икону (первый и последний). Его технику, следовательно, правильнее назвать не абстракцией, а отрицанием (что представляет «Черный квадрат» некой визуальной аналогией отрицательного богословия), ведь, сохраняя первый и последний слои иконы, он опускает промежуточные слои формы (2-3), цвета (4-6) и языка (7). Конечно, это не единственный аргумент в пользу иконической интерпретации «Черного квадрата»: впервые представляя его публике (в Санкт-Петербурге в 1915 г.), «Малевич разместил свой „Черный квадрат“ высоко в углу выставочного зала, что для всякого русского могло означать только одно: он разместил его в красном углу, месте, отведенном для святых икон»[79]. Двадцатью годами позднее, «Черный квадрат», водруженный над гробом своего мертвого творца, еще раз — последний раз — удостоится места иконы.
Этот квадрат (который не есть точный квадрат), обрамленный рамой (которая на самом деле не есть рама), носит имя того, чем он на самом деле не есть. Как говорит Зиогас, «Черный квадрат» «изображает скорее то, чем он не есть»[80], нежели то, чем он есть. Даже его использование в качестве иконы представляет его иконой иконы, которой еще нет. Он представляет собой ожидание иконы. Апофатизм «Черного квадрата» оставляет место для иконы, пока икона не будет явлена. Итак, он обозначает прореху в ритме времени между образом (Воплощение) и преображением (в Эсхатоне). «Черный квадрат» — темная «основа» творящейся иконы — это вовсе не затмение Формы, а ее молчаливое обещание.
В этой главе была описана трудность, с которой мы сталкиваемся при попытках философски артикулировать опыт Бога, трудность, заставляющая нас выбирать между или/ или следующей метафизической диллемы: или непознаваемый, невоспринимаемый, совсем другой Бог, или концептуальный, а значит, также бесплотный Идол; или Gott, или Götze. В недалеком прошлом Нового времени метафизика удовлетворялась последним, т.е. идеей Бога (см., например, Третье Размышление Декарта). Именно эта удовлетворенность и была названа онтотеологией. С другой стороны, феноменология слишком часто устремляется к первому, привороженная притягательной инаковостью Другого, как бабочка, ослепленная блеском огня. Между этими двумя полюсами существует третий путь, открытый парадоксом Павловых слов об «иконе Бога невидимого» (Кол. 1:15). Этой иконой par excellence явился Христос, «рожденный по нашему образу и подобию», но, расширительно, и каждая личность, «созданная по образу и подобию Бога». Одна из характерных черт иконы, а именно обратная перспектива, помогла осуществить феноменологический анализ обратной интенциональности, иными словами, «видения», которое не объективирует Бога, а позволяет Ему даровать Себя в опыте меня как видимого. Рядом с нашими исполненными интенциями (присутствия и восприятия) и пустой интенциональностью (отсутствия и воображения) следует признать существование третьего рода интенции. Этот третий род — обратная интенциональность рефлексивной чувственности [reflexive sensibility] (а как мы убедимся в третьей части этой книги, всякая чувственность рефлексивна), где принесенная (“yielded”) интуиция — это как раз меня, т.е. самоощущение себя как ощущаемого. Строго говоря, в «опыте Бога», данном посредством обратной интенциональности, феномен — это не столько Бог, сколько я (моя неспособность постичь Бога, мой недостаток знания или интуиции, который и становится знанием и интуицией, и т.д.).
Вторая часть этой главы была посвящена феноменологическим преимуществам просопон, греческого определения личности как существа-предстоящего-другому, т.е. как фундаментально соотнесенного существа. В следующей главе мы рассмотрим, действительно ли просопическое понимание себя и других, а также обратная интенциональность, посредством которой достигается такое понимание, дополняет феноменологические редукции к самим-вещам (Гуссерль), к бытию (Хайдеггер), к данности (Марион), а следовательно, обосновывает ли она конкретность личности.
Глава 2. Экзистенциальный перекрест
После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: «Юноша! тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
Евангелие от Луки, 7:11-15
Вот сцена, которую передает нам Евангелие: мы в погребальной процессии в маленьком городке; мертвое тело выносят из города, туда, где традиционно располагалось кладбище, чтобы похоронить его. Единственная родственница усопшего следует за гробом. Братьев и сестер нет, — он был единственным сыном. Отца тоже нет, — ведь она вдова. Евангелист не случайно упоминает об этом важном обстоятельстве: мы узнаем, что мать хоронит единственного сына, который у нее вообще мог быть. В смерти любого человека всегда есть что-то бесповоротное, — тем паче тогда, когда возможность «заместить» его (насколько человека вообще можно «заместить») совершенно утрачена.
В другом городе, Фивы, также совершается погребальное шествие: это юная девушка, Антигона, медленно продвигается на место, где ее заживо похоронят. По пути она рассказывает о преступлении, за которое ей предстоит такая суровая кара:
В обоих сюжетах идет речь о невосполнимости утраты: сын вдовы, брат Антигоны. То, что делает этих людей такими незаменимыми и уникальными, — не в них самих. Это не качество характера, или какое-то изолированное свойство; скорее речь идет о месте, которое они занимают в отношениях со своими родственниками, с другими людьми.
Теперь они мертвы. Можно предположить, что само отношение, связывающее их с родными, также утрачено. Действительно, человек, искусный в метафизике, мог бы заметить, что отношение — всего лишь акциденция сущности (причем наименее важная из всех акциденций, поскольку другие акциденции, такие как качество или количество, непосредственно являются предикатами данной сущности, а отношение может быть предикатом только для двух сущностей). Следовательно, с исчезновением сущности, утрачиваются и отношения. Можно пойти и еще дальше в этом направлении аргументации, говоря, что после смерти этого конкретного лица основные составляющие его как личности (на языке метафизики — форма и материя) претерпевают кардинальные изменения, а значит, мертвый человек — уже не то же самое лицо; по сути дела, он вообще не лицо. В знаменитой кладбищенской сцене из «Гамлета» подобный аргумент озвучивает могильщик:
Могильщик поправляет Гамлета, приписывающего категории «мужчина» и «женщина» мертвому телу, — и Гамлет немедленно осознает свою ошибку: это двусмысленность (equivocation). Он употребил слова «мужчина» и «женщина», однозначно (univocally) относящиеся к личности, по отношению к тому, что ею больше не является.
Итак, весьма удивительно, что Странник, посетивший город Наин, останавливается и обращается к мертвому телу, — как и Гамлет на кладбище, — и ничуть не опасается совершить грубую метафизическую ошибку. Более того, он обращается к нему как к личности: Юноша! тебе говорю: встань! К кому же адресован этот призыв? И кто может принять его теперь (когда субъект мертв, т.е. после смерти субъекта)?
Предыдущий анализ личностности в Главе 1 представил нашим глазам новый образ: образ «единосущного» (“consubstantial”) человечества. Его общность, или, скажем так, общая основа, — это абстракция, но не столько общего естества, сколько общего пути, которым каждый человек становится, и является, личностью. Взаимность, глубоко укорененная в понятии «просопон», предполагает, что Другой (которому я предстою) — также прос-опон; его или ее «делает» личностью тот же взгляд, который конституирует и меня. Просопон — это бытие в отношении, а односторонних отношений! не бывает.
Определив личность как существо-в-отношении (being-in-relation), мы далеко отошли от классического ее определения, данного Боэцием: naturae rationales individua substantia. Мы рассматриваем личность не как фрагментированное (individua) само-субсистирующее нечто (substantiaY, а как гипостазированное отношение - экстасису вызванное лицом Другого и направленное к Другому (прос-опон). Итак, критерий, так сказать, определяющий личность, — это даже не столько natura rationales [разумная природа], сколько natura relationales [соотнесенная природа]. В Главе 1 мы уже намекали, что именно эта соотнесенность, лежащая в основе личности как просопон, и открывает для нас опыт Бога. Личностность — не что иное, как формальное условие возможности такого опыта. Следующим шагом мы могли бы сказать: личность и есть этот опыт, поскольку Бог есть Личность par excellence, — а значит, присматриваясь к просопическому измерению нашего бытия, мы не можем не заметить краем глаза— по аналогии (катаналогиан) — и Божественную модальность бытия.
Такое мимолетное видение обычно описывают как эпифанию — проблеск вечного в эфемерном. Именно эфемерное будет занимать нас в этой главе. Мы намерены достигнуть того же вывода, что и в предыдущей главе: осиянйе эфемерного таит в себе явление вечного, — но на сей раз нам придется начать путь в противоположном направлении. Если ранее мы рассматривали личностное бытие в качестве общего как,[83] описывающего наш приход в бытие, то здесь мы попробуем описать личностное бытие как то, что обособляет каждого человека как уникальную и несводимую этовость (лат. haecceittas от haec, «этот»).
Мы двигаемся в направлении, противоположном тому, которое избрал Митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас), который начинал с богословского понимания личности и затем пытался облечь плотью его антропологические импликации. Настоящий анализ личности и личностного бытия, конечно, всемерно обязан его фундаментальным трудам[84]. И все же, в начале этой главы, посвященной конкретности личности, я считаю уместным заметить, что теология Зизиуласа, с ее чрезмерным акцентом на общности (communion) Церкви, может нести угрозу понятию инаковости. Как неоднократно указывая Мирослав Вольф[85], теология Зизиуласа не обосновывает конкретность личности (попытка обосновать ее отношением Сына к Отцу рискует обратить каждую личность в «человеческого клона» Христа)[86]. Хотя тут не место для глубокого анализа этой интереснейшей дискуссии, в качестве ответа на эту критику я бы предложил богословский анализ инаковости святых, которые, будучи alter Christus, в то же время не лишены и собственной конкретности; они стали святыми не вопреки ей, а именно благодаря ей, следовательно, они вовсе не духовные «клоны» Христа. Итак, можно предположить, что сыновнее отношение Слова к Отцу, однообразное sub species aeternitatis [с точки зрения вечности], предстает многообразным sub species temporis [с точки зрения временности], как один луч солнца, преломляясь в призме, дробится на множество уникальных и разнообразных цветов. История — и есть эта призма, отображающая весь спектр путей, которыми человек на свой лад становится христообразным.
Это подводит нас к вопросу специфичности человеческой личности: почему каждый из нас — не просто личность, а эта личность? Как мы увидим, два вопроса на самом деле представляют собой один вопрос: быть личностью (соотнесенность, relationality) всегда означает быть этой определенной личностью (конкретность, particularity).
Возможно, философия не знает более озадачивающей проблемы, чем проблема индивидуации, — иными словами, чем вопрос, как оценивать конкретное и уникальное. Гораздо легче рассуждать об абстракциях, — чем философы обычно и занимаются, — о сущностях и идеях, о родах й видах, о категориях «я мыслю» и «я существую», выводимых из действительности, но не принадлежащих ей. В реальности же мы нигде не встречаем род «животное» или вид «человечество»; в нашей жизни есть встречи с определенными личностями, — каждая из них настолько уникальна, что мы были бы правы, назвав каждую личность «единственной в своем роде» (в своем виде). И все же, мы не знаем, как объяснить эту явную конкретность. В каком-то смысле, мы не знаем, как объяснить ее, потому что мы не можем объяснить ее, — т.е. сам философский язык по своей природе не способен вместить индивидуальное; он имеет «встроенную» тенденцию к универсальному[87]. Мы не погрешили бы против истины, сравнив работу философа с трудом лексикографа, каталогизирующего определения разных слов: в словаре можно найти определения «человека» или «человеческого существа», но нельзя найти определения меня. Строго говоря, я — не просто «человек» (a “human being”), — прежде всего и превыше всего, я — это я. Если же философия не способна дать ни определения, ни описания того, что относится ко мне столь непосредственным образом, — меня самого, то имеют ли ее старания какое-то отношение ко мне? Как мне не оставаться равнодушным к ее самым величественным и всеобъемлющим системам, к ее гениальнейшим идеям?
Проблема индивидуального вводит философию в несказанное затруднение: Аристотель бился над этой задачей (Метафизика, Z 1038b 14; Л 1071а 27-29; Л 1072а 31-34; etc.), но не смог ее решить, признав, что «определить индивида невозможно; если он и имеет сущность, то она невыразима»[88]. Аквинат определял индивидуацмю через материю, наделенную качествами, но эту, идею оспаривали другие схоласты, в особенности Генрих Гентский и Иоанн Дунс Скот. Последний оставил нам интересную теорию, что эта вещь является этой вещью просто благодаря ее «этовости» (haecceitas). Новое время совершенно пренебрегает реальностью индивидуального, начиная с «субстанции» Спинозы и заканчивая эпистемологией Канта (индивидуальное — всего лишь эффект чистых интуиций пространства и времени; как последнее, так и первое не существует вне воспринимающего субъекта).
К осознанию важности конкретного философию подвигло нечто, выходящие за пределы ее привычной сферы. Как показал ряд исследований, старых и новых, классическая мысль вообще не знала идеи уникальности человеческой личности[89]. Жестокий спартанский закон, требующий оставлять за окраиной города всякого новорожденного ребенка с физическими или умственными недостатками[90], вполне соответствовал классическому представлению о взаимозаменяемости людей. Для греков имело значение только универсальное и идеальное. Провозглашение Аристотелем приоритета поэзии, как выражения универсального, над конкретностью истории — лишь одно из проявлений этой ментальности[91]. Классическое мировоззрение было полностью перевернуто Воплощением; Христианский догмат о «Слове, ставшем плотью» наделил каждую личность бесконечной ценностью, точнее — ценностью бесконечного[92]. Как без устали повторял Кьеркегор, с этих пор индивидуальное стоит выше универсального[93]. Эти последствия Воплощения должен был ощущать и Гегель, особенно когда он демонстрировал в своей Эстетике, как классическое искусство, — прежде всего скульптура, — сводилось к изображению идеального (вспомним статуи греческих богов), лишенного всяких индивидуальных черт. Это ограничение, по его мысли, было преодолено лишь романтическим (т.е. христианским) искусством, — прежде всего живописью, которая, утрачивая трехмерный пространственный характер, освободилась от гнета универсального:
Свободная субъективность представляет природным вещам во всем их охвате и всем сферам человеческой действительности их самостоятельное бытие, с другой стороны, она может отдаваться всему обособленному и делать его содержанием внутреннего начала, более того, в этой сплетенности с конкретной действительностью субъективность оказывается конкретной и живой. Поэтому художник может включить в сферу своих изображений изобилие предметов, остававшихся недоступными скульптуре. Весь круг религиозных тем: представления о небе и преисподней, история Христа, апостолов, святых и т.д.; внешняя природа; все человеческое, вплоть до самых преходящих элементов в положениях и характерах, — все и вся может получить здесь свое место. Ведь в сферу субъективного входит все особенное, произвольное и случайное среди многообразных интересов и потребностей, поэтому также ищущих понимания[94].
Итак, заключает Гегель, художник волен своим искусством обессмертить самые простые и житейские сцены повседневности, такие как крестьянские праздники или натюрморты на полотнах малых голландцев[95], — но также и мимолетное осияние вещей, вроде отблесков света, запечатленных мазками импрессионистов. Ведь в самой скромной сценке, схваченной художником, во всяком образе странного, обыденного, повседневного, в каждом случае, когда временное делается вечным (ephemeral-made-eternal), искусство превращается в свидетельство о вечном и сделавшемся временным Боге и прославление Его.
Этот краткий набросок истории проблемы индивидуального был необходим, чтобы прийти к осмыслению этой проблемы в феноменологической перспективе. Такова феноменология данности, очерченная Жаном-Люком Марионом. Попытка Мариона, скажем так, продвинуть феноменологическую редукцию далее Гуссерля (интенциональный эйдос) и Хайдеггера (бытие) к необусловленной данности, и таким образом прийти к субъекту без субъективности (ftnterloque, ladonne), возникает в результате его критики в адрес трансцендентального и эмпирического Я (т.е. всех форм субъективности). Возможно, среди аргументов его критики самый сильный заключается в том, что «трансцендентальное Я, „Я мыслю“, не достигает индивидуации»[96]. Действительно, дальнейшие страницы феноменологии Мариона обнаруживают стремление сохранить особенность «одаренного» от угроз всякой субъективистской абстракции (пустое Я понятия «Я мыслю» или понятия «Я есмь»), обосновывая его единственность его способностью вмещать[97].
Это отправной пункт Марионовой критики трансцендентальной редукции Гуссерля и онтологической редукции Хайдеггера, составляющей важную часть V Книги его Быть данным[98]. Недостаток феноменологий своих предшественников Марион усматривает в неполноценности их «субъективизма»: «Я» гуссерлианского интенционального сознания или «Da» хайдеггерианского Dasein может быть кем угодно, но не может быть кем-то[99]. Феноменология, по мнению Мариона, с самого своего появления всегда оставалась в заложниках своего картезианского и кантианского наследия, из которого «нельзя вывести ни личности, ни простоты (ни индивидуальности)»[100]. Следовательно, третьей редукцией с необходимостью должна быть редукция к одаренности, в которой человек мог бы получить самого себя (ιΙαάοηηέ). Работа над этой третьей редукцией была начата в книге Редукция и дар, продолжена тщательным анализом в Быть данным и теперь достигла полноты в насыщенном феномене книги В избытке.
Эта редукция, выводящая на сцену «одаренного» (ιαάοηηέ), совершается посредством того, что мы в предыдущей главе назвали обратной интенциональностью. Обратная интенциональность, выраженная как зов, призывает меня ко мне. Она не призывает меня ни к бескровной субъективности, в которой совершенно не ощущается вкус конкретности, ни к онтологическому однообразию, — она призывает меня ко мне, к несводимой, незаменимой специфичности моей этовости. «Этот переход от номинатива [субъекта] к объектным падежам (аккузативу, дативу), — говорит Марион, — переворачивает иерархию метафизических категорий»[101]. Каким же образом? И каковы последствия этого переворота? Возможно, проект третьей редукции Мариона основывается исключительно на игре грамматических нюансов? Конечно, нет. То, о чем здесь идет речь, намного радикальнее Коперниканской революции. Марион объясняет это в словах, которые можно назвать наиболее далеко идущим заявлением его феноменологии: «Индивидуализированная сущность (усия проте) больше не предшествует отношению (прос ти) и больше не может исключать его из своего оптического совершенства. Наоборот, отношение теперь предшествует индивидуальности», и, как добавляет Марион несколькими строками ниже, отношение порождает ее[102].
Обратим внимание, как Марион отсылает к Аристотелю, предлагая в скобках Аристотелевскую терминологию (усия проте из Метафизики, прос ти из Категорий). Это указание на то, что данный тезис следует понимать в собственно метафизическом контексте, однако, по-видимому, в противопоставлении греческим началам метафизики. Третья редукция как будто прорывается сквозь многовековую традицию мышления, пытаясь вернуться к до-метафизическому пониманию себя.
Это, стало быть, возвращает нас к вопросу об индивидуации, Аристотелевской mode ти, но тотчас же мы получаем ответ, объясняющий конкретность определенного вида или сущности, — но ответ, радикально отличающийся от всего, что могла предложить нам метафизическая традиция: отношение. «К чему» (прос ти), говорит Марион, наиболее легковесная из всех Аристотелевских категорий, получает первенство над наивысшей инстанцией бытия (усия проте); последняя оказывается результатом первой. Противостояние аристотелианской метафизике необходимо, чтобы освободить феноменологию от ее собственной метафизической ноши: неспособности интенционалъности объяснить конкретное. Как Марион замечал уже ранее, утверждение, что «сознание интенционально является всем»[103] — это не более чем парафраз Аристотелевской протоинтенциональности: «некоторым образом душа есть все сущее» (De Anima, 431b 21). Двадцать четыре века философских исканий привели лишь к превращению этого «некоторым образом» в «интенциональность».
Даже при беглом чтении утверждения Мариона бросается в глаза этот логический анахронизм: существование «одаренного» предстает следствием отношения (вопреки каузальному подходу, для которого отношение — просто результат субъекта-причины, по сути, «механически» производящего его). Во-вторых, определяя существование «одаренного» на основе отношения (отношение предшествует одаренному), Марион, похоже, представляет своего Vadonne тем, что мы описываем как просопон. Действительно, хотя на протяжении всей книги Быть дйнным Марион последовательно придерживается двойственности «к кому / чему» («to whom/ which»), — в конце он все-таки указывает, что только «„к кому“, — и никогда не „к чему“, — может быть полноценно обращен зов, — представляя даваемое таким образом, что оно проявляется в мире»[104]. Более того, «к кому» обязательно указывает на другую личность: «Он [Vadonne][105]... открывает лицо, и теперь ему в лицо можно смотреть лишь как на личностного другого»[106].
Феноменология Мариона сталкивается с проблемой индивидуального и требует решения, отдающего отношению приоритет над природой, сознанием, бытием и существованием. И в самом деле, одаренный (Vadonne) вступает в бытие в ответ на зов (l’interloque), призывающий его к бытию: Юноша! тебе говорю, встань! «Так рождается одаренный, — пишет Марион, — которого зов делает преемником «субъекта», как всецело получающий себя от дающего»[107]. Призыв зова, его поразительность, сам зов и его фактичность — эта четырехчастная феноменология данности — показывают Я, данное себе происхождением, предшествующим ему и предваряющим его, — и в то же время парадокс Я, которое, получая себя, также предшествует себе и предваряет себя. Итак, принципом индивидуации (principium individuationis) для этого феноменологического подхода предстает Другой, личностный Другой, который, пребывая в отношении со мной, дарует мне меня как соотнесенную самость (relational selfhood) или, иначе говоря, prosopon, «Соответственно, моя единственная индивидуальность или же самость обретается исключительно в фактичности, возлагаемой на меня словом, изначально услышанным в зове, а не произнесенным мною самим»[108].
Однако остается еще вопрос: как понимать онтологическое первенство отношения над существованием, если для Мариона, грубо говоря, adonne сначала вступает в отношение, а уже затем — в бытие?
Непоследовательность логики Мариона особенно бросается в глаза, если мы придерживаемся взгляда на личностность или самость, основанного на субстанции (Боэций), сознании (от Локка до Гуссерля), воли (Шопенгауэр и Ницше), или даже бытии (Хайдеггер) и существовании (Сартр). Все эти определения грешат в двух отношениях: (а) они предполагают логическое первенство агента или субъекта (subjectum), иными словами, того, что последовательно «тянет на себе» действие субсистирования, воления, бытия, сознания, и (б) они не способны объяснить специфичность этой конкретной личности, говоря только о личностях вообще. Однако все проблемы с утверждением Мариона исчезнут, если мы дадим личности новое определение, как предлагает сам Марион, на основании отношения.
Возможно, недостатки различных пониманий личностности будет легче оценить, просто перечисляя этические дилеммы, возникающие в результате ассоциации личностности с сознанием или с бытием (в смысле биологического существования). Отождествление личностности с сознанием гложет привести к постановке вопроса (действительно широко обсуждаемого сегодня в правовых дебатах), распространяется ли статус личности и соответствующие права на младенцев, нерожденных детей, людей с тяжкими психическими расстройствами или пребывающих в коме. То же касается и отождествления личностности с бытием или существованием. Имеют ли статус личности усопшие? Имеет ли мертвое тело достоинство личности? (Современное законодательство, похоже, дает на эти ответы утвердительный ответ, поскольку оно распространяет на мертвых права личности, например, защищая их от поругания и т.п.). Современной генетике, сводящей личность к геному, остается только удивляться случаям, когда у одного человека выявляется более одного набора генного материала (химеризм). Согласно стандартам биологического понимания личности, каждая «химерическая» личность должна расцениваться как несколько лиц[109].
Только основывая личностность на отношении, мы сможем решить эти этические дилеммы. Нерожденный ребенок — личность, потому, что это ребенок своей матери, а значит, даже до рождения он входит в связь отношения, наделяющего его статусом личности. Погибший сын или почившая мать продолжают быть личностями, поскольку их связь с пережившими их родными не нарушается смертью (напомним читателю место из Евангелия от Луки, взятое в качестве эпиграфа этой главы). Это особенно отчетливо видно на примере супругов: когда один из них умирает, другой никогда не «свободен» от отношения, установленного их браком. В самом деле, он не становится снова холостяком, а становится вдовцом. Остается подчеркнуть, что отношение, связывающее двух людей еще до их рождения и даже после их смерти, — это не социологический или политический феномен (как его, увы, рассматривают сегодня большинство мыслителей), а онтологическое явление. Оно затрагивает самую сердцевину их сущности, ведь именно отношение и лежит в основе этой сущности.
Впрочем, здесь мы вынуждены оставить в стороне всякие этические и любые другие импликации, которые могут иметь эти наблюдения, и вернуться к нашей теме — феноменологическому исследованию структуры соотнесенности личности (relational structure of person). Обосновывает ли феноменология понимание личности как конституируемой отношением и, тем паче, отношением, предшествующим ей? Может ли феноменология разрешить или объяснить немаловажную, как мы полагаем, загадку первенства отношения над существованием, неразрешимую для логики и метафизики? И как отразилась бы такая феноменология на теологической эстетике опыта Бога?
Феноменологическая трилогия Мариона (Редукция и дар, Быть данным и В избытке) закладывает фундамент для феноменологии просопон, продолжающей его феноменологию данности. В другом месте я попытался очертить эту феноменологию» обозначив ее как «четвертую редукцию»[110]. Однако следует отметить, что четвертая редукция с необходимостью предполагает третью и развивает ее[111]. Она соотносится с третьей редукцией примерно так, как вторая — с первой. Но что ее отличает от третьей редукции? Иными словами, для чего нам нужна еще одна редукция? Неужели трех предыдущих было недостаточно? Недостаточно, если, как показала нам третья редукция, феноменологии Гуссерля и Хайдеггера не удалось освободить нас от оков субъективизма. Третья редукция демонстрирует нам и необходимость этого, и путь, которым следует идти, однако осуществить это предстоит «четвертой редукции», которая должна устранить последние призраки платонизма в феноменологии: устранить угрозу понимания дара «одаренного» как некоего его «качества», добавочного к его конкретности, — как физический мир, для Платона, прекрасен и светел, но красотой и светом его наделяет внешняя ему реальность. Возможно, читателю будет легче оценить отличие нашего подхода от подхода Мариона на таком примере: если Марион признает, что личность во плоти излучает парадокс[112] интуиции, несоизмеримый ни с каким понятием («банальность» насыщенного феномена)[113], вопреки всем ее слабостям и недостаткам (таким образом, он уже совершает движение трансцендентности), то я, напротив, утверждаю, что парадокс насыщенности происходит не безотносительно к изъянам личности, а благодаря им (благодаря ограничениям и хрупкости имманентного), что делает этот парадокс еще более очевидным[114].
Далее, каждая редукция выводит за скобки определенную характеристику или элемент, чтобы разглядеть невидимое (до сих пор) или незамеченное измерение бытия (к примеру, в Гуссерлианской трансцендентальной редукции естественное отношение к вещам отстраняется в пользу их эйдетической наружности). Тогда что представляет собою тот х, который выводится за скобки просопической редукцией, центральной для феноменологии личности, и в пользу какого у он устраняется?
х, выводимый за скобки просопической редукцией, — это то, что Кьеркегор (в Деле любви) называет «сиюминутным различием», а у, оказывающийся таким образом в центре внимания, — это то, что Кьеркегор именует «вечным равенством»[115] (т.е. эсхатология).
В конечном счете, именно мирские разделения (сиюминутные различия) позволяют третировать другого с точки зрения «функциональности», как исполнителя той или иной функции. Ведь как раз эти разделения закрепляют за каждым различные функции (официант, преподаватель, жена), превращая личность в инструмент, служащий определенной задаче, иными словами, в средство к цели. Под функциональностью я имею в виду заведомо установленную манеру поведения по отношению к другим — своего рода Хайдеггерианский постав (Gestell), — который представляет нам, скажем, официанта официантом, и это представление всегда имеет место заранее, всегда оказывается заведомо готовым; иначе говоря «официантство» официанта автоматически сопутствует человеку, прислуживающему мне за обедом[116]. Возможно ли распутать эту связку и освободить одно от другого? Я не собираюсь сводить это обсуждение к чисто социальным, или даже классовым, различиям. Под мирскими различиями я имею в виду всякий аспект нашей личности, обусловленный, так сказать, внешними влияниями: социальными, но также и этническими, культурными и даже биологическими. Как пишет Иоанн Зизиулас, «другого не следует отождествлять с его /ее качествами», то есть с «чтойностью» (quiddity, — даже если эта «чтойность» из разряда метафизических категорий переходит в социальную или политическую сферу); другой определяется «самим фактом, что он /она вообще есть на свете и является собою»[117]. Просопическая редукция должна осуществить прорыв сквозь эти разделения к тому, что составляет наше «равенство» (разумеется, не в смысле однородности и не в смысле рода), которое становится возможным благодаря отношению и само делает возможным отношение. Вспомним, как перед лицом Другого каждый обнаруживает, что Другой — это тоже лицо. На сцене актуальности— заимствуя метафору Кьеркегора[118] — одному принадлежит роль короля, другому — нищего, но как только занавес падает, оба одинаково оказываются актерами; их сиюминутная разница исчезает. И также когда падает занавес просопической редукции, мы все предстаем в равной мере личностями; различия, привнесенные функционализмом, упраздняются. «Фундаментально иное» в нас и вместе с тем «общее для всех»[119] — это «подобие» друг другу и подобие Богу.
Редукция ad personam напоминает нам об опасности, всегда угрожающей нашему взаимодействию с другими (даже «концептуальному» взаимодействию, к примеру, когда мы «философствуем» о других людях), об опасности неправильно оценить Бога, неправильно оценивая другое лицо, ведь — Бог есть лицо, Бог есть в лице.
Личностность — это наше подобие с другими и с Богом. Джерард Мэнли Хопкинс, в эссе с внушительным заголовком О личности.. ,[120], отсылает к этому же принципу, говоря:
Убийство — это смертный грех против Бога, поскольку убив человека можно оказаться, подобно Каиафе и Пилату, убийцей Человека, Который есть Бог. И вообще, если бы только Бог оказался на месте другого человека, смертный грешник добился бы своего: (...) растлил бы, продал бы, убил бы. Иными словами, если грешник способен осквернить Божий образ, он мог бы сделать это и в отношении Божьего Лица[121].
В последнем предложении особенно красноречива параллель между «образом» и «лицом».
Что Кьеркегор называет «вечным равенством» — это как раз то, что мы имеем в виду под эсхатологией — ведь, в самом деле, это подобие, иконическое отображение Божества в каждом и всяком из нас, наиболее полно проявляется в эсхатологической перспективе, но это сияние всегда начинает мерцать уже сквозь теперь. Бот это мерцание, которое Мерольд Вестфал видел в «ореолах», окружающих лица людей на картинах Ван Гога[122], и учит распознавать просопическая редукция. Но чтобы увидеть его, необходимо, так сказать, «поднести» другого к свету, сияющему из невидимого и неведомого грядущего, а значит, отложить все свои определяющие суждения насчет подлинной сущности другого лица, не пытаться определять другого на основании его/ ее прошлого или даже настоящего. Истина другого человека принадлежит не прошлому и не настоящему, — она принадлежит эсхатону[123].
В своих ролях — короля, нищего, богача, бедняка, мужчины, женщины и т.п., мы не способны уподобиться другим — мы действительно разные.
Но в своем качестве ближнего мы несомненно уподобляемся друг другу. Разница — это та печать смешения, которой дух времени (temporality) обозначает каждого человека по-своему; но ближний — это печать вечности на каждом человеке. Можно израсходовать немало бумаги, записывая различные вещи о каждом; тогда в итоге никто не будет похож на другого. Но можно взять каждый лист и, не смущаясь различием написанного, поднести его к свету: на всех этих листах мы увидим, одни,и те же водяные знаки, — они проявляются лишь тогда, когда свет вечности сияет сквозь наши различия[124].
Итак, далее мы постараемся очертить основополагающие принципы этой просопической редукции, уточняя (обсуждавшееся в предыдущей главе) определение просопон и его значения для феноменологии опыта Бога.
Если, как мы убедились в первом параграфе этой главы, Воплощение научило нас ценить личность, позволило нам видеть в конкретном и специфическом не частный случай вида и не копию идеи, а незаменимость и несводимость личности, то должно быть возможно также и обратное — переход к Воплощению от специфичности и конкретности лица. Если мы пойдем в направлении от индивидуальности к principium individuationis par excellence, — к событию Воплощения, требуя, чтобы личность указала нам, откуда она черпает свой несводимый и неотчуждаемый статус личности, личность неминуемо укажет нам на другую личность, и в конечном счете на личностного Другого, от Которого она получает себя еще прежде своего бытия и существования[126].
Эта отсылка, этот указующий взгляд, который нам хотелось бы назвать — во всей многозначности этого выражения — смыслом просопон, есть связанность (relatedness)[127]. Предыдущая глава продемонстрировала глубинную связь отношения с этимологией и концептуальной генеалогией просопон. Далее мы увидим, каким образом понимание просопон как структуры соотнесенности (relational structure) может помочь нам сформулировать феноменологию опыта Бога.
Действительно, феноменологический опыт Бога не может соответствовать естественному пониманию опыта с его разделением на воспринимаемое и воспринимающее. Что же, в конечном счете, реально: основополагающее переживание себя как единства или переживание мира как множественности? Как можно иметь опыт (дискурсивная категория) существования (интуиция)? Или же, иными словами, как примирить тождественность моей самоидентичности как сознания с инаковостью моего переживания мира? И которому полюсу этого спектра, в конечном счете, принадлежит реальность? Если основания моей способности познавать зависят от таких правил, как закон тождества, где каждое «Я» равно себе, то что же позволяет мне мыслить о другом, о Тебе, как о другом «Я», не тождественном мне? Если все, так или иначе, сводится к Единому, как нам избежать эгоизма? А если все сводится к непрестанной изменчивости и многообразию объективного мира (мира опыта), как избежать редукционизма? Другой и Тот же, Единое и Многое — вот Сцилла и Харибда, поджидающие философа на этом пути. Разгадки этой головоломки, предлагаемые историей философии, склоняются то к одной чаше весов (субъект), то к другой (объективный мир).
Феноменология отказывается отдавать первенство как воспринимающему Я (как в рационализме или идеализме), так и воспринимаемым объектам (как в реализме или материализме). Этот отказ — ее эпохе[128]. Опыт, вернуться к которому энергично призывает просопическая редукция, — это опыт связанности[129]. Отношение между любыми двумя связанными явлениями (relata) конструктивно для них в их соотнесенности, а значит, более первично и изначально, чем их субъективность или объективность[130]. К примеру, когда я созерцаю картину, ни я (зритель), ни полотно (созерцаемое) не может иметь первенство (метафизическое, онтологическое или эпистемологическое) над другим. Более того, я являюсь зрителем благодаря полотну и именно поскольку оно являет себя моему взгляду; и наоборот, картина является картиной (может быть рассмотрена как картина) благодаря мне и именно поскольку я смотрю на нее. Строго говоря, ни картина, ни я как зритель не «существуем» вне этого отношения. Существует бесконечное число таких отношений. Существование и есть эта бесконечность отношений.
Эта позиция созвучна двум разнородным и непохожим теоретическим системам, которые могут снабдить нас необходимыми примерами: речь идет о потрясающих выводах Копенгагенской школы (Нильс Бор, Девид Бом и Макс Борн) в области квантовой физики и о богословско-философском наследии русского теоретика и ученого Павла Флоренского. Принцип неопределенности, предложенный Вернером Гейзенбергом в 1925 году, дерзко утверждает, что электрон реагирует на своего наблюдателя изменением «поведения». Это заявление пошатнуло как статичный взгляд на вселенную, регулируемую универсальными и неизменными законами (а 1а Ньютон), так и уверенность эпистемологических предпосылок ученых относительно нашего физического мира. Однако именно Девид Бом наиболее радикально выявил значение этих изменений для нашего понимания десубстанциированного (а значит, и деобъективированного) мира. В его Квантовой теории мы читаем:
Свойства материи не до конца определены; ее взаимно противоположные возможности могут быть поняты только исходя из взаимодействия с другими элементами... Так, на квантовом уровне точности объект не имеет никаких «собственных» качеств (к примеру, волна или частица), которые бы принадлежали лишь ему одному; все свои качества он разделяет с системами, с которыми он взаимодействует, от которых он неотделим[131].
Флоренский представляет подобный взгляд, только выраженный другим языком. Желая указать более фундаментальное основание истины, нежели даже закон тождества, он ступает на безосновательное основание антиномии (очень похоже на coincidentia oppositorum его предшественника, Николая Кузанского). Однако, для Флоренского, противоречивый характер антиномии не исключает ни одного из противоположных полюсов, а скорее утверждает каждый из них на основе другого. Впоследствии эта интуиция приведет его к пониманию противоположностей (таких как тождество и инаковость) в категориях отношения. Для Флоренского, истина может быть только в отношении, ведь она определяется как «созерцание Одного через Другое в Третьем»:
Если «другой» момент времени не является уничтожающим и пожирающим собою «этот», но, будучи «другим», он есть в то же время «этот», т.е. если «новое», открывающееся как новое, есть «старое» в его вечности, если внутренняя структура вечного «этого» и «другого», «нового» и «старого» в их реальном единстве такова, что «это» должно появиться вне «другого» и — «старое» — ранее «нового», если, — говорю — «другое» и «новое» является таковым не через себя, а через «это» и «старое», а «это» и «стяпре» суть то что они суть, не через себя, а через «другое» и «новое», если, наконец, каждый элемент бытия есть только член субстанционального отношения, отношения-субстанции, то тогда закон тождества, вечно нарушаемый, вечно восстановляется самым своим нарушением[132].
Что Флоренский называет «субстанциональным отношением», мы здесь именуем просопон. Понимать просопон только как «личность» (и, следовательно, как другого человека) — это недоразумение. Просопон определяет тропос (т.е. путь, «как»), а не только топос (место, «кто»). «Личность» действительно является первым значением просопон именно потому, что личность соответствует смыслу просопон («к-лицу-Другого»). Итак, просопон следует понимать как диаду: топос и тропос — эти два значения пребывают в диалектическом отношении, как две стороны одной медали (что, стало быть, снимает вопрос о первенстве какой-либо из сторон). «Все бытие, по самой природе бытия, имеет двойственную структуру, имея измерение „интроверсии“ (внутрь) как сущность и измерение „экстроверсии“ (вовне) как соотнесенность через действие»[133]. Далее я постараюсь предложить краткое описание каждого из этих феноменов, не забывая, что, хотя исс/хедование вынуждает нас рассматривать их по отдельности, один никогда не может возникнуть без другого.
Феноменология просопон показала бы нам всю совокупность феноменов (всяких феноменов) через призму просопических отношений. Ты передо мной и бумага, на которой я пишу, текст или чувство, событие или произведение искусства, — не все из этого имеет лицо, но все это может представать в просопическом измерении. Все эти феномены возникают благодаря той или иной связи с личностью. Если я не пишу этой ручкой Тебе, или для Тебя, или о Тебе, — то что она может для меня значить? Сама по себе ручка (изъятая из всякого просопического отношения) бессмысленна. Логично задаться вопросом, могу ли я вообще увидеть ручку как чистый объект (вне каких-либо отношений). Эта ручка, и любой другой предмет, обретает значение лишь в отношении к кому-то (к тебе, к просопон). Зерна связанности содержатся уже в Гуссерлевском прорыве 1900 года, — в осознании, что, по крайней мере, в восприятии, воображении, памяти сознание всегда предстает «сознанием о...». Что же еще может означать это «о», которое соединяет осмысляющее (intending) сознание с его осмысленным (intended) миром, как не указание на отношение? Насколько сознание интенционально, настолько оно и соотнесенно (relational).
Хайдеггеров анализ повседневности уже продемонстрировал, в какой большой мере Мир представляет собой такую совокупность взаимосвязанных отношений. К этому определению остается добавить лишь одну деталь: Мир представляет собой совокупность отношений, которые в конечном счете ведут к личности (reductio ad personam)у совокупность отношений с кем-либо, совокупность отношений к Другому. Для нас также Мир — это система отношений, обретающая смысл только благодаря присутствию или отсутствию конкретного Другого (reductio per personam). Иначе говоря, Мир (совокупность феноменов) собственно возникает только тогда, когда он сводится к моему личностному отношению с Другим. Просопическая редукция открывает ве1ци (чувства, мысли, события), окружающие нас и образующие наш Мир, как вещи-для-Другого (reductio pro persona). Все вещи становятся на свои места, занимая место в этом хитросплетении связанных отношений, ведущих к Другому как к источнику всякой связанности. Другой — имплицитное (иногда скрытое) ядро этой конфигурации, открывающей для меня Мир как таковой. Без Другого вся эта сложная и тонкая схема приходит в упадок. Однако этот Другой — не Другой в своей инаковости (Другой как другой), а скорее Другой в своей связанности (личностный Другой). Просопон — больше, чем Dasein («тут» Бытия); это, прежде всего, Da-welt и даже Da-gott.
Эти ремарки приблизили нас к чину Платонового эксайфнес: к этому внезапному и стремительному явлению афанес (неявного) на «свет» феноменальности. Феномены эксайфнес подчиняются особой логике: в момент эксайфнес окружающие меня вещи вынуждены отступить, в каком-то смысле «исчезнуть», позволяя тому-что-не-видно обнаружить себя. Как будто все вокруг меня становится прозрачным; как будто, просвечивающаяся ткань Мира не скрывает Тебя от меня. И все же я понимаю, что это не вещи устраняются, — просто Ты превосходишь их.
Как я вижу, точнее, что я вижу, видя Тебя? Тело? Но разве в твоем Теле я вижу что-то кроме тебя? Исчерпываешься ли Ты своим телом? В таком случае, что такое жест? Тон твоего голоса? Поза? Те же вопросы можно задать и относительно картины. Что определяет принадлежность данного полотна Ван Гогу, а не Рембрандту?
Что такое стиль? Он на картине, но он не является картиной. Это неявное, афанес, которое каким-то образом проявляется (не становясь видимым само по себе). Как же стиль «проявляется», если он невидим? Ведь то, что видимо на картине — цвета, очертания, мазки краски, — это точно не стиль. Это слышит и видит не глаз (как физический орган) и не ухо, а Я, — но само это Я невидимо, неслышимо, неприкосновенно[135]. Потому-то Я может видеть, слышать и осязать.то, что мы тут называем неявным. Это не ставит под угрозу воплощение и плоть — как раз наоборот. Я не висит в воздухе, оно всегда реализовано — воплощено — в моем теле (как стиль в полотне), но оно никогда не исчерпывается без остатка телом, понятым как физическая, измеримая, т.е. объективная вещь. Кто осмелился бы сказать, будто Я — это вещь? (Кто, кроме Декарта, Лейбница или Спинозы?) Итак, феномен неявного .странным образом удваивается, проявляясь на обоих концах феноменологического спектра: Я столь же неявно, как и Ты.
Итак, феноменология личностности может брать за свою отправную точку эксайфнес, когда, глядя на вещи, мы видим Другого (или ощущаем себя под взглядом Другого — ведь не столько мы видим Другого, сколько Другой обнаруживает себя нам посредством мира). Все это хорошо иллюстрируют особые моменты жизни — когда человек влюбляется[136]. Когда я влюблен, музыка, доносящаяся с каких-то задворок в зал ожидания аэропорта (незаметная в другом случае), вдруг оказывается в фокусе моего внимания, резко напомнив мне о Тебе. Вещи, окружающие меня, интересуют меня ровно постольку, поскольку я полностью утратил к ним интерес, интересуясь только Тобой, — но поскольку этот мир также и Твой мир, он затрагивает меня как Твой мир, и только как Твой мир. Все, абсолютно все меняется, будучи запечатлено этими вездесущими знаками Твоего присутствия, — а то, что неспособно измениться (и это единственная возможная альтернатива), остается совершенно безразличным для меня.
Когда ужасные вести о смерти Патрокла достигли Ахилла, для него был утрачен весь мир: «Ибо и сердце мое не велит мне жить и в обществе быть человеческом» (Илиада ХVIII. 90-91[137]); без него величайший герой Греции — всего лишь «земли бесполезное бремя» (104). Что тяготит Ахилла, так это бремя нарочито безразличного мира, которое больше не опосредовано для него Другим и давит на него всей своей тяжестью. Более тысячелетия спустя, смерть друга Августина приводит к настолько же тяжкому кризису референтности его мира: «Родной город стал для меня камерой пыток, отцовский дом — обителью беспросветного горя; всё, чем мы жили с ним сообща, без него превратилось в лютую муку». То самое, что прежде было наиболее знакомо Августину— его дом, его родина— вдруг оказалось наиболее чужим: «Повсюду искали его глаза мои, и его не было. Я возненавидел всё, потому что нигде его нет, и никто уже не мог мне сказать: „Вот он придет“, как говорили об отсутствующем, когда он был жив. Стал я сам для себя великой загадкой» (Исповедь IV. 4.9).
Однако это не все. Просопон — это не только Другой, но настолько же фундаментальным образом и я сам. В этом состоит ключевое отличие нашего подхода от этики Левинаса, поскольку Левинас настаивал на «асимметрии между мною и Другим», тогда как просопон предполагает взаимность и общность.
Однобокое внимание к вопросу «Кто?» («Кто я?») заставило философию забыть о сопутствующем ему вопросе «Где?». Любые ответы на первый вопрос описывают человека, пребывающего, по сути, нигде. Место никогда не принимают во внимание как часть идентичности, а это означает не что иное, как исключение тела, поскольку категория места описывает именно тела. Подобно печально известному герою сказки Шамиссо, философ продал дьяволу свою тень. Итак, нас не должно удивлять, что он обречен бродить по свету, нигде не находя себе покой. Человек без тени — это тот, кто находится нигде, кому недостает телесности и связи с местом — он «не имеет места», следовательно, он не-реален, или, на языке Платона, «у-топичен» (атопос). Я считаю, очень красноречиво, что в романе Дж. М. Барри Питер Пэн утрачивает тень вместе с возможностью расти и взрослеть.
Но не было ли искоренение тени всегдашней мечтой западной души? В самом деле, две вещи особенно пленяют западную «мифологию»: отражение в зеркале и тень, которую отбрасывает тело. Мы чаще слышим о первом (от истории Нарцисса до Лакановой стадии зеркала), нежели о втором. Но это лишь усугубляет наш интерес к фантазии о существе без тени.
Вероятно, архетипическую версию этой фантазии мы находим в одном из наиболее канонических: мифов философии — Платоновом мифе о пещере. Читатель соответствующего отрывка не может не отметить, насколько часто употребляется слово «тень» (скиа) на протяжении нескольких строк этой аллегории. В самом деле, мир пещеры — не что иное, как реальность теней: тот самый мир, из которого стремится сбежать философ. Но куда? В светоносный мир чистых форм, в мир без теней.
Если верить заключениям Гомбриха относительно истории западного искусства[138], западный художник изо всех сил избегает спускаться в Платонову пещеру, предпочитая изображать мир без теней. Тени проникают в западное искусство очень медленно, причем даже когда они появляются, это лишь рудиментарные тени, регулируемые перспективой, — то есть следствия скорее геометрии, чем топологии. Цель настоящего рассуждения — вернуть личности топичность, обнаруживая, как просопоНу на сей раз в качестве топос, конкретизирует свою личностность в специфичного себя.
Нашей отправной точкой может быть начало исследования Джерардом Мэнли Хопкинсом того, что он называет «вкусом себя»:
...Я задумываюсь о бытии собой, о моем самосознании и самоощущении, об этом вкусе себя, о вкусе меня, наполняющем и превосходящем все вокруг, более отчетливом, чем вкус эля и солей алюминия, более остром, чем запах орехового листа или камфары, совершенно непередаваемом другому человеку (когда я был ребенком, я спрашивал себя: как это быть кем-то другим?). Ничто в мире не может даже сравниться с этим невыразимым тембром, с этой особостью, самобытностью (selfbeing), самованием (selving). Ничто не может это выразить или этому уподобиться, кроме понимания, что другие люди сами по себе испытывают то же чувство. Но это лишь умножает феномены, которые нуждаются в объяснении, коль скоро во всех случаях можно усмотреть некое подобие. Но для меня тут нет никакого сходства: в поисках сути я способен пригубить самость лишь из одной кружки — из своей[139].
Этот уникальный тембр, вкус себя, играет у Хопкинса ту же роль, что и haecceitas[140], высший принцип бытия[141], у Скота[142]. И именно этот вкус вызывал «тошноту» у некоторых экзистенциалистов XX века:
Что для Другого является его вкусом себя, то становится для меня плотью Другого.
Плоть — это чистая непредвиденность (contingency) присутствия. Обычно она скрывается под одеждой, макияжем, прической или бородой, выражением лица и т.п.
Но при долгом знакомстве с человеком всегда наступает момент, когда все эти элементы маскировки больше не скрывают от меня присутствия чистой непредвиденности его присутствия. В таком случае лицо или другие части тела сообщают мне чистую интуицию плоти. И это интуиция — не только познание; это аффективное ощущение абсолютной непредвиденности, и это ощущение представляет собой особый вид тошноты[143].
Вкус себя — это несводимый феномен подлинной уникальности (или, языком Скота, первого несходства, primo diversa)[144], которую невозможно исчерпывающе объяснить ничем, ни естеством, ни субстанцией, ни формой, ни материей, ни сочетанием их обеих[145]. Итак, она остаемся неопределимой и по существу несообщаемой[146].
Однако, что наиболее важно для нас в насыщенном схоластическом изложении Скота, это радикальные следствия его мысли: если ни одна классическая, метафизическая категория не способна объяснить этовость вещей, значит, то, что отличает эту вещь от всех остальных и единит ее с собой, должно быть первичнее всех эти± категорий. Языком Хопкинса, «Самость (Seif) это внутренняя единичность вещи, предшествующая ее бытию»[147]. Предшествующая и самой ее природе: «Итак, голая самость, еще не облеченная никаким естеством, не прикрытая никакой природой, — это поистине ничто, полный ноль в отношении существования, но в качестве возможности она имеет положительное значение — как положительная бесконечно малая величина, — и обладает внутренним отличием от любой другой самости»[148]. Эта первичность, конечно, означает онтологическое первенство и одновременно логический парадокс, поскольку самость предшествует даже собственному бытию[149]. Лишь «антиномическая» логика, присущая, например, Скоту (и, как мы уже убедились, Мариону)[150], способна охватить специфичность личности с ее свободой, поскольку личность свободна быть и быть собой, даже прежде, чем быть-вообще, прежде чем ее начнет формировать фактичность бытия[151].
Онтологическое первенство личностности перед бытием и существованием возможно лишь благодаря отношению. Мы видели, как в Марионовой феноменологии дара, зов, адресованный к самости, окликнутой (interpolated) и данной, призывает эту самость (как interloque и αάοηηέ) к бытию. Хотя этот зов простирается на всех и каждого, он в то же время обращен лично к каждому[152]: Юноша, тебе говорю, встань! Можно добавить, что этот зов подобен голосу доброго Пастыря, который зовет своих овец по имени (Ин. 10:3). Собственное имя в таком случае предстает знаком конкретности, жалуемой обращением по имени. Иными словами, именно индивидуальный зов («по имени») наделяет индивидуальностью («именем»).
Однако для нас специфичность личности коренится в ее способности к участию в отношениях и к установлению отношений. Сам по себе зов является таким отношением, возможно, самым основным и первичным, — но все же отношением.
В связи отношений, устанавливаемых каждым человеком, каждый из нас занимает совершенно уникальное место — вспомним сына вдовы, брата Антигоны — место, которое уже не сможет занять никто другой: ведь этот топос — внутри человека, или, еще точнее, это сам человек (просопон как топос), которого, следовательно, невозможно заместить. Итак, отношение преодолевает утопию (буквально, без-местность) модерного и постмодерного субъекта, вновь возвращая ему топический характер, в его партикулярнсти и уникальности. Он, наконец, получает обратно свою тень.
Феноменологически выражаясь, бесконечно малое явление самости является следствием столь же минималистической феноменологии[153], — феноменологии, подчеркивающей перекрестное единство феноменальности феномена с самим феноменом. Или, иными словами, форма (Gestalt) феномена— не что иное, как его содержание (Gehalt). Феноменология личности дала бы право на существование определенному роду феноменов, которые отсылают лишь к себе самим или, скорее, к факту своего явления — именно таковы феномены феноменальности. Парадокс тут состоит в том, что каждый феномен, в силу самого своего явления, прежде всего является феноменом собственной феноменальности. Хотя, поскольку он передает или несет и другую информацию (кроме минимального сигнала о собственном появлении), он фиксируется как феномен чего-то. В исключительных — впрочему внешне вполне обыденных — случаях феномены могут, хотя бы на миг, совершенно исчерпываться чудом своего файнестай. Это означает, что в исключительных случаях (причем исключительными в этих случаях являются не сами феномены, а наше отношение к ним), мы можем позволить себе быть захваченными необычайной обычностью вещей.
Я думаю, это именно то, о чем говорит Керни: «Само божественное проявляется в малых сих, в цвете глаз, в очертаниях рук и пальцев, в тоне голоса, во всех крошечных эпифаниях плоти и крови»[154]. Когда мы позволяем себе замечать незаметные проявления божественного в повседневном, то это означает, что мы вернулись к изначальной философской страсти удивляться (θαυμάζειν)[155].
Впрочем, один феномен наиболее полно отвечает этому принципу ипостасного единства феномена и феноменальности. Речь идет о самом основании этого принципа, об архетипе, прафеномене (Ur-phenomenon) всех дальнейших феноменов: о Воплощении[156]. Что же еще может стоять за проявлениями божественного в плоти и крови конкретных человеческих существ? Воплощение — одновременно и иллюстрация принципов феноменологии, и вызов этим принципам. Если бы я хотел определить феномен Воплощения, мне пришлось бы, в первую очередь, указать на единичность его эпифании. В таком случае «что» этого феномена совпадает с его «как». Его Offenbarung [откровение] — не более и не менее чем его Offenbarkeit [открытость][157]. «Содержание» (message) Воплощения — не «идея» и не «система» (что было бы оксюмороном), как бы чудесна и привлекательна ни была эта идея, — это плоть и кровь.
Хайдеггер начинает свой magnum opus, Бытие и время с заявления, в котором мерещится хула: «„Сущность“ этого сущего лежит в его быть. Что-бытие (essentia) этого сущего, насколько о нем вообще можно говорить, должно пониматься из его бытия (existentiä)»[158]. Что в этом заявлении наиболее провокативно — это тот поразительный факт, что Хайдеггер определяет человеческое существо (Dasein), присваивая ему, не более и не менее, как определение Бога. По видимому, Хайдеггер имеет в виду именно определение Бога св. Фомы, согласно которому только Бог «является собственной сущностью, quidditas, или природой» (Summa Contra Gentiles, I, 21); и опять, «в Боге сущность или quidditas не отличается от существования»(Summa Contra Gentiles, I, 22). Разумеется, столь дерзкий ход не означает молчаливого апофеоза человечества; скорее уж Хайдеггер целил в Бога. Желая дать новое определение человеческой личности или, феноменологически выражаясь, просопон, и определяя ее как совпадение феномена (сущности) с феноменальностью (существованием), т.е. как ипостазированную экзистенцию, я имею в виду исключительно событие Воплощения. Вопреки Хайдеггеру и св. Фоме, я не считаю, что ипостазирование Богом Его собственного существования исключает возможность для человека, превосходя свою природу, избирать, кем ему быть (или становиться). Если человек может существовать как личность (что Хайдеггер утверждает относительно Dasein), то это потому, что Бог (личность par excellence) стал человеком. Ставить под сомнение личностность воплощенного Бога означает непосредственную угрозу моему статусу личности[159]. Мы прослеживаем действие этого принципа во всей истории философии: всякое искажение относительно личностности Бога немедленно бьет по человеческой самости. Событие Воплощения должно быть центром притяжения для всякого феноменологического анализа, по отношению к которому должен оцениваться всякий феномен (даже самый мирской).
По факту своей связи с Воплощением, просопическая редукция неминуемо эсхатологинна. Ведь воплощение — это эсхатон, реализованный в плоти Другого, в голосе и чертах моего ближнего. Не будь это так, не неси в себе Воплощение непревзойденный эсхатон, можно бы с полным правом ожидать времени, когда я смогу более непосредственно, точно и полно понимать Другого. Но такое ожидание неминуемо обесценивает (релятивизирует) явление Другого в здесь и сейчас моей повседневности. Наличие такого эсхатона вне воплощения предоставило бы мне метафизическое алиби, чтобы не замечать Другого рядом со мной, игнорировать, пренебрегать или недооценивать его/ ее, ожидая более подлинной встречи с другим Другим (или с Совсем Другим, tout autre) в конце Истории, понимаемой в гегельянском духе, как некая метафизическая тотальность.
Отклонение от религии
Разговоры о просопон, о воплощении и об эсхатологии могут навести кого-то на мысль, будто феноменология просопон — свидетельство очевидного триумфа религии на территории феноменологии. Разве четвертая редукция не подтверждает опасений тех, кто говорит о «богословском повороте феноменологии» и даже «повороте философии к религии»? На такой вопрос я ответил бы, что, как раз наоборот, просопон не имеет ничего общего с религией, если под религией — политеистической, монотеистической или атеистической — мы понимаем разделяемый сообществом акцент на двух вещах: природе (которую религия пытается объяснить, обращаясь к более-менее мифическим моделям ее происхождения) и, соответственно, космологии. Просопон же[160], по контрасту с этим акцентом религии на природе и космологии, переносит ударение на историю и эсхатологию. Уже по этой одной причине связанность (relatedness) просопон не может и не должна сводиться к строгим границам религии. Когда апостол Павел пережил обращение, он не перешел из одной религии в другую — он оставил религию вообще, чтобы свидетельствовать о превосходящем религию событии Воплощения[161]. Поэтому формальные характеристики религии (ритуалы, вроде обрезания или жертвоприношений, соблюдение праздничных дней и диетических ограничений, место богослужения и т.п.) утрачивают значение и становятся не важными. Они предстают поблекшей «тенью Закона», ведь «древнее прошло, теперь все новое» (2Кор. 5:17). Религия, в обозначенном нами смысле, представляет такой же (если не больший) риск для церковного события, как и секуляризация; ведь во имя безличной любви и справедливости она жертвует уникальностью просопон ради бесплотной идеологии.
По сути, возражение против «религиозного» непонимания феноменов подразумевает другую, альтернативную возможность — возможность нерелигиозного, секулярного понимания. Следовательно, такое возражение воспроизводит языческое (или «первобытное», по Левинасу)[162] различие между сакральным и секулярным — различие, упраздняемое просопической редукцией. Вернуться к эсхатологическому видению повседневности означает смешать временное с вечным, смыть границу между светским и сакральным, разрушить преграду между священным и профанным. Итак, тщетно задаваться вопросом о «гражданстве» феноменов: является ли лицо, которое я вижу, феноменом светским (а значит, другим лицом) или феноменом сакральным (а значит, лицом Божьим)? Ведь для просопической редукции — именно благодаря ее способности превосходить такой манихейский взгляд на мир — это не более, чем псевдодилемма; лицо Другого — всегда и то, и другое: другое лицо и лицо Божье. Как в квантовой физике, оно может быть сразу И частицей, и волной. Это зависит от того, как я воспринимаю Другого и как Другой являет мне себя. Феноменологий не может и не должна а priori (т.е. прежде моего отношения с Другим и с Миром) классифицировать феномены, подобно старой библиотекарше, расставляющей книги по номерам. Экзистенциальный перекрест — это крест, на котором религия и секуляризм должны принести в жертву свою логику. Религия, закон, этика способны, в определенных обстоятельствах, решающим образом направлять нас к эсхатону Воплощения, но они — не более чем лестницы, которые со временем можно и необходимо отбросить.
В этой главе мы пытались дополнить обратную интенциональность предыдущей главы наброском того, что мы назвали просопической редукцией. В первой главе человеческая личность была представлена как топос божественной эпифании и подлинный «феномен» Бога; соответственно, в этой главе нашей задачей было продемонстрировать, как открывающий характер просопон внутренне обусловлен тропосом, т.е. связанностью (relatedness) как модусом феноменальности просопон. Необходимость, заставляющая феноменологию Бога начинать исследование с личности, т.е. с ипостасной экзистенции, а не с трансцендентализированного естества, невозможно спутать с шагом к антропоморфизму. Здесь нет регрессии к дофеноменологическому видению человечества, изолированного от мира; здесь нет места противопоставлению между внутренним самосознанием («человеком») и внешней реальностью. Напротив, я обозначил черты феноменологии просопон на фоне феноменологической эволюции (интенциональное сознание, разоблачающий характер Dasein, бессубъектный дар adonne) именно для того, чтобы подчеркнуть феноменологически фундаментальное единство здешнего и запредельного, бытия и видимости (appearances). Вот это непрестанное движение частицы «прос-» («к»), ее постоянное путешествие к другому, к миру, за пределы себя, ее синонимичная способность к отношению и к обращению была избрана нами в качестве отправного пункта к феноменологии Бога. Пожалуй, это единственное возможное начало феноменологии вообще.
Глава 3. Эстетический перекрест
Пришло время подробнее обсудить punctum caecum [слепое пятно] времени и видимости, о котором мы лишь между делом упоминали в предыдущих двух главах. Здесь, в определенных случаях, которые мы охарактеризовали греческим словом эксайфнес (έξαίφνης), проявляется некая апофатичность: конечно, не как конкретный феномен, а как уникальная модальность феноменальности, которая — всегда непредсказуемо — позволяет нам, сквозь сами-вещи, бросить взгляд в сторону вещей-грядущих. В этой главе мы обсудим этот модус эсхатологической феноменальности невидимого через призму двух взаимосвязанных категорий:
Augenblick, о котором говорил Хайдеггер, и эксайфнес, впервые концептуализированный Платоном. По крайней мере на одном из уровней эти два философских критерия объединяет этимология; оба термина указывают на структуру видения, на действие выхватывания взглядом из невидимого и неявного, — но в то же время оба термина отсылают к определенной форме темпоральности за пределами времени. Der Augenblick очевидно означает «мигание глаза» [ср. слав, «мгновение ока»], тогда как платонический эксайфнес (что обычно переводится словом «внезапно») описывает переход из а-фанес к феноменальности. Оба термина вписаны традицией в контекст эсхатологического ожидания грядущего Царствия и его кайрос. Что же является в мгновение Augenblick или эксайфнес? Как время связано с видимым? Какое отношение эта эстетика темпоральности имеет к теологической эстетике, обсуждаемой нами на этих страницах? Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, нам придется сперва провести различие между двумя разными пониманиями временного: хронос и кайрос. Напряжение между двумя этими феноменами темпоральное™ возможно разрешить, только обратившись к эсхатологии. Однако к эсхатологии, не связанной структурами мессианского времени, и, напротив того, позволяющей повседневным феноменам вроде музыки создавать собственное ана-хроническое темпоральное измерение, которое Гельдерлин охарактеризовал как «время, изборожденное безднами».
«Все прочие средства коммуникации (media) имеют своим началом пространство. Лишь музыка возникает во времени»[163]. Этим остроумным наблюдением мы обязаны Кьеркегору. Несомненно, легко представить себе пространство, которое должна занять картина или скульптура, — но что можно сказать о театре или поэзии? Разве театральное представление не больше места, которое оно занимает на сцене? Разве стихотворение не пространнее исписанных страниц? С другой стороны, разве музыка не имеет места — места в пространстве? Должны же звуки, в конце концов, преодолеть определенное пространство от их источника до барабанной перепонки. Но, несмотря на эти — и, возможно, другие подобные — возражения, афоризм Кьеркегора остается в силе: «лишь музыка возникает во времени». Чтобы оценить истинность этого замечания, мы должны задаться вопросом, о каком времени говорит Кьеркегор. Вопрос звучит, конечно, странновато: «о каком времени?» Разве существует какое-то время, кроме того единственного, которое все мы исчисляем минутами, секундами и часами?
Однако темпоральность не ограничивается временем. Грекам были известны два разных феномена темпоральности, названия которых дошли до наших дней, — хронос и кайрос. Хронос — это время, рассмотренное как последовательность или протяженность, неминуемо составляющая хронологию: каждая уходящая минута накапливается в тех слоях мертвого времени, которое составляет хронику наших жизней. Хронос представляет то, что Хайдеггер называет «вульгарным пониманием времени»[164] или «неподлинным настоящим временем»[165]. Это время — не что иное, как неопределенная серия «теперь»: настоящее — это «теперь», которое «есть»; будущее — это «теперь», которое однажды будет, но пока еще не настало; прошлое — это «теперь», которое когда-то было, но уже прошло. Но между тем, чего «пока еще нет», и тем, чего «уже нет», — нет ничего[166]. Всякое настоящее «теперь» приходит из ничего и уходит обратно в ничто. Отсюда омонимия между хроносом и Кроносом: в хронологическом опыте времени греки усматривали мифическую фигуру Кроноса или Сатурна, бога, пожирающего собственных детей[167].
Время представляло проблему для философии с самого ее рождения. Ионийские мыслители связывали феномен времени то с круговращением небесных сфер, то с неудержимым течением реки. Платон называл его подвижным образом вечности, Аристотель — численной мерой движения или изменения. С Платона начинается долгий процесс интернализации времени — красноречивые свидетельства о нем можно найти у множества мыслителей — от Августина с его distentio animae [протяжением души] до Канта с его субъективной чистой интуицией. Консенсус всех этих источников сводится к одному: время фундаментальным образом связано с движением, без которого мы никак не могли бы заметить время (или же иметь опыт времени). Под движением мы здесь понимаем кинезис. Этот термин охватывает ряд представлений об изменении — не только смену положения в пространстве (перемещение). Итак, не благодаря течению времени мы осознаем движение, а именно благодаря движению мы осознаем время. Во всяком случае (и здесь справедлив упрек Канта, что мы мыслим время в категориях пространства), я неминуемо воспринимаю время как уходящее, как будто оно движется из фиксированного пункта А в фиксированный пункт Б.
Такому пониманию времени как хронос (уходящее время) противостоит иное понимание темпоральности — кайрос. Если хронологическое время рассматривается горизонтально, как последовательность и протяженность (continuity), то кайрос представляется вертикальным и не-протяженным (dis-continuous). Если хронос измеряется секундами, минутами, часами и годами, то кайрос никак нельзя измерить, ведь он возникает лишь в Мгновении. То, что мы здесь называем «Мгновением» (“the Moment”) — т.е. Augenblick или эксайфнесу — характеризуется этой не-протяженностью (dis-continuity), благодаря которой, согласно Хайдеггеру, мир пρο-является (is dis-closed) [168] и Dasein идет навстречу про-изволению (de-cision). Ведь даже если было бы возможно сложить все кайрологические мгновения вместе, это все равно нимало не помогло бы нам исчислить кайросу поскольку каждое мгновение кайрос (в отличие от каких бы то ни было единиц времени), в уникальном смысле, всегда тождественно себе, всегда возвращается в повторении. Это наглядно видно в литургическом восприятии событий прошлого (таких как рождение Христа, Его распятие и т.д.), которые всегда предстают совершающимися «днесь»: исследование церковных песнопений покажет, что Литургия не знает иных темпоральных категорий, кроме «днесь». Повторение стало ключевым философским термином благодаря оригинальному анализу Кьеркегора, посвятившего ему целый трактат. Кьеркегор справедливо усматривает в повторении новую темпоральную категорию, противопоставляя ее платоническому воспоминанию (анамнезис). Воспоминание, пишет он, позволяет нам «вернуться назад в вечность», а повторение решительно устремляется в грядущее, и этот его грядущий характер вдохновляет" нас «идти вперед в вечность»[169]. Здесь противопоставлены два разных значения вечности: (а) предсуществующая, предваряющая вечность, которую можно назвать космологической вечностью, и (б) предлежащая вечность, достигающая нас в настоящем, которую можно назвать эсхатологической вечностью.
Ничто не угнетает нас более, чем бремя невозвратного прошлого. Перед прошлым мы бессильны: все сделанное нами и все сделанное нам обретает непререкаемый авторитет фактов, самих-вещей, которые к тому же формируют нас теперешних. Ничто не угрожает нашей свободе больше, чем предопределенная и заданная «природа», наша фиксированная фактичность. Большинство из нас рассматривают себя как тех, кем мы были (have been[170]), — наша идентичность подобна архиву, где неизгладимо зафиксировано всякое наше действие, всякий поступок и помысел. Достаточно вспомнить полицейские досье, кредитные истории, академические аттестаты, профессиональные резюме, истории болезни. Во всех этих случаях — и для всех институций, которые они представляют: полиции, академии, рынка, системы здравоохранения, — мы просто сводимся к нашему прошлому. Прошлое подобно нашей тени — оно следует за намй по пятам, и от него невозможно избавиться. В противовес этой логике эсхатология предлагает новую логику — логику нового, novum, доктрину de novissimis. В Откровении (21:5) «новое» совпадает с последним, образуя вместе то, что известно как эсхатология. Самим-вещам противостоят вещи-грядущие.
В одержимости нашего общества прошлым виновата наша эпистемология, всецело археологическая (поскольку она занимается архэ, началами) и протологическая (поскольку она занимается тем, что было первым). Иными словами, наше познание неминуемо основывается на опыте (тут достаточно сослаться на первые строки Кантова Введения к Критике чистого разума), а опыт — это всегда опыт того, что было и прошло, иными словами, того, что может быть измерено, исследовано и зафиксировано в реестрах и архивах вроде вышеназванных. В повседневной жизни мы рассуждаем согласно этим археологическим парадигмам: происхождение вещи или личности может ставить под вопрос ее истинность. Начало определяет конец, а не наоборот. Как же может быть иначе? Начало функционирует как причина начавшегося, — а разве причина не предваряет свои следствия?
Не обязательно. Хронологический и онтологический приоритет причины проблематизируется рядом таких событий, как Творение, Воплощение, Распятие и Воскресение. Эти явления не вписываются в протологическую парадигму причинности: что было бы, к примеру, «причиной» Распятия? Имеет ли Крест какой-то смысл, если рассматривать его сам по себе, г.е. как следствие предшествующих событий из жизни Иисуса? Крест, как мы полагаем, становится Крестом только при взгляде из грядущего, т.е. с точки зрения следующего за ним Воскресения. Итак, с богословской точки зрения, «причиной» Распятия является Воскресение. А само Воскресение— неужели имеет смысл говорить, что Воскресение есть «результат» или «следствие» Страстей Христовых? «С точки зрения Павла, — пишет Иоанн Зизиулас, — даже историческое событие Воскресения Христова не имело бы смысла, если бы не было окончательного воскресения всех людей в Канце времен: Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес (1 Kop. 15:13)»[171]. С этой мыслью соглашается и Жан-Ив Лакост, говоря, что гегельянское понимание Истории как прогрессирования, нацеленного в будущее, «в конечном счете, было бы справедливо лишь в том случае, если бы Воскресение Распятого не означало бы обещания и сводилось бы лишь к значению прошедшего — примирения Крестом»[172]. С богословской точки зрения, следовательно, причина происходящих и происшедших событий — не в их начале, а «в конце» — ведь они происходят из Царствия Божия; строго говоря, именно Царствие составляет их происхождение. «Человек является вполне собой не в начале (на рассвете сознания или на заре истории)»[173]. Ведь, как сказал бы Хайдеггер, начало определяет историю лишь постольку, поскольку оно «остается пришествием»[174]. «Значение, — пишет Лакост, — приходит в конце»[175]. В этом отношении эсхатология насквозь анархична, ведь лишь она одна способна осуществить столь радикальное свержение архэ — принципов и начал.
Таким образом, эсхатология переворачивает натуралистические, эссенциалистские и историцистские модели, выступая с невероятным, казалось бы, заявлением, что я — не тот, кто я есмь, и тем паче — не тот, кем я был; скорее, я — тот, кем я буду (как звучит на иврите богоявленное Имя из Книги Исход, 3:14). Это переворачивает и наш пример с тенью (напр., в Послании к евреям, 8:5 и 10:1; Кол. 2:16): тень не следует за существующим сейчас, а предшествует истинно сущему (really real); итак, в христианской типологии нынешнее состояние, т.е. сами-вещи,— это всего лишь тени или прообразы вещей-грядущих[176].
Именно это улавливает введенная Бонхеффером категория «предпоследний» (“penultimate”). Называя Историю «предпоследней», а не, скажем, «последующей», Бонхеффер подчеркивает тот сдвиг акцентов, благодаря которому История рассматривается уже не как результат первоначального состояния или начала, а как то, что существует по причине и «во имя последнего»[177]. «Утрата этого последнего, — предостерегает нас Бонхеффер, — рано или поздно приведет к коллапсу предпоследнего», поскольку «далее мы благополучно объявим последними эти предпоследние вещи»[178].
Однако последнее не остается какой-то пустой регулирующей идеей за пределами опыта, т.е. за пределами предпоследнего у но, как наглядно демонстрирует Бонхеффер, «оно еще мощнее врывается в земную жизнь и создает для себя пространство внутри нее»[179]. Поэтому эсхатология «становится реальной в Кресте» и Воскресении Христа[180], но также и в Литургии, ведь «Литургия предполагает эсхатологическое в историческом»[181]. Если иудаизм и ислам имеют один эсхатологический центр, зафиксированный в грядущем (мессианство), то христианская эсхатология разворачивает это напряжение между двумя эсхатологическими узловыми пунктами: между уже Воплощения и еще нет Второго Пришествия. Это напряжение выражено в формуле Четвертого Евангелия: грядет час и ныне есть (Ин. 4:23; 5:25). Эсхатология Иоанна реализуется[182] в откровении Христа или, точнее, инаугурируется[183] Пришествием Слова в мир (Суд происходит «ныне»— Ин. 12:31; воскресение мертвых также свершается «ныне»— Ин. 5:25). В этом смысле Лакост справедливо говорит о «расщеплении» конца или эсхатона надвое: эсхатон настоящего (в конце времен) и настоящее эсхатона (в повседневности)[184]. Именно это удвоение эсхатологического дает место тому, что Ричард Керни обозначил как микроэсхатология[185].
Но невозможно найти текст, в котором идея микроэсхатологии была бы выражена ярче, чем в евхаристических молитвах двух древних Литургий, дошедших до нас под именами свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста (поныне используемых в Православной Церкви). Обе Литургии начинаются с красноречивого славословия: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Итак, в самом начале Литургии Царствие провозглашается как реальность, а не как чаяние. Этот дерзновенный опыт Царствия позволяет священнику говорить во время анафоры, т.е в молитве освящения: «Поминающе убо спасительную сию заповедь, и вся яже о нас бывшая: Крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную седение, второе и славное паки пришествие» (PG 63, 916). Здесь логика нарушается, и история остается позади. Как мы можем вспоминать «Второе и славное Пришествие?» Вспоминать будущее, иметь в опыте грядущее — это что-то, что выходит за рамки наших протологических категорий мышления. Евхаристия, таким образом, — это скорее пролепсис, чем анамнезис, ведь воспоминаемые в ней события, в исторической перспективе, принадлежат будущему времени — будущему, которое становится настоящим в Евхаристии и через Евхаристию. Чтобы понять, о чем тут идет речь, мы должны сопоставить анамнезис как воспоминание (типично платоническая концепция) и анамнезис как повторение (как его понимал Кьеркегор).
Сделав небольшой крюк в сторону эсхатологии, давайте теперь вернемся к нашей изначальной проблеме. После того, как мы провели различие и артикулировали черты этих двух разных понятий темпоральности (т.е. хронос и кайрос), определив первое в категориях протекания, а второе в категориях повторения, я думаю, нам будет легче понять важное наблюдение Кьеркегора о том, что «только музыка разворачивается во времени». Особенно если мы осмыслим это утверждение по контрасту с тем, что этот же автор сказал несколькими страницами выше: «музыка содержит в себе элемент времени, но она не имеет места во времени»[186]. Что хочет сказать Кьеркегор — это то, что музыка содержит элемент темпоральности — но такой, которая не связывает ее с протеканием времени. Это нетрудно продемонстрировать при помощи двух примеров.
Сперва представим себе зрителя, стоящего перед картиной. Мы не можем сказать, что картина темпоральна, поскольку она не нуждается во времени, чтобы «открыться» нашему взору. Стоит полотну предстать нам — и вся его полнота уже дана нам сразу. Здесь нет никакого течения времени; зритель охватывает все произведение одним взглядом. Живопись принадлежит вечности, ведь в ней время останавливается, как в вечности: это метафизическое пипс stans и каждое полотно или скульптура — это не что иное, как изображение этого «неподвижного теперь».
А теперь представьте себе человека, который сидит в концертном зале, слушая Седьмую симфонию Бетховена. Симфония, точнее ее исполнение, занимает некоторое время, но едва ли найдется настолько эстетически наивный человек, чтобы отождествлять время, которое занимает исполнение симфонии, с самой симфонией. (Трудно представить себе дирижера,, который объяснял бы музыкантам, что исполнение первой части произведения надо начинать в 19:15 и повторять в 19:20). Это занимает какое-то время — но не это время.
В отличие от картины, симфонию невозможно охватить в одном взгляде (в одном звуке), всю сразу. Мне приходится пройти через время, через ее разворачивание во времени — во времени, которое существенно отличается от хронологии, которой, в сущности, принадлежит наша повседневность. Мы полагаем, что музыке доступно невозможное для нас: она способна произвольно замедлять или ускорять течение времени.
В ходе подобных размышлений Жан-Поль Сартр предлагает нам ряд удивительных замечаний относительно темпорального характера музыки:
Поскольку я ее схватываю, эта симфония не находится здесь, между этими стенами, на кончиках этих смычков. Она не находится и «в прошлом», как если бы я думал, что это произведение в такой-то день зародилось в уме Бетховена. Она целиком вне реального. Она обладает неким собственным, а именно внутренним временем, которое развертывается от первой ноты аллегро до последней ноты финала, но этому времени не предшествует какое-либо иное время, которое заканчивалось бы «до» первых тактов аллегро; и за ним не следует время, которое следовало бы «после» финала. Седьмая симфония не пребывает во времени[187].
В этом отрывке Сартр противопоставляет определенную темпоральность, которую он нащупывает в музыке («Она обладает неким собственным, а именно внутренним временем»), — хронологическому времени, состоящему из перетекания «теперь», которые будут «потом», в «теперь», которые были «уже». Но Сартр недвусмысленно отрицает наличие такой структуры в музыке («этому времени не предшествует какое-либо иное время, которое заканчивалось бы „до“ первых тактов аллегро; и за ним не следует время, которое следовало бы „после“ финала»). Поэтому «Седьмая симфония не пребывает во времени» — потому именно, что ее невозможно описать в категориях течения времени.
Тем не менее, она обладает темпоральностью повторения. Чтобы понять, насколько существенную роль играет в музыке повторение, задумайтесь, что было бы эквивалентом da capo[188] в живописи? Повторение составляет неотъемлемую часть музыки: музыка возникает именно тогда, когда ряд звуков повторяется — точно так же или, что еще более характерно, с изменениями, — когда музыкальная фраза вновь и вновь вплетается в ткань композиции (вспомним лейтмотивы Вагнера). Шум отличается от музыки как раз отсутствием повторений. Именно сложность повторений — т.е. ритм — возводит звук в статус музыки.
Так что же происходит со временем, когда звучит музыка? Оно не уходит (ведь ретроспективно я все же могу сказать, что провел час в концертном зале, слушая Седьмую симфонию), но оно оказывается «снятым» (neantise) — упраздняется: темпоральность музыки преображает время, выявляя расщелины в массиве времени (в массиве последовательности), через которые ндм удается выглянуть наружу времени — во вневременное.
Время вневременного — видение невидимого Этот «проблеск вневременного», строго говоря, и есть Мгновение — то, что известно в истории философии как эксайфнес или der Augenblick. Эксайфнес как технический философский термин возникает очень быстро и очень таинственно в Пармениде Платона (156d-е)[189]. Я решил воздержаться от перевода эксайфнес, и не без серьезных оснований. Его обычно переводит как «мгновение» (“the instant”), «момент» (“the moment”) или «внезапное» (“the sudden”), — но все эти переводы утрачивают специфическую семантику, к которой эксплицитно отсылает сам Платон, говоря, что эксайфнес «видимо, означает нечто такое, из чего происходит изменение в ту или в другую сторону»[190] (τό γάρ έξαίφνης τοιόνδε τι εοικε σημαίνειν, ώς έξ εκείνου μεταβάλλον εις έκάτερον; 156d). «Из чего» соответствует префиксу «έξ-» (“εκ-”) означающему «из...». Из чего же? Как объясняет этимология термина, «экс-а-фанес», «из не-видимого». Изменение, которое производит эксайфнес, таким образом, «приходит из не-видимого». Его приход всегда непредсказуем (отсюда перевод «внезапное») и, в этом смысле, разительно отличается, скажем, от будущего, на которое всегда ориентируются наши надежды и ожидания. В качестве «внезапного» эксайфнес не требует времени (in по time) (отсюда переводы «instant» и «moment»). Наконец, сам факт, что эксайфнес не фиксируется во времени, также обусловливает его онтологическую амбивалентность: «не имеет ни 6ытия, ни небытия, не возникает и не гибнет». Конечно, такое понятие, за пределами времени и бытия, не могло ускользнуть от внимания великих герменевтов и экзегетов Платоновского корпуса (и немало их озадачивало). Дамаский, именуемый Диадохом, последний преемник Платона на должности главы Академии, предлагает такую глоссу:
Не вовсе вне времени, и не во времени, но вместе и вневременное во времени, и вовременное вне времени... Некоторым образом вовременное становится вечным, и становящееся осуществляется; и, напротив, вечное вовременяется, а сущее приобщается становлению[191].
Но как эксайфнес может приводить к такой необычной coincidentia oppositorum [совпадению противоположностей], где время приобщается вечности, а вечность — времени? Что за сила заставляет вневременное снизойти к потоку времени, а мирское время — вознестись к вечному, при этом не будучи ни тем, ни другим (ни временем, ни вечностью) и в то же время будучи обоими? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратить внимание на гипотезу, что эксайфнес — это мгновение в том самом смысле, в каком Хайдеггер понимает der Augenblick.
Какова связь между эксайфнес и Augenblick? Во-первых, Augenblick, с точки зрения истории, это термин, введенный Лютером, чтобы передать в первом немецком переводе Библии Павлово «мгновение ока» (έν ριπή οφθαλμού, 1 Кор. 15:52). «Во мгновение ока» — это не хронологическое определение, а кайрологическое, — не зря Павел использует его, чтобы обозначить эсхатологическое изменение (а мы изменимся, 15:52), имеющее наступить έν έσχάτοις καιροΐς [«в последние времена»]. В Новом Завете кайрос— это всегда время Второго Пришествия (Парусии). В Евангелии от Марка мы читаем:
Не знаете, когда наступит это время (καιρός). Подобно тому, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно (έξαίφνης), не нашел вас спящими (Мк. 13:33-36).
В аллегории последних времен наступление кайрос происходит в модальности эксайфнес. Момент кайрос — это момент про-изволения (de-cision, άπό-φασις который является, άπο-φαίνεται), т.е. он выходит из невидимого в видимое (экс-а-фанес)[192].
Когда Хайдеггер, во время зимнего семестра 1920 -21, посвятил некоторые из своих семинаров внимательному чтению 1 и 2 Посланий к Фессалоникийцам, он избрал слово Augenblick, чтобы передать Павлов кайрос[193]. Этот выбор указывает на общие свойства, которые разделяют der Augenblick и эксайфнес. Насколько мне известно, Хайдеггер никогда не использует непосредственно термин эксайфнес. Однако, как мы знаем, он учитывал Кьеркегоров анализ der Augenblick (на который он делает аллюзии в критическом замечании на с.338 Sein und Zeit). А Кьеркегор, как минимум однажды, прямо связывает эксайфнес и Augenblick. «Миг, — пишет он, — есть, следовательно, обозначение времени, но, обратите внимание, времени в решающем столкновении, когда к нему прикасается вечность. Что мы называем мгновением [Augenblick], Платон называет τό έξαίφνης». И затем он продолжает: «Каким бы ни было его этимологическое толкование, оно связано с категорией невидимого»[194].
Оба термина, эксайфнес и Augenblick, характеризуются странным и причудливым сочетанием темпоральное (Мгновение) и феноменальности (возникновение невидимого, моргание глаза). Хайдеггер, в тех же упомянутых лекциях, поясняет, что библейское понятие кайрос предполагает не только вопрос когда, но и вопрос как[195]. К эксайфнес это относится еще в большей степени, чем к Augenblick. Ведь оба термина не просто отсылают к моменту (грядущему), т.е. к когда, но и указывают, как этот момент настанет. В случае эксайфнес, как его наступления открывает сама его этимология. В мистическом языке христианского неоплатонизма эксайфнес становится символом сакрального времени божественного присутствия, в его трехчастцом проявлении: историческом (в Воплощении), личностном (в видениях и явлениях) и эсхатологическом (в таинствах Церкви)[196]. Все три события разделяют, так сказать, структуру эксайфнес, и все три так или иначе фигурируют в Новом Завете (хотя их связь засвидетельствована и другими текстами)[197]: Марк в уже приведенном месте (13:36) связывает эксайфнес с эсхатоном; Лука (2:13) соотносит эксайфнес с моментом Христова рождества[198], и конкретно с т.н. «небесным богослужением» Ангелов; два других употребления эксайфнес в Новом Завете принадлежат Книге Деяний (9:3 и 22:6) и описывают свет, ослепивший Павла на пути в Дамаск[199].
Дионисий в своем Третьем послании вполне органично вписывает событие Воплощения в темпоральность эксайфнес: «Внезапно [έξαίφνης] предполагает что-то, до той поры бывшее неявленным, выводимое, вопреки надежде, в явленность»[200]. Плотин продвигает этот анализ еще на шаг далее, рассматривая не только как наступает эксайфнес, но и что именно входит в сферу явленного. Он говорит, что являемое в эксайфнес — это сама феноменальность, не больше и не меньше. Поразительное сияние момента эксайфнес — это не тот свет, который мог бы осветить тот или иной объект, помог бы нам увидеть что-либо (some-thing) кроме себя самого; нет, феноменальность эксайфнес — это феноменальность, безотносительная к любым феноменам, видение без объектов: в момент эксайфнес, «в этом своем видении [душа] чувствует одно, что ее взор наполнен светом, но вне себя чего-нибудь другого она не видит; видит один свет — и больше ничего»[201]. Впоследствии он возвращается к этой мысли в другом месте, говоря: «То, что должно зреть, и есть то, чем [душа] просвещается»[202]. Это место странно перекликается с другим, пожалуй, более знакомым, из Книги Деяний: Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно [έξαιφνης] осиял его свет с неба... Савл встал с земли, и с открытыми глазами ничего не видел[203].
Этот свет был свет Христа, точнее, Сам Христос. Но обратите внимание, как этот момент эпифании «из ничего» (т.е. эксайфнес) превращает сами-вещи (видимое) в ничто — в то ничто, которое видит Павел[204]. В момент зксайфнес сами-вещи вынуждены отступить, по сути дела, «исчезнуть», чтобы позволить неявному и невидимому (т.е. вещам-грядущим) явить себя. Здесь мы видим начало совсем другой эстетики — темпоральной эстетики, где происходит переворот: то, что мы привыкли видеть (видимое с его статичными объектами), должно исчезнуть, чтобы позволить нам «увидеть», всегда мгновенно, «во мгновение ока», то, что обычно остается незамеченным, ничто (ούδέν) самой видимости — пустое и обнаженное.
Свет эсхатона — конца, который уже начался — достигает нас уже в настоящем; заря Восьмого дня, рассвет, который еще не занялся, уже проливает свой свет на теперь, на мимолетное и скоротечное, на эфемерное и произвольное, и делает видимым все и каждую мелочь, — оставаясь для всех невидимым (Хайдеггер называет это феноменом «неявного»)[205]. Мы говорим о свете: метафора старая, но красноречивая. Как свет, освещающий комнату, делает предметы видимыми, хотя сам остается невидимым, — или, скорее, это мы, обращая внимание лишь на освещаемое, остаемся слепы по отношению к самому свету, — так и наша сосредоточенность на самих-вещах ослепляет нас по отношению к вещам-грядущим, хотя именно ожидание грядущего позволяет самим-вещам явить свои подлинные очертания и свойства.
Грядущее присутствует в настоящем, скрытое как горчичное зерно в земле (Мф. 13:31): его удивительное преображение уже назревает. Сами-вещи, следовательно, способны раскрываться, являя «таящиеся в них» вещи-грядущие, только благодаря радикальному перевороту, — который выше был назван «обратной интенциональностью», аналогичной обратной перспективе византийских икон. Изобретение позднесредневековыми мыслителями и художниками Ренессанса прямой перспективы привело к становлению модерности, субъективности и Просвещения. Это подчеркивает Карстен Харрис в книге Бесконечность и перспектива[206]. Именно эта категория перспективы определяющим образом исказила наше понимание эсхатологии. Подлинная эсхатология действует как удивление, давая место движению-вспять (countermovement) истории, движению не к Царствию, а из Царствия[207]. На уровне личности эта структура движения-вспять в потоке истории имеет параллель в движении-вспять восприятия и понимания. Движение из Царствия, которое идет против прямолинейного течения прогресса, но в то же время постоянно подталкивает его, рождая непреодолимое притяжение к себе, хочет разоружить нашу способность к прогнозированию, т.е. наши предрассудки. Эсхатон — это новое вино, которое невозможно хранить в ветхих мехах, поскольку все мы знаем, что тогда может произойти. Ветхие мехи — это не что иное, как концепции и категории мира сего, тот мыслительный процесс, который нам знаком и привычен, — назовем его перспективой. Слава Богу, каждый день случаются такие моменты, когда, в предварение Царствия, наша перспектива наталкивается на препятствия и обращается вспять. Когда это происходит — а это происходит! — мы говорим о «преображении» (вроде того, которое постигает Verklärte Nacht Шенберга) или о моменте «эпифании» (вроде тех, которые описывает Джойс). Когда это происходит, когда моя перспектива опрокинута, перевернута, обращена ко мне самому, я перестаю быть привилегированным субъектом, который устанавливает и конституирует объективность мира (вещность вещей); я принимаю дательный падеж, становясь тем, кому дается мир — мир-грядущий. Ведь мир может быть дан лишь тогда, когда я становлюсь доступным как принимающий, как одаренный (ladonne) даром данности.
То, что ни один объект не может оставаться феноменом в модусе эксайфнесу — не случайность: как мы убедились, сам этот модус, в конечном счете, представляет собою движение отрицания, отвергающее все, что может служить заменителем (идолом) его эпифании. В первой главе настоящей книги мы уже встречали пример такого отрицания в эпизоде с Илией, когда ему не удалось «увидеть» Господа гам, где Он был наиболее ожидаем (в землетрясении, сильном ветре, огне). В этом отрывке из 3 Книги Царств ожидания Илии обрушиваются одно за другим (ούκ... ούκ... ούκ), пока Господь наконец не являет Себя ему в парадоксальном феномене — неожиданном шепоте ветра.
Евангелие от Иоанна содержит еще один пример божественной эпифании, фон которой составляет отрицание. На сей раз речь идет об одном из явлений Христа ученикам после Воскресения (в оригинале стоит слово έφανέρωσεν, буквально означающее «сделался видимым»), Разве Христос прежде был невидим и нуждался в том, чтобы стать видимым для них? Нет. На самом деле, ученики с самого начала встречи и видят Его, и беседуют с Ним, но не могут узнать Его, видя Его тем, кем Он и был. Вот как передает эту сцену Иоанн:
После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Канны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже наступало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это был Иисус. Иисус говорит им: дети! Есть ли у вас какая пища?
Они отвечали Ему: нет!
Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы.
Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь! (Ин. 21:1-7).
Что привело его к этому выводу? Почему в начале ученики не узнали, что это был Иисус, но затем узнали Его (Это Господь!)? Ответ — это долгие часы трудов этой ночи, ночи, которая ничего не принесла. Евангелист говорит лишь: «и не поймали в ту ночь ничего». Мы можем сами вообразить разочарование учеников, когда они вновь и вновь закидывали сети в море, чтобы вновь и вновь вытянуть их пустыми. Мы можем представить их физическое утомление от этих тщетных трудов, в которых они провели бессонную ночь. Когда наступает рассвет и Незнакомец спрашивает их: Дети! Есть ли у вас какая пища?, мы можем понять, что Его вопрос попал в самое сердце их разочарования. Их ответ — «οϋ» — ложится бременем на их плечи, ведь это исповедание их неудачи и крушения их надежд. Но это также и необходимый шаг к бояее глубокому исповеданию (это Господь!). Ученикам пришлось произнести это пустое и тяжелое «нет», как и Илии пришлось пройти через ряд отрицаний, прежде чем он распознал присутствие Господа в своей пещере. Признание ничего (не поймали ничего) — это первый шаг к узнаванию божественного Странника, и чем более они переживали это «нет», эту свою недостаточность, тем яснее они видели дело Божие в предлагаемой Странником полноте. Ведь стоило им признать, что у них нет ничего, как они оказались владеющими всем: и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Именно этот момент (эксайфнес) перехода от ничего ко всему и оказывается тем знаком, который выдает правду о Страннике: это Господь!
Плодотворная негативность эксайфнес (видимость неявного, потаенность явного), как указание на Богоявление, позволяет охарактеризовать ее как разновидность формального признака (formale Anzeige) феноменологии Бога — признака, смысл которого выполнен или, точнее, исполнен в Откровении. Феномен Откровения подчиняется уникальной логике, уже описанной нами в предыдущей главе, феномена, полностью тождественного его феноменальности: к примеру, откровение Христа (феномен) и открывающий Христос (феноменальность) не отличимы друг от друга (“се qui est revele est le revelable”)[208]. «Что» феномена (Gehaltssinn) равнозначно его «как» (Bezugssinn). Это тождество или, точнее, переплетение (Verflechtung) двух модусов обусловлено третьей модальностью, которую Хайдеггер в своих ранних семинарах называет Vollzugssinn. Этот третий термин переворачивает Гуссерлеву схему интенциональности, четко рифмующейся с интуицией, и сигнализирует о проломе в теоретической беспристрастности феноменологии, который призывает к про-изволению (de-cision: Это Господь!), а значит, к кайрологической установке на феномены. Что связывает анализ просопон как топос (глава 1) с пониманием просопон как тропос (глава 2) — это негативность эксайфнес (глава 3). Именно эксайфнес, как Гуссерль описывает его, в Сущности индикации, функционирует как указующий перст, ведущий от «актуального знания» к «познанию» реальности неведомой и невиданной:
В качестве общего мы находим в них то обстоятельство, что какие-либо предметы или положения дел, о наличии которых кто-либо обладает действительным знанием, оповещают его о наличии других определенных предметов и обстоятельств дел в том смысле, что убежденность в бытии одних переживается им как мотивация (и причем сама мотивация не усматривается как таковая) убежденности в бытии или мотивация предположения бытия других[209].
Именно эта мотивация {Motiv), мотивация, лишенная всякой предсказуемости (nichteinsichtiges) перспективы, и позволяет функционировать признаку, иначе говоря, пересекать и преодолевать расстояние между указующим знаком и указываемым значением. Одно переплетается с другим в сфере сенсуальности, в двойственном смысле слова «sense»: как «чувственно-воспринимаемого» (sensible), которое являет себя (знак), и смысла (sense), который оно несет (значение). Важно отметить, что этот переход служит отправным пунктом для двух различных философских движений: речь идет о бесконечном откладывании смысла у Деррида, которое приводит его к деконсгруктивному различанию (differance)[210], и о переплетении смысла (sense) и чувственного (sensible) в плоти у Мерло-Понти.
В каждой из трех глав первой части настоящего труда мы пытались, имплицитно или эксплицитно, проблематизировать дилеммы или/или, вокруг которых структурировано наше мышление о Боге, подчеркивая перекресты, соединяющие — неслитно и нераздельно — то, что на первый, до-феноменологический, взгляд, может казаться противоположным и несовместимым. Так, в первой главе мы боролись с ложным «тупиком» метафизического различия между концептом и инаковостью Бога. Для этого понадобилось перевернуть схему концептуализации, так что концепт (Begriff) Бога предстал самим сознанием, постигаемым (gegriffen) Богом. Во второй главе был рассмотрен другой ряд подобных дихотомий: имманентность и трансцендентность, сущность и экзистенция, сакральное и профанное. Двойственность просопон (как топологического и тропологического) помогла нам преодолеть эти пары противоположностей, демонстрируя их взаимодополняемость. Наконец, в последней главе этой части был поставлен вопрос о времени и вечности. Ответом на него послужило понятие эксайфнес: тень, которую вечное отбрасывает на временное, образуя третий и последний перекрест реализованной или, скорее, инаугурированной эсхатологии.
Часть вторая. Слух
…что мы слышали…
1 Ин: 1
Не теряя из вида все сказанное выше о принципе чтения аллегорий Брейгеля — то есть, что ключ к пониманию их спрятан в картине, изображенной на каждом из этих полотен, — перейдем к нескольким вступительным наблюдениям об аллегорическом изображении чувства слуха.
Как и в картине «Зрение», так и здесь художник попытался изобразить едва ли не все, что только может быть связано со звуком. Здесь представлены всевозможные музыкальные инструменты и партитуры, разнообразные часы и птицы. В центре композиции, Афродита оборачивается к зрителю, с лютней в руках, тогда как сидящий у ее ног Эрот, кажется, поет по раскрытым нотам. В гармонии с их музицированием, в дальнем углу комнаты изображена группа музыкантов, занятых своим ремеслом. Обратим внимание, как Брейгель противопоставил музыку (обозначенную инструментами в одной стороне комнаты) и время (на которое намекают часы в другой стороне). Так и хочется сказать, что музыка со временем не в ладах! — в чем мы и убедимся на протяжении нескольких дальнейших глав.
Труднее объяснить появление в комнате, рядом с Афродитой и Эротом, несколько странного гостя — оленя. Кроме того, что он принадлежит к дикой фауне и, как правило, не разгуливает по персидским коврам, олень — это животное, которое не производит никаких звуков.
Возникает соблазн сопоставить его со слепым с картины «Зрение» — ведь олень практически незаметен для нашего слуха. Однако долгая традиция приписывала острый слух самому этому животному. Итак, можно сказать, что олень представлен на картине как парадигма исключительной восприимчивости к звуку. Такое парадигматическое использование слуха изображено и на двух главных (и особенно хорошо различимых) полотнах, расположенных по обе стороны от открытого балкона. То, что по правую руку от нас, изображает Орфея, мифического музыканта, играющего на кифаре и восхищающего своей игрой множество окруживших его животных. Другое, по левую руку от нас, представляет собою триптих, центральная часть которого посвящена сцене Благовещения Деве Марии. Трудно придумать более удачные темы. Благовещение имеют троякое отношение к чувству слуха. Согласно буквальной интерпретации, Благовещение — это произнесенное ангелом извещение, которое, следовательно, было услышано. Согласно аллегорической интерпретации, Мария зачала Слово Божье посредством слуха (conceptio per aurem, иначе говоря, от слышания: ex auditu), — ведь разве не надлежало Ей принять живое Слово посредством органа, наиболее соответствующего речи и ее восприятию? Наконец, согласно типологическому чтению, как Ева преступила волю Божью по пре-слушанию, доверившись своему слуху (άκοή), так Вторая Ева — в прекрасном контрапункте с первой — восстановила падшее человечество благодаря по–слушанию (ob‑audire, ύπ–ακοή). Орфей же фигурировал в христианском искусстве, начиная с символических рисунков на стенах катакомб, как прообраз Христа. Его керигма — это новая песнь, пленительная красота которой привлекает к Нему всякое создание. Как воплощенное Слово (вновь сочетавшее в гармонии Божественное и человеческое естество), Он Сам является музыкой, наполняющей небеса, землю и — после Его орфического схождения в Аид — даже преисподнюю.
Эти замечания могут помочь нам понять, насколько поразительно полное отсутствие в композиции Брейгеля всякой речи. В конце концов, разве не язык обращается к слуху? Тем не менее, ничто в этой аллегории нимало не отсылает к человеческому логосу (здесь нет, к примеру, ни тени разговора, ни даже молчаливого чтения книги). Почему? Не потому ли, возможно, что Брейгель закрепил язык за иным порядком (представленным здесь двумя картинами) — божественным, из которого и происходит обращенный к языку зов? Тот самый зов, который, подобно ангельскому благовестию Марии или Орфееву пению животным, требует от нас нового слуха (audire, άκοή), способного к послушанию (ob‑audire, ύπ–ακοή)? Наконец, зов, красота которого побуждает отвечать ему не двусмысленностями языка, а антифонами (или, на западный лад, респонсориями) песнопения. Ведь единственный логос, подобающий Богу — это музыка славословия.
Глава 4. прелюдия: фигуры молчания
Так называемый «лингвистический поворот» в аналитической й континентальной традициях XX в. сделал язык узловой проблемой, которой посвящалась и посвящается большая часть философской продукции по обе стороны великого водораздела. Разумеется, человеческий логос (в его многообразных исторических преломлениях) немало превозносили и античные, и средневековые, и модерные мыслители. Ведь, в конце концов, именно язык, в его самом простом и фундаментальном аспекте — нашей способности озвучивать слова (sonorous capacity), а значит, общаться с другими, и делает нас личностями (persons от per‑sonare). Язык позволяет нам мыслить, благодаря языку мы даем выражение себе и миру вокруг нас. И все‑таки, никогда еще язык не представал той единственной парадигмой, которой подчинялась бы вся эпистемология и онтология, по сути, все философское мышление в целом[211].
Язык обретает смысл лишь благодаря различению. Любая единица любого данного языка (слово, цвет, шахматная фигура) имеет значение лишь постольку, поскольку она отличается от всех остальных. Каждое слово (включая слова, которые слышатся или пишутся одинаково) становится понятным благодаря своему отличающемуся месту в синтаксической структуре (существительное, глагол и т. д.). Язык и есть эта система различений, система, основанная на различениях и порождающая различения. Само значение предстает побочным продуктом этой игры различений. Таким образом, различение закидывает свои сети так далеко и в то же время опутывает нас так плотно, что уже невозможно помыслить ничего «вне» языка, «за пределами» языка[212]. Не существует ничего иного по отношению к языку. Всякая инаковость (otherness) исчерпывается в пределах языка, как различение (difference). Все, ускользающее от языка, есть неизреченное, немыслимое, несуществующее, ничто и меньше, чем ничто.
Возможность или невозможность языка о Боге упирается в эту проблематику различения и инаковости, согласно которой «язык о Боге» может означать только две вещи: либо (а) «Бог» рассматривается лишь как одна лингвистическая единица среди прочих (слово, понятие), значение которой регулируется системой различений, в которые она вписана; в таком случае — «Бог» это означающее без означаемого, ведь, как мы видели, не может быть ничего иного по отношению к языку; либо (б) Бог есть Бог, и Его следует воспринимать как «отличающегося» за пределами различений, или же как «не–отличающегося», Иного по отношению к языку, то есть как совсем Иного. Его инаковость означает коллапс языка, поскольку Он оказывается означаемым без означающего; следовательно, к Нему можно обращаться лишь молчанием.
Итак, у философии остается только два возможных подхода к Богу: сведение Бога к имманентности языка (катафатический путь) или же изгнание Бога в трансцендентность молчания (апофатический путь). Однако одно другому не противоречит, как это может показаться на первый взгляд; две позиции предполагают друг друга. Выбор между ними— это псевдодилемма, поскольку выбор одной из них автоматически предполагает и другую. В этой главе мы представим критический обзор обеих позиций на основе текстов Витгенштейна (в первой части) и Деррида (во второй). Только такое критическое рассмотрение может обнаружить философские предпосылки, разделяемые как аналитическим молчанием, так и деконструктивным отрицанием, и тем самым подготовить нас к следующему шагу — к выходу за пределы различения и инаковости к языку, на котором не столько говорят, сколько слушают. Вообще же в этой Части II настоящей книги наше обсуждение перейдет от колебания языка между системой и молчанием (глава 4) к их преодолению в гимне (глава 5) с его обратной акустикой, дополняющей обратную перспективу Части I, после чего мы, наконец, встретимся с новым «субъектом» языка, понятым уже не как говорящий, но как призываемый (глава 6).
«Не думай, — заклинает нас Витгенштейн, — а смотри» (ФИ, 66)[213]: его взгляд на философию наводит исследователей на мысль, что его философский метод состоит скорее в «показе», чем в «рассказе» (как у большинства традиций). Возможно, именно поэтому «Бога» — «вещь», которую показать никак нельзя, — ему пришлось сразу же исключить из сферы собственно философского мышления при помощи ставшей классической формулы: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» (Трактат, 7). Однако местами его молчание нарушалось достаточно, чтобы выдать себя следующими двумя тезисами:
О том, какого рода объектом является нечто, дает знать грамматика. (Теология как грамматика). (ФИ, 373) — Сами по себе слова не дают знать, как понимать слова. (Теология). (Zettel, 144).
В ходе наших дальнейших рассуждений мы попытаемся распутать эти высказывания с их ссылками на теологию (в скобках). Что значат слова о том, что богословие «как грамматика?» К какому роду слов относится слово «Бог»? Как используется слово «Бог»? Каким может быть значение такого слова и как оно может что‑то означать?
Впрочем, тут стоит сразу оговориться, что мы рассматриваем только язык о Боге (богословие) и каким образом такой язык («объектом» которого является Бог) может быть осмысленным; понимание Бога у Витегнштейна никак не могло быть экстралингвистическим. Ведь как хранитель кантианских традиций он знал, что к феномену Бога как таковому невозможно обратиться, его можно только описать. Это описание ограничено механизмами (прежде всего, языком), через которые мы познаем его:
Нам представляется, будто мы должны проникнуть вглубь явлений, однако наше исследование направлено не на явления, а, можно сказать, на «возможности» явлений. То есть мы напоминаем себе о типе высказывания, повествующего о явлениях… Поэтому наше исследование является грамматическим (ФИ, 90).
Я бы хотел начать это обсуждение с анализа первых глав Философских исследований Витгенштейна, поскольку именно там возникает концепция языка как языковой игры (Sprachspiel). Голос, с которого начинается эта книга, — это, как ни странно, не голос Витгенштейна, а голос ребенка, который, как он нам сообщает, только что научился говорить:
Разве не перешел я, подвигаясь к нынешнему времени, от младенчества к детству? Или, вернее, оно пришло ко мне и сменило младенчество. Младенчество не исчезло — куда оно ушло? И все‑таки его уже не было. Я был уже не младенцем, который не может произнести слова, а мальчиком, который говорит, был я.
И я помню это, а впоследствии я понял, откуда я выучился говорить. Старшие не учили меня, предлагая мне слова в определенном и систематическом порядке, как это было немного погодя с буквами. Я действовал по собственному разуму, который Ты дал мне, Боже мой. Когда я хотел воплями, различными звуками и различными телодвижениями сообщить о своих сердечных желаниях и добиться их выполнения, я оказывался не в силах ни получить всего, чего мне хотелось, ни дать знать об этом всем, кому мне хотелось. Я схватывал памятью, когда взрослые называли какую‑нибудь вещь и по этому слову оборачивались к ней; я видел это и запоминал: прозвучавшим словом называется именно эта вещь. Что взрослые хотели ее назвать, это было видно по их жестам, по этому естественному языку всех народов, слагающемуся из выражения лица, подмигиванья, разных телодвижений и звуков, выражающих состояние души, которая просит, получает, отбрасывает, избегает.
Я постепенно стал соображать, знаками чего являются слова, стоящие в разных предложениях на своем месте и мною часто слышимые, принудил свои уста справляться с этими знаками и стал ими выражать свои желания. Таким образом, чтобы выражать свои желания, начал я этими знаками общаться с теми, среди кого жил; я глубже вступил в бурную жизнь человеческого общества, завися от родительских распоряжений и от воли старших[214].
Этот жест Витгенштейна, который начинает свои Философские исследования с цитаты из автобиографических мемуаров христианского епископа IV века, привлек внимание растерянных комментаторов и спровоцировал некоторые интересные наблюдения[215]. Рассказ Августина о его переходе от младенчества к отрочеству— от бессловесия к языку— знаменует переход от молчания, предшествовавшего Филососфским исследованиям (молчания, торжественно завершающего Трактат), — к языку, открытому Философскими исследованиями. Воспоминания Августина о том, как он обрел язык, интересны Витгенштейну постольку, поскольку, согласно ему, они дают нам «особую картину действия человеческого языка» (ФИ, 1). Точнее:
Она такова: слова языка именуют предметы — предложения суть связь таких наименований.
В этой картине языка мы усматриваем корни такого представления: каждое слово имеет какое- то значение. Это значение соотнесено с данным словом. Оно — соответствующий данному слову объект (ФИ, 1).
Представление Августина о языке можно выразить в таком упрощенном девизе: «Все слова — это имена». Этот подход предполагает изоморфное соответствие между языком и вещами: говоря слово, попадаешь в предмет[216]. Если мы попытаемся последовать этому методу, то вскоре поймем, что он хорошо работает на таких словах, как «камень», «стол», «книга» и т. п., но проблемы начинаются тогда, когда мы переходим к словам «красный», «боль», и, быть может, «Бог»; не говоря уже о таких категориях слов, которые мы постоянно используем, хотя на них никак невозможно указать, например — глаголы или наречия. Одним словом, Витгенштейн критикует этот рассказ Августина о языке за его неспособность отличать (distinguish) разные роды слов или, точнее, проводить различие (в языке и его использованиях). Одйако то привилегированное место, которое дано голосу Августина в начале книги Витгенштейна, обусловлено не только желанием последнего опровергнуть старую теорию языка, тем паче, что и сам Августин, как свидетельствуют другие места его Исповеди, не был так наивен, чтобы в нее верить. Скорее, эта цитата введена Витгенштейном с двойной целью: во–первых, чтобы критически пересмотреть собственное понимание языка в Трактате[217], во–вторых, чтобы ввести новое понимание языка, основанное на метафоре языковой игры. Его самокритику мы видим в утверждении, что картинка Августина послужила основанием для «следующей идеи»: «Каждое слово имеет какое‑то значение. Это значение соотнесено с данным словом. Оно — соответствующий данному слову объект». Не трудно различить в этих словах собственный подход Витгенштейна, выраженный им в Трактате, что значение языка составляется его референтом[218]. Согласно этому взгляду, бессмысленно было бы говорить о чем‑либо, что не является аподиктически очевидным (т. е. присутствующим).
Итак, воспоминаниям Августина Витгенштейн противопоставляет собственную историю об использовании языка:
Ну, а представь себе такое употребление языка: я посылаю кого‑нибудь за покупками. Я даю ему записку, в которой написано: «Пять красных яблок». Он несет эту записку к продавцу, тот открывает ящик с надписью «яблоки», после чего находит в таблице цветов слово «красный», против которого расположен образец этого цвета, затем он произносит ряд слов, обозначающих простые числительные до слова «пять» — я полагаю, что наш продавец знает их наизусть, — и при каждом слове он вынимает из ящика яблоко, цвет которого соответствует образцу. Так или примерно так люди оперируют словами (ФИ, 1).
История Витгенштейна сразу поражает нас своей странностью. Эта странность заключается не только в гротескном преувеличении тех повседневных действий, которые мы узнаем (или не узнаем) в рассказе: неужели, думаем мы, в Вене времен Витгенштейна лавочники держали продукты в ящиках стола (drawers) и сверялись с табличками цветов прежде, чем отпустить товар. Но кроме этого, нас удивляет странность истории о языке, из которой изгнаны все проявления речи. Это безголосая история, немая сцена. В остром контрасте с рассказом Августина, где доминирует голос, Витгенштейн отдает предпочтение молчанию писаного знака: всякая коммуникация между рассказчиком, исполнителем его поручения и лавочником происходит в молчании. Витгенштейн хочет отделить язык от речи, возможно, следом за Фердинанадом де Соссюром, который несколькими годами ранее осуществил знаменитое разделение между языком (la langue) и речью (la parole)[219]. Только благодаря этому различению язык мог быть рассмотрен как гомогенная система знаков, которая охватывает, но намного превосходит речь. «Язык, выделенный таким образом из совокупности явлений речевой деятельности,., занимает особое место среди проявлений человеческой жизни» (ОЯ, 15).
Что делает слово или предложение осмысленным в противовес бессмыслице? Прежде вопроса о том, что означает язык, следует задаться вопросом, как он означает. На эти вопросы нет простого ответа. Однако нам могут помочь некоторые прозрения Витгенштейна и Соссюра. Для обоих мыслителей, смысл высказывания зависит от ряда параметров: кто говорит, как он говорит, откуда он говорит. Обратимся к примеру Августина. Витгенштейн делает следующее замечание:
Можно сказать, что Августин действительно описывает некоторую систему коммуникации, но только не все, что мы называем языком, охватывается этой системой… Это похоже на то, как если бы кто‑то объяснял: «Игра состоит в передвижении фигур по некой поверхности согласно определенным правилам…», а мы бы ответили на это: «Ты, по–видимому, думаешь об играх на досках, но ведь имеются и другие игры. Твое определение может стать правильным, если ты четко ограничишь его играми первого рода» (ФИ, 3).
Здесь впервые устанавливается аналогия между языком и игрой. В нескольких дальнейших примерах язык (или то, что скоро будет названо языковой игрой) сопоставляется с игрой в шахматы — точно та же аналогия, которую часто использует в своих лекциях и Соссюр[220]. Что отличает концепцию языковой игры от обычной речи, так это то, что первая оживляет грамматику той «игры», в рамках которой обретают смысл ее ходы. Языковая игра представляет собой некое целое — единство правил и практики игры, «язык и действия, в которые он вплетен» (ФИ, 7) — и, в конечном счете, сообщество, которое осуществляет эти действия. Эти же три фактора, определяющие языковую игру— грамматика (как), практика (откуда), сообщество (кто) — мы находим и у Соссюра, который описывает язык (la langue) как клад, практикой речи отлагаемый во всех, кто принадлежит к одному общественному коллективу, это грамматическая система, виртуально существующая у каждого в мозгу, точнее сказать, у целой совокупности индивидов, ибо язык не существует полностью ни в одном из них, он существует в полной мере лишь в коллективе (ОЛ, 13–14; курсив мой. — Дж. П. М.).
Говорить на языке {die Sprache sprechen) — значит играть в игру (das Spiel spielen). Это предполагает еще несколько общих характеристик, которые я могу упомянуть здесь лишь мельком: оба подчиняются определенным правилам (грамматика), которые не могут быть изменены игроками (синхроническая неизменяемость), но могут меняться со временем (диахроническая изменчивость); в обоих значение автономно— т. е. оно не отсылает ни к чему (реальности, авторитету) кроме себя[221]; и оба произвольны[222].
Если оставаться в пределах аналогии между языковой игрой и игрой в шахматы, слова обретают смысл благодаря их функции в языке, так же как каждая шахматная фигура имеет значение только на шахматной доске:
Возьмем коня: является ли он сам по себе элементом игры? Конечно, нет, потому что в своей чистой материальности вне занимаемого им поля на доске и прочих условий игры он ничего для игрока не представляет; он становится реальным и конкретным элементом в игре лишь постольку, поскольку он наделен значимостью и с нею неразрывно связан (ОЛ, 109).
Или:
Если кому‑нибудь показывают фигуру шахматного короля и говорят: «Это король», то этим ему не разъясняют применения данной фигуры — разве что он уже знает правила игры, кроме вот этого последнего момента: формы фигуры короля. Можно представить себе, что он изучил правила игры, но ему никогда не показывали реальной игровой фигуры. В этом случае форма шахматной фигуры соответствует звучанию или визуальному образу некоторого слова (ФИ, 31).
Итак, значение слова или любого другого знака никак не назовешь врожденным, оно конституируется вариантами его функционирования в системе, по сопоставлению и сравнению с другими словами и другими знаками; в конечном счете, слово имеет значение лишь постольку, поскольку оно отличается. Язык — это «сумма» (неисчерпаемая, всегда не полная) этих множественных различений. Витгенштейн снова и снова рассуждает о словах из Шекспировского Короля Лира: «I will teach you differences»[223], которые он хотел использовать в качестве эпиграфа своей книги[224].
Язык проявляет функции грамматики в той мере, в какой все возможные различения между словами организуются в единое целое и, что еще более важно, создается пространство для разворачивания этих различений. Таково понимание грамматики: это сама возможность структуры, которая делает возможным взаимодействие (interplay) между словами, различает роды слов и категории их употреблений, и признает эти различения.
Слово «Бог» не может быть исключением из правил. Это слово также обретает смысл только при использовании определенным сообществом по определенным правилам. Исходя из его лексиграфической нагрузки «Бог» — это невозможное слово, невозможное и бессмысленное — поскольку в этом случае невозможно ничего показать[225]. Покуда оно остается лексемой, слово не претендует ни на что, кроме мимесиса: оно представляет что‑либо (some‑thing). Это репрезентация фактической реальности (лексема, таким образом, предстает продуцированием копии, репродуцированием предмета, только в другом порядке, в порядке фонетических и графических знаков). Но нет такого «что» — такой вещи (no‑thing), — на которую указывает слово «Бог». «Бог» не может быть именем «вещи» (с точки зрения религии, это было бы идолослужением, а с точки зрения философии— бессмыслицей), и пока мы не перейдем к употреблению этого слова, мы не сможем даже понять, что это: нарицательное существительное или имя собственное. Слово «Бог» без языка, которому оно принадлежит, — это все равно что «конь» без шахматной доски и правил игры: мы просто не знали бы что с ним делать. Витгенштейн признает это, когда цитирует Лютера и, соглашаясь с ним, говорит: «Теология — это грамматика слова „Бог“»[226]. Но грамматика действует только по вертикальной оси, т. е. в синхронии; эго подвергает нас риску вырвать язык из его исторического, диахронического измерения, сводя его лишь к одному— к структуре.
Что способно спасти язык от утраты исторического измерения — это практика, то есть практическое воплощение его употребления сообществом. Как подчеркивает Витгенштейн: «Термин «языковая игра» [Sprach‑spiel] призван подчеркнуть, что говорить на языке — это компонент деятельности или форма жизни» (ФИ, 23). И опять: «Представить же себе какой‑нибудь язык — значит представить некоторую форму жизни» (ФИ, 19). Здесь налицо двойственное представление об отношении практики к языку: с одной стороны, оно отдает приоритет лингвистической практике над значением, с другой стороны, оно возвращает валюту значения в лингвистический оборот. «А значение имени иногда объясняют, указывая на его носителя» (ФИ, 43). Бессмысленно только то слово, которому еще не приписано никакое употребление, или его употребление уже забыто, и оно остается всего лишь фетишем безвозвратного прошлого или же палеонтологическим термином, в котором усматривают магическую силу.
Слова, входящие в языковую игру, приглашают задуматься об их употреблении до того, как значение было определено. Чтобы это понять, чтобы понять, почему употребление должно главенствовать над значением, следует осознать простой факт, что слова не витают в вакууме. К примеру, слово «Бог» понятно нам лишь постольку, поскольку мы слышали, как люди употребляли его прежде нас, тем или иным образом. Таким образом, встречаясь с различными употреблениями слова «Бог», мы пришли к «пониманию» того, что оно означает, прежде всякого формального исследования его значения. То, что люди имеют в виду, когда они говорят «Бог…» (а порой они имеют в виду совсем разные вещи), отнюдь не придумано индивидами, которые произносят эти утверждения, а отсылает к долгой истории значения. Именно благодаря этой долгой истории значения мы распознаем слова как осмысленные. И наоборот, употреблять слово, изобретая его значение ad hoc, — это было бы, в буквальном смысле, идиотизмом[227]. Мы рождаемся в язык и живем в мире, где вещи уже без нас наделены значением. Никому из нас не пожалована райская привилегия давать вещам имена, как будто впервые (Быт. 2: 18–20). Кажется, именно об этом напоминает Витгенштейнов образ языка как древнего города:
Наш язык можно рассматривать как старинный город: лабиринт маленьких улочек и площадей, старых и новых домов, домов с пристройками разных эпох; и все это окружено множеством новых районов с прямыми улицами регулярной планировки и стандартными домами (ФИ, 18).
Как уже было сказано, язык (особенно религиозный язык) всегда «освящается использованием»[228]. Это я и назвал бы литургическим[229] характером языка, имея в виду этимологическое значение этого слова: эргон определенного сообщества — его дело и делание. Уже долгое время наши слова входят в эту литургию: они произносятся, пишутся, выкрикиваются и шепчутся. Они выражают борение, опасения и желания; они приводят к насилию, они приносят мир. Разумеется, не бывает слов без дел. И слова — это не просто слова.
И «одно из первых слов, которые мы узнаем»[230]— это слово «Бог». Оно отнюдь не бессмысленно, ведь за века использования этого слова оно обрело избыток смысла. В самом деле, если мы не знаем, что означает слово «Бог», то это именно потому, что знаем слишком много о его значении. Это тот случай полисемии, который Рикер описывает как «экспансионистский процесс, ведущий к перегруженности смыслом, как это можно видеть на примере некоторых слов, тех, что, означая слишком многое, вместе с тем не означают ничего»[231]. Слово «Бог» вполне может превращаться в такое слово, которое перестало именовать Кого‑то и свелось к простому знаку — «сакральному» знаку, разумеется, имеющему единственную функцию священной реликвии: превозносимому, поклоняемому и безжизненному. Когда происходит такой коллапс значения, слово возводится в статус фетиша. Фетишизация языка — это симптом патологии знака (по отношению к которой так уязвим религиозный язык). Ролан Барт сумел диагностировать эту патологию, когда писал:
Мы можем манипулировать означаемыми знака или знаками, только прибегая к именованию этих означаемых, но самим этим актом именования мы превращаем означаемое в означающее.
Означаемое в свою очередь становится означающим… Отступление означаемых, в определенном смысле, неизбежно; теоретически, мы никогда не способны остановить знак на последнем означающем; единственная возможность остановить знак приходит от практики[232].
Барт говорит здесь о медицинском означаемом, как в случае болезни, когда врач называет ее определенным образом (акт именования); теперь болезнь из означаемого превращается в означающее. Этот процесс может воспроизводиться бесконечное число раз, загоняя нас в «головокружительный круговорот означающих и означаемых». Единственный способ разорвать этот порочный круг — это, по мнению Барта, практика: то есть в какой‑то момент врач должен оставить в стороне все проблемы именования болезни и перейти к лечению (это и знаменует переход от «семиотической системы к терапевтической проблеме»). Выход из бесконечной цепочки означающих, даже на одно мгновение, сам по себе имеет терапевтический эффект. Эго «вылазка за границы значения», где значение заново открывается на практике[233].
Соссюр неоднократно настаивал на том, что язык предшествует говорящему[234]: я не хозяин языка, скорее, наоборот, в языке подчиняюсь я. Иными словами, язык составляет мою фактичность: я рождаюсь в язык и «границы моего языка означают границы моего мира» (Трактат, 5.6). Как же я могу хотя бы помыслить что- то «за границами» языка? Что еще говорить о языке веры? Что такое «Бог» — одно слово среди многих других? Должны ли мы представлять себе Бога (без кавычек) сведенным абсолютной редукцией к имманентности языка?
Когда на Витгенштейна ссылаются, говоря о языке веры, это, как правило, затрагивает вопрос о верификации или (другая сторона той же медали) о фальсификации религиозных утверждений. Если я говорю: «Я верю в Бога», но у меня нет эмпирических данных, чтобы показать, что Бог (в Которого я верю) существует, мое утверждение лишено смысла. И если я говорю: «Я верю в Бога», но этот тезис не может быть проверен опытным путем, мое утверждение опять‑таки лишено смысла. Оба этих принципа пытаются применять к религиозным утверждениям методологию и критерии т. н. точных наук (“hard sciences”). В таких случаях философия позднего Витгенштейна используется как корректива, напоминающая, что следует различать две языковые игры — науку и религию, поскольку modus operandi [способ действия] одной игры не может и не должен переноситься на другую. Итак, языковые игры описываются как серия замкнутых систем со своими внутренними критериями вразумительности, совершенно не вразумительными за пределами данной системы. Словом, язык одной языковой игры (скажем, науки) непереводим на язык другой (скажем, религии) и наоборот. Непереводимость языков предполагает качественное различие между разными языковыми играми. Характерным выражением такого подхода, известного как Витгенштейновский фидеизм, стала позиция Малколма Норманна: «Религия — это форма жизни; это язык, воплощенный в действии, — то, что Витгенштейн называет языковой игрой. Наука — это другая форма жизни. Никакая из них не нуждается в оправдании, ни одна, ни другая»[235].
У меня два серьезных возражения против такого взгляда. Во–первых, если язык веры представляет собой обособленную «языковую игру» (Sprachspiel), то все мы делимся на посвященных в нее и профанов. Первые знают, как играть в эту игру, ибо им известны правила. Более того, их знание игры дает им право играть; вторые не знают, как играть в эту игру. Они игнорируют ее предписания. Проще говоря, они «не говорят на этом языке», не имеют права на это, и их невежество исключает их из этой игры. Опасность такой позиции очевидна: мы превращаем религию в эзотерическую секту, открытую лишь для элиты посвященных, которые способны расшифровать ее. Во–вторых, если религиозный язык есть обособленная «языковая игра», то она может выражать лишь два типа суждений: (а) богооткровенные истины и (6) нонсенс. В любом случае, предполагается, что мы не можем играть в две языковые игры одновременно. Это предположение следует логике исключительности: одно или другое, религия или наука, убеждение или знание, вера или разум. Но тогда мы не многим отличались бы от тех строителей, о которых говорит Витгенштейн во второй части своих Философских исследований; подобно им, мы были бы вынуждены говорить лишь на одном языке и играть лишь в одну игру: всегда одну и ту же. Однако истина состоит в том, что все мы полиглоты, и все мы легко переходим из одной игры в другую. В противном случае, получалось бы, что языковая игра конституирует нашу идентичность настолько, что при смене первой неминуемо меняется и вторая. Скорее можно сказать, что языковая игра определяет роль, которую мы играем, — место, которое мы занимаем. Здесь–тο нам и приходится обращаться к герменевтике и к герменевтическому вопросу par excellence: douparlez vouz? («Откуда Вы говорите?»). Именно место, к которому отсылает этот вопрос, и определяет все отличие языка, в который мы играем:
Если говорят «Моисей не существовал», это может означать разное: у израильтян при исходе из Египта не было одного вождя или их вождя звали не Моисей или вообще не было человека, совершившего все, что Библия приписывает Моисею, и т. д. и т. п. Вслед за Расселом мы могли бы сказать: имя «Моисей» можно определить с помощью разных описаний. Например, таких: «человек, проведший израильтян через пустыню»; «человек, живший в такое‑то время и в таком‑то месте и называвшийся тогда Моисеем», «человек, который в младенческом возрасте был вытащен из Нила дочерью фараона» и т. д. И в зависимости от того, примем ли мы одно или другое определение, предложение «Моисей не существовал» приобретает разный смысл, как и любое иное предложение о Моисее. Ну, а всегда ли я готов, высказывая нечто о Моисее, заменить имя «Моисей» одним из этих описаний? Пожалуй, я скажу: под «Моисеем» я подразумеваю человека, содеявшего то, что Библия приписывает Моисею, или же многое из того. Но сколь многое? Решил ли я, сколь многое должно оказаться ложным, чтобы я признал мое предложение ложным? Иными словами, имеет ли для меня имя «Моисей» твердо установленное и однозначное употребление во всех возможных случаях? Не обстоит ли дело так, что у меня в распоряжении как бы целый набор подпорок, так что, лишившись одной из них, я готов опереться на другую, и наоборот? (ФИ, 79).
Что мешает нам заменить слово «Моисей» в этих словах Витгенштейна на слово «Бог»? Разве существование Моисея более правдоподобно или менее невероятно, чем существование Бога? Имеет ли смысл утверждение «Моисей существует», если утверждение «Бог существует» считать бессмысленным? Я предложил бы заменить личное имя «Моисей» словом «Бог» и прочитать все это место в новом свете:
Если говорят «[Бог] не существует», это может означать разное: такого Бога не существует, или Бога больше не существует (в случае «смерти Бога», о которой толкует Ницше), или Бог — вообще за пределами категории существования, и т. д. и т. п. Вслед за Расселом мы могли бы сказать: имя «[Бог]» можно определить с помощью разных описаний. Например, таких: «Бог, проведший израильтян через пустыню»; «Бог, обращавшийся к пророкам», «Бог, Которого Иисус называл Отцом» и т. д, И в зависимости от того, примем ли мы одно или другое определение, предложение «[Бог] не существует» приобретает разный смысл, как и любое иное предложение о [Боге].
Ну, а всегда ли я готов, высказывая нечто о [Боге], заменить имя «[Бог]» одним из этих описаний? Пожалуй, я скажу: под «[Богом]» я подразумеваю [Существо], содеявшее то, что Библия приписывает [Богу], или же многое из того. Но сколь многое? Решил ли я, сколь многое должно оказаться ложным, чтобы я признал мое предложение ложным? Иными словами, имеет ли для меня имя «[Бог]» твердо установленное и однозначное употребление во всех возможных случаях? Не обстоит ли дело так, что у меня в распоряжении как бы целый набор подпорок, так что, лишившись одной из них, я готов опереться на другую, и наоборот?
Значение слова «Бог» — отнюдь не фиксированное и не однозначное — открывается, с точки зрения Витгенштейна, в описаниях, хранящихся в библейской (т. е. текстуальной и нарративной) памяти. Это предполагает прежде всего предпочтительность плюрализма описаний перед монизмом определений. Нарративы Писаний, к которым отсылает значение, не определяют, что такое «Бог», а описывают, Кто такой «Бог»[236]. Во–вторых, эти описания, как таковые, препятствуют концептуализации «Бога» и, следовательно, препятствуют всем обсуждениям истинности или ложности этой концептуализации. Описание — это не абсолют, а практика.
Кроме того, значение слова «Бог» отсылает к определенной памяти. «Я… Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» (Исх.3:6) — это утверждение помещает голос Говорящего в контекст определенной истории, авраамической истории, память о которой помогает нам распознать имя «Бог» как отсылку к библейскому Богу. Имя, в качестве знака, становится таковым только в повторении, т. е. только «со второго раза». Не существует «целинных» феноменов: мы просто не могли бы их распознать (а значит, идентифицировать) как что‑либо. Откровение знака, имени «Бог», также требует двух факторов: его «воплощения» в некое чувственное начало, поскольку бесплотные знаки — это не знаки вообще; и «Второго Пришествия», которое устанавливает первое в его правах, обеспечивая аутентичность откровения. Если религиозные утверждения должны иметь свою особую верификацию, то это может быть только верификация a venir: от грядущего, эсхатологическая верификация.
Таким образом, религиозные утверждения подвешены в этом «временном промежутке»: между Первым и Вторым Пришествиями; синхрония теперь ищет своего обоснования в диахронической памяти откровения, данного в прошлом, и чаяния откровения, обещанного в грядущем. Впрочем, если мы вспоминаем Второе Пришествие как уже совершившееся — о чем нам явно напоминает евхаристическая молитва — или, более того, как совершающееся при каждой Евхаристии, то диахрония пересекает синхронию в моменте, который Беньямин называет Jetztzeit, а Павел определяет как кайрос. Когда в литургическом времени происходит воспоминание незапамятного, утверждение «Иисус — Господь»[237] обретает не только значение, но и уверенность.
«О том, какого рода объектом является нечто, дает знать грамматика. (Теология как грамматика)» (ФИ, 373). Грамматика— это взаимодействие слов, которое позволяет регистрировать различные категории слов и различия между словами, что делает их осмысленными. Мы уже убедились, что невнимание к такому пониманию грамматики может выражаться в путанице относительно объекта богословия, когда Бога принимают за объект теологической спекуляции, упуская категориальное различие. Слова Витгенштейна можно прочитать так: «О том, какого рода объектом является нечто, дает знать грамматика»; я считаю, что их следует читать так: «О том, какого родя объектом является нечто, дает знать грамматика». Различие небольшое, но красноречивое. «Сами по себе слова не дают знать, как понимать слова. (Теология)». (Zettel, 144). Это определяется также практикой и сообществом. Слова приобретают значение только тогда, когда они употребляются. Это то, что мы обозначили выше как литургический характер языка; возможно, теология (взятая здесь в скобки Витгенштейном) может быть парадигматическим примером зависимости лексической сигнификации от значения, наложенного практикой. Религиозные утверждения, изолированные от практики, в которой они укоренены, рискуют стать неадекватными, а значит, бессмысленными. Иначе говоря: теология (буквально: Божий логос) не сможет стать логосом и будет оставаться всего лишь пригоршней бессмысленных лексем до тех пор, пока она не будет использована по назначению — пока она не будет обращена к Богу. В конце концов, Августин, кажется, отдавал себе отчет в этом тонком, но важном различии фигур речи: логос его Исповеди не повествует о Боге; напротив, он обращается к Богу.
Во второй части настоящей главы я собираюсь предпринять исследование деконструктивного отрицания, характерным примером которого я считаю широко обсуждаемое понимание Деррида Платоновой хоры[238][239].
В текстах Платона хора представляет собою ответ на второй программный вопрос, выдвинутый Тимеем в начале диалога? τι τό γιγνόμενον μέν άεί, ον δε ούδέποτε («что есть вечно возникающее, но никогда не сущее?»; 27d28a[240]). Хора— это «концептуальное» приспособление, предназначенное поддерживать мир Идей. Платон использует ее в качестве ответа своим критикам, поскольку лишь хора способна объяснить, как устроен этот мир. Ведь теории Идей (или Форм) угрожают две опасности, которых вынужден был избегать Платон: (1) понятие «приобщения» (μετοχή или μέθεξις) чувственного мира умопостигаемому могло предполагать некоторый «контакт», а значит, «смешение» одного с другими — чрезвычайно маловероятный сценарий для Платона (но в таком случае все еще надо показать, как чувственный мир может быть мимезисом умопостигаемого); и (2) если чувственный мир считается совершенно отчужденным от Идей, то окружающие нас вещи утрачивают всякое онтологическое основание, а значит, ничто не может гарантировать их существования. Платон избежал обеих опасностей, вводя хору, то есть что‑то, что не является ни чувственным, ни умопостигаемым, Хору следует рассматривать как своего рода зеркало: на ее неизмеримой поверхности отражаются вечные Идеи, не смешиваясь со своими отражениями. Отражения по–настоящему не существуют. «Сущей сущностью» обладает только отражаемая Идея. И одно с другим никогда не «соприкасается». Однако в процессе отображения рождается отражение (т. е. чувственная вещь), наделенная определенным бытием, хотя условным и временным. При этом само зеркало (хора) ничего не «претерпевает». Она вообще не «есть» что‑либо конкретное. Покуда Идея отображается, она «дает место» отражению; как только процесс отображения прекращается, «зеркало» вновь становится тем, чем было: безымянной, безвидной, безразличной поверхностью, лишенной всяких свойств. Таким образом, хора, в качестве посредника или третьего онтологического звена, отделяющего бытие от становления, предотвращает и даже воспрещает совпадение того, что истинно есть (Идей) с тем, чего, по сути, нет (их чувственными отражениями). Тем самым, хора делает возможным язык. Сама хора не может быть объектом языка, разумеется, но без хоры язык был бы невозможен. Как бы мы могли говорить, спрашивает Платон, о том, что принадлежит бесконечному потоку? Как бы мы могли это именовать? Разве оно не утекает сквозь наши пальцы, не дожидаясь, пока мы дадим ему имена (49Ь–е)? То, что мы именуем, говорит Платон, — это не что иное, как «отпечатки» (τυποθέντα, εντυπώσεις), оставляемые Идеями на бесформенном вместилище (ύποδοχην) — на хоре. Следовательно, она и есть та единственная вещь, которую может наименовать язык, и, именуя ее, язык обретает свое бытие. Именно на хору мы указываем каждый раз, когда говорим: «это есть…». При «точном» использовании языка, советует Платон, никогда не следует говорить: «это огонь», но: «то, что всегда является таковым, есть огонь» (μηδέ τούτο αλλά τό τοιοϋτον άεί, 49d). Хора становится предельным референтом языка, эксклюзивным и уникальным объектом нашей речи. Итак, если Платон и шествует к хоре путем отрицания, то лишь за тем, чтобы с большей уверенностью вернуться к миру и языку утверждений. Окольный путь через темную и неизреченную апофатику хоры нужен ему лишь затем, чтобы подчеркнуть катафатику светоносных Идей[241].
Хотя, как признает Деррида, именно Платоновский корпус обеспечил основание для обеих структур сопротивляющегося катафатике апофатизма, все же для него хора как парадигма деконструктивного отрицания первенствует по отношению к ее христианскому варианту или эпигону — «отрицательному богословию» (если и не превосходя его, то в любом случае отличаясь от него). Итак, речь идет о двух парадигмах: первая — это «Благо за пределами бытия» (τό αγαθόν έπέκεινα τής ουσίας) из Государства Платона, которое служит исходным пунктом для неоплатонического и христианского апофатических течений[242], вторая — это хора, симпатии к которой не скрывает Деррида. Итак, с самого начала хора предстает одним из полюсов антитезиса: «В Платоновом тексте и порожденной им традиции, мне кажется, следует различать два движения или два тропоса отрицания. Эти две структуры радикально гетерогенны…»[243]. Но действительно ли христианское отрицание так отличается от своего деконструктивного близнеца, как этого хотелось бы Деррида?
Разве оба в один голос не настаивают на невозможности именования Бога? Разве оба не отказывают в привилегии никакому отдельному имени, образу, понятию, которое могло бы представлять Бога? И, в конце концов, разве «Бог» как означающеё–без–означаемого сильно отличается от зеркального образа «Бога» как означаемого–без–означающего?
Согласно Деррида, христианское апофатическое богословие — особенно апофатика псевдо–Дионисия — это просто псевдоапофатика; она только делает вид, что уходит от метафизики, превосходя язык и сущность, но на самом деле позволяет метафизике вернуться «через черный ход», переводя ее на более высокий уровень «сверхсущности» и «сверхприсутствия»: «„негативное богословие“, кажется, сохраняет, за пределами всякой положительной предикации, за пределами всякого отрицания, даже за пределами самого Сущего (Being), некоторую сверхсущественность, сущее за пределами Сущего (aгласно Деррида, христианское апофатическое богословие — особенно апофатика псевдо–Дионисия — это просто псевдоапофатика; она только делает вид, что уходит от метафизики, превосходя язык и сущность, но на самом деле позволяет метафизике вернуться «через черный ход», переводя ее на более высокий уровень «сверхсущности» и «сверхприсутствия»: «„негативное богословие“, кажется, сохраняет, за пределами всякой положительной предикации, за пределами всякого отрицания, даже за пределами самого Сущего (Being), некоторую сверхсущественность, сущее за пределами Сущего (a being beyond Being)» . Мы вскоре обсудим точность этой оценки. Но прежде необходимо отметить, что изначально Деррида сформулировал аргумент о сверхсущности, чтобы, по контрасту с христианским апофатизмом, оттенить собственный проект различания (differance), а не Платонову хору: eingгласно Деррида, христианское апофатическое богословие — особенно апофатика псевдо–Дионисия — это просто псевдоапофатика; она только делает вид, что уходит от метафизики, превосходя язык и сущность, но на самом деле позволяет метафизике вернуться «через черный ход», переводя ее на более высокий уровень «сверхсущности» и «сверхприсутствия»: «„негативное богословие“, кажется, сохраняет, за пределами всякой положительной предикации, за пределами всякого отрицания, даже за пределами самого Сущего (Being), некоторую сверхсущественность, сущее за пределами Сущего (aгласно Деррида, христианское апофатическое богословие — особенно апофатика псевдо–Дионисия — это просто псевдоапофатика; она только делает вид, что уходит от метафизики, превосходя язык и сущность, но на самом деле позволяет метафизике вернуться «через черный ход», переводя ее на более высокий уровень «сверхсущности» и «сверхприсутствия»: «„негативное богословие“, кажется, сохраняет, за пределами всякой положительной предикации, за пределами всякого отрицания, даже за пределами самого Сущего (Being), некоторую сверхсущественность, сущее за пределами Сущего (a being beyond Being)» . Мы вскоре обсудим точность этой оценки. Но прежде необходимо отметить, что изначально Деррида сформулировал аргумент о сверхсущности, чтобы, по контрасту с христианским апофатизмом, оттенить собственный проект различания (differance), а не Платонову хору: eing beyond Being)» . Мы вскоре обсудим точность этой оценки. Но прежде необходимо отметить, что изначально Деррида сформулировал аргумент о сверхсущности, чтобы, по контрасту с христианским апофатизмом, оттенить собственный проект различания (differance), а не Платонову хору: eyondгласно Деррида, христианское апофатическое богословие — особенно апофатика псевдо–Дионисия — это просто псевдоапофатика; она только делает вид, что уходит от метафизики, превосходя язык и сущность, но на самом деле позволяет метафизике вернуться «через черный ход», переводя ее на более высокий уровень «сверхсущности» и «сверхприсутствия»: «„негативное богословие“, кажется, сохраняет, за пределами всякой положительной предикации, за пределами всякого отрицания, даже за пределами самого Сущего (Being), некоторую сверхсущественность, сущее за пределами Сущего (aгласно Деррида, христианское апофатическое богословие — особенно апофатика псевдо–Дионисия — это просто псевдоапофатика; она только делает вид, что уходит от метафизики, превосходя язык и сущность, но на самом деле позволяет метафизике вернуться «через черный ход», переводя ее на более высокий уровень «сверхсущности» и «сверхприсутствия»: «„негативное богословие“, кажется, сохраняет, за пределами всякой положительной предикации, за пределами всякого отрицания, даже за пределами самого Сущего (Being), некоторую сверхсущественность, сущее за пределами Сущего (a being beyond Being)» . Мы вскоре обсудим точность этой оценки. Но прежде необходимо отметить, что изначально Деррида сформулировал аргумент о сверхсущности, чтобы, по контрасту с христианским апофатизмом, оттенить собственный проект различания (differance), а не Платонову хору: eingгласно Деррида, христианское апофатическое богословие — особенно апофатика псевдо–Дионисия — это просто псевдоапофатика; она только делает вид, что уходит от метафизики, превосходя язык и сущность, но на самом деле позволяет метафизике вернуться «через черный ход», переводя ее на более высокий уровень «сверхсущности» и «сверхприсутствия»: «„негативное богословие“, кажется, сохраняет, за пределами всякой положительной предикации, за пределами всякого отрицания, даже за пределами самого Сущего (Being), некоторую сверхсущественность, сущее за пределами Сущего (aгласно Деррида, христианское апофатическое богословие — особенно апофатика псевдо–Дионисия — это просто псевдоапофатика; она только делает вид, что уходит от метафизики, превосходя язык и сущность, но на самом деле позволяет метафизике вернуться «через черный ход», переводя ее на более высокий уровень «сверхсущности» и «сверхприсутствия»: «„негативное богословие“, кажется, сохраняет, за пределами всякой положительной предикации, за пределами всякого отрицания, даже за пределами самого Сущего (Being), некоторую сверхсущественность, сущее за пределами Сущего (a being beyond Being)» . Мы вскоре обсудим точность этой оценки. Но прежде необходимо отметить, что изначально Деррида сформулировал аргумент о сверхсущности, чтобы, по контрасту с христианским апофатизмом, оттенить собственный проект различания (differance), а не Платонову хору: eing beyond Being)» . Мы вскоре обсудим точность этой оценки. Но прежде необходимо отметить, что изначально Деррида сформулировал аргумент о сверхсущности, чтобы, по контрасту с христианским апофатизмом, оттенить собственный проект различания (differance), а не Платонову хору: eyond Being)» . Мы вскоре обсудим точность этой оценки. Но прежде необходимо отметить, что изначально Деррида сформулировал аргумент о сверхсущности, чтобы, по контрасту с христианским апофатизмом, оттенить собственный проект различания (differance), а не Платонову хору: eing)»[244]. Мы вскоре обсудим точность этой оценки. Но прежде необходимо отметить, что изначально Деррида сформулировал аргумент о сверхсущности, чтобы, по контрасту с христианским апофатизмом, оттенить собственный проект различания (differance), а не Платонову хору:
Нам уже пришлось указать, что различания нет, оно не существует, не налично ни под каким видом; и нам еще придется обозначить все, чем оно не является, — то есть все: следовательно, оно не есть ни существование, ни сущность.
Оно не принадлежит никакой категории бытия, ни наличного, ни отсутствующего. Однако те аспекты различания, которые таким образом обозначены, не имеют ничего общего с теологией, даже с самой негативной из всех негативных теологий, которые всегда пытаются освободить сверхсуществеяность от конечных категорий сущности и существования, то есть наличности, и всегда спешат оговорить, что Богу отказано в предикате существования лишь для того, чтобы признать превосходный, непознаваемый и неизреченный модус Его бытия[245].
Связь между Платоновой хорой и деконструктивным различанием, как мы увидим, имплицитно присутствует в текстах Деррида, но эксплицитно обозначена его комментаторами[246]. Таким образом, хора не имеет ничего общего с отрицательным богословием; она не отсылает ни к событию, ни к дару, ни к порядку, ни к обещанию, даже несмотря на то, что отсутствие обещания или порядка — пустой, радикально бесчеловечный и безбожный характер этого «места» — обязывает нас говорить о ней и ссылаться на нее определенным и уникальным образом, как к совсем–другому, не трансцендентному и абсолютно удаленному, и не имманентному и закрытому[247].
Это делает хору чем‑то вроде проторазличания, ведь оба характеризуются радикальной инородностью и инаковостью; это и отличает их от негативной теологии, которая, согласно Деррида, представляет собой слишком слабый аиофатизм, ведь категория «за пределами бытия» определяется по отношению к бытию, а значит, вписана в язык онтотеологми.
Однако с христианской апофатикой все не так просто, как выходит у Деррида; мы поговорим об этом подробнее в следующих двух главах, рассматривая тексты Григория Нисского и Дионисия Ареопагита. Тогда станет ясно, что апофатизм, унаследованный от неоплатоников и модифицированный христианскими авторами не позволяет никакого сравнения — даже гиперболического — между Богом и творением, настаивая на их радикальной несоизмеримости, благодаря более последовательному и дерзновенному пониманию отрицания, чем мог бы себе представить всякий деконструктивизм.
Но сейчас уместно задаться вопросом, почему, собственно, то же самое обвинение в сверхсущественности, которое деконструкция предъявляет мыслителям вроде Дионисия, Мейстера Экхарта и Николая Кузанского, не касается, напротив, самой деконструкции. Разве, допустим, «недосущностная» отрицательность хоры не определяется по контрасту с благом (агатон) и, тем самым, не вписывается в метафизический язык Платона?
В самом деле, хора, в изложении Деррида, предстает антиподом агатон, Блага за пределами бытия, образуя с ним странную пару. Она представлена как разрастание (irruption) той самой бинарной оппозиции, в которую она априорно вписана. Она— «иная» Иного (Блага), один из членов пары противоположностей, положение, всегда антитетическое первоначальному тезису. Но ни пресловутая инаковость хоры, ни радикальное различение различания не достигают того уровня трансцендентности, на который так гордо притязает деконструкция. В самом деле, деконструктивная трансцендентность обречена на неполноценность именно из‑за своей зависимости от инаковости и различения. Обе эти категории относительны, — то есть они имеют смысл лишь по отношению к чему‑то, с чем они сопоставляются: если хора — это «иное имени»[248], «совсем- другое» и «несводимо другое»[249], то сама ее инаковость уже заведомо помещает ее в систему отношений (с благом, с Богом, с бытием).
С другой стороны, христианская апофатика, не принимая в качестве определения Бога даже саму инаковость, предпринимает подлинно радикальный шаг в сторону трансцендентности[250]. Краеугольным камнем христианского апофатического богословия было не что иное, как Плотиновы медитации о Едином. Для Плотина и, конечно, для его христианских последователей неудачное замечание Деррида («это и есть сверхсущественность — наивысшее Существо, которое остается несоизмеримым») прозвучало бы довольно забавно: «наивысшее Существо» это противоречие в терминах, ведь никакое существо в силу самой своей бытийности (beingness) не может быть наивысшим[251]. Согласно Плотиновой метафизике, только Единое может занимать это место — именно потому, что оно превосходит бытие (being). Но Единое превосходит сущее (и сущих) именно благодаря отсутствию инаковости:
Тела [т. е. чувственное], конечно, сами не способны к соединению и совпадению, нр даже тела не могут препятствовать соединению бестелесных сущностей [т. е. умопостигаемого], потому что то, что разделяет эти сущности друг от друга, есть не место [τόπω, ключевой термин для топологии хоры], а только их собственные инаковость и различие [έτερότητι δέ καί διαφορά], и потому, как только это различие исчезает, они становятся присущи друг другу. Так как верховное существо не имеет в себе инаковости, то оно всегда и всему присуще[252].
Будучи не в силах устранить инаковость и различие, деконструктивное отрицание остается позади, в сфере умопостигаемого (в отрывке Плотина она обозначена как «бесплотные вещи»), что и составляет мир Сущности и Идей. В самом деле, предикативный язык и концептуальная мысль — эти путала метафизики — всегда основывались на категориях инаковости и различия этих знаменах деконструкции. Однако преодоление первых невозможно без отказа от последних. Присущий деконструктивистам страх перед имманентностью стоит им утраты трансцендентности, ведь «трансцендентность, которая не имманентна, — это не подлинная трансцендентность, а просто инаковость»[253]. Бог не является ничем ни в чем потому, что Он «все во всем» (1 Кор. 15:23), и «не находится нигде, но нет места, где бы оно не находилось» (ЭннеадыV 5. 8: 24–25), или, словами Дионисия, движение апофатики (безымянность Бога) никогда не будет полным без своего катафатического противовеса (многоименности Бога) (БИ, VII, 3, 872А). Вопреки всем возможным опасениям, отношения комплиментарное между отрицанием и утверждением, анонимностью и полионимностью, трансцендентностью и имманентностью не введет обратно, ко впадению в метафизическую диалектику. Это отношение управляется парадоксальной (а значит, неметафизической) формулой Халкедона: «неразлучно, непреложно, неслиянно, нераздельно». Всякая неуравновешенность в ипостасном единении противоположного — когда противоположности остаются таковыми: например, апофатическое молчание предстает несовместимым с катафатическим языком, или трансцендентность оказывается непримирима с имманентностью— неминуемо отвергает Воплощение Неименуемого и Неописуемого в языке и истории.
Даже такое трезвое и острое чтение христианского апофатизма, которое предложил Мерольд Вестфал, анализируя Дионисия, может пасть жертвой упрощения, когда в «отрицательном богословии» видят лишь движение трансценденции[254]. Обсуждение Вестфалом Августина, Дионисия и Аквината вновь вызывает призрак Кантианского времени[255]. Причина этого, как он и сам неоднократно признает, проста: христианский апофатизм — это, с его точки зрения, урок «гносеологического смирения», очень близкого коперниканской революции Канта («Есть в этом что‑то удивительно кантианское. Когда дело касается Бога, мы никак не можем познать „вещь в себе“» [137]). Здесь есть доля правды: Кант, близко подходя к отцам Церкви, действительно показывал, что наш разум не способен выступить за пределы своей тварности и что всякое наше понятие неминуемо несет на себе печать тварности нашего ума[256]. Однако это положение неизбежно акцентирует лишь на одной стороне перекреста (на трансцендентной, экстатичной природе Бога), угрожая тем самым ипостасному единению христологического (Christie) феномена. Обращаясь, в особенности, к Дионисию, мы увидим (в дальнейших двух главах), как сам язык гимна и литургической поэзии становится возможен благодаря «кантианскому» жесту вопреки Канту. Ведь Дионисиево «воспевание» (ύμνειν) предполагает и одновременно осуществляет переворот Кантовой трансцендентальной эстетики ради теологической эстетики, которой и посвящена данная книга, то есть ради возможности чувственного опыта Бога — опыта, непрестанно порождаемого Воплощением Христа. Итак, может ли Кантов ноумен стать феноменом?
Постоянное предпочтение деконструкцией одностороннего экстасиса, отвергающего даже минимум ипостасности — что проявляется вновь и вновь под разными рубриками, будь то бесконечно Иной, абсолютная справедливость, необусловленное гостеприимство или чистый дар — выражает тревожно распространенную тенденцию современных теорий: а именно фобию перед всем воплощенным. Именно на Воплощение указывает Деррида, говоря в своем позднем эссе[257] о разрыве между христианством и двумя другими монотеистическими религиями (разрыве, имеющем значительные философские, а не только богословские импликации). Из этого эссе совершенно очевидно, что Деррида отдает предпочтение трансцендентности голоса перед имманентностью образа. Такого рода предпочтение соотносит Деррида с традицией трансцендентности, восходящей, через Левинаса и Гуссерля, к Канту[258].
С другой стороны, имманентизм некоторых постмодерных мыслителей, таких как Делёз или Фуко, так же как и их интеллектуального праотца, Спинозы, сводит воплощенность к задыхающемуся телу лишенной духа истории. Эта полярность (между эллинским — ипо- стасным— и иудейским— экстатическим— способами мышления, достигающая кульминации в псевдодилемме между сверхреальным и недореальным Богом) может быть снята третьим термином. Не экстасис без ипостасиса (деконструкция), не ипостасис без экстасиса (онтотеология), а их христологический перекрест. Прибежище не в Иерусалиме, и не в Афинах, а, пожалуй, в Халкидоне. Этим третьим термином может быть дефис (hyphen[259]) соединяющий «гипер-» апофатического богословия с «гипо-» деконструктивной атеологии; иными словами, нам необходимо то, что я называю герменевтикой слово–сочетания (hyphenation). В конечном счете, именно такой дефис позволяет хоре обрести лицо, что мы видим в определенных иконографических и гимнографических образах.
Я имею в виду монастырь Хора[260], необыкновенные фрески и мозаики которого, датируемые XIVв., объясняют его необычное название. В его иконографическую программу входят изображения Богородицы и Христа с одинаковой надписью: «ή χώρα» (хора). Причем Богородица названа ή χώρα τού άχωρήτου (Вместилище Невместимого). Иконография Марии как хоры указывает на Ее роль как орудия Воплощения. При Воплощении Мария, как Платонова хора, служит Посредником между божественным и человеческим, третьим родом (τρίτον γένος, Тимей 52а); Она оказывается точкой соприкосновения между полюсами всех дуализмов (греческих и иудейских), слово–сочетая их Своим безбрачным рождением. Подобно вместительной хоре[261], Мария принимает в Свое тело всю полноту Божества, в то же время не присваивая Его. Таким образом, Она— парадокс, антиномия, хора, содержащая а–хорон, топос, располагающий а–топос, Приятелище Необъятного, Вместилище Невместимого. Эпитет «Хора» был дан Богородице неизвестным автором знаменитого Акафиста (гимна V‑VI в. в 24 песнях, расположенных по алфавиту, поныне входящего в богослужение Православной Церкви); в 15 песни, которая начинается с буквы омикрон, мы читаем: Χαίρε, Θεοΰ άχωρήτου χώρα («Радуйся, Бога невместимаго вместилище»). Сам Христос на иконе назван ή χώρα των ζώντων (хора всего живого). Христос — это par excellence хора, содержащая всю полноту человечества и всю полноту творения, не смешиваясь с ними, в Своей воплощенной личности. Воплощенный Христос обладает теми же свойствами, которые характеризовали слово–сочетание Его рождения: не просто Бог и не только Человек, но Бог и Человек; не просто Слово и не только Плоть, но Слово, ставшее Плотью.
Глава 5: Интерлюдия: Язык за пределами различия и инаковости
Теперь наше исследование перейдет к анализу христианской апофатики, представленной здесь двумя восточными Отцами — Григорием Нисским и Дионисием Ареопагитом. Выбор этих двух авторов представляется вполне очевидным: благодаря таким выдающимся переводчикам и комментаторам как Иоанн Скот Эри- угена, Альберт Великий, Фома Аквинский и Николай Кузанский, оба оказали продолжительное и мощное влияние на богословскую и философскую мысль Запада. Но, кроме этого, на долю каждого из них выпало нечто вроде возрождения в произведениях современных мыслителей, таких как Жак Деррида, Жан-Люк Марион и Джон Милбэнк. Чтобы дать определенную настройку для дальнейших рассуждений, я хотел бы привести (достаточно развернутую) цитату из ключевого, по моему мнению, места Толкований на Песнь песней Григория Нисского, где рассматривается проблематика познания и именования Бога — основной вопрос христианского апофатизма. Григорий размышляет над следующими стихами Писания:
А вот экзегеза Григория:
Искала я Его на ложе моем в ночах, чтобы познать, какая Его сущность, откуда ведет начало, чем оканчивает, в чем Его бытие, но не находила Его; звала Его по имени, какое только можно мне изобрести для Неименуемого, но не было имени, значение которого касалось бы Искомаго. Ибо как; званием по имени мог быть найден Тот, Кто выше всякого имени (Фил. 2:9)?.. Посему- то снова восстает и озирает мыслию духовное и премирное естество, которое именует городом.
Вот, говорит, начала, господства и поставленные для властей престолы (это торжество небесных [Евр. 12:23], которое именует она торжищем, это необъятное числом множество, которое называет именем площадь), не найдется ли между ними Любимое?.. И говорит им: не видесте ли хотя вы, Егоже возлюби душа моя? Поскольку же молчали на такой вопрос, и молчанием показали, что и для них непостижимо искомое ею: то, когда пытливым умом обошла весь оный премирный град, и от духовных и бесплотных существ не узнала Желаннаго, тогда, оставив все обретаемое, таким образом признала искомое по одной непостижимости того, что оно такое; потому что в атом познаваемом всякий постижимый признак служит для ищущих препятствием к обретению. Посему говорит: когда немного отошла от них, оставив всю тварь, и прошедши все умопредставляемое в твари, миновав всякий доступный путь, верою нашла· Любимого[264].
Поиск (ζήτησις[265]) Бога, Возлюбленного Песни песней, обречен на неудачу до тех пор, пока он ограничивается познанием (γνώσις). В этой неудаче не следует винить неспособность познающего, — ее причина заключается скорее в «непознаваемости» (αγνωσία) Самого Бога. Первый симптом Его «непознаваемости» — это недостаточность языка для именования Бога. Григорий (цитируя Фил. 2:9) формулирует этот парадокс таким образом: «как званием по имени мог быть найден Тот, Кто выше всякого имени?». Язык терпит поражение, потому что Возлюбленный не принадлежит тому порядку, ще может полноправно функционировать язык. Опираясь на метафорику разбираемого им текста, Григорий показывает, как ум невесты [т.е. души] обходит в поисках всю сферу умопостигаемого (την νοητήν τε και ΰπερκόσμιον φύσιν) и не находит Его. Затем она обращается к ангелам, вопрошая, не видели ли они Его (видение — синоним «знания»), но они хранят молчание. Их молчание следует воспринимать не как отсутствие ответа — а, напротив, как единственный ответ.
О Том, Кого она ищет, можно рассказать только молчанием. Молчание обозначает пределы языка, границу, которую языку не позволено переходить. Молчание отмечает различие между тварным (и подлежащим описанию) и нетварным (а значит, неизреченным) порядками. Это различие оказывается куда более фундаментальным различием, нежели классический дуализм чувственного и умозрительного миров. Чтобы найти Его, невеста должна оставить позади весь тварный порядок (включающий как чувственное, так и умопостигаемое). Точнее, она оставляет «все, что можно найти» (καταλιποϋσα παν τό ευρισκόμενον), — и тогда находит Его. То, «что можно найти», означает здесь то, «что можно назвать» (τό όνομαζόμενον), и то, «что можно помыслить» (τό σκεπτόμενον). Григорий ясно говорит: «всякий постижимый признак служит для ищущих препятствием к обретению». Важно отметить, что препятствием для «мысли» о Боге здесь названы не чувства, так часто обвиняемые в том, что они не способны охватить лежащее выше их, а именно постигающий ум. Сама непостижимость Бога выступает своего рода «определением»: «признала искомое по одной непостижимости того, что оно такое». Похоже, это определение функционирует в качестве «доказательства» бытия Божьего, вроде тех, которые предложили Ансельм и Декарт. Если это так, то для Григория непознаваемость Бога более фундаментальна, чем Его совершенство или бесконечность. В подобном тоне он замечает в другом месте, что Божество «не представляет признаков собственного своего естества, познается же единственно из того, что не может быть постигнуто» (σημεία δέ τής ιδίας φύσεως ού παρεχόμενη, άλλ’ έν μόνω τφ μη δύνασθαι καταληφθήναι γινωσκομένη)[266] Радикальная непознаваемость Бога, усугубляемая, как нетрудно догадаться, столь же радикальной неизреченностью, — это мотив, которому предстоит стать главной проблемой и ключевой категорией мысли Григория. Бога можно узнать по тому, что Он непознаваем, — это единственный «признак» Его естества. Что мы здесь встречаем — это обозначение границы (человеческого познания) — но в этом нет ничего нового. Однако это обретает решающее значение при следующем шаге: речь идет о признании, что эта граница одновременно составляет наивысшую точку познания Бога. Иными словами, знание дается нам лишь в момент поражения нашего разума, в неудачной попытке познания Бога. Мы приходим к познанию искомого лишь тогда, когда сталкиваемся с болезненным и смиряющим нас осознанием нашей неспособности познать. Подобно невесте из Песни песней, мы обретаем желаемое лишь в отказе от него (καταλιποΰσα)[267]. Что за эпистемология или онтология наводит на такую странную логику? Ответ на этот вопрос следует искать в излюбленном понятии Григория: диастема[268].
Прежде, чем обсуждать роль диастемы в Григориевом понимании богословского языка, необходимо окинуть беглым взглядом исторические и теоретические предпосылки ее возникновения. Наиболее интенсивный этап развития философии языка Григория пришелся на время евномианской полемики. Евномий — арианин второго поколения (аномейского толка) — основывал свои аргументы против божественности Сына на эссенциалистском понимании языка, а именно на идее, что значения de dicto — это непременно истины de re. Если «имя» обязательно связано с «сущностью» именуемого, то остается только решить, которое из божественных имен характеризует Бога правильно, — это должно дать доступ к самому естеству Бога. Вслед за Арием, Евномий, считал такой исключительной характеристикой Божества относящееся к Отцу понятие «нерожденный» (τό άγέννητον); это означало, что Сын (как рожденный) и Святой Дух (как происходящий) не могут разделять это имя с Богом Отцом, а значит, не причастны и Его божественной природе (как говорит Григорий, «τούτο γάρ είναι την θείαν φύσιν, όπερ σημαίνει τό τής άγεννησίας όνομα”; СЕ II, ρ. 243). Соответственно, критикуя ересь Евномия, Григорий должен был проблематизировать его философию языка. Эта критика разворачивается в двух основных направлениях: (а) герменевтическое (в противовес эссенциалистскому) понимание языка вообще и языка о Боге особенно, и (б) введение категории диастемы (границы между тварным и нетварным) и анализ языка о Боге в перспективе этого различения.
Относительно герменевтического понимания языка (особенно в именовании божественного), Григорию было необходимо предложить теорию, которая бы убедительно опровергла популярную (в позднеантичном Средиземноморье) теорию натурализма, при этом не впадая и в софистический конвенционализм[269]. Спор о том, соответствуют ли имена, и язык вообще, природе (φύσει) или они условны (θέσει или συνθήκη), происходит из классических Афин (живую запись такой дискуссии представил Платон в своем Кратиле). Однако Григорием здесь руководило отнюдь не простое философское любопытство Его ответ на этот вопрос подытожен в следующем отрывке:
Многим кажется, что слово Божество употребляется собственно об естестве (κατά τής φύσεως) и, как или небо, или солнце, или какая-либо другая из стихий мира, обозначается особенными именами, отличающими именуемое; так, говорят, и в разсуждении высочайшего и божественного естества; слово Божество, как некое в собственном смысле прилагаемое имя (κύριον όνομα), естественно приличествует означаемому. Но мы, следуя внушениям Писания, дознали, что естество Божие неименуемо и неизреченно, и утверждаем, что всякое имя, познано ли оно по человеческой сущности, или предано Писанием, есть истолкование (ερμηνευτικόν) чего-либо разумеваемаго о Божием естестве, но не заключает в себе значения самого естества (GNOIII, 42-43[270]).
Герменевтическое понимание языка Григория невозможно без специфически христианского различия между самой по себе божественной природой (или сущностью) и ее действиями (энергиями). Различные имена, которые мы приписываем Богу (такие как «бытие», «благо», «истина», «вечный» и т.д.) обозначают только «действия» Его промысла, как мы их воспринимаем, а вовсе не Его существо, каково оно само по себе (оно остается неизмеримым и неименуемым). Этот принцип красноречиво выражается в пространном пассаже из толкований Григория на евангельские заповеди блаженства; здесь, стараясь примирить две, казалось бы, противоположных традиции Боговидения[271], Григорий отчетливо артикулирует различие между сущностью и энергиями. Он начинает с утверждения, что Божье естество само по себе (αύτή καθ’ αύτήν) «выше всякого постигающего мышления» (πόσης ύπέρκειται καταληπτικής έπινοίας)[272]. Подтвердив эту стандартную идею о непознаваемости Бога, он, однако, неожиданно добавляет: «Но таковым будучи по естеству Тот, Кто выше всякого естества, Сей невидимый и неописуемый, бывает видим и постигается в другом отношении» (αλλω λόγω). Это «другое отношение», как альтернативный путь, оказывается не одним, а множеством способов понимания Бога (πολλοί δέ οί τής τοιαύτης κατανοήσεως τρόποι). Он приводит два примера. Восхищаясь выдающейся картиной, мы, в некотором смысле, «видим» в ней искусность и стиль художника (но не его сущность) и, таким образом, узнаем нечто о художнике, каким он «проявляется» в своем произведении; так и с Божьим творением: наблюдая мир вокруг нас, мы можем узнать что-то о Боге (Его «стиль»). Подобным образом, когда мы начинаем думать о собственном бытии — что оно есть не результат необходимости, но следствие благости Бога, — эта мысль открывает нам нечто о Боге. В каждом случае, мы не можем обратить взор непосредственно к Богу, каков Он Сам по Себе (без свойств), ведь так мы уподобились бы взирающим невооруженными глазами на солнце (используя знаменитую Сократову метафору из Федона); нас просто ослепила бы яркость света. Гораздо разумнее было бы, подобно Сократу, «прибегнуть к отвлеченным понятиям» (99е5) и герменевтическим рефлексиям над ними. Следовательно, когда мы созерцаем Бога, каким Он являлся и является нам (в делах Своего промышления о нас), «Невидимый по естеству делается видимым в действиях» (ό yap Tfj φύσει άόρατος όρατός ταΐς ένεργείαις γίνεται)[273]. Итак, для Григория, богословы — это герменевты par excellence, а язык богословия, подобно Сократу, «снова пускается в плавание» (99d) герменевтики, с его двойным жестом остановки (позволяющей нам преодолеть радикальную инаковость Бога, не впадая в деконструктивное отрицание) и подозрения (оберегающего нас от категорических утверждений о Боге, ведущих к идеологии)[274].
В текстах Григория диастема регулирует три фундаментальных принципа:
а. Отсутствие диастемы присуще только Богу,
б. Диастема присуща творению как таковому, в его тварной конечности, и
в. Диастема — это непреодолимое расстояние, отделяющее нетварного Бога от творения.
Все эти три утверждения говорят об одном и том же, только с разных точек зрения. Все они возможны лишь благодаря разрыву между христианством и классическим (главным образом платоническим и неоплатоническим) взглядом на космос как на континуум, разворачивающийся между Богом и материей. Такой взгляд давал место общению и взаимодействию между несозданным Богом и созданным космосом (к примеру, неоплатонические понятия проодос и эпистрофе; идея теургии — яркое выражение такого мировоззрения). Христианство приносит новый взгляд, подчеркивая качественно непреодолимую бездну, отделяющую Бога от Его творения. Различие между человеком и Богом в классическом мире — это различие степени совершенства; в глазах христианства, однако, это радикальное различие природ.
Первые два значения диастемы оказываются общим основанием для классических и христианских источников[275]. Для Плотина, как и для Григория Нисского, Ъиа- стема — это sine qua поп[276] условие творения (каково бы ни было его происхождение — ex nihilo, по изволению Создателя, или по эманации, через иерархию творений), а отрицательная форма ά-διάστατος может относиться только к божественному[277]. Причины такого различения очевидны: одно из первых значений диастемы — «измерение», в том смысле, в каком мы сегодня используем этот термин, говоря о четырех измерениях нашего мира. Диастема предполагает и требует измеряемый мир (т.е. материальный и темпоральный), где вещи имеют длину, высоту, глубину и продолжительность[278]. Диастема в этом смысле переводится как «промежуток» (и в пространственном, и во временном плане). Для Григория диастема— это и само «пространство», заключенное между двумя пределами (πέρας): началом и концом; это особенно характеризует творение. Следовательно, с точки зрения конца, диастема указывает на конечность (περατότητα) нашего мира, а с точки зрения начала, она наводит на мысль о творении как о том, что было не. всегда (как данность), но было нам предложено (как дар).
Но для нашего исследования наиболее важно третье значение диастемы: как непреодолимого расстояния, отделяющего нетварного Бога от творения. Если бы мы хотели перевести диастему Григория на язык современной философии, мы избрали бы слово «дистанция» как наиболее близкий, если не синонимичный, аналог. «Дистанцию» мы здесь понимаем в том смысле, в каком ее понимает Жан-Люк Марион в своей книге (Идол и дистанция, 1977), как различие, отделяющее и «тем самым, все теснее соединяющее», как несоизмеримость между Богом и человеком, «дающую место близости» (ИД, С. 198[279]). Согласно этой странной логике дистанции (отличающей ее и от онтологического различения, и от деконструктивного различания), Бог приближается к нам самим фактом Своего отдаления, и в отсутствии, причиненном Его отдалением, особенно ощущается Его близость: «близость человека к божественному возрастает пропорционально пропасти, разделяющей их; она отнюдь не сокращает эту пропасть. Отдаление божественного, пожалуй, составляет крайнюю форму его откровения. Именно это мы вкладываем в понятие дистанции» (ИД, С. 80).
Для Григория также диастема — это зияние, отверстое несоизмеримостью между тварью в ее тварности и нетварным Богом. Расстояние (стояние порознь) двух стражей обусловлено их радикальным неравенством. Тем не менее, именно этот разрыв, бездна, ставит под вопрос и сомнение всякий язык о Боге (language of God[280]). Из-за диастемы, понятой в таком ключе, эта «о» никогда не может объединить «язык» (диастематический par excellence) с Богом (а-диастематическим par excellence).
Ведь велико и непроходимо средостение, которым Несозданное Естество отделено (διατετείχισται) от созданной сущности. Одно ограничено, другое не имеет границ (πέρας); одно объемлется своей мерой, как того восхотела премудрость Создателя, мера же другого — беспредельность (άπειρία); одно связано некоторым протяжением расстояния (διαστηματική τινι παρατάσει), замкнуто временем и местом, другое выше всякого понятия о расстоянии (διαστήματος);.. В этой жизни можно усматривать и начало существ, и конец, а Блаженство превыше твари не допускает ни начала, ни конца, но, будучи выше означаемого тем и другим, пребывает всегда одним и тем же. Одно в себе самом имеет движение жизни, а не через какие-либо расстояния (διαστηματικώς) переходит в ней от одного (состояния) к другому (СЕ II, GNOI, Р. 246)[281].
Метафора, использованная Григорием в этом отрывке, помогает понять третье значение понятия диастема в его мысли. С самого начала в фокусе оказывается дистанция, разделяющая два порядка — «тварную сущность» и нетварную «природу».
Впрочем, это никакая не дистанция. Григорий ведет речь о «великом и непроходимом средостении», ограждающем все созданное от несозданного. Образ стены дает его аргументации ту структуру, на которой Григорий строит энергичный контрапункт. Их различия постоянно описываются в категориях пределов (πεπεράτωται, πέρας, απειρία), мер (μέτροις, μέτρον), преград (έμπεριείληπται, συμπαρεκτείνεται) и замкнутых пространств (περιειργομένη). Диастема фигурирует здесь дважды, в середине композиции, обозначая творение и, по контрасту, Божество. Если прочитать этот отрывок со вниманием к этим деталям, он даст нам больше, чем простой перечень различий между характеристиками созданного и несозданного порядков. Он говорит метафорическим языком Писаний, употребляя образ «зеленеющей стены Рая»[282], откуда некогда был изгнан человек (Быт. 3:23-24) и к которому он по-прежнему стремится. В этом отрывке диастема оказывается концептуальным эквивалентом онтологической стены, разделяющей Создателя и создание.
Такое разделение, однако, имеет далеко идущие последствия для языка и, особенно, для языка о Боге. Пределы диастемы, окружающей творение, — это одновременно и пределы познания и языка (согласно крылатому изречению Витгенштейна, «границы моего языка означают границы моего мира»)[283]. Бог, запредельный по отношению к диастеме, превосходит и нашу способность к пониманию и высказыванию. Григорий рисует довольно хмурую картину неудачных попыток нашего сознания «перескочить» через стену диастемы. Сколько бы ни пыталось, говорит он, тварное существо «нарушить» эту границу диастемы, пытаясь «выйти из себя» (εξω έαυτής γενέσθαι) посредством схватывающего созерцания (διά τής καταληπτικής θεωρίας), оно никогда не добьется успеха; стена диастемы принуждает его «оставаться в себе», и куда бы оно ни обратило взгляд, оно всегда видит себя самое[284]. Эти мысли не могут не смирять нас в наших богословских исканиях, но тем самым они оказываются мощным противоядием от всякой доктринальной категоричности и конфессионального триумфализма. Наш язык о Боге, как бы говорит Григорий, это скорее наш язык, чем Божий. Но, с учетом непроницаемости диастемического барьера, разве возможен язык о Боге вообще?
Григорий, разумеется, знает, что существует язык о Боге — то богословие, которому учит и он сам; но это означает, что через бездну перекидывается мост, и пропасть пересекается каждый раз, когда мы говорим о Боге (или, точнее, воспеваем Его). Не/ как это возможно?
Апофатизм Григория впЬлйе мог бы уподобиться Витгенштейнову или Платонову; однако ни Витгенштейн, ни Платон не могли пойти дальше установленного ими различия между миром, о котором возможно говорить, и тем, что лежит за его пределами или, скажем так, внутри, — тем, что остается неизреченным (das Mystische, эпекэйна тэсусиас, хора). Их мысль не знает перекреста между двумя сторонами онтологической стены, который мог бы объединять их «неслитно и неизменно», в то же время различая их «нераздельно и неразлучно». Чтобы говорить о таком переплетении, необходим язык Воплощения, и именно этот язык красноречиво выражается в следующем знаменитом фрагменте:
Ведь как воздух (πνεύμα) не удерживается в воде (έν ΰδατι), когда погружается в глубину вод вместе с более тяжелым телом, но устремлется к сродному, и вода часто сопутствует воздуху в его стремительном восхождении, окружая пузырек воздуха некой тонкой, наподобии плевы (ύμενώδει), поверхностью (επιφάνεια), — так и когда истинная Жизнь, отягченная плотью, после Страсти востекала к Себе, тогда и плоть сопутствовала ей, возводимая божественным бессмертием от тления к нетлению (СЕ III, GNOII, 131-132)[285].
Первые два существительных в этом отрывке — πνεύμα и ΰδατι — выводят на сцену два качественно различных порядка: πνεύμα принадлежит невидимому и представляет «горний» мир, а ύδωρ воспринимается чувствами и принадлежит материальному миру.
Таким образом, противопоставление этих начал отсылает к диастематическому различению. Кроме того, πνεύμα и ύδωρ — это два элемента крещения (аллюзия, совершенно очевидная для читателей Григория); это приглашает нас мыслить о дуализме двух порядков в сакраментальном ключе[286]. Дальнейший текст подтверждает понимание этого отрывка в свете крещальных формул: Григорий действительно ведет речь о погружении «в глубину вод» (βάθος τού ΰδατος). Но здесь есть нечто еще. Погружение в воду— это символ «снисхождения», то есть смерти[287]. Отсюда Григорий переходит к обсуждению πάθος, страдания и смерти «истинной Жизни». Образы первого схождения (в пучину вод) и второго схождения (в пучину нижнего мира) соединяются в структуре пассажа ключевым термином «έπιφανειοι» — понятие, которое может означать «поверхность» (и это его первоначальное значение в данной метафоре), но также, что еще важнее для нас, эпифанию. Именно эпифания на «тонкой, на подобии плевы, поверхности» плоти составляет третье схождение (в утробу Марии), которое предваряет первые два и делает их возможными, завершая весь спектр проблематики Христова Воплощения. Это метафорическое повторение событий Воплощения достигает крещендо в выводе: άπό τής φθοράς συνανωσθείσα έπ'ι τό άφθαρτον. Тленное (читай «тварное») «возводится» нетленным (читай «нетварным») и соединяется с ним. Благодаря Воплощению (τή έπιφανεία) непреодолимая, непроходимая стена диастемы превращается в «тонкую, наподобии плевы, поверхность» (гимен)[288].
Таким образом, гимен, соединяющий диастематическую «воду» с адиастематическим «воздухом» (но также сохраняет их различие), делает возможным язык. Но о каком языке идет речь? Я полагаю, что гимен в метафоре Григория служит эквивалентом гимна[289]. Язык, который становится возможным благодаря Воплощению, — а значит, как я постараюсь показать далее в этой главе, единственный подобающий Богу язык — это язык гимна. Язык о Боге (богословие) следует понимать как язык хвалы Богу (славословие).
Если неописуемое может быть описано и непредставимое изображено на иконе благодаря плоти Воплощенного (как было показано в первой части), то что препятствует сделать аналогичное предположение и о языке? А именно что благодаря Слову, сделавшемуся плотью, тварная плоть может произносить неименуемое и неизреченное Слово. И если икона оказалась подходящим примером, олицетворяющим, скажем так, эту новую парадигму видения, то не может ли гимн служить примером «иконического» языка?[290]
Чтобы ответить на этот вопрос, взглянем последний раз на образ стены.
Ведь стена как предел и граница не просто разделяет лежащее по разные стороны от нее, но, самим актом разделения, приближает разделенное друг к другу. Ведь «общая» для обеих противоположных сторон стена диастемы оказывается для них точкой соприкосновения, где противоположности встречаются. Эта встреча противоположностей — «есть стена Рая, — пишет Николай Кузанский, обращаясь через эту стену к Богу, — в котором Ты обитаешь»[291]. Отсюда проистекает невозможность говорить о Нем, поскольку язык функционирует на основе различения, разделения и классификации (т.е. грамматики и синтаксиса). Но Бог, Который «там», по мысли Николая, сильно отличается от нашего «здесь». «Тебя можно видеть только по ту сторону (ultra) совпадения противоположностей, ни в коем случае не здесь (extra)»[292]. Человеческому уму, желающему достичь Бога, предлежит невозможная задача: он должен пройти через стену coincidentia oppositorum [совпадения противоположностей], которая, подобно обращающемуся огненному мечу херувима (Быт. 3:24), охраняет врата Рая. Но переход через эту стену огня означает смерть разума и предикативного языка (ведь здесь нарушаются два наиболее лелеемых логикой принципа, непротиворечив и тождества); то есть наш язык должен оставить себя по эту сторону. Но, по мнению нисского епископа, а также кузанского кардинала, наша мысль все же способна улучить мимолетное видение тайн, скрытых от нас оградой Рая; для этого она должна оказаться на самом пороге языка (in ostio coincidentiae oppositorum [у дверей совпадения противоположностей])[293]. Григорий никогда не устает напоминать нам, что «έν μόνω τω μή δύνασθαι καταληφθήναι γινωσκομένη», то есть что Бог познается только по невозможности Его охватить. Этот эпистемологический парадокс — где дальнейшая точка нашего познания Бога совпадает не просто с недостатком, а прямо с невозможностью такого познания — дополняется не менее парадоксальным языком: славословием.
Что это значит, стоять на пороге совпадения противоположностей? И каким языком можно там говорить, если там вообще возможно говорить? Какова разница между языком утверждающим и языком славословящим? Как и на всяком пороге, различие между внутренним и внешним здесь размывается. Во-первых, упраздняется эпистемологическое различие между умом и чувствами, между умозрительным и чувственным («Ты там, где говорить, слышать, вкушать, осязать, рассуждать, знать и понимать — одно и то же»). Во-вторых, уничтожается различие между субъектом и объектом («где совпадает видеть и быть видимым, слышать и быть услышанным, вкушать и быть вкушаемым, осязать и быть осязаемым»[294]). По мере того, как основополагающие принципы предикативного мышления устраняются, постепенно проявляются очертания языка иного рода, языка без причин и оснований. Как и роза Ангелуса Силезия, этот безосновательный «язык» не имеет «почему». «В расцвете роза только потому, что подошла пора её цветенья»[295]. С другой стороны, язык, каким мы его знаем по нашему повседневному общению, всегда служит какой-то цели: он сообщает, требует, информирует, запрещает, объясняет, описывает и т.д. Благодаря инструментальному применению языка нам удается «делать словами вещи» (заимствуя заголовок Остина).
Однако, стоя на огненном пороге совпадения противоположностей, где уничтожается большинство различений, которые делают необходимым этот язык, приходится учиться новому языку, «языку Рая»:
...И вдруг осознал, что с молодости, по сути, ничего другого не делает, кроме как говорит, пишет, читает лекции, придумывает фразы, ищет формулировку, исправляет их, и потому слова в конце концов перестают быть точными, их смысл размазывается, теряет содержание, и они, превращаясь в мусор, мякину, пыль, песок, блуждают в мозгу, .вызывают головную боль, становятся его бессонницей, его болезнью. И в эти минуты он затосковал, неясно и сильно, по беспредельной музыке,, по абсолютному шуму, прекрасному и веселому гаму, который все обоймет, зальет, оглушит и в котором навсегда исчезнет боль, тщета.и ничтожность слов. Музыка— это отрицание фраз, музыка— это антислово![296]
Это антисловесное качество музыки следует понимать как ее радикальный антиконцептуализм: музыка — это язык, который по самой своей природе избегает ограничения рамками какой-либо идеи или концепции[297]. Когда мы говорим об «идеях» героизма, радости или трагичности, выраженных в том или ином произведении, мы неправомерно переносим на музыку категории повседневного языка. Феноменологическое слушание музыки может выделить три основные черты, обеспечивающие свободу музыки от уз концептуального мышления и отличить музыку от языка: (а) отсутствие у музыки референции (за музыкой не стоит никакая «реальность», на которую она бы указывала), (б) отсутствие у музыки интенции (язык музыки неопределен, благодаря чему и возможна ее пресловутая универсальность), и (в) отсутствие в музыке рефлексии (язык музыки непосредствен)[298].
Непосредственность, неопределенность и семантическая автономия делают музыку гораздо более подходящим языком для обращения к Богу и более подходящим средством связи Бога с нами: «Язык музыки... имеет богословское измерение. Он одновременно открывает и скрывает сообщаемое им. Его Идея — это обретающее в нем очертания божественное Имя... Это человеческая попытка, как всегда обреченная, наименовать это Имя, а не передать значения»[299]. В самом деле, как предположил в недавней статье Дэнис Тернер, музыка «ближе всего подходит к спонтанному и простонародному „естественному богословию“, некоему до-богословскому предварению богословия»[300]. Как справедливо замечает Тернер, «древние не разделяли музыку, насколько нам известно, на сакральную и светскую. Они считали музыку сакральной по определению». И он делает вывод: «возможно, поэтому музыка наиболее часто ассоциируется с тем, что в средневековье называли excessus или, по-гречески, экстасис, или по-английски, „taking leave of your senses“ [потеря чувств]: но музыка как раз и была наиболее чувственным, наиболее телесным путем к этому»[301].
Сам язык трактата De Visione Dei представляет такое экстатическое движение. Ведь в этом трактате Николай (как прежде него и Августин в Исповеди и Дионисий в Мистическом Богословии) говорит не о Боге, а Богу. Этот оборот речи (троп), который обращает говорящего к Тому, о Ком идет речь, в то же время, представляет собой поворот от речи к гимну.
Тут важно как можно яснее провести различие между гимнодией и гомилией.
Было бы ошибкой рассматривать гимн как еще одну форму речи («поющуюся речь»); гимнодия несомненно принадлежит к музыке (словесной музыке, т.е. песнопению). Говорить и петь — это две различные способности человеческой личности, и одну нельзя свести к другой. В речи мы используем язык (или же язык находит себе выражение в наших речевых актах); в пении же, с другой стороны, мы создаем музыку[302]. В этом случае наше тело становится инструментом, звуком которого является песнопение[303].
По мнению Григория, весь космос звучит и оглашается величественной гармонией, музыку которой составляет согласие многочисленных созданий[304]. В этой «музыке сфер» (или «небесном песнопении», как выражается Григорий[305]) человеческий ум оказывается не только слушателем, но и участником. Ведь человек, в конце концов, есть микрокосм — миниатюрный образ вселенной — и как таковой он не может не участвовать в создании этой священной музыки. Доказательства этого Григорий находит в самом человеческом теле, созданном, кажется, нарочно для песнопения. В прекрасном отрывке, где анатомическая терминология соединяется с музыкальной в описании тела-инструмента, он пишет: «Это подтверждается и нашим телесным устройством, искусно подготовленным природой для музыкальных действий. Разве ты не видишь флейту гортани, магаду нёба и работу языка, щек и губ, в точности подобную игре плектра на струнах?»[306]. В этой перспективе, аутентичная экзистенция человека (в отношении к нему самому и к его месту в космосе) состоит во вплетении своего голоса в неумолкающее пение великого славословия вселенной. Человека, подобного Моцарту, Хайдеггер называет «Божьей лютней»[307].
И вложи во уста моя песнь нову,
Пение Богу нашему.
Пс. 39/40:3/4
Когда Кьеркегор справедливо говорит: «в мире времени мы с Богом не можем общаться, у нас нет общего языка»[308], — он использует плеоназм. Наш мир — мир времени и пространства (диастематический мир) и отсутствие общего языка между Богом и человеком следует связывать именно со временем. Язык разворачивается во времени. Каждое мое предложение «занимает» время; слова произносятся одно за другим в последовательности, которая означает продолжительность. Язык подчиняется темпоральное мира сего, за пределами которого он перестал бы существовать. Поскольку язык (интериоризованный в мысли) обусловливает рефлексию, время становится неотъемлемой частью нашего мыслительного процесса (достаточно вспомнить Трансцендентальную эстетику Канта, чтобы найти ясное подтверждение этому). Это наблюдение вновь возвращает нас к проблеме различия между диастематическим (т.е. темпоральным) языком человека и адиастематическим (т.е. вневременным) «языком» Бога. Язык и мышление хронологичны; с другой стороны, «язык» Бога отвечает совсем другой темпоральности: кайрос. Различие между кайрологической и хронологической темпоральностя- ми — уже обсуждавшееся в главе 3 — помогло нам осветить модальности Augenblick и эксайфнес. Характерно, что, хотя в тот момент обсуждения нас интересовала только визуальная сторона этих феноменов, т.е. только их специфичная феноменальность, нам все же пришлось использовать пример из области акустики: как было показано, музыка это единственное искусство, которое разворачивается во времени, и все же времени не принадлежит, но открывает иную темпоральность — не хронологическую, а кайрологическую. Более того, как мы убедились, опираясь на соответствующие тексты, оба термина, кайрос и эксайфнес, принадлежат дискурсу, который можно назвать одновременно эсхатологическим, мистическим и литургическим[309]. Однако только теперь, после долгого изложения, мы можем соединить эти два наблюдения. Если музыка— эта щель в хронологическом континууме, через которую мы можем взглянуть мельком (Augenblick) на темпоральность эксайфнес, выхватывающую из темноты триптих мистического, эсхатологического и литургического времени, то не должны ли мы прийти к выводу, что музыка, более всякой другой человеческой деятельности, обусловливает (нам еще предстоит продумать, каким образом) то, что восторженно исповедует у Гете chorus mysticus — а именно что Unbeschreibliche, hier ist’s getan?[310] Разве нам не приходится признать, что, как ясно высказался Адорно, музыка стремится произнести Имя Божие?
Это тем более верно, если мы обратимся к тому роду музыки, высшим проявлением которой является литургическое песнопение, — а именно к гимну. Повем имя Твое братии моей, посреде церкви воспою Тя[311], говорит один из Псалмов (22:22), и Послание к евреям придает этим словам новый смысл, цитируя их в христологическом контексте (2:12). Два оборота стиха (повем имя Твое... воспою Тя) обозначают одно и то же действие, выраженное в параллелизме. Именно в литургическом славословии «возвещается Божие имя». Эта интуиция нигде не высказана столь живо и широко, как в трактате Дионисия О божественных именах. На протяжении этого трактата (самого пространного во всем его корпусе) Дионисий постоянно заменяет глагол «говорить» (λέγειν) и производные от него глаголом «воспевать» (ύμνεΐν), когда в предложении речь идет прямо или косвенно о Боге[312]. Странно было бы придерживаться такой тактики на протяжении всего текста, последовательно применяя ее при каждом употреблении соответствующих глаголов, не имея к тому серьезных оснований; ее никак не спишешь на случайный выбор автором синонимов. Текст Дионисия подсказывает два возможных объяснения центральной роли литургического языка: методологический подход, связывающий славословие с апофатизмом, и теоретическое изложение, фокусирующееся на функционировании гимна как такового (в противовес языку).
Феномен изобилия гимнографии в текстах Дионисия в одночасье и выражает, и разрешает парадокс именования Бога. Как возможно взяться за написание (обширного) трактата о Божественных именах, постоянно настаивая на тезисе, что о Божественном невозможно ни говорить, ни мыслить (οΰτε είπειν ούτε έννοήσαι δυνατόν; DN, I, 593Β)?[313] Чем длиннее список таких апо- фатических утверждений[314], тем частотнее становится употребление языка гимна, и наконец мы понимаем, что эти две характеристики прямо пропорциональны друг другу, и друг друга обусловливают.
Вопреки Витгенштейну и Деррида, апофатизм Дионисия не приводит к молчанию (как если бы оно было единственной альтернативой предикативному языку и речи), но преображается в плодородие гимна. Молчание оказывается всего лишь прелюдией гимна:
Чтя (...) неизреченное целомудренным молчанием, мы устремляемся навстречу лучам, сияющим нам в священных Речениях [Писаниях], их светом ведомые к богоначальным песнопениям, ими сверхмирно просвещаемые, вдохновляемые на священные песнословия, на созерцание соразмерно нам даруемых ими богоначальных светов, на воспевание благодатного Начала всякого священного светоявления (LII, I, 589В)[315].
«О чем невозможно говорить, — говорит Марион, — о том следует не молчать» (ИД, 185), — а петь литургические гимны. Таким образом, гимн становится методологическим via tertia Ареопагита, средним путем между крайностями катафатического языка и апофатического молчания. Исследуя классические образцы гимнографии иудейской и христианской традиций, мы не можем не заметить, что в гимне субъект перестает высказываться как авторитетное, уверенное или надменное Я. Он продолжает говорить, но здесь мы слышим уже совсем другой голос — голос, который молит, просит, жаждет, обещает, надеется и даже требует.
Вот пример из Псалма 50/51[316]:
Нетрудно заметить, что в приведенных стихах псалмопевец ни разу не ведет речь от своего Я. Когда речь обращается к Другому, как совсем Другому (Богу), голос Я умолкает. Перед Богом, Я, возможно не без насилия, превращается в винительное меня. Говоря с Ним, Я превращаюсь в меня.
Это покажется еще более парадоксально, если мы осознаем, что гимн, строго говоря, никогда не принадлежит мне. Гимн, его слова и его музыка, не принадлежат мне в таком смысле, как моя речь. Гимны, как и иконы, лишены подписей. Это художественные произведения, лишенные фиксированного авторства, которое приписывали бы их отдельному индивиду. Гимны — это скорее творения общины, объединенной приобщением. Это современная болезнь — правдами и неправдами пытаться приписать каждый гимн тому или иному автору, не замечая, что эти «творцы» были просто устами своих общин. Итак, повторяя древние слова гимна и напевая его древнюю мелодию, говорю не я. Подобно актеру, который одалживает свой голос Шекспиру, я даю (мой) голос сонму святых. Так, псалмопевец не произносит ни одного собственного слова — его песнь всегда дана ему Тем, кому он возносит молитву: вложи во уста моя песнь нову (40:3); Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою (51:15). В гимне мною озвучивается иной язык: иное языка. В гимне я вряд ли говорю на языке, ведь гимн «в» языке, но не «от» языка.
Впрочем, последствия литургического языка затрагивают не только говорящего, они имеют определенное влияние и на его собеседника. Что нам открывают о Боге молитва и хвала? Кто этот Бог, к Которому обращается в гимнах и песнопениях молитвенное меня? Обратимся другому образцу литургического языка — к латинскому Gloria: Laudamus te> benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam [слав.: Хвалим Тя, благословим Тяу кланяемтисяу славословим Тя, благодарим Тя ве- ликия ради славы Твоея]. Винительному меня (те, мя) соответствует звательно-дательное Тебе (te, тя). Это Гебе, однако, остается неопределенным[317]. Конечно, оно может быть описано рядом обстоятельств (напр., qui tollis peccata mundi или qui sedes ad dextram PatriSy etc. [слав, вземляй грехи мира седяй одесную Отца]); но его способность принимать любые имена указывает на неспособность всех и всяких имен наречь то, что не имеет собственного имени. Это возвращает нас к неизменному тезису апофатизма, что многоименность равняется бе- зымянности. «Зная это, — говорит Дионисий, — богословы и воспевают [Богоначалие] и как Безымянного, и как сообразного всякому имени» (БИ, I, 596А[318]). Когда речь идет о Боге, подходит либо все, либо ничего, точнее, все и ничего одновременно.
В гимне непроходимая стена Рая становится преодолимой (поскольку мы можем наименовать Неименуемого) и все же она сохраняется и уважается (поскольку это именование Бога не выражается в панэнтеистическом[319] познании, которое размывало бы различие между Богом и творением). Благодаря гимну далекий Бог оказывается потрясающе близко к нам. С другой стороны, только тут мы понимаем, что сама дистанция Божьего отдаления, отсутствия, молчания и порождает музыку гимна — музыку, от которой падают стены:
Случайно мы разделены стеной, но тонкой, Боже. Слух что страх: я позову, иль это голос Твой — она во прах падет, хоть голос тих[320].
Голос Рильке, замыкая круг наших рассуждений, приводит нас к тому, с чего начиналась эта глава. К пустому ложу невесты и ее отчаянным поискам отсутствующего Возлюбленного долгой брачной ночью Песни песней. Поэт обращается к одинокому и безмолвному Богу, Господу-«соседу», дыхание Которого доносится из-за разделяющей их стены. Но это уже не та устрашающая стена Рая, граница творения, космический барьер диастемы, которую ничто и никто не в силах преодолеть. Она превратилась в такую тонкую стенку, что «я позову, иль это голос Твой — она во прах падет, хоть голос тих». Нам остается лишь задуматься, что это может быть за «голос», если это не тихий призыв молитвы. Ведь Тот, Кого взыскует невеста, и Кого ожидает поэт, всегда лишь в одном шаге от нас.
Глава 6. Постлюдия: Окликнутое Я[321]
Слыши, Дщи, и виждь, И приклони ухо Твое...
Пс. 44/45:10
Прибегая к Слову Прибежищами Слуха Распахнуто Царство На всем бегу.
— Philip Glass, Liquid Days, Part II
Если мы хотим понять, что имеет в виду Адорно, говоря об усилиях музыки «наименовать Имя», делающих ее «одновременно и откровенной, и сокровенной», мы вынуждены обратиться к одному из известнейших — и ключевых для нашего обсуждения — отрывков из Дионисия:
После того как самими боговдохновенными нашими святителями (когда и мы, как ты знаешь, и ты сам, и многие из наших священных братьев сошлись для созерцания живоначального и богоприимного тела, и там же были брат Божий Иаков и Петр, главный и старейший вождь богословов, и затем после созерцания все святители решили воспеть, как кто может, бесконечно сильную благость богоначальной немощи, он [Иерофей], как ты знаешь, победил среди богословов [πάντων έκράτει μετά τούς θεολόγους] всех посвященных в таинства веры, придя в полное исступление [όλος έκδημών], совершенно выйдя из себя [όλος έξιστάμενος έαυτου], переживая приобщение к воспеваемому [την προς τά ύμνούμενα κοινωνίαν πάσχων]) на основании всего того, что было услышано, увидено, узнано и не узнано, он был оценен как боговдохновенный и божественный гимнослов, что я могу сказать тебе о богословски воспетом там? Ведь если моя память мне не изменяет, я многократно знакомился, слыша от тебя, с некоторыми частями этих вдохновенных песнопений (БИ, III, 681D- 684А)[322].
Эпизод, к которому привлекает наше внимание это отступление от основной линии рассуждений, — согласно Дионисию, не что иное, как Успение Божией Матери (это к Ней относятся слова «живоначальное и богоприимное тело»)[323]. Не ясно, утверждает ли Дионисий, что он присутствовал при историческом событии, происшедшем в I в., или просто описывает литургическое празднование Успения (ведь по законам темпоральности кайрос, события «представляемые» богослужением, всегда происходят «ныне»). В свете новейших исследований, настаивающих на литургическом осмыслении его богословия[324], я считаю последнее предположение вполне обоснованным.
Безотносительно к природе описываемого события, этот отрывок представляет собой красноречивейшее свидетельство тесной связи между богословием и гимнодией. При первом прочтении возникает даже представление, что эти понятия взаимозаменяемы. Иерофей, как здесь сказано, возносил Богу гимны (ύμνήσαι), и именно это определяет его особое место среди богословов (μετά τούς θεολόγους): мы сразу отмечаем, что он сопоставляется с другими богословами не по своим теологическим навыкам, а по своей способности к песнопению. Отношение между двумя терминами установлено, хотя еще не определено. Однако совершенство Иерофея, сравнительно с другими иерархами, состоит и не в красноречии или мастерском исполнении гимнов, а лишь в том, что он лично «переживал» приобщение к воспеваемому им (προς τά υμνούμενα κοινωνίαν πασχών). Это утверждение может удивить нас. Что это значит — «переживать» гимны? Об этом же Иерофее Дионисий упоминал выше, что он «не только узнавал, но и переживал божественное» (ου μόνον μαθών αλλά και παθών τά θεία; БИ, II, 648Β).
В песнопении, в гимнодическом действе, Иерофей уже не говорит о Боге, не «богословствует», а переживает Бога в пафосе исступления (όλος έξιστάμενος έαυτοϋ). Таким образом, о нем следует говорить уже не как о богослове, а как о песнослове (θεόληπτος είναι καί θειος ύμνολόγος κρινόμενος). Он настолько исстулил из себя (όλος έκδημών), и Воспеваемый им в такой мере явил Себя Своему певцу, что видящие и слышащие Иерофея [325] «и узнавали, и не узнавали его» (ών ήκούετο και έωρατο και έγιγνώσκετο και ούκ έγιγνώσκετο). Итак, к концу рассказа Дионисий уже оценивает песнословие (hymnology) выше, чем богословие[326]. Если богословие способно дать разве что отвлеченное знание о Боге, то песнословие дает несравненно больше — не знания, не язык о Боге, а приобщение (κοινωνίαν) Богу.
Но мы еще не разобрались, как песнословие достигает этого приобщения. Какие такие особые качества, присущие исключительно гимну и не присущие речи, позволяют гимнологии преуспеть там, где терпит поражение теология? В рассказе Дионисия об Иерофее эффект гимна представлен, так сказать, драматически — на этой доске мы находим искомые ответы, прописанные густыми красками и яркими пробелами. Состояние исступления, постигающее Иерофея, когда он возносит хвалу Богу, странный вид, в котором его не узнают знающие его, и, главное, претерпевание им самим того, за что он воспевает Бога (τα υμνούμενα), — все это указывает на иконичное переживание языка в гимне, переживание, аналогичное иконичному восприятию, описанному нами в первых двух главах этой книги.
Тут мы наблюдаем ту же самую двойственность субъекта: говорящее «Я» и слушающее «меня». Иерофей «претерпевает» гимны, — эго означает, что он — не восхваляющий субъект; гимн словно облекает его, обращая его к самому себе, превращая его в слушателя. Дионисий указывает на это, называя Иерофея «феолиптом» (θεόληπτος)[327]: Бог принял его хвалу, и он принял Бога.
Поэтому он оказывается незнакомым для знающих его, — ведь он приобщился свету непознаваемого Бога. Он «совершенно вышел из себя», поскольку оставил себя самого (свою самость) позади. Перед иконой я вижу Его, поскольку Он видит меня (обратная интенциональность); под Его взглядом я вижу себя как видимого, то есть как «меня» (а не как Я). Так и в иконичном языке гимна: я переживаю себя как тот, кому говорят, как тот, к кому уже обращается Он, как приносимый Ему. В пении Иерофея звучит и мотив эроса, проявляющийся в его исступлении: «божественная любовь (ερως) направлена вовне, — пишет Дионисий через несколько параграфов, — она побуждает любящих принадлежать не самим себе, а возлюбленным (έρώμενων)» (БИ, IV, 13, 712А[328]). Как он объясняет в одной из дальнейших глав своей книги, «единение» (ενωσις) с Богом предполагает «трансцендирование» себя (όλους εαυτούς όλων έαυτών έξισταμένους — буквальная параллель исступлению Иерофея), чтобы стать всецело Божьим (όλους θεού γιγνομένους), «лучше ведь быть Божьими, чем своими» (κρειττον γάρ είναι θεού και μή έαυτών)[329].
Однако решающее отличие заключается не в содержании того или иного конкретного гимна, а в самом пении. Как мы подчеркивали в предыдущей главе, язык гимна — это, в сущности, музыка. Что отличает гимн от обыденного языка и повседневной речи, так это именно тот факт — возможно, очевидный сам по себе и все же немаловажный, — что гимн поется, а не говорится. На самом деле, при богослужении ничего не читают (как читается обычный текст), — здесь все (даже текст Писания, и в особенности текст Писания) поют или интонируют. Чтение и речь принадлежат тварному порядку: читая что- либо, я пытаюсь схватить смысл. В тварном мире язык передает значение и служит дидактическим целям (его задача — информировать или научить, объяснить или доказать). С другой стороны, богослужение отображает эсхатон, где нет нужды в дидактическом языке[330]. Язык эсхатона— славословие (доксология), то есть песнопение (гимнология). При чтении слова схватываются и постигаются разумом; при доксологическом песнопении, напротив, слова становятся пространнее и вместительнее, это они обступают и захватывают нас. Как пишет Павел к филиппийцам, «говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» (3:12)[331]. Павел не в силах постигнуть Христа — у него нет никакого представления о Нем, кроме одного: он пленен Им; быть «постигнутым» (gegriffen) Христом — это единственное доступное нам понятие (Begriff). Таким образом, Павел выворачивает наизнанку знаменитый Декартов принцип за века до его провозглашения: Он думает обо мне, следовательно, я существую (cogitur; ergo sum).
Чтение рассказа об Успении в Ареопагитиках и интерпретация, к которой это повествование нас подтолкнуло, а именно понимание «субъекта» гимнологии как реципиента эффекта гимна (на что ясно указывает «переживание» гимнов Иерофеем) заставило нас перенести акцент с речи, с доминирующей парадигмы языка, на слух. Философия, как правило, достаточно неуклюже обходится со слухом, ведь ее традиционной вотчиной всегда было зрение. От утверждения о первенстве зрения, сделанном Аристотелем в начале Метафизики, до словаря феноменологии Гуссерля история философии оставалась заложницей роскоши видимого. Когда философия говорит, — даже сегодня и даже на английском, — она говорит об идеях и эйдосах, о теории и ведении, о прозрении и спекуляции[332]. Все эти слова этимологически или метафорически указывают на видение, так что «видеть» в конце концов и означает «знать». Следовательно, слепое ухо и взывающий к нему невидимый звук долго оставались неинтересны для философии, составляя, так сказать, ее слепое пятно. Также и с речью. Философию всегда так занимал человеческий логос — словесность, отличающая нас от прочих животных, — что она чуть не позабыла о нашей способности еще и слушать[333].
Однако не что иное, как ухо обусловливает мою постоянную открытость к слову Вселенной. Высказывания вещей непрестанно бьются, подобно во/шам, о берег моих ушей. Звуки поступают в это великое вместилище днем и ночью, когда я сплю и когда бодрствую. Даже если мне удалось бы устранить все звуки, доносящиеся извне, один за другим, от самых громких до едва ощутимых, в конце концов я удивился бы, внезапно заметив, что и само мое тело непрестанно звучит, вслушавшись в постоянный ритм собственного дыхания и сердцебиения. Двери ушных раковин никогда не закрываются — «в высшей степени символично, что у нас есть веки только на глазах, — но не на ушах»[334]. На этой плеве (hymen), именуемой барабанной перепонкой, внутреннее измерение моего тела встречается с внешним миром — миром, сигнализирующим о себе бормотанием и пульсацией, мельчайшими квантами Звуковых волн, в которые я постоянно погружен с головой. Поистине, если слепота нарушает мою связь с вещами, то глухота скорее угрожает моим отношениям с людьми.
Феноменология слуха и слушания — если тут все еще подходит термин «феноменология» — предоставила бы нам потрясающие описания целого диапазона слуховых «феноменов» (или, точнее, акуоменов)[335], снабжая нас дополнительными сведениями, которые подкрепили бы наш анализ гимна.
Чтобы увидеть объект, мы должны повернуть к нему глаза — взгляд требует, чтобы феномен объекта был дан вместе с самим объектом. Мы не увидим, скажем, красный отсвет от этой книги, не глядя в то же время на саму книгу. Все характеристики, благодаря которым книга становится видимой — ее краснота, ее форма, ее место на столе и т.д. — не могут быть восприняты, если мы не смотрим туда, где находится книга. Однако со звуками все обстоит совсем по-другому. Как и присутствие Бога, могущее выражаться как присутствие в отсутствии, невидимый звук музыки окружает меня подобно дуновению ветра: и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит (Ин. 3:8). «Любое пение и любая речь замалчивают поющего и говорящего, — пишет фон Бальтазар, — пущенная стрела пронзает меня глубже, чем проник бы взгляд, но лук, пустивший стрелу, все же не оказывается в моих руках»[336]. Звуку под силу являть музыку, в то же время утаивая ее источник. Не будем тривиализировать наше рассуждение предположениями вроде того, что вполне возможно указать на говорящего в этой комнате или на оркестр в концертном зале. Ведь музыка не происходит из инструмента, вибрирующего в руках музыканта, — это просто способ, рождения музыки. Между тем, никто не знает, откуда она происходит, потому что она приходит из тишины и в тишину уходит, а тишина (герметично запечатанная в себе) это именно то, о чем мы ничего не можем знать. «Горизонт звука — это тишина», — пишут Иде и Слотер, заключая свое исследование по феноменологии звука: «тишина составляет изначальнейшее основание» или «невысказанный контекст» музыки[337]. Доказать это нетрудно: при прослушивании музыки мы как никогда нуждаемся в тишине — к примеру, наушники усовершенствуют наше восприятие музыки не тем, что усиливают звук, а тем, что усиливают сопровождающую его тишину. Еще одним свидетельством является визуальная аналогия тишины, а именно темнота. Что заставляет слушателей закрывать глаза при прослушивании музыки, публичном или индивидуальном? Является ли это просто признанием, что смотреть не имеет смысла, поскольку увидеть все равно не получится? Или же это синестезическое[338] усилие углубить тишину, закрывая глаза (поскольку закрыть уши невозможно)? Как тишина, так и темнота являются классическими провозвестниками богоявления. От греческих мистерий до древнееврейских и христианских Богоявлений, благоговейная тишина и темнота ограждают место и время божественной эпифании. Некая эстетическая память об этом до сих пор заставляет намеренно сохранять темноту и тишину в местах богослужения. Словами Иде, «феноменологически, темнота, сумерки и ослепление нередко предстают визуальным фоном для явления Бога в звуках»[339].
При слушании я всегда оказываюсь получателем (on the receiving end). Слуховое восприятие— занятие пассивное, в нем проявляется уязвимость «субъекта». Мое зрение, подобно взгляду Медузы, превращает все вокруг в объекты — по сути, оно берет в плен все, чего ищет. Однако в слушании все наоборот — это я оказываюсь плененным «вещью», испускающей звук — «вещью», которую я не могу превратить в объект восприятия, поскольку я не обязательно ее вижу или, тем паче, «знаю». Допустим, я работаю один в своем кабинете, и вдруг слышу голос из соседней комнаты или доносящийся с улицы крик. Об этом обыденном опыте следует заметить три вещи: (а) звук (голос или крик) всегда возникает внезапно — ничего не предшествует ему и ничего не готовит меня к нему, он возникает не по моей инициативе и без моей воли; это звук вторгается в мое восприятие, а не последнее обращается к нему; (Ь) у меня нет никакой «власти» над звуком (как над объектом зрения) — только я услышал его, как его уже нет, и я не могу ничего предпринять, чтобы вернуть это переживание; к тому же (с) я не знаю, что могло быть его причиной — если бы я пожелал узнать, чей голос я слышал из соседней комнаты или чей крик донесся с улицы, я вынужден был бы пойти туда и посмотреть. Иными словами, одинокий звук всегда является интуицией, ассиметричной моей интенции и независимой от нее: она неожиданно захватывает мою интенцию (в слушании сознание всегда предстает не «сознанием чего-то», а сознанием «в ответ на что-то»: это не интенциональное сознание, а скорее отвечающее сознание); она сообщает лишь столько, сколько ей угодно, а не столько, сколько нужно мне; и в конце концов, это интуиция, которая избегает объективации, обращая интенцию сознания к объективированию на нее саму (обратная интенцио- нальность)[340]. Позвольте мне вновь обратиться к моему гипотетическому примеру: сидя в одиночестве в своем кабинете, я внезапно слышу голос, — какова будет моя реакция? Я перестаю стучать по клавишам, оставляю на столе раскрытые книги, я не говорю и не двигаюсь, все мое внимание приковано к звуку, взывающему ко мне. Эта реакция «захваченного» или «задетого», «окликнутого» Я иллюстрирует влияние слуховой обратной интенциональности на сознание:
Не мы со своей стороны определяем, что нам слышать, и представляем это перед собой в качестве объекта, чтобы уделить ему внимание, когда нам будет угодно; слышимое постигает нас, не уведомляя нас наперед, и, не спросясь, завладевает нашим вниманием. Мы не можем бдительно удерживать надлежащую дистанцию... когда шум достигает наших ушей, мы инстинктивно понимаем, что слышим его уже, в сущности, уже «после» и не в нашей власти что-либо изменить[341].
Прерывание (interruption) Я, окликнутого слышанием, первичнее и основоположнее, чем разрастание (irruption) Я, усматриваемое феноменологией взгляда: самость разражается (irrupts), как только окликнутое (interrupted) Я отвлекается от поглощенности собою (силой оторванное от себя, от не-тетической[342] идентификации с собой). Если бы его не окликнул звук голоса, мое существо так и оставалось бы сущностью среди сущностей (interesse[343]) — вечно озабоченным собой и вечно неизвестным себе. Но призыв, исходящий из ниоткуда, принес это «ниоткуда» в «здесь и сейчас» моего восприятия. Голос потряс самые основы моего существа (эту самую «поглощенность» меня мною, озабоченность собой), он создал промежуток, образовав место, куда может прийти Другой, войти и поселиться. Пронзенное слышанием Я чревато Другим, — эгоцентризм децентрирован.
Видимо, не случайно Платон вкладывает подобную метафору в уста Сократа, начинающего разговор об эросе, но вынужденного объяснить, откуда он знает то, что он знает, с учетом его пресловутого неведения: «Так как сам от себя я ничего такого не мог придумать — я в этом уверен, сознавая свое невежество, — то остается, по- моему, заключить, что я из каких-то чужих источников, по слуху, наполнился наподобие сосуда» (οτι μέν ούν παρά γε έμαυτσϋ ούδέν αυτών έννενόηκα, εύ οιδα, συνειδώς έμαυτώ άμαθίαν· λείπεται δή εξ άλλοτρίων ποθέν ναμάτων διά τής άκοής πεπληρώσθαΐ μεν δίκην άγγείου; Федр, 235с6- 235dl). Любовь сопоставлена со слухом: как и любовь, звук вторгается в уши независимо от моей воли.
Префикс per в слове persona [лат. личность] не совсем то же, что префикс прос в слове просопон [гр. лицо], — он не предполагает направленность, не указывает на Другого, с которым соотносит себя просопон. Префикс per в слове persona указывает на полость внутри (внутреннее пространство, скрытую глубину, физиологической репрезентацией которой являются слуховой канал и завиток ушной раковины), через которую резонирует (personare) звук. Сила этого per пронизывает звучанием отверстое Я. Однако сам звук не принадлежит персоне, он приходит извне, из внешнего источника — таким образом, он указывает на внешнее внутри меня, внешнее, заполнившее меня и, однако, не ставшее внутренним: это Другой во мне.
Парадигматический образ этого аспекта слушания — Пресвятая Богородица и, в особенности, Ее зачатие «от слушания» (conception per аигет). Николас Констас в своем исследовании Культ Приснодевы в поздней античности собрал огромное число гомилетических, догматических и поэтических источников относительно телесного зачатия Слова от Слова[344]. Здесь мы, конечно, не можем воспроизвести полную картину тончайших аллюзий на Писания, святоотеческих толкований и отображений в византийской иконографии, представленную Констасом; нам придется ограничиться лишь беглой зарисовкой этой потрясающей идеи. Непорочное зачатие Слова Приснодевой стало одним из первых христианских убеждений, резко опровергаемых (а иногда и осмеиваемых) старыми и новыми врагами христианства.
Пытаясь дать объяснение девственному Рождению, никак не объясняемому ни Писанием, ни Преданием, отцы Церкви внимательно вчитывались в эпизод Благовещения в Евангелии от Луки и обнаружили скрытую внутри рассказа слуховую образность. Наконец, они нашли разумным говорить о вхождении Слова в девственное тело посредством органов слуха («ведь чувство слуха— естественный путь для слов»)[345]. «Я слышала Слово, Я зачала Слово, Я произвела Слово», — восклицает Дева в гомилии святого Прокла[346][347]. Взаимная связь между произнесенным словом (благовещение) и услышанным словом (зачатие[348]), за которой лежит диалектика безмолвия и звука, для великих витий V-VI вв. была неисчерпаемым источником красноречия, без которого не обходилась ни одна проповедь, большая или маленькая. (Я был особенно тронут — рождественской? — гомилией Кира Панополитанского, весь текст которой заключается в следующем: «Братие, Рождество Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да будет почтено молчанием, ведь Слово Божие зачалось в Пресвятой Деве от одного слушания. Ему слава навеки. Аминь»[349]).
Воображение экзегетов всегда особенно пленяла типология, заключенная в решающей беседе Гавриила с Марией. Рассказ Евангелиста Луки рассматривался в контрапункте с повествованием Книги Бытия: как Ева в непослушании (παρακοή) «породила» смерть, так Мария, вторая Ева, в слушании (άκοή) породила Жизнь. Тогда как Ева прислушивается (ύπακοΰειν) к змею, Мария выслушивает (άκοΰειν) приветствие Ангела. На создание Богом человека (Адама) человечество отвечает воссозданием человека в Новом Адаме (Христе). Хотя и создание, и Воплощение — дела Отчей любви, все же рождение Христа не могло произойти без ответа Марии. Поэтому Мариино fiat mihi (Да будет Мне по слову твоему; Лк. 1:38) повторяет и дополняет Божье fiat (Сотворим человека; Быт. 1:26)[350]. Обе формулы творения отображают один и тот же парадокс: как Бог создает мир в самоумалении, ограничивая Свою волю, так и Мария дает согласие на Божий замысел о Воплощении, добровольно отлагая Свою волю: Да будет Мне...
В своих повседневных делах мы сталкиваемся с подобным парадоксом, когда делаем паузу, позволяя говорить Другому, когда удерживаем свой язык, чтобы предоставить Другому свое ухо. Когда мы прислушиваемся к другому человеку (hören), мы добровольно капитулируем перед Другим, уступая его претензиям на наше внимание. Мы не просто слушаем Другого; пока мы слушаем его или ее, мы принадлежим (gehören) не себе, а другому человеку. Таким образом, мы проявляем послушание (Gehorsam), подобное подчинению Марии благовестию Ангела. И подобным образом всякое внимательное слушание способно создать место для рождения чего-то нового:
Слух— очень своеобразный модус восприятия. Звуки невозможно приручить или прогнать прочь. Мы можем закрыть глаза, зажать ноздри, удалиться от прикосновения, отказаться от пробы на вкус. Но, хотя мы можем в какой-то мере защитить уши, мы не способны вовсе их закрыть. Если светильник телу есть око (Мф. 6:22), проливающее свет на видимые им предметы, то ухо — это барабан для ударов внешнего мира, раковина для оглушительных валов океана. В опыте звука мы переносим «удары» извне, из внешнего источника. Благодаря звуку мы переживаем далекое как близкое; в процессе слушания мы становимся другими и позволяем другому стать частью себя. Слушание бескорыстно, оно не ищет самовыражения. Даже в диалоге равных партнеров тот, кому в данный момент случилось слушать, оказывается в ситуации смиренного принятия. Пока звучит слово, ухо принадлежит другому. На этот краткий момент мы откладываем свою идентичность, чтобы потом, «придя в себя», принять или отклонить сказанное. Но в этот мимолетный момент самоустранения рождается что-то новое[351].
Часть третья. Осязание
что осязали руки наши...
1 Ин: 1
Если загадка первой аллегории была разрешена посредством анагогии, а тайны второй были раскрыты благодаря коннотациям и типологии, то третья аллегория организована по законам тройного антитезиса. Этот антитезис вертикальной чертой делит полотно на две противостоящие друг другу половины. Первый контраст, который бросается в глаза — это открытость осязанию (которую выражают обнаженные и беззащитные тела Афродиты и Эрота в правой части картины) и отсутствие — можно даже сказать запрет — осязания, на который указывает груда доспехов и оружия, загромождающая левую часть полотна Брейгеля. Нежная, цветущая плоть Афродиты приглашает к прикосновению — и это приглашение уже воплощено ею в объятии и лобзании маленького Эрота. В полной противоположности с этой сценой, холод и твердость железной брони, которую мы видим рядом, отвергает даже малейшую возможность прикосновения. Не случайно Брейгель соотносит эти две противоположности с двумя противостоящими друг другу сферами — с одной стороны — мир Войны, с другой — мир Любви.
Война требует физической мощи, производства, обширных «материальных» резервов (включая человеческие ресурсы) — все это представлено в левой части полотна мужчинами, которые в поте лица обрабатывают железо на наковальне, производя все больше оружия, хотя оно уже и так праздно громоздится на переднем плане картины. Позади работников раскрывается зеленеющий ландшафт. Это природа, но природа лишь в качестве неистощимого сырьевого ресурса, позволяющего человеческой промышленности использовать себя. С другой стороны, в мире Любви природа представлена лишь букетом цветов в вазе (то есть в своем эстетическом измерении). Такой взгляд на природу не служит никакой цели, так что его можно назвать бесполезным в самом высоком смысле этого слова. Человеческий труд также представлен здесь только картинами, которые висят позади целующейся пары. Брейгель словно хочет сказать, что человек может быть рабом своего труда, но он также может быть хозяином своего творения.
Как и в случае Зрения и Слуха, так и здесь — Афродита и Эрот поглощены тем самым чувством, которое изображает картина — они обнимают и целуют друг друга. Очевидно, что Брейгель избрал лишь один аспект осязания, ведь прикосновение не сводится к поцелую. Под категорию осязания подпадает широкий спектр качеств и действий: это чувство позволяет держать и ощущать руку друга, хватать предметы, отличать гладкое от шероховатого, теплое от холодного, измерять вес и т.д. Этот выбор представить лобзание как ключевую парадигму прикосновения, несомненно, красноречив сам по себе. Ведь, хотя в поцелуе губы одного человека прикасаются к губам другого, невозможно поцеловать в губы, не получив в то же время взаимного поцелуя. Именно взаимность, представленная союзом губ, и делает поцелуй наиболее характерным примером осязания, поскольку осязание неминуемо взаимно во всех своих проявлениях.
Поцелуй это также знак страсти — в данном случае страсти любви. Осязание и страсть разделяют общий локус — тело. Если органом взгляда является глаз, а слух действует посредством уха, то чувствилище осязания — это не что иное, как вся наша плоть. Для плоти, горящей этой страстью, недостаточно видеть или слышать возлюбленного — она умоляет о прикосновении возлюбленного, она желает прикасаться и ощущать ответное прикосновение. Впрочем, наше тело — не просто орган соприкосновения; оно вообще наиболее остро претерпевает весь диапазон воздействий возлюбленного. Именно оно переживает трепет ожидания, бьется в муке, пылает страстью, приходит в восторг.
На следующем уровне, доспехи — препятствующие прикосновению Другого — можно понимать не только как антитезис, но и как противоположный взгляд на исследующую плоть. При взаимном наложении двух противоположных парадигм их антитезис снимается, и возникает новый антитезис: доспехи это аллегория кожи — покрывающего тело эпидермиса — или даже самого тела, которое, позволяя осязать его, в то же время оберегает от прикосновения то, что внутри него. В прикосновении особенно остро ощущается неприкосновенность: ведь то, к чему ты прикасаешься, — это никогда не Другой, это лишь кожа Другого, тело Другого, естественные доспехи плоти, непроницаемый покров заповедного святилища Инаковости, внутри которого Другой все равно остается неприкосновенным и неосязаемым. Неужели же я никогда не могу прикоснуться к Другому— или даже ощутить прикосновение?
Первая картина в картине (тайник, в котором Брейгель обычно прячет ключи к своим аллегориям, как мы уже убедились) изображает страсти Христовы. Актуальность этого сюжета для темы осязания очевидна: бесстрастный Бог страждет посредством Своего тела. Прикосновение несет не только наслаждение, но и его сестру— боль[352]. Что означает это простое наблюдение? Разве не то, что в Воплощении Христа Сам Неосязаемый par excellence сделался телесным и уязвимым? Что Неприкосновенный осязается именно благодаря покрову плоти? В Воплощении Сам Творец творит Себя по образу Своего творения — если при Творении Бог дал первому человеку дух, то в Воплощении человек дает Ему тело. Воплощение дополняет и завершает Творение. Здесь оказываются важны все смыслы полисемичного понятия «затронутое»: мы видим Личность Бога, настолько затронутого нашими проблемами, что Он поступает из Себя в любовном порыве кенозиса; мы видим Его соприкасающимся с нашей человеческой природой, так что каждый из нас может физически или эмоционально затронуть Его, — и быть тронутым в ответ.
Глава 7. Осяжите Мя/ Не прикасайся Мне[353]
Pone mе sicut signaculum in corde tuo, Sicut signaculum in brachiis tuis[354].
Песн. 8:6
«Ничего человек не боится так, как прикосновения неизвестного». Этими словами нобелевский лауреат Элиас Канетти открывает свое феноменологическое исследование социального поведения. Его наблюдения о страхе прикосновения настолько важны и актуальны для нашей темы, что я хочу процитировать достаточно обширный фрагмент из них:
Ничего человек не боится так, как прикосновения неизвестного. Он хочет увидеть, что тянется к нему, и быть в силах распознать или хотя бы классифицировать это. Человек всегда стремится избегать физического контакта со всем чужеродным. А в темноте неожиданное прикосновение может прямо рождать панику. Даже одежда не дает достаточной безопасности: ее слишком легко разорвать и прорваться к голому, гладкому, беззащитному телу жертвы. Всякая дистанция, которую человек создает вокруг себя, продиктована этим страхом. Люди запираются в домах, куда закрыт доступ посторонним, и только там ощущают себя более-менее безопасно. Страх грабителей — это не просто страх быть обворованным, но также и страх, что кто-то внезапно и неожиданно схватит тебя в темноте.
Отвращение к прикосновению не оставляет нас, даже когда мы находимся среди людей; им обусловлен наш образ движения на людной улице, в ресторанах, поездах и автобусах. Даже когда мы стоим рядом с другими и можем наблюдать и рассмотреть их вплотную, мы стараемся по возможности избегать прямого контакта[355].
По мнению Канетти, большая часть функций и обычаев нашего цивилизованного общества, если и не самой цивилизации, происходит из страха всех страхов, страха прикосновения. Даже наше восприятие прекрасного, в его основных чертах симметричности и пропорциональности, похоже, происходит из защитных механизмов, порожденных страхом прикосновения: «Симметрия, столь выразительная черта многих древних цивилизаций, отчасти коренится в попытках человека создать одинаковую дистанцию вокруг себя»[356],
Какой же иррациональный инстинкт или незапамятная травма подпитывает этот окопавшийся страх? Канетти намекает на ответ, когда добавляет, что эти и многие другие примеры подобной фобии доказывают, «что мы имеем дело с человеческой склонностью, настолько же глубоко укорененной, насколько таящейся и бдительной; с чем-то, что никогда не оставляет человека с тех пор, как он установил границы своей личности»[357].
Страх прикосновения Другого — это страх, порожденный нарушением установленных границ личности. Близость другого тела угрожает самой моей субъективности, чувству обособленности, обозначенной моим телом. Итак, как ни странно, жест, который я воспринимаю как угрожающий пролом в пространстве, определяющем меня как «Я», — это то же самое движение, которым изначально была установлена моя субъективность вопреки и в противовес Другому. Ведь именно посредством рукоприкладства (хватания, избиения, убийства Другого) я впервые осознал себя как отдельное и отличное существо.
Первым Другим, в противовес которому я определял себя, было — ив некотором смысле остается до сих пор — животное. Способность превратить животное в жертву моей охоты и моей руки (hunt и hand — эти два слова имеют общее происхождение) делает меня не-животным. Охота как таковая отделила охотника от добычи. Даже прежде, чем рука бросит роковой камень, она уже противопоставляет меня моей добыче, зажав в кулаке орудие, пригодное для убийства. Человек, который изготовил первое орудие, — это уже не животное. Человек, который охотится и поедает убитое своими руками, — это уже не животное. Когда я поедаю животное, оно становится частью меня — оно инкорпорируется в меня, и таким образом я становлюсь больше, чем животным. Я становлюсь человеком. Впрочем, другим людям также ничто не препятствует оказаться в моих глазах животными. Впав в мои руки, другой человек утрачивает статус человеческого существа и обретает статус животного. Пусть я давно перестал есть других людей, но с тех пор были разработаны другие способы присваивать Другого. Войны имитируют племенную охоту и вновь запускают игру убийства. Рабов причисляют к другим животным, считая их наряду со скотом, и так к ним и относятся. Задержание и заключение — это институты, происходящие из практик ловли животных и содержания их в клетках. Другой, которым я могу манипулировать по своей воле и прихоти, занял место животного.
Происхождение человечества, как утверждают историки и антропологи, следует связывать с изобретением орудий. Но еще прежде, чем появился первый инструмент, я уже был вооружен рукой. Орудие было создано по образу руки, это, как мы часто говорим, «вторая» рука, только более совершенная и эффективная. Таким образом, рука освободилась от чисто инструментального использования, и теперь она манипулирует инструментами, ею самой произведенными. Передав многие из своих обязанностей инструментам, рука стала свободна и получила возможность творить. На самом деле, эти два момента должны были совпасть: создание первого инструмента рукой обозначает момент, когда рука перестает быть инструментом. Теперь она признана тем, чем она всегда и была, хотя я только теперь это осознал: моим телом[358]. Осознание моего тела и, следовательно, как мы вскоре убедимся, мое самоосознание как субъекта всегда зависело от диалектических отношений между схватывающей рукой и ее инструментом[359]. Инструмент всегда отсылает к руке, ведь одно имеет значение только в связи с другим. Инструмент — это именно то, что можно схватить: наше первое понятие (Begriff). Не случайно даже в таком утонченном анализе бытия-в-мире, как у Хайдеггера в Бытии и времени, мир представляет собой эту референциальную тотальность «орудий», которые, в свою очередь, проявляются в двух модальностях «сподручности» (Handlichkeit): подручные (Zuhanden) и находящиеся-перед-руками (Vorhanden).
Во многих отношениях, человек сумел развить навыки речи благодаря своим рукам. Поскольку ему не приходилось использовать рот в качестве руки — чтобы хватать и держать нужные вещи, как делает большинство животных, — его уста освободились для речи. Более того, «когда человек наблюдал свои руки за работой, производимые ими меняющиеся формы с необходимостью отображались в его уме. Без этого мы, возможно, никогда не научились бы формировать символы вещей, а значит, и говорить»[360].
Действительно, в одном из характерно насыщенных отрывков, Хайдеггер пытается установить такое отношение между рукой и миром:
Человек сам «действует» [handelt] рукой, потому что рука вместе со словом составляет его сущностное отличие. Только то сущее, которое «имеет» слово (μύθος, λόγος), также может и должно «иметь» руку. Рукой совершается молитва и убийство, знак приветствия и благодарения, приносится клятва и делается намек, и ею же осуществляется какое-нибудь ремесло («рукоделие»), делается утварь. Рукопожатием закрепляется нерушимая договоренность. Рука вызывает «дело» опустошения. Рука бытийствует как рука только там, где совершается раскрытие и сокрытие. У зверя нет руки, и никогда лапа и когти не станут рукой. Даже рука отчаявшегося человека — меньше всего «лапа», которой он «царапается». Рука появляется только из слова и вместе со словом. Не человек «имеет» руки, но рука вбирает в себя сущность человека, потому что только будучи сущностной сферой действия руки слово является сущностной основой человека[361].
Дерзнем ли мы сказать, что без рук человек был бы неспособен также и мыслить? Что человек начал мыслить, и мыслит до сих пор, при помощи рук: т.е. согласно фундаментальной структуре, заложенной в парадигме прикосновения? Что «каждое движение руки в каждой из ее работ проносит себя сквозь стихию мышления», так что «всякая работа руки покоится в мышлении»?[362]Кажется, Аристотель с этим согласился бы[363].
Мышление всегда мыслили в категориях чувственного восприятия. Этот парадокс становится все более поразительным в нашу посткартезианскую эру. Чтобы помыслить саму мысль, необходимо обратиться за помощью к ее иному— к чувствам, как будто мышлению недостает собственных метафор и примеров, чтобы помыслить себя. С другой стороны, метафоры, происходящие из сферы чувств — как бы энергично мышление ни противопоставляли этой сфере, — глубоко укоренились в описании мыслительного процесса в повседневной речи и в терминологии различных философских школ. При этом взгляд и способность зрения оказались в доминирующем положении как классическая для западной цивилизации парадигма, иллюстрирующая деятельность разума, — в такой мере, что мы, пожалуй, вправе говорить о настоящей гегемонии окулярного: окулоцентризме[364].
Один из первых разрывов в этой окулярной гегемонии мы находим у самых истоков западной традиции — в трактате Аристотеля De Anima. Тождество эйдоса сущего (его формы) с его конкретным (т.е. осязаемым) воплощением в материи позволяло Аристотелю говорить о душе, которая не только созерцает идеи вещей, но и схватывает их. Как он ясно говорит: ή ψυχή ώσπερ ή χειρ έστιν («душа есть как бы рука»; 432а1[365]). «Вопреки первым строкам Метафизики, — пишет Розен, — самым философским из всех чувств оказывается не зрение, а осязание, поскольку осязание первичнее и вообще ближе связано с вещами (τα πράγματα), чем зрение». И далее, «мы схватываем формы сущего, и таким образом познаем их: осязание — это дифференциация форм, составляющая необходимое условие познания. Познание — это осязание»[366]. Однако иллюстрацией познания может служить не всякое осязание, а именно схватывание. Душа простирается в направлении тех или иных предметов, как рука, готовая нащупать и удержать их в своей хватке. Итак, мы воспринимаем вещи-постигаемые как вещи-схватываемые, как то, что мы можем посредством интеллектуальной хватки обратить в «инструменты». В самом деле, ты знаешь нечто, если ты знаешь, как это использовать. Знание равнозначно инструментальности. Сущее оказывается познано нами посредством инструментального использования. Ведь мы никогда не знаем вещь в себе; мы знаем только ее функцию, т.е. ее инструментальное применение. Познать что-либо означает познать, как это можно применять (handle). Незнание (то άγνοεΐν) иначе определяется Аристотелем как отсутствие контакта (μή θιγγάνειν; Meta., Θ, 1051b 24)[367].
Аристотель сравнивает душу с рукой не просто для того, чтобы украсить речь яркой метафорой. «Метафорическое существует только в метафизике»[368], и эта метафора ведет нас к самому сердцу греческой метафизики. В своей Физике — «основополагающей книге западной философии»[369] — Аристотель открывает центральный принцип, который организует всю совокупность греческой мысли и, через греков, оказывает влияние на всю дальнейшую философскую традицию. Мы называем его «эргологическим различием», поскольку оно различает все сущее на естественное (φύσει) и искусственное (άπό τέχνης) (192b, 8 и18), то есть осмысливает сущее в категориях рукотворности. Под «рукотворностью» (“manufacture”) мы имеем в виду труд (εργον, factus)[370], осуществляемый руками (χειρ, manus). Эргологическое различие определяет, почему та или иная вещь принадлежит к тому или иному роду. Оно ставит вопрос о ее причине (άιτία) и начале (αρχή). По своим причинам и началам все сущее распределятся на две категории: то, что «производится» ручным трудом (то, что имеет причину за пределами себя, а именно в производящей руке; поэтому Аристотель называет это χειρόκμητα [493b 30]), и то, что «рождается» (φύσει) и само себе является причиной[371]. Φύσις, что позже будет переведено как natura (природа), впервые осмысливается именно по контрасту с ручным трудом (эргон)[372]. Последний породил целый ряд метафизических понятий: энергиа[373](что было переведено как actualitas и таким образом стало означать «актуальность», но в то же время дало нам и слово «энергия») и катаргесис (упразднение, о котором говорит Павел в своих Посланиях; оно было передано Лютером как Aufliebung, «снятие», и стало ключевым термином гегельянской философии), синергия и демиургия (наводящая на мысль о трудолюбивом Боге, который создает и сохраняет мир), органон (греческое обозначение «орудия», но от него же происходят слова «органический» и «организм»), и наконец, английское work (труд). За всеми концептуальными и лексическими трансформациями слова эргон и за основанной на нем метафизической традицией, от Аристотеля до Гегеля и далее, просматривается образ руки - нагляднейший символ этой традиции.
Итак, когда душа сравнивается с рукою, это говорит о душе гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Ведь в «прикосновении» к вещам, которые она пытается познать, душа-рука получает ответное «прикосновение» окружающего мира. Именно как «затронутая» в акте постижения, душа начинает осознавать себя. Она осознает себя как душу, «прикасающуюся» к миру. Это самосознание достигает невозможного — ведь можно сказать, что в некотором смысле душа, осознающая себя как душу, прикасается к себе самой. В каком-то фундаментальном отношении, кажется, что душа осознает собственное мышление только тогда, когда ее созерцанию предстает некий предмет; и, аналогично, субъект осознает свое восприятие — или, точнее, себя как ощущающий субъект, — только тогда, когда он воспринимает. В самом деле, медиальный залог[374] глагола αίσθάνεσθαι (чувствовать) наглядно выражает двойственное значение слова: «воспринимать» и «осознавать» собственное восприятие[375].
Для Аристотеля, осознание нашей чувственности — это результат не какого-то дополнительного специального чувства — которое воспринимало бы само восприятие, — а самих наших чувств, данный лишь в меру их вовлечения в процесс восприятия, то есть только тогда, когда на них влияют «объекты». В конце концов, этот вопрос задает сам Аристотель: «Здесь, однако, возникает апория, почему чувства не воспринимают самих себя и почему их органы не вызывают ощущения без чего-то внешнего?» (417а 3-5). Ответ Аристотеля отсылает к его определению чувства (τό αισθητικόν) как силы (δύναμις), которая не способна ощущать в отсутствии ощущаемого, как горючее вещество невозможно зажечь при отсутствии огня. Это место имеет ключевое значение, поскольку оно знаменует одно из первых философских исследований природы самопознания. Ответ Аристотеля на эту апорию содержит интересный момент: хотя мы не способны непосредственно чувствовать свои чувства (например, глаз не может видеть себя, ухо глухо по отношению к себе самому и т.д.), мы все же ощущаем себя, по крайней мере, косвенно, воспринимая других. «Тактильное ощущение другого — это, в то же время, самоощущение, поскольку иначе я бы не был ощущающим»[376]. Но если бы другой не стал доступен мне благодаря моему телу, никакого самоощущения и самосознания не существовало бы вообще. «Мы чувствуем только другого, и если мы чувствуем себя, то лишь в зависимости от того факта, что мы чувствуем другого... Я чувствую себя только благодаря другому. Только другой дает мне себя»[377].
«Не могу ли я видеть или осязать свою руку, когда она осязает что-либо?»[378] Сартр ставит вопрос вполне правомерно. Осязать свою руку, осязающую тот или иной предмет, означает превратить мою руку в объект моего же восприятия (а значит, это уже не моя рука, а некая объективированная рука, которая занимает место в пространстве где-то поблизости от этой книжки, — как только я прикасаюсь к ней, моя рука становится осязаемой вещью среди других вещей). «Я не могу касаться руки, когда она касается»[379], ведь моя рука это я. «В самом деле то, чем я являюсь, в принципе не может быть для меня объектом, поскольку я им являюсь»[380]. Я не способен познавать то тело, которое является мною. То тело, посредством которого я познаю все, что я познаю, остается для меня непознаваемым. В этом привилегия прикосновения: оно дает мне знание моего тела благодаря телу Другого[381]. Прикоснуться можно только к телу Другого, ведь Другой является Другим, поскольку он или она может быть для меня инструментом, которым никак не может быть мое собственное тело. Следовательно, поскольку я — не Другой, «его тело появляется для меня первоначально как точка зрения, на которую я могу иметь точку зрения, как инструмент, который я могу использовать с другими инструментами... Тело другого и есть, следовательно, сам другой как инструмент-трансцендентность»[382]. Доступность Другого или его сопротивление моему прикосновению (мысленному или физическому) обеспечивает меня ощущением себя как себя. Я являюсь собой, поскольку могу схватить или задержать Другого, — который, именно ввиду моей способности подчинить его (ее), предстает как не-Я. Понятие Я не может возникнуть прежде понятия Другого и безотносительно к нему. Душа способна осязать (т.е. познавать) себя только в осязании Другого. Самосознание — это побочный продукт процесса осязания Другого.
Рука может осязать чашку, потому, что она— не чашка, она может держать эту книгу, потому, что она — не книга; будь рука чем-то из этого, она не могла бы к ним прикоснуться. Она прикасается к ним благодаря тому, что не является ничем из них, но также и потому, что может стать подобной каждому из этих предметов. Также и с душой. Чтобы познавать сущее, душе необходимо самой к нему не принадлежать. Душа — это не что-то (something), потому что в таком случае она уже не могла бы быть чем угодно (anything), а если бы она не могла быть чем угодно, она не могла бы познавать. «Некоторым образом душа есть все сущее» (ή ψυχή τά όντα πώς έστι πάντα; 431b 21). Это, вероятно, самое странное и одно из самых темных мест трактата Аристотеля De Anima. Обычно его толкуют в том смысле, что душа способна познавать все формы сущего, а значит — быть всем (согласно Аристотелеву принципу единства мышления, нус и мыслимого, та ноумена [430а 1], и подобия чувств ощущаемому [418а 1]). Однако из этого утверждения вытекают далеко идущие следствия. Чтобы душа могла быть всем, сама она должна быть ничем из этого. Ведь если бы душа была каким-то определенным сущим, она не могла бы быть иной по отношению к себе самой, а значит, быть всем сущим[383]. Душа не только не существует — в том смысле, что она не принадлежит к сущему (то он), — но и, не будучи сущим, она не может ни познаваться, ни ощущаться — она не познаваема и не воспринимаема, и прежде всего именно для себя самой. Как возвещает фрейдист в эссе Деррида Le Toucher. «Psyche ist ausgedehnt, weiss nichts davon»[384]:
Итак, психэ не просто не мыслит себя как таковую, но и не знает, как себя помыслить, а значит, не знает, мыслит ли она себя вообще. Ведь как психэ, которая мыслит, становясь некой сущностью или определенной формой, может знать, что это такое — помыслить чистую или неопределенную форму? Именно в том случае, если душа неопределима по форме, она не способна мыслить себя, поскольку это означало бы определить неопределимое[385].
Итак, душа познает только иное по отношению к ней. А иное по отношению к душе — это все, что душа способна схватывать. Как и рука первого человека, душа настигает и хватает вещи. При этом, однако, она схватывает и саму себя как «вещь», способную схватывать — т.е. как руку.
Приручение схватывающей руки дало место ласке. Если бы мы хотели указать происхождение ласки, наверное, нам пришлось бы обратиться к приматам, которые «вычесывают» шерсть своих собратьев. Кропотливый труд ухода за шерстью собрата требует такой сноровки, координации и усидчивости, что одной этой привычки было бы уже достаточно для классификации животных, которым она присуща, как человекообразных[386]. Вопреки широко распространенному мнению, эта часто наблюдаемая у обезьян и других человекообразных практика не служит никакой практической цели (напр., ловле блох, как обычно предполагают). «Это поведение обычно ошибочно толкуют как попытку избавиться от вшей. В действительности же паразиты редко встречаются у обезьян, как в неволе, так и в природных условиях»[387]. Цукерман усматривает в этом поведении сексуальные обертона, поскольку оно часто связано с брачной активностью[388]. С другой стороны, Канетти опускается на еще более глубинный уровень, говоря о чистом «удовольствии пальцев»[389]. Какое бы значение мы ни приписывали этой привычке, одно остается ясным: здесь руки впервые вовлекаются в деятельность, свободную от практической необходимости.
Если схватывающая рука пыталась установить дистанцию, утверждая доминирование над Другим (подчиненным человеком, добычей, схваченным объектом), то ласка — это не что иное, как постоянное уничтожение дистанции, отделяющей меня от Другого. Любопытно, что оба этих, казалось бы, противоположных жеста, принадлежат руке. Но в сущности, один предполагает возможность другого. Уничтожая преодоленную дистанцию, ласка всего лишь «камуфлирует» дистанцию, которая составляет условие ее существования; и напротив, хватающая рука, предполагая дистанцию между захватывающим субъектом и захватываемым объектом, «камуфлирует» тесную связь, к которой она приводит. Ласка — это не контакт плоти с плотью, а скорее попытка телесного приближения к другому. Это приближение может иметь место только в пространстве игры дистанции и близости:
Показать, что прикосновение включает чувство близости, означает показать, что оно включает чувство дистанции. Прикоснуться — значит приблизиться или испытать приближение, а не просто приложить одну поверхность к другой. Благодаря контакту близость забывает, что отделяет ее от объекта прикосновения. Она уже не ощущает дистанцию как таковую, именно поскольку дистанция более не препятствует прикосновению, но лишь составляет среду, посредством которой мы чувствуем... Чтобы близость оставалась близостью, она всегда должна пополняться новой дистанцией[390].
Скрадывание (Verdecktheit) дистанции в ласке равнозначно забыванию (Vergessenheit) насильственного характера прикосновения: ласкающая рука — это не что иное, как хватающая рука, которая забывает о насилии или отказывается от него. Или иначе: ласка — это тоже борьба за удержание Другого, но ее усилия изначально обречены на провал. Каждое касание руки к телу Другого — это знак неудачного стремления прикоснуться к Другому — ведь, «прикасаясь» к Другому, можно нащупать только вещь. Другой как Другой избегает моего схватывания, ускользает сквозь мои пальцы; моим рукам доступен лишь кожный покров, оставленная одежда:
Конечно, я могу схватить Другого, задержать, толкнуть его; я могу, если располагаю властью, принудить его к таким-то и таким-то действиям, к таким-то и таким-то речам; но все происходит так, как если бы я хотел овладеть человеком, который убегал бы, оставляя у меня в руках свое пальто. Это именно пальто, оболочка, которой я владею[391].
Инаковость Другого, которой так страстно ищет ласка, остается неприкосновенной. Попытки повторяются вновь и вновь, — но все тщетно. Сама тщетность ласки, ее неудачность, достигает важного результата: она показывает, что Другой — не просто вещь; так тело Другого предстает телом Субъекта, личностью. В ласке Другой — уже не объект моего схватывания, но недоступный Субъект моего прикосновения:
Поскольку я могу схватить Другого лишь в его объективной фактичности, проблема состоит в том, чтобы в рамках этой фактичности поймать его свободу. Необходимо «уловить» его в этих рамках, как сметану в сбиваемом молоке. Другой, каков он сам-для-себя, должен быть вовлечен в игру на поверхности его тела, должен распространиться по всему своему телу; только тогда, прикасаясь к телу, я сумею ощутить свободную субъективность Другого[392].
Разумеется, свободная субъективность — это именно то, к чему прикоснуться невозможно, и это несколько проясняет сложную мысль Левинаса: «Ласка не обращена ни к личности, ни к вещи»[393]. Ни личность, ни вещь не могут быть «целью» ласки (ее телосом в телеологической тотальности), поскольку ласка бесцельна и беспредметна. Моя ласка предполагает признание субъективности Другого, свидетельствует о его трансцендентности, трансцендентности, выходящей за пределы всего, что я могу ощупать руками — ведь ласкать объект или вещь было бы бессмысленно. Если я ласкаю Другого, я уже признал его как Другого, а не как вещь, которую можно ощутить или познать. В ласке Другой — уже не «орудие», имеющее определенную функцию, — беспредметность ласки свидетельствует об упразднении (катаргесис) деятельности эргон, а значит, об освобождении Другого из сферы «хозяйственного» рукотворчества («managing» manufacture). В этом смысле ласка ищет бесконечного[394], но бесконечного, таинственного присутствующего в имманентном, то есть воплощенного в теле Другого. Именно в этом пункте Левинас допускает достаточно значительную герменевтическую ошибку. Ведь, пытаясь противопоставить свое толкование ласки анализу Сартра, он доходит до крайности, представляя ее неким абсолютом:
Предвосхищение улавливает возможное; то же, что ищет ласка, не находится в плане и в свете возможного. Телесное — нежное по сути и отвечающее ласке — это не тело как объект физиолога и не собственное тело субъекта, когда он говорит «я могу»; это и не тело-выражение, помощь в собственном проявлении, то есть лицо. В ласке, в этом, с одной стороны, все еще чувственном отношении, тело уже освобождается от самой своей формы, чтобы предстать в качестве эротической наготы. В телесном характере нежности тело лишается своего статуса сущего[395].
Безличное, бестелесное и безжизненное «тело», каким оно открывается во «мраке» ласки, тонет в изначальной ночи il v a[396]. Левинасова ласка, вовсе не открывая чувствительную плоть Другого, поглощается анонимным, безличным, мистическим девством женского начала.
Однако именно личность Другого — Другой как личность — и не что иное превращает мое прикосновение в ласку. Исчезновение Другого под моим прикосновением дополняется воплощением Другого во всяком теле, которое я ласкаю. Рождающая трепет мягкость пальцев; движения рук, как бы лепящие тело Другого; вызываемое ими оцепенение; поглаживания, которые, кажется, не имеют ни начала, ни конца, — все эти характеристики, наблюдаемые при ласках, были метко обозначены Сартром как «совокупность процедур, которая воплощает Другого»[397]. Ласка прорывает инаковость Другого к присутствию или, точнее, проявлению в теле, доступном прикосновению. «Как раз ласка не является просто прикосновением; она является формированием. Лаская другого, я порождаю его плоть моей лаской, моими пальцами»[398]. Этот акт «творения» прикосновением предполагает движение воплощения (и приводит к нему), — по сути, это «двойное взаимное воплощение»[399].
Каждое поглаживание уверяет Другого в моем отказе от насилия, в отсутствии намерения схватить, ударить или убить. В каждом касании руки я слагаю с себя полномочия субъекта, которому вынужден подчиняться Другой. Перед лицом субъективности Другого, точнее, именно чтобы позволить субъективности Другого проявиться, я должен отказаться от своей субъективности. Я должен осуществить или претерпеть добровольный кенозис[400]. Я позволяю себе стать объектом для Другого. Я становлюсь открытым и уязвимым по отношению к прикосновению Другого. Здесь анализ Сартра недвусмыслен: «Я воплощаюсь, чтобы реализовать воплощение Другого; а ласка, реализуя воплощение Другого, открывает мне собственное воплощение»[401]. Отсюда взаимность гаптического[402] феномена: не может быть одностороннего прикосновения — прикоснуться означает сделаться прикосновенным — проявить себя в плотности собственной плоти.
Именно это воплощение себя, необходимое условие и одновременно следствие ласки, открывает то, что Сартр именует «третьим онтологическим измерением тела»: «Но поскольку я есть для другого, он раскрывается во мне как субъект, для которого я — объект... Я существую для себя как познанный другим в качестве тела»[403]. Неоспоримо, что это третье измерение — перекрест между бытием для-себя и для-других, столь важная тема для анализа прикосновения у Мерло-Понти— являет яркий пример того, что мы описывали в предыдущих главах как «обратную интенциональность»: «С появлением взгляда другого я открываю свое бытие-объекта, то есть мою трансценденцию как трансцендируемую»[404], но не только взгляд приводит к такой инверсии; несколькими строками далее Сартр добавляет: «Я чувствую себя затронутым другим в моем фактическом существовании» — прикосновение Иного, даруемое в касании Другого, переводит самость в винительную, затронутую, форму — «меня». Именно в этот момент мы перестаем быть-телом и начинаем обретать-тело. Прикосновение Другого заставило меня обрести тело (воплощение), — то самое тело, которое является мною, но которое теперь предстает как тело другого. Только когда достигается это синтетическое «видение»: слияние моей субъективности (дистанции схватывания — «я есмь тело») с моей объективностью (близость ласки — «я обретаю тело»), — я могу видеть (или осязать) себя: «другой совершает для нас функцию, к которой мы не способны и которая, однако, лежит на нашей обязанности: видеть себя такими, каковы мы есть»[405].
Самосознание Я, как бы ни ощущало себя Я — как субъективность или как объективность, это феномен, который всегда имеет начало только за пределами Я, посредством иного, точнее посредством Другого (другого человека или чувственного мира). Это неизменный вывод всякого философского анализа феномена прикосновения. Ничто не указывает на то, чтобы я приходил к осознанию себя независимо от Другого или без него/ нее. Обе модальности бытия (что Сартр называет для-себя и для-других и что мы здесь рассматриваем через парадигмы схватывания и ласки, соответственно) указывают на потустороннее, реализуемое в видимом и воплощаемое в плоти Другого. Всякое самосознание возможно не тогда, когда я осязаю (даже если бы речь шла об осязании себя), а когда я осязаем. Аффективностъ лежит в основе всякого сознания (как сознания чего-либо или же самосознания):
Воплощение — это не трансцендентальная операция субъекта, находящегося внутри мира, который он себе представляет; чувственный опыт тела уже с самого начала воплощён. Чувственное [le sensible] — материнство, ранимость, восприятие [apprehension] — завязывает узел воплощения в интриге более всеобъемлющей, чем апперцепция себя; в этой интриге я оказываюсь связанным с другими прежде, чем с собственным телом. Интенциональность — ноэзис, — которую философия сознания различила в ощущении [le sentir] и которой она хотела бы, задним числом, вновь овладеть как источником, из которого заимствуется смысл, — чувственная интуиция — уже находится в режиме восприятия и захваченное™; она осаждена ощущаемым [le senti], которое отменяет своё ноэматическое проявление, чтобы, в качестве нетематизируемой инаковости, управлять тем ноэзисом, что первоначально должен предоставлять ему [ощущаемому] смысл. Гордиев узел тела— его пределы, где оно начинается и заканчивается, являются навсегда скрытыми в неразвязываемом узле — распоряжается своим собственным трансцендентальным началом в этом несхватываемом ноэзисе[406].
Всякое чувство есть движение (affection) души, как указывает Аристотель в De Sensu, «чувственное восприятие возникает в душе посредством тела» (ή δ αϊσθησις διά σώματος γίνεται τή ψυχή; 436b 7-8[407]). Тело служит чувствилищем, которое позволяет миру и душе «соприкасаться». Таким образом, тело оказывается точкой контакта между внутренним (душа) и внешним (мир) и в то же время их границей, пределом, различающим одно и другое — не столько между телесной реальностью (мир) и бестелесной душой, как это представляет Прокл в Началах теологии[408], сколько между единственной материальностью тела — и нематериальной природой души и мира. Ведь тело не воспринимает вещи окружающего мира как подобные ему тела (в таком случае оно не могло бы воспринимать вообще ничего, по той же причине, по которой оно не может воспринимать себя), но только как (бесплотные) формы[409]. Итак, между душой и миром стоит только тело как абсолютно уникальная плоть — средостение (τό μεταξύ; 423b 26) двойного прикосновения, изнутри и снаружи, оставаясь само по себе неприкосновенным.
Но как же мир и душа могут соприкасаться? Основоположный принцип, который проходит красной нитью через весь трактат Аристотеля De Anima и на котором строится его концепция чувственного восприятия, состоит во взгляде, что чувство, воспринимая свой объект, неким образом уподобляется ему, — точнее, канал чувства не может ничего чувствовать, если у него нет способности уподобляться тому, что оно стремится воспринять (τό δ’ αισθητικόν δυνάμει έστιν οίον τό αισθητόν; 418а 1). Этот принцип аристотелианской эстетики значительно позже был применен Мейстером Экхартом для объяснения парадоксального единения между Богом и человеком:
Идя к вам сегодня, я недоумевал, какое слово сказать вам, чтобы оно имело смысл и вы его уразумели. Тогда мне пришло на ум сравнение: если бы вы могли понять его, вы уразумели бы мою мысль и основу всех размышлений, которые я предлагаю вам во всех моих проповедях. Это сравнение касается моих глаз и куска дерева. Если мой глаз открыт, это глаз; если он закрыт, это тот же глаз. Не дерево появляется и исчезает передо мною, но мое видение его. Теперь прошу вас послушать внимательно! Если случится, что око мое едино и просто (Мф. 6:22), если оно открыто и бросает взгляд на кусок дерева, око и дерево остаются тем же, чем были, но все же в акте зрения они становятся как бы одним, так что можно поистине сказать, что мой глаз — это дерево, и дерево — это мой глаз. Но если бы дерево было нематериально, чисто духовно, как и взгляд моего глаза, можно было бы истинно сказать, в акте зрения дерево и око существуют как одно сущее. Если это верно в отношении чувственного, то это еще гораздо более справедливо в отношении духовного[410].
Тот же термин, который обозначает подобие между ощущающим и ощущаемым в тексте Аристотеля (οϊον), снова употребляется несколько далее, в объяснении, как понимать это подобие:
Относительно любого чувства необходимо вообще признать, что оно есть то, что способно воспринимать формы ощущаемого без его материи, подобно тому как воск принимает отпечаток перстня без железа или золота. Воск принимает золотой или медный отпечаток, но не поскольку это золото или медь (424а 17-21).
В этом примере, ощущающее описано как воск, способный принимать след перстня с печаткой, обозначающего ощущаемое. Можно усомниться в подобии ощущающего ощущаемому, задав вопрос, чем же именно кусочек воска, принявший форму печатки, уподобляется самой печатке? Вопрос простой, ведь мы можем, по крайней мере, предположительно, ответить, что воск принял форму печатки: ее изображение, соприкасаясь с воском, оставило отпечаток на воске — свою форму. Это означает, что воск и печатка уподобляются отпечатком (формой), поскольку глядя на отпечаток печати, оставленный на воске, мы легко распознаем его как отпечаток определенного кольца. С другой стороны, они отличаются в материальном отношении (отпечаток «сделан» из воска, тогда как кольцо может быть железным или золотым). Аристотель объясняет, каким образом пример с воском иллюстрирует наше чувственное восприятие:
Подобным образом и ощущение, доставляемое каждым органом чувства, испытывает (πάσχει) что-то от предмета, имеющего цвет, или ощущаемого на вкус, или производящего звук, но не поскольку под каждым таким предметом подразумевается определенный предмет (τοιονδί), а поскольку он имеет определенное качество, т.е. воспринимается как отношение (λόγον). То, в чем заключена такая способность (δύναμις), — это изначальный орган чувства. Орган чувства тождествен со способностью ощущения, но существо его иное: ведь иначе ощущающее было бы пространственной величиной (μέγεθος). Однако ни существо ощущающей способности, ни ощущение не есть пространственная величина, а они некое соотношение и способность ощущающего (λόγος τις καί δύναμις έκείνου) (424а 21-28)[411].
Стремление объяснить подобие чувствующего чувствуемому заставило Аристотеля провести различие между физическим органом восприятия (чувствилищем, τό αισθητήριον) и самим чувством (ή αίσθησις), обозначив их как логос (грубо говоря, «отношение») и динамис (т.е. сила или возможность такого отношения). Вместе взятые, τό αισθητήριον и ή αίσθησις составляют то, что Аристотель именует τό αισθητικόν, т.е. чувствительность или чувствительная сила души. Сопоставляя последнюю с чувственным объектом (τό αισθητόν), мы видим определенную симметрию, которая несколько проясняет их сходство (установленное в DA, 418а 1). Эту симметрию можно изобразить схематически:
Здесь чувствительность (Sensibility) предстает подобной чувственному объекту, как зеркальное отражение: наша способность чувствовать возможна благодаря тому, что чувственные предметы действуют на наши чувства; но как это происходит? Чувство (будучи душевным— в терминологии Аристотеля «не протяженным» — поскольку оно определяется как отношение и способность) испытывает действие органа чувства («протяженной вещи»), имеющего физиологическую природу и, соответственно, способного контактировать с такими же физическими вещами. Но в таком случае как Аристотель может говорить, что чувство (душевное начало) не просто «испытывает» (πάσχει) действие чувственного, но и уподобляется ему? Ответ заключается в двойственности чувственного как такового: чувственный предмет, как печатка в примере Аристотеля, — это, с одной стороны, εϊδος (т.е. форма: допустим, изображение печатки), с другой стороны, υλη (т.е. материя: допустим, золото, из которого сделан перстень). Форма, как и чувство, не имеет протяженности и не является физическим (сегодня мы сказали бы «материальным») свойством, тогда как ее двойник, т.е. орган чувства, является физическим.
Следовательно, то, что действует на чувства, — это не материя чувственного, а скорее его форма: ведь воск принимает не металл кольца, а лишь его форму, Но поскольку сама по себе форма перстня — это еще не перстень, так и чувственность невозможна без органов чувств, которые позволяют чувству соприкасаться с объектом. Слегка видоизменяя предыдущую схему, мы получаем следующую последовательность:
Эта схема ставит перед нами новый вопрос: даже с учетом двойственности (нефизически-физической) чувствующего и чувствуемого, как может (физический) глаз воспринимать (нефизическую) форму чувственного объекта? И как может (нефизическая) душа ощущающего воспринимать ощущаемую материю? В конкретной точке контакта ощущающее и ощущаемое «соприкасаются» различными — даже противоположными — свойствами: с одной стороны, орган чувства (глаз, ухо, язык, нос, кожа) сам по себе принадлежит к чувственным вещам, занимая место среди воспринимаемого; без восприятия чувство слепо к формам вещей. С другой стороны, однако, чувство способно распознавать лишь формы вещей, а не сами вещи; без органов чувств мир эстезиса — это пустой мир фантазмов и фантазий[412].
Аристотель решает эту сложность, рассматривая взаимодействие чувственного и чувствующего как «изменение» (άλλοίωσις), «претерпеваемое» чувством в момент восприятия объекта: точнее, восприятие и есть это самое изменение чувства (416Ь34) от неподобия (άνόμοιον) к подобию (δμοιον) объекту восприятия (417b20 и 418а5). Оно уподобляется объекту, поскольку испытывает (πεπονθός) его действие. Каждый акт восприятия (αίσθάνεσθαι), таким образом, дополняется актом претерпевания (πάσχειν): восприятие — это и есть патос, который инициирует и претерпевает чувствующий субъект, оказываясь погруженным в чувственный мир. Когда я вижу перед собою стол, прикасаюсь к листу бумаги и т.д., я испытываю многообразное действие форм окружающих меня предметов. Два момента (восприятие и претерпевание) не составляют последовательности (как если бы я сначала видел стол, а потом испытывал на себе действие его формы), а возникают синхронно — один из-за другого. Я не мог бы ничего чувствовать, если бы прежде не испытал действия этого объекта, но я не мог бы испытать его действия, если бы прежде не ощутил его[413]. Субъект восприятия и объект претерпевания — это одно и то же.
Уста — арбитр прикосновения. Часто замечают, что младенцы, едва научившись хватать игрушки руками, немедленно тянут их в рот. Этим жестом ребенок воспроизводит «природное» движение: от рук — ко рту. Рот, точнее, его способности, отображают скрытые интенции руки: схватывание объекта связано с кусанием, тогда как поглаживание Другого предполагает поцелуй. При этом не следует забывать, разумеется, и об обсуждавшейся выше связи руки с речью. Уста создают контекст, в котором действия руки обретают свое значение.
Когда дело доходит до поцелуя, философия умолкает. Поцелуй как таковой никогда не тематезировался в истории философии, которая не обращалась к нему даже в качестве метафоры. Складывается ощущение, что любители мудрости целоваться не умеют. Конечно, неловкость философии в отношении поцелуя имеет веские основания: в нем нет ничего «философского». Я имею в виду, что поцелуй ускользает от концептуализации. Ну какие концепты, парадигмы или метафоры можно использовать для осмысления поцелуя? Поцелуй — это нечто единое или же многое? Как различить или объединить такие разные поцелуи, как материнский поцелуй, эротический поцелуй, поцелуй предательства, поцелуй вежливости, ритуальный поцелуй или поцелуй уважения, поцелуй мира, поцелуй восхищения и т.д.? И как можно классифицировать поцелуи в разные части тела Другого, например, поцелуй в чело, в щеки, в уста, в голову, в стоны и т.п.?
Помимо всей этой многозначности и двойственности поцелуя, наша мысль страдает от нехватки концептов для осмысления поцелуя, ведь сам по себе поцелуй — это символ (в этимологическом смысле сим-баллейн: составлять две половины), и потому он не может быть представлен ничем иным, кроме себя самого. Платон был первым, кто ввел этот термин, описывая фрагментарную природу человека[414], но также и его томление по своей «второй половине». Эта метафора происходит из античного обычая, по которому два человека разламывали глиняный черепок, монету или печать, и у каждого оставалась одна из его половин как напоминание и свидетельство о родстве или дружбе между ними. Когда владельцы двух фрагментов встречались вновь, они складывали их вместе (συμβάλλειν), подтверждая (или доказывая) существующие между ними отношения. По этой причине «символом» называлась и каждая часть разделенной монеты или печати. Нетрудно понять, каким образом соприкосновение губ, уста, соединяющиеся в поцелуе, предстают символом самой практики симбаллейн. Словно мои губы — одна из двух половин, «подходящая» к губам Другого, вроде двух частей головоломки. Поцелуй — символ этого символа, символ близости, утверждающей себя в поисках совершенного единства.
Но что соединяется в поцелуе? Два фрагмента самосознания, два фрагментарных взгляда на мое тело. «Я есмь тело», выражающееся в акте хватания, и «я обретаю тело», открывающееся в ласке. Эти два различных способа самоутверждения невозможно сбрасывать со счетов как просто два проявления одной и той же реальности (сущности или природы); это два совершенно разных феномена, которые, тем не менее, приходят к единству в перекрестности целования[415]. Как советует Мишель Анри, феноменология не может выдвигать такого иллюзорного решения, поскольку она редуцирует сущность к видимости, поскольку для нее не существует ничего за пределами феноменов, ничего за пределами данных нам проявлений, все из которых сводятся к двум основным типам, онтологическую структуру которых мы исследовали. Феноменология — это не теория видимостей, теория, которая оставляла бы позади реальную сущность вещей. Но эта реальная сущность, как показывает феноменология, вся состоит в том способе, каким она нам представляется, в видимости; феноменология показывает нам, что сущность и есть ее проявление, так что если мы видим столкновение между двумя феноменами, мы вынуждены сказать, что наблюдаем две различные сущности[416].
Здесь мы, в самом деле, наблюдаем столкновение двух феноменов, или даже двух совершенно разных феноменальностей. Следует ли нам заключать, в согласии с феноменологической редукцией, что феномен «я есмь тело» и феномен «я обретаю тело» составляют две различные сущности, а значит, у меня два тела? Казалось бы, дело обстоит именно так. («Есть тело душевное, и есть тело духовное»; 1 Кор. 15:44). Но даже если, в интересах аргументации, мы допустим такую абсурдную, на первый взгляд, гипотезу, нам немедленно придется столкнуться со следующей трудностью: на каком основании «Я» фразы «я есмь тело» может претендовать на тождество с «Я» фразы «я обретаю тело»? Иными словами, что позволяет нам объединять эти феномены, называя оба моими? Как может быть, что тело, которым я есмь, и тело, которое я обретаю, — оба являются моими? Насколько обоснован вывод о мойственности, к которой отсылают эти утверждения?[417] Анри справедливо указывает, что «двойственность, расщепляющая непостижимым образом единство сущности моего тела, в виду которой эта сущность дается мне дважды, так сказать, находит свое обоснование в онтологической структуре истины»[418]. Переосмысливая различия между двумя феноменальностями— т.е. мое переживание вещей (схватывание) и личностей (ласка), — мы замечаем, что феномен «я есмь тело» принадлежит к сфере онтологии, описывающей мое нахождение среди вещей; он «дает» меня мне в восприятии мира как заброшенного в него, однако отличающегося от воспринимаемых мною вещей (дистанция от других), ведь я не могу воспринимать себя. С другой стороны, феномен «я обретаю тело» принадлежит к сфере эпистемологии, поскольку в этом утверждении тело уже стало для меня объектом. Следовательно, дистанция от себя зиждется на том же основании, которое делает возможным как объективацию моего тела, так и познание его.
Онтология и эпистемология — это «два источника свидетельства», о которых говорит Мэн де Биран или же двойственная аргументация, о которой рассуждает Анри. Бытие действительно дается нам дважды, и именно его двойственность дает место опыту[419]. Но опыт — это также и единство, и именно здесь возникает трудность, поскольку с точки зрения философии, от Декарта и далее, онтология подчиняется эпистемологии. Однако два этих феномена (да и сама феноменология) не признают различия между онтологическим и эпистемологическим: для феноменологии не существует никакой высшей реальности, ни познаваемой, ни непознаваемой, за пределами феноменов. В самом деле, внимательное исследование феноменов показывает, что «онтологический» феномен «Я есмь тело» предполагает наличие знаний об окружающих меня вещах, знание, которое, как мы убедились, предшествует моему самоощущению и обосновывает его, тогда как «эпистемологический» феномен «Я обретаю тело» ставит вопрос о самом моем бытии. Онтология и эпистемология пересекаются в двойной явленности моего тела, соединяемой перекрестом поцелуя. Поцелуй — это тот «символ», который соединяет два фрагмента расщепленной философии: онтологический и эпистемологический. Только благодаря этому союзу, «Я» фразы «Я обретаю» целиком перекрывает «Я» фразы «Я есмь», наконец отождествляясь с ним; благодаря этому единению, переживание мира оказывается равнозначно переживанию себя; благодаря этому единству имманентность субъективности превосходится трансцендентностью объективности, имманентной в субъекте.
Что еще может быть «онтологической структурой истины», которую Анри, как мы только что упомянули, назвал основанием двойственности моего тела? Как же иначе истина, эпистемологическая категория, могла бы иметь онтологическую структуру, не будь она соединена с бытием?
Что же, однако, означает это единство, если не то, что истинное знание — это только знание, основанное на онтологическом событии communio personarum [личностного общения], а не на онтическом постижении вещей? Познание, основанное на онтологии, — это познание, происходящее из отношения, отношения между личностями, т.е. отношения, основанного на связанности (relatedness). Только личность может знать, и знать можно только личность. В предыдущих параграфах этой главы мы убедились, что теория чувствительности и восприятия невозможна, если она не начинает с единства ощущающего и ощущаемого. Феноменология выдвигает в качестве отправного пункта аналогичную предпосылку, акцентируя на интенциональности «сознания» как «сознания о...» («consciousness of...»)
Сознание не может не быть сознанием чего-либо, т.е. восприятие, воображение или воспоминание всегда едины с воспринимаемым, воображаемым, вспоминаемым феноменом. В свете этого тождества, познавать какую-то вещь означать быть этой вещью; иначе говоря, эпистемология возможна только как онтология. Но личность никогда не может стать вещью[420], поскольку невозможно быть вещью и в то же время познавать. Либо знание вообще невозможно, либо личность познает только личность, поскольку только личность познает[421]. Разумеется, мы «познаем» вещи, но лишь постольку, поскольку они отсылают к отношениям с личностями. Мы не можем познать вещь в себе, не потому, что разум не способен пройти мир феноменов насквозь и выйти в мир ноуменов, а просто потому, что такого мира не существует вообще, ведь не может быть никакого мира вне соотнесенной целостности межличностного общения, в рамках которого вещи впервые являются и обретают свой смысл.
Пока мы в полной мере не осознаем и не восстановим личностный характер бытия и познания (т.е. их ипостасное единство в личности), любая трактовка природы чувства— например, сакраментальность восприятия, о которой говорит Мерло-Понти, — будет оставаться загадочной и озадачивающей. Мы говорили о единстве как о поцелуе, т.е. как о символе. Но «двойственное» употребление символа, сама его внутренняя двойственность основывается на перекресте, на пересечении репрезентации (символ указывает на реальность вне себя) и бытия (подлинное дарование символом этой реальности):
Как таинство не только символизирует в ощутимой форме действие благодати, но и суть реальное присутствие Бога, его присутствие в определенной части пространства, которое таким образом становится достижимым для тех, кто ест освященный хлеб, будучи внутренне к этому подготовлен, — так же и чувственное не только имеет моторное и витальное значение, но само по себе не что иное, как определенный способ бытия в мире, который дан нам в определенной точке пространства, каковую наше тело осваивает и в каковой пребывает, если оно на это способно, так что ощущение — это буквально род причастия[422].
Ощущение — не просто один из способов бытия в мире, как если бы их было много, но единственный способ бытия: быть причастным (communicant) миру— это все равно, что просто «быть» или «существовать». Поэтому Мерло-Понти отказывается принимать идеалистическую позицию, которая так или иначе требует, чтобы чувствующий субъект отрешался от бытия во имя познания. Познавать таким евхаристическим путем, обращаясь к «буквальной» метафоре Мерло-Понти, — означает быть. Нет ничего иного, кроме этого непрестанного патоса: рана эк-зистенции восполняется лишь в ко-экзистенции:
Я соотношу себя с внешним бытием, чтобы либо открыть, либо закрыть себя для него. Если качества излучают вокруг себя определенный способ существования, если они обладают способностью очаровывать и тем, что мы только что называли ценностью таинства, то именно потому, что ощущающий субъект не полагает их как объекты, он сопричастен им, он делает их своими и находит в них принцип своего актуального существ ов ания[423].
Если познание — это отношение симпатии (т.е. буквально: отношение взаимного патоса со-страдания), то это уже не интеллектуалистское познание отстраненного субъекта об отдельном от него предмете. Это познание— постижение (comprehension), ведь настигнутыми оказываются обе стороны, как «объект», так и «субъект», так что их уже больше невозможно различить («об этом взаимодействии между субъектом чувства и чувственным невозможно сказать, что одно действует, а другое претерпевает действие»)[424]. Как мы убедились, рассматривая эпизод с Иерофеем в Ареопагитиках, это познание — есть изучение (μάθησις), приводящее к переживанию (πάθησις); есть знание как страсть (affection).
Двойной смысл эстезиса — двойственный парадокс восприятия, приводящего к переживанию, но одновременно и переживания, обусловливающего восприятие — всегда создает таинственную подоплеку этого целования между познанием и бытием: с одной стороны, бытие вновь оказывается, как это было и для древних, интеллигибельным, т.е. понятным (sensible)[425] (но это не означает, что теперь оно «исследовано» или даже «объяснимо»); с другой стороны, познание — это уже не просто понимание, а отношение и причастие, приводящее к единству познающего и познаваемого в любви[426]. Свет познания невозможен без огня любви.
Сегодня для нас это может звучать эксцентрично, ведь любовь утратила в наших глазах онтологическое измерение как то, что приводит нас в бытие и позволяет нам познавать; любовь, выродившаяся в сентимент, была изгнана в сферу психологизма. Теперь мы все, как Лисий, нуждаемся в Сократовой палинодии[427], которая напомнила бы нам, что единство знания и бытия — это любовь. Это единственное целование, которое дала нам философия до сего дня, да и то принимается не всегда и не всеми. Словами св. Бернарда Клервоского:
Итак, два рода людей не могут считать себя одаренными целованием — те, кто знают истину, но не любят ее, и те, кто любит ее, не понимая; отсюда мы заключаем, что это целование не оставляет места ни неведению, ни теплохладности[428].
Из этого философского единения должно быть изгнано всякое неведение, — но что сказать о теплохладности? Понять истину — эту задачу ставит перед собою всякий уважающий себя мыслитель, — но полюбить ее? Как можно любить истину в наше время, когда она редуцирована к набору фактов и сведений, имеющих, как считается, какое-то отношение к сомнительной реальности?
Даже само это понятие реальности (тотальности инертных вещей, res) оказывается весьма проблематично перед лицом такой истины, которая требует любви. Вещь невозможно любить — как нам показал Августин[429]; ее можно только использовать. Если истину надлежит любить, и только так ее можно понять, то в «реальном» мире не может быть ничего истинного и ничего понятного, поскольку это по определению «используемый» мир вещей. Если, вопреки его неистинности, этот мир все же оказывается «любим», то лишь по недоразумению (и напротив, если личность, по недоразумению, рассматривается как вещь, она не «употребляется», а всегда злоупогребляется). Если же истина есть любящее знание и понимающая любовь, то только личность может быть поцелована целованием истины, ведь Сама Истина открыла Себя как личность (Ин. 14:6).
Глава 8. Великая суббота опыта
Ты коснулся меня, и я загорелся о мире Твоем[430].
Августин, Исповедь, X, 27
И пока мы говорили о вечной Мудрости и жаждали ее, мы чуть прикоснулись к ней всем трепетом нашего сердца.
Августин, Исповедь, IX, 10
Этот фрагмент из девятой книги Исповеди описывает кульминацию блаженного видения Августина в саду Остии — третьем и последнем саду, которому отводится ключевая роль в его повествовании. Беседа Августина имеет структуру восхождения — от «удовольствий, доставляемых телесными чувствами», собеседники, перебирая «одно за другим все создания Его», доходят «до самого неба» и его светил. Наконец, продвигаясь все выше, «пришли мы к душе нашей и вышли из нее» к созерцанию «той мудрости, через Которую возникло всё, что есть, что было и что будет».
Этот экстатический полет мысли (Himmelflug) очень напоминает своим построением другое знаменитое восхождение в античной литературе. Я имею в виду, конечно, лестницу, которую описывает Диотима в Пире Платона. Там также философа ожидает постепенное восхождение (анабасис), подобное Августиновому: от красоты одного тела к красоте многих, затем от физической красоты к красоте теорий, пока не будет достигнута сама по себе идея Прекрасного. Параллелизм двух фрагментов подчеркивают многочисленные черты сходства (структуры и языка), но еще больше оно бросается в глаза благодаря одному различию: attingimus earn [«прикоснулись к ней»]. В отличие от Сократа, Августину удается сделать шаг за пределы творения и прикоснуться к неприкосновенному. «Видение» Августина — это уже не просто видимость. Оно превращается в опыт именно в момент прикосновения к тому, что философ может только созерцать:
Особенно примечательно, что духовные чувства соответствуют (например, у Григория Нисского) различным степеням мистического приближения или восхождения к Богу, но традиционная (платоническая) иерархия чувств здесь перевернута.
В теории духовных чувств зрение и слух занимают самые низкие (хотя тоже не пренебрегаемые) ступени, тогда как обоняние и особенно вкус и прикосновение превозносятся наиболее. Невозможно переоценить важность этого перемещения акцентов для истории западной мистики[431].
Как же произошла эта перестановка, перевернувшая старую иерархию чувств и их символическое значение? То, что Платон описывает как абсолютно «прозрачное, чистое, беспримесное, не обремененное человеческой плотью, красками и всяким другим бренным вздором» (Пиру 211е[432]) вдруг оказывается прикосновенным; как это можно объяснить? Ответ на вопрос скрывается в пещере на Вифлеемских холмах.
Ведь лишь благодаря уникальному событию Воплощения, противоречащему всякой логике и всякому рассуждению, иппонский епископ достигает успеха там, где афинского философа ожидает провал. Ведь Сам Бог в Своем кенозисе движется вопреки философскому анабасису и, вместо того, чтобы удаляться от смертной человеческой природы, как нас поучает философ, приходит и принимает на Себя тот самый «бренный вздор», от которого презрительно отвращается разум. Бог предстает не замкнутым и недоступным, Он идет навстречу нашей природе благодаря принятому Им в Воплощении человеческому телу[433]. Его тело — это тело, доступное прикосновению и готовое прикоснуться к нам. Именно в этом пункте христианство порывает с классической античностью, а также и с другими монотеистическими религиями. Ведь иудаизм и ислам остаются в мире, где, согласно человеческому разумению, соприкосновение между человеческим и божественным невозможно — или, словами Платона, «бог же с людьми не соприкасается» (θεός δέ άνθρώπψ ού μείγνυται; Пир 203а). Этот взгляд очень глубоко укоренен в греческом мышлении, судя по его распространенности в античных текстах; он особенно близок к максиме Анаксагора: «Остальные вещи имеют часть всего, Разум же беспределен и самодержавен и не смешан ни с одной вещью, но один он существует сам по себе»[434]. Вопреки всему прочему религиозному мышлению дохристианских и постхристианских времен, Христос — этот Бог, Который делами и словами делает шаг навстречу и прикасается к нам. Так, в конце Нагорной проповеди, Евангелист добавляет к словам Иисуса комментарий: народ, говорит Матфей, затронули (έξεπλήσσοντο; 7:28) Его слова[435]. Подобным образом больные, расслабленные, одержимые, ищущие Его помощи, физически переживают прикосновение Христа, врачующего их. Евангельский акцент на прикосновении должен был производить сильное впечатление на первых последователей новой веры, ведь именно таким образом — как юный бог-целитель, обращающийся и прикасающийся к Своему народу, — Он изображался на стенах римских катакомб. Разумеется, античный мир знал своих божественных целителей — из них наиболее известен Асклепий — но Асклепий никогда не изображался прикасающимся к своим пациентам[436]. В отличие от всех явлений греческих богов, а также и всех посещений Богом иудейских пророков, откровение Христа представляет собою нечто радикально новое: Он являет Себя во плоти. Божественное Слово отныне можно не только слышать, но и осязать. Пророки, возможно, произносили Его слова и слышали Его голос, как замечает св. Бернард; однако они не достигали исполнения бесконечно большего желания человека — Его целования, которое есть Его прикосновение[437].
Среди множества чудес, о которых повествуют Евангелия, один эпизод в особенности приглашает к углубленному рассмотрению, поскольку в нем чувство осязания предстает не просто средством для совершения чуда, но и узловым пунктом изложения. Речь идет об исцелении кровоточивой (Мф. 9:18-30; Мк. 5:22-42; Лк. 8:40-56). Самый подробный рассказ об этом событии предлагает евангелист Марк:
И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с ним. За Ним следовало множество народа, и теснили Его. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, — услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя?
Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй.
И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит. И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала.
И, взяв девицу за руку, говорит ей: талифа кумй, что значит: девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление.
И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
Мы замечаем, что этот отрывок (и поднимаемый им вопрос) обрамляют две истории: (а) воскрешение дочери Иаира (эта история открывает повествование, но прерывается эпизодом с кровоточивой) и, в повествовании Матфея, (б) исцеление двух слепых, завершающее этот эпизод. Общая нить, связывающая эти три события воедино — это не столько их чудесный характер, сколько общий акцент на соприкосновении с телом Христа. Чудесные исцеления, совершаемые Христом, не обязательно происходят посредством прикосновения: в самом деле, много раз Он исцеляет одним лишь словом[438]. Однако здесь в центре внимания оказывается именно прикосновение (физический контакт, эмоциональная реакция, сопереживание и познание).
В центральном эпизоде — с кровоточивой женщиной, вопрос о прикосновении поднимается наиболее остро, поскольку здесь различаются два разных «понимания» прикосновения. С одной стороны, справедливо, что и народ, и кровоточивая женщина одинаково «прикасаются» ко Христу; с другой стороны, качество их прикосновений весьма отлично. На эту разницу указывает вопрос: Кто прикоснулся к Моей одежде? Этот вопрос — с учетом обстоятельств (в конце концов, вокруг Христа толпится народ) — сигнализирует о парадоксе: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?— или, словами Петра: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, — и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне? (Лк. 8:45). Почему Христос замечает лишь скрытое прикосновение женщины, приблизившейся к Нему тайком, — то есть лишь то, что должно было остаться незамеченным?
Как есть те, кто смотрит на Него, но не видит Его, и те, кто узнает его, даже не видев (см. Ин. 9:39), так, стало быть, есть те, кто прикасается к Нему, не прикасаясь, не ощущая, к чему и к Кому они прикоснулись. В этом и состоит «суд» (κρίμα), для которого Он пришел в мир: чтобы не видящие могли увидеть и видящие стали слепы (Ин. 9:39). Неспособность увидеть Его таким, как Он есть, не имеет прямого отношения к тому, что называют «духовными чувствами» человека. Эта теория была впервые выдвинута Оригеном, который ввел в De Principiis[439] различение между «обычными» чувствами и их «высшими» соответствиями. К примеру, в книге I De Principiis Ориген пишет:
Обретешь Божие познание[440] (Прит. 2:5). Соломон знал, что в нас есть два рода чувств, один род чувств — смертный, тленный, человеческий; другой род — бессмертный и духовный, — это тот, который он назвал божественным. Этим-то божественным чувством — не очей, но чистого сердца, т.е. ума— и могут видеть Бога все те, которые достойны (Его)[441].
Сразу становится понятно, что то, что Ориген называет «духовным чувством» — это вообще не чувство, ведь Бога «видит» не что иное, как ум. В этом «зрении» нет ничего чувствующего или чувственного, ничего физического или телесного. Поскольку здесь Бога видит даже не сердце — ведь Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5:8) — т.е. это видение не есть созерцание Бога мистиком, оно может быть лишь концептуальным пониманием Бога (умственным, как совершенно ясно указывает Ориген). Во-вторых, в тесной связи с этим развоплощением чувств «божественное» или «духовное» чувство доступно лишь «тем, которые достойны». Это элитарное учение, критерии которого (только чистые, только достойные) перечеркивают не только телесный, но и вселенский характер Откровения.
Впрочем, следует заметить, что впоследствии доктрина духовных чувств была развита достаточно нюансировано и тонко, чтобы стать приемлемой. Разумеется, Отцы, которые признавали ее (св. Бернард Клервоский и Бонавентура, не считая Григория Нисского, связь которого с Оригеном очевидна), скорректировали ориге- нический дуализм в сторону духовности, укорененной в Воплощении, Что характерно, Бонавентура разрабатывает схему стратификации, где чувства соответствуют трем основным аспектам Откровения: так, по дороге снизу к вершине этой духовности чувств мы встречаем, прежде всего, зрение и слух, соответствующие Verbum increatum (Слову нетварному), затем обоняние, соответствующее Verbum inspiratum (Слову одухотворенному), и наконец, на вершине всего построения, вкус и осязание, связанные с Verbum incarnatum (Словом воплощенным)[442]. Тем самым оказывается перевернута старая метафизическая схема, где доминировало зрение. Именно это позволяет адекватно оценить Воплощение: в христианской иерархии чувств прикосновение занимает самое высокое и важное место[443]. «Для Бонавентуры, — пишет Г.-У фон Бальтазар, — это вполне оправданно, поскольку для него земля — это самый скромный и непритязательный элемент, и именно по этой причине она была избрана как средоточье мира, место проявлений Божьей благодати»[444].
По этим причинам в нашем обсуждении мы тщательно избегали следования Оригеновой доктрине духовных чувств — несмотря на ее тесную связь с нашей темой. Более того, эта доктрина связана с его ущербной христологией и, что еще важнее, с оригенической тенденцией спиритуализировать тело в русле (гностического и, в конечном счете, платонического) дуализма[445]. Из чтения De Principiis (часть II, глава VI) ясно, что Оригену не просто принять мысль, что Вторая Ипостась Троицы «стала плотью». Он рассматривает Воплощение как некое гораздо более сложное событие, предполагающее предсуществование души Сына, которая (будучи предвечно воспринята Им), во времени воспринимает человеческую плоть: «При посредстве этой-то субстанции души между Богом и плотью (ибо Божественной природе невозможно было соединиться с телом без посредника) Бог, как мы сказали, рождается человеком»[446]. Здесь мы слышим уже не голос отца Церкви, и даже не голос христианина, а голос самого Платона (см. Пир 203а, цитируемый в начале главы). Комментарий Ори- гена на Ин. 14:9 (Видевший Меня видел Отца) ярко выражает эту же тенденцию:
Никто, будучи в своем уме, не сказал бы, что Иисус говорил это о Своем теле, воспринимаемом [αισθητόν] и видимом [βλεπόμενον] людьми... Ведь тогда и те, кто кричал: «Распни, распни Его», и Пилат, имевший над Ним власть по человечеству, видели бы Бога Отца, что абсурдно (Против Цельса, VII. 43).
Это в самом деле абсурдно, но это именно тот абсурд, который выражает самую суть Воплощения. В другом эпизоде, парадигматическом для духовности чувств, — эпизоде преображения Господня, свет славы Христа — согласно исихастам и паламитам, нетварный свет! — становится видим телесными глазами Его учеников. Невозможно утверждать, что, по крайней мере, в тот момент ученики были духовно совершенны, как того требует Ориген. Впереди их ждет предательство Петра и спор, кто из них больший (Лк. 9:46); тем не менее, несмотря на такие явные знаки неправильного понимания, им подается благодать видеть свет, который, хотя он светит подобно солнцу (Мф.17:2), все же не от мира сего. Божественный свет преображенного Господа воспринимается апостолами посредством тела, ведь этот свет и сияет посредством тела Христова. Отказ от одного означает отказ и от другого. Отрицать, что их глаза видели в Нем Невидимого, а их руки прикасались в Нем к Неприкосновенному — означает отрицать Воплощение. А именно это делает Ориген и его доктрина духовных чувств. Взгляд, распознающий Его, — это не другой или «высший» взгляд, чем взгляд наших собственных глаз, которыми мы воспринимаем окружающий материальный мир. Ведь узнать Его означает также узнать Его физически, узнать Его неотъемлемую телесность. Если мы сделаем Христа объектом более «чистых», духовных чувств, это означало бы, что мы разлучаем и разделяем неразлучный и нераздельный союз природ в Нем. Это означало бы, что мы, не сильно отличаясь от докетистов, видим вместо Христа лишь призрак. Чтобы увидеть его самого, увидеть в Нем совершенного человека и совершенного Бога, мы нуждаемся в тактичном прикосновении: как схватывание перед лицом инаковости Иного превращается в ласку, так рука, приближающаяся к Нему, должна быть облечена абсурдным дерзновением, должна верить, что она способна на невозможное, что она может прикоснуться к неприкосновенному Богу в уязвимой, зависимой от внешних обстоятельств, плоти Назарянина. С другой стороны, прикосновение, не преображенное такой абсурдностью, остается просто «контактом», каким бы духовным и чистым он ни был.
Поэтому, говоря о «прикосновении» толпы, все евангелисты используют совершенно иную терминологию (συνθλίβοντα, άποθλίβουσι, συνέχουσι), — этот язык указывает на бестактное прикосновение, слепое и глухое.
Возвращаясь к чуду исцеления кровоточивой, зададимся вопросом о вопросе Христа: почему Он спрашивает? Он знает, что к Нему прикоснулись, ибо Я чувствовал силу [δύναμις], исшедшую из Меня (Лк. 8:46). Возможно ли, чтобы Он не знал, кто прикоснулся к Нему? Ориген дает следующий ответ: дело не в том, чтобы Христос не знал, кто прикоснулся к Нему; Своим вопросом Он выражает признание поступка женщины и представляет ее веру как образец для наследования[447]. Она подошла к Нему таясь — сзади — из страха, что толпа Христовых учеников или даже Он Сам запретит ей приблизиться и прикоснуться к Нему: ведь она, в конце концов, женщина и, более того, кровоточивая женщина, т.е. нечистая по Закону[448]. Могла ли она надеяться, что ей будет позволено прикоснуться к Учителю?
Таким вопросом вполне мог задаться книжник, вроде Симона Фарисея, который спрашивает нечто подобное в эпизоде, рассказанном Лукой, о грешнице, которая омыла ноги Христу[449]. Соблазнившись терпимостью Христа, Который позволил грешнице прикасаться и целовать Его стопы, фарисей задается вопросом: Если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница (7:39). Христос знал это, ведь это не было скрыто ни от чьих глаз, — но также Он видел нечто, что мог знать лишь Тот, кто больше пророка: Он видел истинную веру этих женщин, какой Он не отыскал ни в сердцах благочестивой толпы наблюдателей, ни в сердце моралиста фарисея. Итак, желая показать прежде всего самой кровоточивой женщине и затем всей толпе, что даже женщина, «нечистая» с точки зрения Закона, может иметь выдающуюся веру, Христос обводит взглядом собравшихся людей в поисках прикоснувшейся к Нему. Хотя это прикосновение уже исцелило ее, оно все еще не стало взаимным, и теперь настал Его черед ответить на это прикосновение. Итак, Он обращается (έπιστραφείς, στραφείς) к ней, чтобы воздать по ее вере, во всеуслышание выражая признание сделанного ею втайне. Тем самым Он показывает, что ее прикосновение не имеет ничего общего с идолопоклонством (как и Сам он не имеет ничего общего с исцеляющим идолом), ведь женщину исцелили не «магические» свойства прикосновения, а ее вера, что она может дотронуться к Нему, что Он может быть осязаем. Не лишено значения также и то, что кровоточивая жена прикасается к краю (κράσπεδον) Его ризы. Здесь мы видим сразу две метафоры: (а) под «ризой» понимается Его плоть — существует долгая экзегетическая традиция, рассматривающая Воплощение Слова как облечение в человеческую плоть, а Его тело — как одежду, «истканную» Девой Марией[450]; (6) «край» или «воскрилие» ризы — это также отсылка к расхожей у классических авторов метафоре, сопоставляющей человеческое тело с домом[451]. Согласно с последней метафорой, пять чувств (и особенно органы этих чувств) следует понимать как двери дома тела. Эти двери обычно заняты движением переживаний (stimuli[452]) между внутренним и внешним миром. Таким образом, двери чувств функционируют как liminem, то есть порог, или яиминальное пространство тела. Бог стоит у этих дверей (Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною; Откр. 3:20). Иногда Его приглашают прийти и войти в «дом» тела (И вот, пришел человек, именем Иаир... и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом; Лк. 8:41); тогда, входя в двери наших чувств, Он становится ощутим для нас. В других случаях, однако, Он «является» минуя чувственное, — когда двери чувств закрыты (J3 тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Ин. 20:19). Эта huis clos [закрытая дверь], вновь и вновь фигурирующая в мистической литературе, оказывается результатом истощения чувств — истощения, обусловленного их постоянным столкновением с избытком повседневного.
Если здесь мы неохотно обращаемся к теме, которой мог бы ожидать осведомленный читатель, т.е. к языку «духовных чувств», то лишь потому, что категория «духовного», как мы уже убедились, слишком легко вырождается в «дешевый», пустой спиритуализм. Чтобы дать имя тому типу чувственного восприятия, о котором идет речь в нашей книге, нужно, следом за Мерло-Понти, вести речь скорее о сакраментальных чувствах и сакраментальном восприятии. Ведь в таинствах (sacraments) и обрядах Церкви и обретается тот двойственный характер символа, о котором шла речь в предыдущей главе: единство или перекрест представления и бытия, формы и содержания, символ как отсылка к реальности за его пределами и символ как актуальное дарование выражаемой им реальности. Именно такой взгляд мы берем за отправной пункт нашего исследования.
В таинствах Церковь представляет нам не что иное, как наши ежедневные действия, практики, составляющие нашу повседневность: преломление хлеба и общение чаши, омовение тела и т.д. Таинства— это не какие-то потусторонние явления. Они не скрывают от нас некие возвышенные, но недоступные послания; они — не тайные посвящения в новые элевсинские мистерии. Церковь являет нам в качестве тайны самые обычные, тривиальные вещи — пищу, купание, связь любви между двумя людьми.
В их повторяющемся совершении (кайрос) эти повседневные дела выводятся из гибельного течения времени (хронос), возносятся над миром необходимости, т.е. природы, и предстают вратами в иной чин бытия, входом в эсхатологию всегда грядущую и всегда уже наличную. Тихий свет святой славы проливается на мирскую жизнь, и тленное становится вечным. Мы постепенно понимаем, что необычайное и таинственное воплощается в обыкновенном и знакомом. Действительно, это простота не могла бы наступить, если бы не Воплощение; по сути, всякое таинство и всякий обряд намекает на событие Воплощения. Всякий ладан, воскуряемый при богослужении, и всякое золото сосудов и облачений — это ладан и злато, принесенные волхвами самому беззащитному из всех людей (младенцу) в самой убогой обстановке, какая только может быть (стойле). Сегодня в богослужебных обрядах те же дары приносятся в Вифлеем нашей повседневности. И как волхвы, путешествующие с дарами через пустыню, видят в яслях много больше, чем только младенца, так и мы распознаем в обычном необычайное, узнаем тень, или скорее сияние, которое эсхатон отбрасывает на мимолетность:
Бог, бывший прежде лишь окружностью, теперь видится как центр; а центр бесконечно мал. И с этих пор духовная спираль движется, конечно, внутрь, а не наружу,— она центростремительна, а не центробежна. Наша вера во многих смыслах становится религией маленьких вещей[453].
Знаменитые слова noli те tangere[454], сказанные при другой встрече с женщиной (Ин. 20:17), — это не табу, запрещающее всякое прикосновение, а только предостережение от прикосновения, незаметно склоняющегося к схватыванию, — недальновидной попытки удержать воскресшее тело, как будто оно может быть чьей-то собственностью[455]. Предлагаемое Иисусом объяснение удивительно: Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему. Если бы Христово «не прикасайся» выражало лишь отвращение к прикосновению Марии, не было бы никакого смысла добавлять: ибо Я еще не восшел к Отцу Моему, — как будто к Нему легче прикоснуться после Его вознесения на небеса. Эта трудность, однако, устраняется, если понимать слова Господа не как запрет прикосновения, а как увещание против собственнического удерживания[456]. В таком случае фраза «ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» представляет собой причинный оборот (etiological clause).
Тем не менее, Христово объяснение звучит столь странно именно потому, что в нем слышатся ноты обещания: «не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; когда же Я буду с Отцом, ты вновь сможешь прикоснуться ко Мне». Трудно понять смысл такого утверждения, ведь нам все представляется совершенно противоположным образом. Мы способны прикоснуться к Нему лишь тогда, когда Он здесь с нами (а значит, еще не с Отцом), — после вознесения никто не сможет прикоснуться к Нему.
В 6 главе Евангелия от Иоанна Христос говорит о Своем теле как о хлебе жизни, данном в пищу миру. Как признают его ученики, это слово «странно», и многие Его последователи соблазняются им и покидают Христа (Ин. 6:66). Разумеется, данное место всегда понимают как указание на таинство Евхаристии: в самом деле, выражение: Я хлеб живый (Ин. 6:51) обретает смысл только в тот момент, когда Он произносит над хлебом: приимите, ядите; сие есть Тело Мое (Мк. 14:22). Но Христос добавляет еще одно указание, которое, казалось бы, выпадает из этого контекста:
Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать?
Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?
Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде? (Ин. 6:60-62).
Это ясная аллюзия на Его Вознесение, но как она связана с речью о Его теле? Нам представляется, что евхаристическое разделение — или же преломление — Его тела прямо следует из Его удаления в Вознесении. В самом деле, литургическое преломление даров непосредственно обращается к языку и образности Вознесения. Конкретность тела Христа как бы «упраздняется» (“sublation”) в Теле Христовом (Церкви), которое возникает в результате двойного движения: вознесения Христа и сошествия Духа — и таким образом становится общим достоянием всех христиан[457]. Физическое тело Христа и прежде вынашивало в себе Его мистическое тело — Его Церковь; и нынешняя Церковь, в свою очередь, является единственным сосудом Его тела и крови. Плоть Христа (ее телесность и историчность) без сакраментального «упразднения» (“sublation”) в Церкви обречена на идолопоклонство, также как Его керигма (нравственное учение Евангелия), когда она не укоренена в Его евхаристическом присутствии, есть пустая идеология.
Приближаясь к заключению этой последней главы нашего труда, пора возвратиться к тому, с чего она начиналась: к исцелению слепоты. Рассказ Иоанна об исцелении слепорожденного, кажется, составляет литературный контекст картины Брейгеля на эту же тему, занимающей центральное место в Аллегории зрения. В этой истории есть несколько любопытных поворотов сюжета; в изложении четвертого евангелиста она выглядит следующим образом:
И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Раввй! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? (Ин. 9:1-8).
Контраст между светом Христа и темнотой мира — один из любимых мотивов Иоанна. Менее привычен способ, каким Христос исцеляет слепоту («темноту») человека: не словом, а делом (зргон). Смешивание глины со слюной отсылает к созданию человека, описанному в Книге Бытия (2:7); Христос показывает, что Он — Бог-Творец, властен воссоздать Свое творение (т.е. бело Пославшего Меня). Древние и современные экзегеты отмечают, что название источника (Силоам, на еврейском — Шилоах) указывает на Самого Христа как на «Посланного» Отцом. Омовение (и исцеление, к которому оно приводит, — переход от темноты незря - чести к свету зрения) в источнике Силоам понимают как прообраз крещения. «Отвержение» духовной слепоты фарисеев и исповедание, приносимое Христу слепорожденным (Ты веруешь ли в Сына Божия?.. Верую, Господи! Ин. 9:35-38), которое фигурирует в качестве крещального обета, усиливают эту интерпретацию. Действительно, еще прежде, чем Тертуллиан и Августин толковали это место как прообраз крещения, ранние христиане изображали на стенах катакомб исцеление слепого как символ крещения[458]. Тем не менее, интригующей остается игривость жеста Христа (как бы в ласке): Тот, Кто был послан, посылает его к Посланному (Силоахму). Посылая его к Нему (к Посланному, Силоаму), Он посылает к Самому Себе, — ведь омываясь в Нем (в Его имени, Силоам, Посланный), слепой оказывается способен увидеть Пославшего его и узнать в Нем Посланного Отцом.
Итак, исцеление слепого происходит благодаря двум различным «жестам», из которых первый (замешивание глины и помазание глаз) вписывается в ветхозаветную традицию, отсылая к творческим трудам Бога при создании мира, а второй (послание к источнику Силоам) предваряет новозаветную общину и таинства Церкви. Первое движение — «археологическое» и «протологиче- ское» — подчиняется логике «творения»; второе — эсхатологическое — выходит за пределы этой традиции. Ведь, вопреки изложению Книги Бытия, (вос)созида- тельные труды Христа происходят в седьмой день недели — в Шаббат, провоцируя острую критику со стороны фарисеев, принимающую форму длительного допроса (Ин. 9:13-34). Христов Шаббат— это не та суббота, которую соблюдают фарисеи. Его Шаббат — это ночь, когда никто не может делать, т.е. ночь, когда Его более не будет в мире, когда он почиет от всех дел Своих, а данный Ему труд будет назван «свершенным». Это ночь Его смерти. В святоотеческих гомилиях смерть Христа весьма часто типологически рассматривается как Седьмой День нового творения. Здесь мы обратимся лишь к двум характерным гомилиям Григория Нисского: In Sanctum et Salutare Pascha и De Tridui Spatio[459].
В начале первой проповеди Григорий непосредственно связывает Шаббат творения с Великой Субботой страстных Евангелий: «Истинный покой [κατάπαυσις] Субботы, Богом благословенной, в которую Господь почил [κατέπαυσεν] от дел своих — для спасения мира субботствовавший праздностью смерти [τή απραξία του θανάτου],— сей истинный покой уже кончился»[460]. В последней гомилии между двумя событиями устанавливается типологическая связь: «Вот тебе благословенная суббота первого миротворения. Чрез ту субботу познай эту субботу, день успокоения [τής καταπαύσεως ημέραν], который Бог благословил преимущественно пред иными днями. Ибо в этот день истинно успокоился [κατέπαυσεν] от всех дел Своих Единородный Бог, про- мыслительным восприятием смерти субботстовавший плотию»[461]. Крещальный образ омовения слепого в источнике Силоам уже прообразует Шаббат Его смерти — ведь, как пишет Павел, все мы крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились... Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть (Рим. 6:3-4).
В этом отрывке объединяются два различных понимания творения: творение как производство (production) и творение как выражение. Первое понимание может быть связано с той особой функцией прикосновения, которую мы описали в предыдущей главе как схватывание, второе — с лаской. Концепция творения как производства — эргономическое творение — подчиняется логике мануфактуры (аргон), т.е. образу мира, формуемого рукою горшечника — Бога. Представление о Боге как космическом зодчем — это создание человеком Бога по своему образу и подобию. С другой стороны, творение как выражение — аоргичное творение — упраздняет вездесущую власть аргон, отказываясь от производства продуктов и вещей. Это творение, которое реализуется не в труде над материей (не совместимом с идеей творения ex nihilo, из ничего), но в самоумалении Творца, дающего место творению[462] (это «самоуничтожение» Творца и создает то «ничто», из которого создается мир)[463]. Можно указать и другие различия между этими двумя подходами к творению: один из них предполагает единственный акт творения (это вносит некоторую путаницу, поскольку вводит темпоральность в момент, где время еще не предполагается, создавая дилемму времени «прежде» времени)[464], тогда как второй разворачивается в постоянном, беспрерывном движении, где творение мира никогда не прекращается (в каждый и всякий момент, который, следовательно, никак не назовешь мимолетным).
Мы можем с полным правом назвать такое эргономическое понимание творения метафизическим, поскольку оно находит свое философское обоснование в Физике Аристотеля (что обсуждалось в предыдущей главе). Второе понимание творения, однако, также принадлежит западной философской традиции, поскольку, согласно Жану-Люку Нанси, «ему следуют, среди прочего, Гегель и Шеллинг, оно несомненно скрыто присутствует и у Хайдеггера, но первым его артикулировал, как я уже говорил, Кант»[465]. В самом деле, для Нанси «вся Кантов а революция строится не на чем ином, как на вопросе творения»[466]. Узловым вопросом тут является возможность опыта как такового: для Канта возможность опыта, в конечном счете, зависит от возможности изменений, поскольку именно изменения создают возможность феномена. Изменения, в свою очередь, требуют двух принципов — «принципа перманентности субстанции» (Первая аналогия) и «Принципа последовательности времени» (Вторая аналогия), что в первом издании Критики незамысловато, но красноречиво названо «Принципом производства». Обращаясь к этой проблематике, мы не упустили из виду вопрос прикосновения — и прикосновения неприкосновенного; мы лишь продвинулись несколько далее в нашем исследовании. Ведь субстанция и причинная связь характеризуют мир эргон — мир ручного труда[467]. Осмысливая эти абстрактные принципы, философ никогда не перестает созерцать мир в категориях мастерской: здесь мы находим глину («субстанцию», остающуюся равной себе во всех бесчисленных видоизменениях ее становления), но здесь же и сам горшечник, причина всех становлений[468]. От Аристотелевых четырех причин до Кантовых трех аналогий опыта, мир предстает как продукт; следовательно, все, что не может быть произведено (или, в данном случае, воспроизведено), все, что не соответствует этой эргономии (закону эргон), должно быть исключено из опыта — как невозможный опыт или, что то же самое, опыт невозможного. Однако с самого начала этой книги мы исходим из предпосылки возможности такого невозможного опыта (видения невидимого, прикосновения к неприкосновенному), опыта, который подрывает сам принцип производства — и тем не менее остается опытом[469].
Две различных сферы ассоциируются с языком производства и причинности — языком суда и рынка. Обращение Аристотеля к лексике судопроизводства (изначальный смысл греческого слова αιτία, «причина» — юридический: вина, обвинение, вменение в вину) представляет весь мир как бесконечную детективную историю. Философ, который, подобно следователю, прибывает, как всегда, слишком поздно, призван разыскать ύπ-αίτιον (обвиняемое) и с этой целью вызывает различные «причины» (αιτίαι) на суд разума, как это назвал бы Кант. Но о каком же преступлении идет речь? Разумеется, о бытии! Философский допрос имеет задачу разъяснить, «почему имеется нечто, а не ничто?». Как и почему бытие пришло в бытие? В таком тоне звучит одно из первых суждений греческой философии, провозглашение виновности и наказания: δίδόναι γάρ αυτά δίκην καί τίσιν άλλήλοις τής αδικίας κατά την του χρόνου τάξιν (Анаксимандр, Фрагмент 1[470]). Понимание бытия как преступления (и осознание своей вины за собственное существование) глубоко связано с пониманием творения как данного в долг. Творение как производство задействует целую систему ценностей — цену труда, а значит, цену рынка. Ведь эргон — это артефакт и одновременно труд, направленный на производственный процесс. Эргон обретает смысл только в контексте экономических отношений, будучи вписан в логикуагоры, торговли, коммерции, обмена. Это особенно бросается в глаза в определенной манере («богословски») рассуждать о Божественной Икономии в категориях рынка. Согласно этому дискурсу, Божье творение (Его эргон) налагает на нас неизмеримый долг, который не может быть оплачен никакой жертвой, болью или добродетелью. Человечество — по самому факту своей тварности — оказывается в долгу: обсуждается не что иное, как цена самого нашего существования. Наш Творец (как четко продемонстрировал Ницше во Втором эссе своей Генеалогии морали[471]) предстает кредитором, требующим воздаяния. Но кто может оплатить такой счет? Только Сам Бог, становящийся человеком, чтобы расплатиться с Богом за человечество. Образ Христа как Искушггеля, строго говоря, не имеет ничего общего со спасением (salvation, ведь латинское понятие «salvus» — «здоровый» — оперирует совершенно иной, медицинской, метафорой[472]). Дискурс искупления говорит о выкупе (жизнь Христа, точнее, Его смерть), приносимом Богу как оплата за нашу свободу от божественного долга.
Однако существуют иные возможности мыслить о мире, творении, Боге. Они позволяют осмыслить по- иному и возможность опыта — вне категорий причинности и производства. Мы уже обращали на это внимание в связи с чудом о слепорожденном, но это можно найти во многих местах Евангелия: пожалуй, в этом и состоит благая весть, которую несет Евангелие, — эргон завершился (τετέλεσται, свершился, как было провозглашено с высоты креста), и за его окончанием следует Суббота, Седьмой День нового творения — творения, упраздняющего производство. В бездеятельности (αργία) этой Субботы предстает нашему мысленному взору Христос— в покое и безмолвии Своего гроба, в «праздности» смерти (τη απραξία του θανάτου, как выразился Григорий Нисский). Это и есть конец эргономии, упразднение эргон и номос (κατάργησις). И на Восьмой День Он восстает — Новый Адам, ан-архическое архе (безначальное Начало) нового творения (Откр. 3:15). Это событие, опрокидывающее всевозможные принципы, не может быть опосредовано никакой экономической структурой, эргономической или иной. Воскресшее тело Христа — первородного (πρωτότοκος), рожденного, но не сотворенного, не имеющего ни причины (αιτία), ни начала (αρχή) — полагает начало новой генеалогии. Это ан-архическое событие par excellence: Но Христос воскрес из мертвых, первенец [άπ-αρχή] из умерших (1 Кор. 15:20). В другом Послании Павел объясняет, каким архэ является Христос: Он — начаток [άρχή], первенец [πρωτότοκος] из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство (Кол. 1:18). Это новое начало становится возможно благодаря серии упразднений (этот термин — καταργήσεις — по-видимому, был введен Павлом, поскольку в классической греческой литературе он не встречается). Упраздняется, прежде всего, мир труда и пота, И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам [εργοις τοΐς πονηροίς], ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его (Кол. 1:21-22). Далее наступает черед знания (по крайней мере, того, что зиждется на утилитарности и функциональности): и знание упразднится [καταργηθήσεται] (1 Кор. 13:8), вместе с пророчеством и «всем, что отчасти» (1 Кор. 13:10), включая даже самих сущих: и безродное мира и уничиженное избрал Бог, и не-сущее, чтобы упразднить [καταργήση] сущее (1 Кор. 1:28[473]). А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит [καταργήση] всякое начальство [άρχήν] и всякую власть [εξουσία] и силу [δύναμις] (1 Кор. 15:24).
Этот конец, конец всего старого мира, бытия и знания, принципов и разума, был явлен в тишине Гроба, наставшей после возгласа: Свершилось! Со Своего Креста Бог увидел, как этот мир приходит к концу; и Его Гроб положил начало новому миру— «Се, творю все новое» (Откр. 21:5).
Библиография
Adorno, Theodor W. Quasi una Fantasia: Essays on Modern Music. Translated by Rodney Livingstone. London: Verso, 1992.
Agamben, Giorgio. Potentialities: Collected Essays in Philosophy. Translated by Daniel Heller-Roazen. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1999.
-------- . Le Temps qui reste: un commentaire de VEpitre aux Romains. Paris: Bibliotheque Rivages, 2000. Translated by Patricia Dailey as The Time That Remains. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2005.
-------- . “Time and History: Critique of the Instant and the Continuum ” In Infancy and History: The Destruction of Experience, trans. Liz Heron, 95-107. London: Verso, 1993.
-------- . “The Time That Is Left.” Epoch-έ 7, no. 1 (2002): 1-14.
Aristotle. Μετά τά Φυσικά. Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis. Edited by W. Jaeger. Oxford: Oxford University Press, 1957.
-------- . Περί Ψυχής. Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis. Edited by W. Jaeger. Oxford: Oxford University Press, 1961.
-------- . Τά Φυσικά. Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis. Edited by W. Jaeger. Oxford: Oxford University Press, 1936.
Armour, Ellen T. “Touching Transcendence.” In Derrida and Religion, ed. Kevin Hart and Yvonne Sherwood. London: Routledge, 2005.
Augustine. Confessions. Translated by E J. Sheed. Indianapolis: Hackett, 1942.
Austin, J. L. How to Do Things with Words. 1962. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1975.
Bailly, Christoph. Adieu: essai sur la mort des dieux. La Tour d’Aigs: Editions de TAube, 1989.
Balas, David, L. “Eternity and Time in Gregory of Nyssas Contra Eunomium” In Gregory von Nyssa und die Philosophie, ed. Heinrich Dorrie, Margarete Altenburger, and Uta Schramm. Leiden: Brill, 1976.
Balthasar, Hans Urs von. Explorations in Theology: Vol. II: Spouse of the Word. San Francisco: Ignatius Press, 1991.
-------- . The Glory of the Lord: A Theological Aesthetics. 7 vols.
Translated by Erasmo Leiva-Merikakis et al. San Francisco: Ignatius Press, 1982-1991.
Barthes, Roland. “Semiology and Medicine.” In The Semiotic Challenge, trans. Richard Howard, 202-213. New York: Hill and Wang, 1988.
Bataille, Georges. LExperience Interieure. Vol. I of Somme athiologique. Paris, 1945.
-------- . Histoire de Voeil Paris: Pauvert, 1967.
-------- . Somme atheologique. 3 vols. Paris: Gallimard, 1945-1954.
Baudinet, Marie-Jose. “The Face of Christ: The Form of the Church.” In Fragments for a History of the Human Body, part 1, ed. Michael Feher, Ramona Naddaff, and Nadia Tazi, 149-155. New York: Zone Books, 1989.
Bearsley, Р. “Augustin and Wittgenstein on Language” Philosophy 58 (1983): 229-236.
Benjamin, Walter. Gesammelte Schriften, Edited by Rolf Tiedemann and Hermann Schweppenhäuser with the assistance of Theodor W Adorno and Gershom Scholem. Frankfurt: Suhrkamp, 1972-1989.
Bergson, Henri. Les deux sources de la morale et la religion. Paris: Presses Universitaires de France, 1932, 1951.
Bernard of Clairvaux. On the Song of Songs. 4 vols. Translated by Kilian Walsh, OCSO. Kalamazoo, Mich.: Cistercian Publications, 1971.
Besancon, Alain. The Forbidden Image. Translated by Jane Marie Todd. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
Birault, Henri. “Philosophie et theologie: Heidegger et Pascal.” In Heidegger; ed. Michel Haar, 514-541. Cahier de VHerne. Paris: Editions de ГНегпе, 1983.
Birus, Hendrik. “Tch bin, der ich bin: über die Echo eines Namens.” In Juden in der deutschen Literatur: ein deutschisraelisches Symposiumy ed. Stephane Moses and Albrecht Schöne, 25-53. Frankfurt: Suhrkamp, 1986.
Bloechl, Jeffrey. The Face of the Other and the Trace of God. New York: Fordham University Press, 2000.
-------- , ed. Religious Experience and the End of Metaphysics.
Bloomington: Indiana University Press, 2003.
Bohm, David. Quantum Theory. London: Constable, 1954.
Bonhoeffer, Dietrich. Works, Vol. 6: Ethics. Translated by Reinhard Krauss, Charles C. West, and Douglas W. Stott. Minneapolis: Fortress Press, 2005.
Borges, Jorge Luis. Selected Poems (bilingual edition). Edited by A. Coleman. New York: Viking, 1999.
Boyarin, Daniel. A Radical few: Paul and the Politics of Identity. Berkeley: University of California Press, 1994.
Brkic, Pero. Martin Heidegger und die Theologie: ein Thema in dreifacher Fragestellung. Mainz: Matthias Grünewald, 1994.
Brown, Raymond E. The Gospel of John and Epistles of John: A Concise Commentary. Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1988.
Bultmann, Rudolf. History and Eschatology. Edinburgh: T&T Clark, 1957.
Burnyeat, M. F. “Wittgenstein and Augustin ‘De Magistral Proceedings of the Aristotelian Society 61 (1987): 1-24.
Capelle, Philippe. Philosophie et theologie dans la pensee de Martin Heidegger. Paris: Editions du Cerf, 1998.
Caputo, John D. Heidegger and Aquinas: An Essay on Overcoming Metaphysics. New York: Fordham University Press, 1982.
-------- . The Mystical Element in Heideggers Thought. New York: Fordham University Press, 1986.
-------- . The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion. Bloomington: Indiana University Press, 1997.
-------- . Radical Hermeneutics: Repetition, Deconstruction, and the Hermeneutic Project. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
Carabine, Deirdre, The Unknown God: Negative Theology in the Platonic Tradition, Plato to Eriugena. Louvain: Peeters Press, W. B. Eerdemans, 1995.
Carnap, Rudolph. The Logical Structure of the World. Translated by Rolf A. George. Berkeley: University of California Press, 1967.
Cavell, Stanley. Philosophical Passages: Wittgenstein, Emerson, Austin, Derrida. Oxford: Blackwell, 1995.
Certeau, Michel de. La Fable mystique: XVV-XVIV siede. Paris: Gallimard, 1982.
------ . “La Fiction de fhistoire: lecriture de Moise et le monotheisme.” In LEcriture de Vhistoire. Paris: Editions du SeuiL 1975.
Chretien, Jean-Louis. LAppel et la rtponse. Paris: Editions de Minuit, 1992. Translated by Anne A. Davenport as The Call and the Response. New York: Fordham University Press, 2004.
------ . LArche de la parole. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.
------ . “La Reserve de letre” In Martin Heidegger ed. Michel Haar, 233-260. Cahier de VHerne. Paris: Editions de ГНегпе, 1983.
-------- . The Unforgettable and the Unhoped For. Translated by Jeffrey Bloechl. New York: Fordham University Press, 2002.
Clarke, W. Norris, S J. Explorations in Metaphysics: Being, God, Person. South Bend, Ind.: University of Notre Dame Press, 1994.
Coakley, Sarah A. Powers and Submissions: Spirituality Philosophy and Gender. Oxford: Blackwell, 2002.
-------- . Religion and the Body. New York: Cambridge University Press, 1997.
-------- . Re-thinking Gregory ofNyssa. Oxford: Blackwell, 2003.
Constas, Nicholas. “Icons and the Imagination.” Logos 1 (1997): 114-127.
-------- . Proclus of Constantinople and the Cult of the Virgin in Late Antiquity, Homilies 1-5, Texts and Translations. Leiden: Brill, 2003.
-------- . “Weaving the Body of God: Proclus of Constantinople, the Iheotokos and the Loom of the Flesh.” Journal of Early Christian Studies 3, no. 2 (1995): 169-194.
Courtine, Jean-Francois. Heidegger et la phenomenologie.
Paris: Vrin, 1990.
-------- . “Les Traces et le passage du Dieu dans les Beiträge zur Philosophie de Martin Heidegger.” Archivio di Filosofia 1, no.
3 (1994): 519-538.
Coward, Harold, and Toby Foshay, eds. Derrida and Negative Theology. Albany: State University of New York Press, 1992.
Critchley, Simon. The Ethics of Deconstruction: Levinas and Derrida. Oxford: Blackwell, 1992.
-------- . Ethics-Politics-Subjectivity: Essays on Derrida, Levinas and Contemporary French Thought. London: Verso, 1999.
Crosby, John. Personalist Papers. Washington: Catholic University Press, 2004.
Dahlstrom, Daniel. “Heidegger’s Religious Turn: From Christianity and Metaphysics to God.” Unpublished paper presented at the XXXIV Heidegger Conference, Marshall University, Huntington, W. V., May 20, 2000.
Damascius Diadochos. Dubitationes et solutiones de primis principiis, in Platonis Parmenidem. Edited by Car. Aem.
Ruelle. Brussels, 1964; reprint of 1899 ed.
Dastur, Framboise. “Le ‘Dieu extreme1 de la phenomenologie. Husserl et Heidegger.” Archives de Philosophie 63 (2000): 195-204.
------- . “Heidegger et la theologie.” Revue philosophique de Louvain 2, no. 3 (1994): 226-245.
Derrida, Jacques. “Above All, No Journalists!” In Religion and Media, ed. Hent de Vries and Samuel Weber, 56-93. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2001.
------- . Adieu ä Emmanuel Levinas. Paris: Galilee, 1997.
------- . “Comment ne pas parier: denegations” In Psyche: inventions de Vautre, 535-595. Paris: Galilee 1987. Translated by Ken Frieden as “How to Avoid Speaking: Denials,” in Derrida and Negative Theology; ed. Harold Coward and Toby Foshay, 73-142. Albany: State University of New York Press, 1992.
------- . De Vesprit: Heidegger et la question. Paris: Galilee, 1987.
------- . “Donner la mort.” In L’Ethique du don: Jacques Derrida et lapensee du don, ed. Jean-Michel Rabate and Michael Wetzel, 11-108. Paris: Metailie-Transition, 1992.
------- . Donner le temps: lafausse monnaie. Paris: Galilee, 1991.
------- . Dun ton apocalyptique adopte naguere enphilosophie.
Paris: Galilee, 1983.
------- . LEcriture et la difference. Paris: Editions du Seuil, 1967.
------- . Ёрегот: les styles de Nietzsche. Paris: Flammarion, 1976.
------- ”Foi et savoir: les deux sources de la religion aux limites de la simple raison.” In La Religion, ed. Jacques Derrida and Gianni Vattimo, 9-86. Paris: Editions du Seuil, 1996.
Translated by Samuel Weber as “Faith and Knowledge: The Two Sources of‘Religion at the Limits of Reason Alone,” in Religion, ed. Jacques Derrida and Gianni Vattimo, 1-78. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1998.
------- . “How to Avoid Speaking: Denials.” In Derrida and Negative Theology, ed. Harold Coward and Toby Forshay, 73-142. New York: State University of New York Press, 1992.
------- . “La Main de Heidegger (Geschlecht #).” In Psyche: inventions de Vautre, 415-451. Paris: Galilee, 1987.
------- . Le Toucher: Jean-Luc Nancy. Paris: Editions Galilee, 2000.
------- . “LOreille de Heidegger.” In Politiques de lamitii. Paris: Galilee, 1994.
------- . LOreille de Vautre: otobiographies, transferts, traductions. Textes et debats avec Jacques Derrida, sous la direction de Claude Levesque et Christie V McDonald. Montreal: VLB, 1982.
------- . Limited Inc. Evanston, 111.: Northwestern University Press, 1977.
------- . Marges de la philosophic. Paris: Editions de Minuit, 1972. Translated by Alan Bass as Margins of Philosophy. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
------- . Memoires daveugle: lauto-portrait et autres ruines.
Paris: Editions de la reunion des musees nationaux, 1990.
------- . “Mochlos: Or, The Conflict of the Faculties.” In Logomachia, ed. R. Rand, 1-34. Lincoln: University of Nebraska Press, 1992.
------- . Of Grammatology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977.
-------- . Psyche: inventions de Yautre. Paris: Galilee, 1987.
-------- . Saufle nom (Post-Scriptum). Paris: Galilee, 1993.
Translated by John P. Leavey, Jr., as On the Name. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1995.
-------- . Speech and Phenomena and Other Essays on HusserYs Theory of Signs. Translated by David B. Allison. Evanston, 111. Northwestern University Press, 1973.
-------- . La Voix et la phenomene. Paris: Presses Universitaires de France, 1967.
Descartes, Rene. Meditationes de Prima Philosophia. Ouvres de Descartes VII. Paris: Librairie Philosophique Vrin, 1957.
Dionysius (the Aeropagite). Corpus Dionysiacum. 2 vols. Edited by Beate Regina Suchla, G. Heil, and A. M. Ritter. Berlin: Walter de Gruyter, 1990.
Dooley, Mark, ed. A Passion for the Impossible: John D. Caputo in Focus. Albany: State University of New York, 2003.
Douglass, Scot. “A Critical Analysis of Gregorys Philosophy of Language: The Linguistic Reconstitution of Metadiastemic Intrusions.” In Gregory ofNyssa: Homilies on the Beatitudes.
Proceedings of the Eighth International Colloquium on Gregory of Nyssa, Paderborn, September 14-18, 1998, ed. Hubertus R. Drobner and Albert Viciano, 447-465. Leiden: Brill, 2000.
Farrow, Douglas. Ascension and Ecclesia: On the Signifi cance of the Doctrine of the Ascension for Ecclesiology and Christian Cosmology. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1999.
Felman, Shoshana, and Dori Laub. Testimony: Crises of Witnessing in Literaturey Psychoanalysis and History. London: Routledge, 1992.
Flew, Anthony. “Theology and Falsifi cation” In The Philosophy of Religion, ed. Basil Mitchell, 13-15.
Oxford: Oxford University Press, 1971.
Florensky, Pavel. “Against Linear Perspective ” In Utopias: Russian Modernist Texts 1905-1940, ed. Catriona Kelly, 70-75. London: Penguin Books, 2002.
------- . The Pillar and Ground of the Truth. Translated by Boris Jakim. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997.
Florovsky, Georges. Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View. Collected Works, vol. I. Vaduz: Belmont, 1987.
Gall, Robert. Beyond Theism and Atheism. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1987.
Gasche, Rodolphe. “God, for Example.” In Phenomenology and the Numinous. Pittsburgh: Simon Silverman Phenomenology Center, 1988.
Gauchet, Marcel. The Disenchantment of the World: A Political History of Religion. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997.
Giakalis, Ambrosios. Images of the Divine: The Theology of Icons at the Seventh Ecumenical Council. Leiden: Brill, 2005.
Golitzin, Alexander. “Suddenly Christ”: The Place of Negative Theology in the Mystagogy of Dionysius Areopagites.” In Mystics: Presence and Apona, ed. Michael Kessler and Christian Sheppard, 8-37. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
Gombrich, E. H. Shadows: The Depiction of Cast Shadows in Western Art. London: National Gallery Publications, 1995.
Greene, Brian. The Elegant Universe. New York: Vintage Books, 1999.
Gregor, Brian. “Eros That Never Arrives.” Symposium 9, no. 1 (2005): 67-88.
Gregory of Nyssa. Gregorii Nysseni Opera. Edited by W. Jaeger. 13 vols. Leiden: Brill, 1960.
Greisch, Jean. “The Eschatology of Being and the God of Time in Heidegger.” International Journal of Philosophical Studies 4, no. 1 (1996): 17-42.
------- . “Nomination et revelation” Archivo di Filosofi a 1-3 (1994): 577-598.
------- . “La Pauvrete du ‘Dernier Dieu de Heidegger.” In Post-Theism: Reframing the Judeo-Christian Tradition, ed. Henri A. Krop, Arie L. Molendijk, and Hent de Vries, 397-420. Leuven: Peeters, 2000.
Gürtler, Gary M., S.J. “Plotinus and Byzantine Aesthetics.” Modern Schoolman 66 (1989): 275-284.
------- . “Plotinus: Matter and Otherness, On Matter (II 4[12]).” Epoche 9, no. 2 (2005): 197-214.
Hallett, Garth. A Companion to Wittgensteins Philosophical Investigations. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1977.
Hand, S., ed. The Levinas Reader. Oxford: Blackwell, 1996.
Harries, Karsten. Infinity and Perspective. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001.
Hart, Kevin. Counter-Experiences: Reading Jean-Luc Marion. South Bend, Ind.: University of Notre Dame Press, in press.
------- . “The Kingdom and the Trinity” In Religious Experience and the End of Metaphysics, ed. Jeffrey Bloechl, 153-173. Bloomington: Indiana University Press, 2003.
------- . “The Profound Reserve” In After Blanchot: Literature, Criticism, Philosophy; ed. Leslie Hill and Dimitris Vardoulakis, 35-57. Dover: University of Delaware Press, 2006.
------- . The Trespass of the Sign: Deconstruction, Theology and Philosophy. New York: Fordham University Press, 2000.
Hegel, G. W. F. Der Geist des Christentums und sein Schicksal Gerhard Ruhbach. Gütersloh: Gutersloher Verlagshaus G. Mohn, 1970.
------- . Glauben und Wissen: oder die Refl exionsphilosophie der Sujektivitat, in der Vollständigkeit ihrer Formen, als Kantische, Jacobische, und Fichtische Philosophie. Edited by Hans Brockard and Hartmut Buchner. Hamburg: Meiner, 1986.
Heidegger, Martin. Aus der Erfahrung des Denkes 1910-1976. Gesamtausgabe 13. Frankfurt: Klostermann.
------- . Beiträge zur Philosophie: vom Ereignis. Edited by Friedrich-Wilhelm von Herrmann. Gesamtausgabe 65. Frankfurt: Klostermann, 1989. Translated by Parvis Emad and Kenneth Maly as Contributions to Philosophy (From Enowning). Bloomington: Indiana University Press, 1999.
------- . “Brief über den Humanismus.” In Wegmarken, 311—360. Frankfurt: Klostermann, 1978.
------- . Тае End of Philosophy. Translated by Joan Stambaugh. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
------- . Four Seminars. Translated by A. Mitchell and F. Raffoul. Bloomington: Indiana University Press, 2003.
------- . Die Grundprobleme der Phänomenologie. Gesamtausgabe 24. Frankfurt: Klostermann, 1975.
------- . Holzwege. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1950. Translated by Julian Young and Kenneth Haynes as Off the Beaten Track. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
------- . Identität und Differenz. Pfullingen: Neske. 1978. Translated by Joan Stambaugh as Identity and Difference. New York: Harper & Row, 1969.
------- . An Introduction to Metaphysics. Translated by Ralph Manheim. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1959.
------- . Kant und das Problem der Metaphysik. Bonn: F. Cohen, 1929.
------- . Nietzsche. 4 vols. Pfullingen: Neske, 1961. Translated by David Farrell Krell as Nietzsche. 2 vols. New York: Harper & Row, 1984.
------- . Parmenides. Translated by Andre Schuwer and Richard Rojcewicz. Bloomington: Indiana University Press, 1992.
------- . Phänomenologie des religiösen Lebens. Gesamtausgabe 60. Frankfurt: Klostermann, 1995.
------- . “Phänomenologie und Theologie.” In Wegmarken, 45-78. Frankfurt: Klostermann, 1978.
------- —. Poetry, Language, Thought. Translated by Albert Hofstadter. New York: Harper & Row, Perennial Classics, 2001.
------- . The Question Concerning Technology and Other Essays. Translated by William Lovitt. New York: Harper & Row, 1977.
------- . Der Satz vom Grund. Pfullingen: Neske, 1957. Translated by Reginald Lilly as The Principle of Reason. Bloomington: Indiana University Press» 1991.
------- . Sein und Zeit Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 1953. Translated by Joan Stambaugh as Being and Time. Albany: State University of New York Press, 1996.
------- . Vorträge und Aufsatze. Pfullingen: Neske, 1954.
------- . Was heisst Denken? Tübingen: M. Niemeyer, 1954. Translated by J. Glenn Gray as What Is Called Thinking? New York: Harper & Row, 1968.
------- . “Was ist Metaphysik?” In Wegmarken, 103-121. Frankfurt: Klostermann, 1978.
------- . Wegmarken. Gesamtausgabe 9. Frankfurt: Klostermann, 1978. Translated as Pathmarks, ed. William McNeill. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Henry, Michel. Vessence de la manifestation. Paris: Presses Universitaires de France, 1963.
------- . Incarnation: une Philosophie de la chair. Paris: Seuil, 2000.
------- . Phenomenologie matirielle. Paris: Presses Universitaires de France, 1990.
------- . Philosophy and Phenomenology of the Body. Translated by Girard Etzkorn. The Hague: Martinus Nijhoff, 1975.
Holler, Linda. Erotic Morality: The Role of Touch in Moral Agency. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2002.
Hopkins, Gerard Manley. “On Personality, Grace and Free Will” In The Sermons and Devotional Writings of Gerard Manley Hopkins, ed. Christopher Devlin, S.J., 146-159. London: Oxford University Press, 1959.
Horner, Robyn. Jean-Luc Marion: A Theo-Logical Introduction. London: Ashgate, 2005.
-------- . Rethinking God as Gift: Marion, Derrida and the Limits of Phenomenology. New York: Fordham University Press, 2001.
Husserl, Edmund. Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology. Translated by Dorion Cairns. The Hague: Martinus NijhofF, 1970.
-------- . Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to Phenomenological Philosophy. Book One. The Hague: Martinus Nijoff, 1983.
-------- . Logische Untersuchungen. Volume 2, Part 1, Section 2. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1968.
Ihde, Dan. Listening and Voice: A Phenomenology of Sound. Athens: Ohio University Press, 1976.
------- —. “Some Auditory Phenomena.” Philosophy Today 10, no. 4 (1966): 227-235.
-------- . “Studies in the Phenomenology of Sound.” International Philosophical Quarterly 2 (1940): 232-251.
Janicaud, Dominique. Heidegger en France. Vol. I: Rdеit. Paris: Albin Michel, 2001.
-------- . Le Tournant theologique de la phenomdnologie franfaise. Combas: Editions de ГЁс1аЪ 1991.
Janicaud, Dominique, and Jean-Franois Mattei. Heidegger; from Metaphysics to Thought. Translated by M. Gendre. Albany: State University of New York Press, 1995.
Janicaud, Dominique, et al. Phenomenology and the “Theological Turn”: The French Debate.
Translated by Bernard G. Prusak, Thomas A. Carlson, and Jeffrey L. Kosky. New York: Fordham University Press, 2000.
Jay, Martin. Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century Thought. Berkeley: University of California Press, 1993.
Kaegi, Dominic. “Die Religion in den Grenzen der blossen Existenz; Heideggers religionsphilosophische Vorlesungen von 1920/21.” Internationale Zeitschrift für Philosophie 1 (1996): 133-149.
Kant, Immanuel. Critik der reinen Vernunft. Werke in zehn Bänden III-IV. Edited by Wilhelm Weischedel. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. Translated by Norman Kemp Smith as Critic of Pure Reason. London: Macmillan, 1929.
------ . Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft. Werke in zehn Bänden VII. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983.
-------- . “Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie” (1796). In Werke in zehn Banden 5, 377- 397. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983.
Kearney, Richard. The God Who May Be: A New Hermeneutics of Religion. Bloomington: Indiana University Press, 2001.
-------- . Poetics of Imagination. London: Routledge, 1988.
-------- . Poetics of Imagining: Modern to Postmodern. New York: Fordham University Press, 1998.
-------- . Poetique du possible. Paris: Beauchesne, 1984.
------- . Strangers, Gods and Monsters: Interpreting Otherness. London: Routledge, 2003.
------- . The Wake of Imagination. London: Routledge, 1988.
Kerr, F. Theology after Wittgenstein. Blackwell: Oxford, 1986.
Kierkegaard, Soren. The Concept of Anxiety. Kierkegaards Writings 8. Translated and edited by Reidar Thomte. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980.
------- . Either/Or. Kierkegaards Writings 3. Translated and edited by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987.
------- . Fear and Trembling. Kierkegaards Writings 6.
Translated and edited by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1983.
------- . The Sickness unto Death. Kierkegaards Writings 9. Translated and edited by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980.
------- . Works of Love. Kierkegaards Writings 16. Translated and edited by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995.
Kloos, KarL “Seeing the Invisible God: Augustines Reconfi guration of Theophany Narrative Exegesis.” Augustinian Studies 36, no. 2 (2005): 397-420.
Kripke, Saul A. Naming and Necessity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1972, 1980.
Lacan, Jacques. LEthique de la psychanalyse, 1959-1960. Translated by Dennis Porter as The Ethics of Psychoanalysis, 1959-1960. New York: W. W. Norton, 1992.
Lacoste, Jean-Yves. Experience and the Absolute: Disputed Questions on the Humanity of Man. Translated by Mark Raftery-Skehan. New York: Fordham University Press, 2004.
Lehmann, Karl. “Christliche Geschichtserfahrung und ontologische Frage beim jungen Heidegger.” In Heidegger: Perspektiven zur Deutung seines Werkes, ed. Otto Pöggeler, 140-166. Königstein: Athenäum, 1984.
Levin, David M., ed. Modernity and the Hegemony of Vision. Berkeley: University of California Press, 1993.
Levinas, Emmanuel. Autrement quetre ou au-delä de lessence. The Hague: Martinus Nijhoff, 1974.
-------- . De Dieu qui vient ä Vidie. Vrin: Paris, 1982.
Translated by Bettina ßergo as Of God Who Comes to Mind. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1988.
-------- . De lexistence ä lexistant. Paris: J. Vrin, 1978.
-------- . Difficile liberte: essais sur lejudai'sme. 2nd rev. ed.
Paris: A. Michel, 1976. Translated by S. Hand as Difficult Freedom. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990.
-------- . Du sacre au saint. Paris: Editions Minuit, 1977.
-------- . Le Temps et Vautre. Montpellier: Fata Morgana, 1979.
-------- . Totalite et infini: essai sur lextiriorite. 1961. The Hague: Martinus Nijhoff, 1961. Translated by Alphonso Lingis as Totality and Infi nity: An Essay on Exteriority. Pittsburgh, Penn.: Duquesne University Press, 1969.
-------- . “La Trace de VAutre.y Tijdschrift voorFilosofie 3 (1963): 605-623.
Lyotard, Jean-Francois. Le Differend. Paris: Editions de Minuit, 1983.
-------- . Tlte Hyphen: Between Judaism and Christianity Translated by Pascale-Anne Brault and Michael Naas. New York: Humanity Press, 1999.
-------- . LTnhumain: causeries sur le temps. Paris: Galilee, 1988.
MacDonald, Michael J. “Jewgreek and Greekjew: The Concept of Trace in Derrida and Levinas.” Philosophy Today (1991): 215-227.
Magee, Bryan. The Tristan Chord: Wagner and Philosophy New York: Metropolitan Books, 2001.
Manoussakis, John Panteleimon. “From Exodus to Eschaton.” Modern Theology 18, no. 1 (2002): 95-107.
-------- . “The Revelation According to Jacques Derrida.” In Other Testaments: Derrida and Religion, ed. Kevin Hart and Yvonne Sherwood, 309-323. London: Routledge, 2005.
-------- , ed. After God: Richard Kearney and the Religious Turn in Continental Philosophy New York: Fordham University Press, 2006.
Margel, Serge. Le Tombeau du dieu artisan: sur Platon. Paris: Editions du Minuit, 1995.
Marion, Jean-Luc. “La Banalite de la saturation.” In Le Visible et le revele, 143-182. Paris: Cerf, 2005.
-------- . De Surcroit: etudes sur les phenomenes satures. Paris: Presses Universitaires de France, 2001. Translated by Robyn Homer and Vincent Berraud as In Excess: Studies of Saturated Phenomena. New York: Fordham University Press, 2002.
-------- . Dieu sans letre: hors texte. 1982. Paris: Quadrige, 1991. Translated by Thomas A. Carlson as God without Being. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
-------- . “The End of the End of Metaphysics Epoche 2, no. 2 (1994): 1-22.
-------- . “Une Epoque de la metaphysique” In Jean Duns Scot ou la revolution subtile, ed. Christine Goeme, 87-95. Paris: FAC, 1982.
-------- . Etant donne: essai duneph0nom0nologie de la donation. Paris: Presses Universitaires de France, 1997. Translated by Jeffrey L. Kosky as Being Given. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2002.
-------- . Eidole et la distance: cinq itudes. Paris: Grasset, 1977.
Translated by Thomas A. Carlson as The Idol and Distance. New York: Fordham University Press, 2001.
-------- . “Metaphysics and Phenomenology: A Relief for Theology.” Translated by Thomas A. Carlson. Critical Inquiry 20 (summer 1994): 573-591.
-------- . Le РЬёпотёпе erotique. Paris: Grasset, 2003.
-------- . Prolegomena to Charity. Translated by Stephen Lewis. New York: Fordham University Press, 2002.
-------- . Riduction et donation: recherches sur Husserl, Heidegger et la ph0nom0nologie. Paris: Presses Universitaires de France, 1989.
-------- . “The Saturated Phenomenon” Translated by Thomas A. Carlson. Philosophy Today 40 (spring 1996): 103-124.
-------- . Sur la theologie blanche de Descartes: analogie, сгёайоп des venfes eternelles etfondement. Paris: Presses Universitaires de France, 1989; Quadrige, 1991.
-------- . “They Recognized Him; and He Became Invisible to Them” Modern Theology 18, no. 2 (2002): 145-152.
Marrati-Guenoun, Paola. La Genese et la trace: Derrida lecteur de Husserl et Heidegger. Dordrecht: Kluwer, 1998.
Martin, Jay. Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century Thought. Berkeley: University of California Press, 1993.
McDonough, Christopher M. “Carna, Proca and the Strix on the Kalends of June.” Transactions of the American Philological Association 127 (1997): 315-344.
Menn, Stephen. “The Origins of Aristotle’s Concept of Ενέργεια: Ενέργεια and Δύναμις.” Ancient Philosophy 14 (1994): 73-114.
Merleau-Ponty, Maurice. “Eye and Mind.” In The Primacy of Perception. Translated by Carleton Dallery and edited by James M. Edie. Evanston, 111.: Northwestern University Press, 1964.
-------- . LOeil et lesprit. Paris: Gallimard, 1964.
-------- . Phenom0nologie de la perception (1945). Paris: Gallimard, 1976. Translated by Colin Smith as Phenomenology of Perception. London: Routledge, 2002.
-------- . Union de lame et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson. Translated by P. B. Milan as The Incarnate Subject: Malebranche, Biran, and Bergson on the Unity of Body and Soul Edited by P. Burke and A. G. Bjelland. New York: Humanity Books, 2002.
-------- . The Visible and the Invisible. Translated by Alphonso Lingis. Evanston, 111.: Northwestern University Press, 1968.
Mitchell, W. J. T. Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago: University of Chicago Press, 1986.
------- . Picture Theory; Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
Mondzain, Marie-Jose. Image, icone, ёсопотге: les sources byzantines de Vimaginaire contemporain. Paris: Editions du Seuil, 1996. Translated by Rico Franses as Image, Icon, Economy.The Byzantine Origins of the Contemporary Imaginary. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2005.
Mosshammer, Alden A. “Disclosing but Not Disclosed: Gregory of Nyssa as Deconstructionist.” In Studien zu Gregor von Nyssa und der Christlichen Spätantike, ed. Hubertus R. Drobner and Christoph Klock, 99-123. Leiden: Brill, 1990.
Mulhall, S. Inheritance and Originality. Oxford: Clarendon Press, 2001.
Nancy, Jean-Luc. “La Deconstruction du Christianisme.” Les Etudes Philosophiques 4 (1998): 503-519.
------- . “Dies Ilia: (From One End to the Infinite, or of Creation).” Journal of the British Society for Phenomenology 32 (October 2001): 257-276.
Nicholas of Cusa. De Li non Aliud. Translated by Jasper Hopkins. Minneapolis: Arthur J. Banning, 1987.
------- . De Visione Dei. Translated by H. Lawrence Bond. In Nicholas of Cusa, Selected Spiritual Writings, 233-269. New York: Paulist Press, 1997.
------- . Opera Omnia. Edited by Adelaida Dorothea Riemann. Hamburg: Felix Meiner, 2000.
Nietzsche, F. W. Beyond Good and Evil Translated by Walter Kaufmann. New York: Vintage Books, 1966.
-------- . Die fröhliche Wissenschaft. Translated by Walter Kaufmann as The Gay Science. New York; Vintage Books, 1974.
-------- . Götzen-Dammerung oder Wie Man mit dem Hammer philosophiert Translated by Walter Kaufmann as Twilight of the Idols in The Portable Nietzsche. New York: Penguin Books, 1968.
-------- . The Will to Power. Translated by Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage Books, 1968.
-------- . Zur Genealogie der Moral 1887. Sämtliche Werke 5.
Translated by Walter Kaufmann as Genealogy of Morals. New York: Vintage Books, 1967.
Norman, Malcolm. Thought and Knowledge. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1977.
Nussbaum, M. C. The Fragility of Goodness. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
Oliver, Harold H. Relatedness: Essays in Metaphysics and Theology. Macon, Ga.: Mercer University Press, 1984.
-------- . A Relational Metaphysic. The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.
О Murchadha, F. Zeit des Handelns und Möglichkeit der Verwandlung: Kairologie und Chronologie bei Heideger im Jahrzehnt nach Sein und Zeit. Würzbung: Königshausen & Neumann, 1999.
Origen. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte: Origenes Werke. Edited by E. Klostermann. Leipzig, 1941.
-------- . On First Principles. Translated by G. W. Butterworth. Gloucester: Peter Smith, 1973.
Ott, Hugo, and Giorgio Penzo, eds. Heidegger e la teologia: atti del convegno tenuto a Trento l ’8-9 Febbraio 1990. MorceUiana, 1995.
Otto, Rudolf. Das Heilige: über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis rum Rationalen (1917). Munich: С. H. Beck, 1997.
Papagiannopoulos, Ilias. Beyond Absence: Essay on the Human Person on the Traces of Sophocless Oedipus Rex. Athens: Indiktos, 2005.
Perella, Nicholas James. The Kiss Sacred and Profane. Berkeley: University of California Press, 1969.
Perl, Eric. “Signifying Nothing: Being as Sign in Neoplatonism and Derrida.” In Neoplatonism and Contemporary Thought, vol. 2, ed. Harris R. Baine, 125-151. Albany: State University of New York Press, 2002.
Perotti, James L. Heidegger on the Divine: The Thinker; 7he Poet, and God. Athens: University of Ohio Press, 1974.
Phillips, D. Z. Wittgenstein and Religion. New York: St.
Martins Press, 1993.
Plato. Opera: Tetralogiae IX. Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis I-V. Edited by Ioannes Burnet. Oxford: Oxford University Press, 1900.
Pöggeler, Otto. Der Denkweg Martin Heideggers (1963). Pfullingen: Neske, 1983.
Prestige, G. L. God in Patristic Thought. London: S.P.C.K., 1959.
Proclus. Στοιχείωσις Θεολογική (The Elements of Theology). Edited by E. R. Dodds. Oxford: Clarendon Press, 1963.
Putman, Hilary. “Wittgenstein on Religious Belief.” In Renewing Philosophy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992.
Rahner, К. “Le Debut dune doctrine des cinq sens spirituels chez Origene.” Revue d’ Ascetisme et deMysticisme 13 (1932): 113-145.
-------- . Hearers of the Word. Translated by M. Richards. New York: Herder and Herder, 1969.
Reid, Duncan. Energies of the Spirit. Atlanta, Ga.: American Academy of Religion, 1997.
Richardson, William }. Heidegger: Through Phenomenology to Thought. Preface by Martin Heidegger (1962). The Hague: Martinus Nijhoff, 1974.
-------- . “Like Straw: Religion and Psychoanalysis” In Eros and Eris: Liber Amicorum en homage a Adriaan Peperzakt 93-104. The Hague: Kluwer, 1992.
-------- . “Psychoanalysis and the God-Question.” Thought 61 (1986): 68-83.
Ricoeur, Paul. Le Confl it des interpritations: essais d'hermineutique. Paris: Editions du Seuil, 1969. Translated by Don Ihde as The Confl ict of Interpretations: Essays in Hermeneutics. Evanston, 111.: Northwestern University Press, 1974.
-------- . Husserl: An Analysis of His Phenomenology. Translated by Eduard G. Bollard and Lester E. Embree. Evanston, 111.: Northwestern University Press, 1967.
Rilke, Rainer Maria. The Book of Hours: Prayers to a Lowly God. Bilingual edition. Translated by Annemarie S. Kidder. Evanston, 111.: Northwestern University Press, 2001.
Rogozinski, Jacob. “It Makes Us Wrong: Kant and Radical Evil” In Radical Evil, ed. Joan Copjec, 30-45. London: Verso, 1996.
Rorty, Richard. Contingency; Irony; and Solidarity.
Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
-------- . Philosophical Papers. Vol. I: Objectivity} Relativism, and Truth. Vol. II: Essays on Heidegger and Others.
Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
Rosen, Stanley. “Thought and Touch: A Note on Aristotle’s De Anima.” Phronesis 6 (1961): 127-137.
Said, Edward. Musical Elaborations. New York: Columbia University Press, 1991.
Sallis, John. Being and Logos. Bloomington: Indiana University Press, 1996.
-------- . Chorology: On Beginning in Platos Timaeus.
Bloomington: Indiana University Press, 1999.
-------- . Delimitations: Phenomenology and the End of Metaphysics. Bloomington: Indiana University Press, 1986.
-------- . Shades: Of Painting at the Limit. Bloomington: Indiana University Press, 1998.
Sartre, J. P. L’Etre et le want: essai dontologieрЬёпотёпо- logique. Paris: Gallimard, 1977. Translated by Hazel Barnes as Being and Nothingness. New York: Washington Square Press, 1956.
-------- . The Psychology of Imagination. Secaucus: Citadel Press, 1972.
-------- . The Transcendence of the Ego. Translated by Forrest Williams and Robert Kirkpatrick. New York: Hill and Wang, 1960.
Saussure, Ferdinand de. Course in General Linguistics. Translated by Wade Baskin. New York: McGraw-Hill, 1959.
Schopenhauer, A. The World as Will and Representation. 2 vols. New York: Dover, 1966.
Schurmann, Reiner. Broken Hegemonies. Bloomington: Indiana University Press, 2003.
-------- . Heidegger on Being and Acting: From Principles to Anarchy. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
Sheehan, Thomas. “A Paradigm Shift in Heidegger Research.” Unpublished paper presented at the XXXIV Heidegger Conference, Marshall University, Huntington, W. V, May 20, 2000.
Smith, James K, A. “Liberating Religion from Theology: Marion and Heidegger on the Possibility of a Phenomenology of Religion.” International Journal for Philosophy of Religion 46 (1999): 17-33.
-------- . “Respect and Donation: A Critique of Marions Critique of Husserl.” American Catholic Philosophical Quarterly 71, no. 4 (1988): 523-538.
Sorabji, R., M. Schofi eld, and J. Barnes, eds. Articles on Aristotle. Vol. 4. London: Duckworth, 1979.
Stavrakakis, Y. “Lacan and History.” Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society 4, no. 1 (1999): 99-118.
-------- . Lacan and the Political. London: Routledge, 1999.
Stenstad, Gail. “The Last God: A Reading.” Research in Phenomenology 24 (1994): 172-184.
Underwood, A. The Kariye Djami. 3 vols. New York: Bollingen Foundation, 1966.
Ventis, Haralambos. The Reductive Veil: Post-Kantian Non- representationalism versus Apophatic Realism. Katerini: Epektasis Publications, 2005.
Verghese, T. Paul. “Διάστημα and διάστασις.” In Gregor von Nyssa und die Philosophie, ed. Heinrich Dome et al„ 243- 260. Leiden: Brill, 1976.
Vlastos, Gregory. “The Individual as Object of Love in Plato.” In Platonic Studies. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981.
Volf, Miroslav. After Our Likeness: The Church as the Image of the Trinity. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1998.
Vries, Hent de. Philosophy and the Turn to Religion.
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
Wahl, Jean. Sur Tinterpretation de Vhistoire de la metaphysique dapres Heidegger. Paris: Centre de Documentation Universitaire, 1951.
Ware, Kalistos Timothy. “The Transfiguration of the Body.” In Sacrament and Image, ed. A. M. Allchin. London: Fellowship of S. Alban and S. Sergius, 1967.
Westphal, Merold. Overcoming Onto-theology: Toward a Postmodern Christian Faith. New York: Fordham University Press, 2001.
------- . Transcendence and Self-transcendence. Bloomington: Indiana University Press, 2004.
Wickham, L. R. CiSyntagmation of Aetius the Anomean.” Journal of Theological Studies 19 (1968): 537.
Wittgenstein, Ludwig. Culture and Value. Translated by Peter Winch. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
------- . Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology; and Religious Belief. Notes published by Yorick Smythies, Rush Rhees, and James Taylor. Edited by Cyril Barrett. Berkeley: University of California Press, 1966.
------- . Philosophical Investigations. 1953. Translated by G. E. M. Anscombe and R. Rhees. Oxford: Blackwell, 1997.
------- . Tractatus logico-philosophicus. Werkausgabe I. Frankfurt: Suhrkamp, 1989.
------- . Vermischte Bemerkungen. Bilingual edition. Translated by Peter Winch as Culture and Value. Edited by G. H. von Wright. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
------- . Wittgensteins Lectures in Cambridge 1932-1935. Edited by Alice Ambrose. Oxford: Blackwell, 1979.
------- . Zettel. Berkeley: University of California Press, 1967.
Wood, David. Thinking after Heidegger. Cambridge: Polity Press, 2002.
Yannaras, Chrestos. Προτάσεις Κριτικής Οντολογίας (Sentences of Critical Ontology). Athens: Domos, 1985.
------- . Σχεδιάσμα Εισαγωγής στην Φιλοσοφία (Sketch of an Introduction to Philosophy). Athens: Domos, 1988.
------- . To Πρόσωπο και ο Έρως (The Person and Eros). Athens: Domos, 1987.
Yu, N., M. S. KruskaU, J. J. Yunis, et al. “Disputed Maternity Leading to Identifi cation of Tetragametic Chimerism.” New England Journal of Medicine 346 (May 16, 2002): 1545-1552.
Zagzebski, Linda. “The Uniqueness of Persons.” Journal of Religious Ethics 29 (2001): 401-423.
Zahavi, Dan. Husserls Phenomenology. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2003.
Ziogas, Yiannis. The Byzantine Malevitch. Athens: Stachy Publications, 2004.
Zizioulas,). (Metropolitan of Pergamon). Η Κτίση ως Ευχαριστία (Creation as Eucharist). Athens: Akritas, 1992.
------- . Being as Communion. New York: St. Vladimirs Seminar Press, 1985.
------- . “Church and the Eschaton ” In Church and Eschatology; ed. Pantelis Kalaitzidis, 27-45. Athens: Kastaniotis, 2001.
------- . “Communion and Otherness.31 St Vladimir's Theological Quarterly 38, no. 4 (1994): 347-361.
------- . “Eucharist and the Kingdom of God'3 Synaxis 52 (1994): 81-97.
------- . “Human Capacity and Human Incapacity.33 Scottish Journal of Theology 28 (1975): 401-448.
------- . On Being a Person: Towards an Ontology of Personhood.” In Persons, Divine and Human, 33-46. Edinburgh: T&T Clark, 1991.
Zizek, Slavoj. The Fragile Absolute—or, Why Is the Christian Legacy Worth Fighting For? London: Verso, 2000.
------- . The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003.
------- . The Sublime Object of Ideology. London: Verso, 1989.
Лексикон
Для удобства читателей мы решили приводить греческую терминологию, которой изобилует текст Дж. II Мануссакиса, в кириллической транслитерации[474]. Ниже приводится список основных терминов в транслитерации и в оригинале, а также условные переводы, которые совершенно не претендуют на исчерпывающую полноту. Этот лексикон предназначен лишь для напоминания, поскольку в тексте перевод дается (в примечаниях) только при первом употреблении. Слова приведены в порядке русского алфавита, в той форме, в какой они фигурируют в тексте.
Агатон — αγαθόν — благо
Айстаномай — αισθάνομαι — воспринимать посредством чувств
Анабасис — άνάβασις — восхождение
Анамнезис — άνάμνησις — припоминание
Архэ — αρχή — начало
Афанэс — άφανές — неявное
Афаитон — άφαντον — неявленное
Демиургиа — δημιουργία— создавание, творение
Диастема — διάστημα — измерение, расстояние, промежуток
Ипостасис — ύπόστασις — личность
Гимэн — ΰμήν — пленка; девственная плева
Кайрос — καιρός — момент, пора
Катаргесис — κατάργησις — упразднение
Кинэсис — κίνησις — движение
Номос — νόμος — закон
Ноэсис — νόηοις — умозрение
Нус — νους — ум, дух
(та) ноумена — τα νοούμενα — умопостигаемое
(то) он — τό ον — сущее
Патос — πάθος — страдание, испытываемое воздействие, впечатление, страсть
Перихоресис — περιχώρησις — обмен свойствами
Пролэпсис — πρόληψις — предвосхищение, первичное общее понятие (у стоиков)
Проодос — πρόοδος — движение вперед, жизненный путь
Просопон — πρόσωπον — лицо, личность
Прос ти — πρός τι — «к чему» (категория отношения у Аристотеля)
Протос — πρώτος — первый; отсюда неологизм: Протология — «наука о первоначальном»
Синергия — συνεργία — соучастие, содействие
Телос — τέλος — завершение, конец, цель
Теозис — θέωσις — обожение
Теургия — θεουργία — богоделание
Тодэ ти — τόδε τι — «вот это», конкретное (определенное) нечто, единичное
Топос — τόπος — место, пространство
Тропос — τρόπος — способ, характер, образ действия
Усиа— ουσία— бытие, сущность, природа
Усия протэ — ουσία πρώτη — сущность первого порядка (т.е. индивид)
Файнэстай — φαίνεσται — является
Хора — χώρα — пространство, место, вместилище
Хронос — χρόνος — время
Эйдос — είδος — образ, форма, идея
Эйкон — είκών — образ, икона
Эксайфнэс — έξαίφνης — внезапно
Экстасис — εστασις — исступление
Эргон — εργον — дело, труд
Эрос— ερως — любовь, стремление, влечение
Энергиа — ένέργεια — действие
Эпекэйна тэс усиас — έπέκεινα τής ουσίας — за пределами сущего
Эпифания — έπιφάνεια — явление, появление, поверхность
Эпистрофа — επιστροφή — поворот, пребывание, окружение заботой
Эпохэ — έποχή — воздержание от суждения (у скептиков)
Эстесис— αϊσθησις— чувство, восприятие Эсхатон — έσχατον — предел, конечная цель