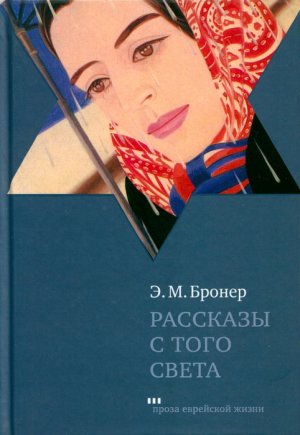
Нам бы все шуточки
Аппетит я потеряла лишь недавно. А заодно тридцать пять кило весу. Теперь я маленький человек. Изменился голос: то хриплю, то сиплю.
Том отбыл, как всегда стройненький, всего полцентнера, и забрал с собой мои килограммы и мой смех. С его уходом из шуток выпарилась вся соль.
Чувство юмора у него было средненькое. Сальные шуточки на грани приличия, детские непристойные стишки да излюбленная летняя прибаутка «лимон над, лимон над — получился лимонад».
— Как вам такой поворот, детки? — говаривал он. — Из носа течет, а от ног несет.
Со временем мне даже стала нравиться шутка про кудлатую собаку, которая виляла хвостом, начиная с дальних волосков. А вот чего до сих пор не выношу, так это шуток, налетающих на вас со скоростью под двести километров в час и проносящихся мимо, если вовремя не «проголосовать». Еще не люблю тупого ржания и злобства.
Но больше всего я ненавижу неожиданные концовки, как в новеллах О. Генри. Как в тот день, когда Том умер.
Том никак не мог заснуть, он подхватил сильную простуду, чуть не бронхит.
— Как ты себя чувствуешь, дорогой? — спросила я.
— Не особо, — сказал он. (Тоже мне жалоба! Он вообще был не из нытиков.)
— Чем тебе помочь, дорогой?
Мне показалось, он что-то шепчет в ответ, а он взял и испустил последний вздох.
Смерть не шутка.
Видали, чтобы кто-нибудь сидел один в пустом кинозале и хохотал, как помешанный? Или чтобы люди шли по улице и на пустом месте надрывали животы от смеха?
Фил Донахью[1] что-то говорит. Оборачиваюсь, чтобы вместе посмеяться. А кресло рядом пустое.
Пытаюсь поддержать беседу с соседкой в магазине:
— Миссис Эпплфелд, как вам Джонни Карсон?[2]
— Не люблю гойских шмендриков, — миссис Эпплфелд всегда дает подробный, развернутый ответ.
В поселке для престарелых, урожайном по линии удобрения почвы своими жильцами, надо держать марку. При встрече с аборигеном следует кивнуть и улыбнуться. Вдовий креп носить не принято, плакаться тоже.
— Так что сказал Джонни Карсон? — спрашивает миссис Эпплфелд. — Что там вообще происходило?
Я не помню. Со мной ничего не происходит.
Подстраховки ради я завязала со смехом.
Выглядывая в окно, надеюсь увидеть дождь.
Том отбыл в дальний путь налегке. Декораторы в покойницкой отобрали для него темно-синий костюм и ненадеванную белую рубашку, еще в подарочной обертке. Я хотела дать ему рубашку с французскими манжетами и к ней серебряные запонки, но решила, что дорого и смысла нет. Его обрядили в чистые «семейники» и симпатичные синие носки без тугой резинки, ее он всегда не любил. От туфель меня отговорили. Они нарушали общую плавность линий. Что касается остального гардероба, то Армия спасения теперь обрывочно заглядывает в наши стариковские края. А ведь могли бы доверху набивать свои контейнеры, благодаря нашим отходам и уходам.
— Возьми что-нибудь, — говорю я нашему сыну, — жилетку, носовой платок.
Он заглядывает в коробку с новехонькими льняными платками.
— Размер неподходящий.
Том ведь размером с ангела.
Если я, что в последние дни редкость, засыпаю, то чувствую легкий укол. Том обратился пером в моей подушке. Как бы не проглотить.
Он всегда был статуэточным, миниатюрным. Частенько напевал мне: «Настанет день, ко мне придет она, / любимая моя, / огромна будет и сильна, / любимая моя». И я действительно перевесила, переборола, пережила его. А он заботился обо мне, и вот теперь его нет и некому оградить меня от новых врагов.
Кто-то стучит в стеклянную дверь, ведущую в сад. Жалуюсь на эти заутренние стуки детям.
— Мальчишки-газетчики, — говорят они.
Все бы хорошо, да только я не выписываю газету. Аннулировала подписку. Кому в ненастье нужны новости, дни рождения, смерти и катастрофы? Скопившихся во мне новостей хватит на целую жизнь.
Меж тем соседка напротив шпионит за мной из-за плотных штор. Хочет вызнать, где я прячу акции и облигации.
Жалуюсь детям.
— Как выглядит твоя соседка? — это они меня проверяют.
Отвечаю:
— Как соседка.
Со своего дивана дочери и сын вперяют взгляд в окно, выходящее на ее дом. И минуты через полторы докладывают:
— Никого не видно.
Едва дети уезжают, соседка поднимает штору. Зыркает глазками-бусинками. В нашем поселке держать животных запрещено, но один пронырливый хорек каким-то образом просочился.
В знак уважения к Томовым привычкам включаю Дэна Рэзера[3].
— Вот кто грудью стоит за свежие новости, — говаривал, бывало, Том, тиская мой бюст пятого размера.
Руки у него росли не оттуда. Когда ему сводило судорогой кисть, приходилось вызволять его из моего лифчика.
— Дэн, — говорила я, гася телевизор, — ты Тому и в подметки не годишься.
Мир сделался чересчур ярким — переизбыток солнца и уличных огней. Закрываю глаза. Вспышки электрических лампочек ощущаются через веки.
Приезжают дети.
— Мам, посмотри на меня.
Загораживаюсь рукой.
— Слишком ярко, — говорю.
— Ты меня узнаешь? — спрашивает кто-то из них.
Детям свойственно переоценивать свою важность.
— Это ты, — говорю я, — надоеда.
— Я записала тебя на прием к доктору, — говорит моя неугомонная старшая.
— Он скажет «шурум-бурум» и протянет лапу за моими деньгами, — отвечаю я.
— Для начала мы славно пообедаем, — встревает меньшая, — а потом заглянем на осмотр.
— Что за доктор? — спрашиваю.
Вдруг вспоминаю о мозоли на мизинце ноги.
— Подолог[4] бы не помешал, — соглашаюсь я.
Даже во тьме, занавешенная рукой, я чувствую, как они обмениваются взглядами.
— Конечно, как хочешь, — говорит сын, умиротворитель.
Не открывая глаз, на ощупь, я нахожу и натягиваю какое-то платье и то ли ровно, то ли криво его застегиваю. Довершаю экипировку солнцезащитными очками в красной оправе.
— Погода хмурая, — говорит моя принципиальная старшая. — Очки ни к чему.
Осторожно пробует их с меня снять. Я вцепляюсь в дужки.
— Ну, если они тебе нужны, — сдается она.
За обедом я заказываю салат, но почти сразу бросаю вилку. Что картошка, что помидоры с огурцами, что груши — вкуса у них нет.
— Нам пора, — говорит сын, мой средний ребенок, вечный мастер хронометража, блюститель порядка, арбитр.
Входим.
Дочери, каждая со своей стороны, держат меня под руки. Я упираюсь, тяну их назад.
— Спасите! Спасите! — взываю к случайному прохожему. — Они ведут меня на убой.
— Мама! — говорит старшая.
— Врешь, никакой это не подолог, — говорю. — Психиатр это. Хотите доказать, что я спятила, и захапать мои акции и облигации.
— Это не так! — говорит меньшая.
— Тоже мне заступница, — говорю ей. — А то я не знаю, что вы обе вечно грызетесь да лаетесь.
Мне с порога становится ясно, что она шарлатанка. Во-первых, голова у нее даже не доходит спинки ее креслица. Во-вторых, по лицу видно, что она овощ тушеный. А тушеные овощи, как показывают недавние события, пользительны лишь при запорах.
— Вы знаете, какой сегодня день недели? — спрашивает она, берет карандаш и готовится записать мой блистательный ответ.
— Конечно.
Она ждет.
— Так какой же?
— Не ваше дело.
— Вы знаете, кто сейчас президент Соединенных Штатов?
— Недостойный человек, — отвечаю я.
С тех пор как умер Рузвельт, так оно и есть.
Они сажают меня в машину, я снимаю очки и как следует смотрю на них.
— Лицемеры чертовы, — говорю я.
Теперь мне глаз не сомкнуть. Враги не дремлют. Как знать, куда они закатают меня — теперь, когда мой страж повергнут?
Но даже когда я настороже, защитить себя я не в силах. Кишечник не работает. Я превратилась в старый мусорный бачок. Живот твердый, его распирают газы. Приезжая, дети первым делом распахивают окна и двери и машут руками.
— Умирать легко, — сказала я однажды Тому. — Я боюсь только болезней.
— А я боюсь, что ты умрешь раньше меня, — отвечает мне муж. — Пообещай, что меня переживешь.
— Как я могу обещать? — спрашиваю. — У меня, сам знаешь, анемия, стенокардия, больные почки. Ты здоров как бык. Обзаведешься новой женой — и поминай как звали.
Он берет меня за левую руку, ту самую, на которую он мне еще в девичестве надел обручальное кольцо. Кольцо глубоко впилось в палец, костяшки распухли.
— Пообещай, — говорит он.
— Обещаю, — клянусь я.
Шестьдесят лет назад я пообещала его любить. Год назад пообещала пережить его.
Проклинаю себя за то, что сдержала это последнее обещание.
— Трус! — рыдаю я. — Эгоист! Еще и оставил мне грязные подштанники стирать.
Кому я жалуюсь? Паре кресел перед телевизором? Стулу во главе обеденного стола?
— Завидую твоим глазам и ушам, — случалось, говорил Том.
— Тебя можно понять, — отвечала я. — Зрение единица, а слух — булавка упадет, услышу.
Том с детства носил очки, отчего приобрел ученый вид, еще даже не умея читать. А слух терял с годами. Стал за семейными обедами отвечать невпопад, и дети забили тревогу, что слух уходит. Чтобы его вернуть, он заказал продвинутый слуховой аппарат на оба уха. Но, совсем немного его не дождавшись, скончался. И теперь это устройство, позволяющее не упускать ничего из застольных бесед, лежит у Тома в ящике. Мне уже который раз шлют за него счет, ну и пусть. Рука не поднимается его оплатить.
Том — лицо, как восковая фруктина, уши забиты серой — не слышал, когда я подпевала какой-нибудь симфонии.
Том не слышал, зато слышали соседи. Миссис Эпплбаум, которой я неосмотрительно доверила телефон своей старшей, настучала той о доносящихся из моего дома децибелах.
Не успеваю я опомниться, как оказываюсь за столом напротив той докторши.
— Вы меня помните? — спрашивает она. — Кто я?
— Я вас однажды видела, — говорю я.
Она кивает.
— В фильме «Волшебник из страны Оз», — уточняю я. — Вы играли Жевуна.
— Мама! — подает голос меньшая.
— Вы работали психологом, — поправляюсь я, — у Волшебника из страны Оз.
— Психиатр! Я психиатр! — втолковывает мне она. И спрашивает уже потише: — Вы настроены враждебно по отношению ко мне?
— Плевать я на вас хотела, — говорю я.
Она выписывает рецепт и счет, который, вот спасибо, оттяпает знатный кусок от моей пенсии по случаю потери кормильца. Назначение она вручает не мне, а старшенькой.
— Она хочет накачать меня наркотиками, — говорю я, — а сама наложить лапу на мои акции и облигации.
Утром и вечером — драже «Эм энд Эмс»: красное для размягчения стула, голубое от сердца, желтое от нервов.
Не проходит и пары дней, чтобы не заехал кто-то из детей, а то и все разом. Если у них расчет поесть на дармовщинку, то фига им с маслом. В особенности если эта шайка шпионов стучит на меня доктору Жевуну.
Едва домашние за порог, шторы через дорогу начинают колыхаться.
Говорю сыну:
— Стало хуже. Она там не одна. С ней племянник, и он держит меня под прицелом.
Ему не верится.
— Могу доказать, — говорю я. — У него то ли рогатка, то ли пневматическое ружье, и он упражняется в стрельбе. Пульки стучат по окну моей спальни.
— Это могла быть ветка, мама, — сын пытается найти объяснение.
— Могла, но это была не ветка, — отвечаю я. — Кому ты больше веришь, мне или чужому человеку?
— Ты видела этого племянника? — спрашивает мой сын, арбитр.
— Не глупи! Думаешь, стала бы она его официально представлять, когда он замышляет на меня налет?
— Ты уверена, что с ней живет племянник? — спрашивает старшая, правдоискательница.
— Ты еще спроси у меня, какой сегодня день недели и кто президент США, — говорю я.
Приезжает меньшая.
— Кровать растягивается, — показываю ей. — Все увеличивается. Перекатываюсь в ней, словно на корабле во время шторма.
— Ты сильно исхудала, мама, — говорит она. — Давай-ка сходим и от души наедимся.
Под ее напором съедаю десерт — пирог с мороженым, запиваю имбирным элем. Возвращаюсь домой, закрываю дверь — и снова все ровно так, как было час тому назад.
К чему вкусная еда, если не с кем ее разделить?
К чему гнаться за новостями, если всё уже в прошлом?
Изредка я прибегаю к своему давнему теледружку Филу Донахью. Люди в зале визжат от смеха. Камера выхватывает уродов с разинутыми ртами, потешающихся над моим состоянием.
— Нечему тут смеяться, — говорю я им.
— Ни зги не видно, — говорит меньшая и зажигает все лампочки до единой, точно я ей Джон Д. Рокфеллер.
Она раздвигает шторы, так что старая проныра может глазеть беспрепятственно.
— Ты принимаешь таблетки, — спрашивает меньшая, — что прописала психиатр?
— Эти пилюльки не рагу из кастрюльки, — шучу я.
— Чем они тебе не нравятся, мама? — интересуется старшая.
— Да всем. Потому я их больше не пью.
ПРО-МАХ.
— Ты уже неделю ходишь в ночнушке, — говорит сын, ему бы в полиции служить.
— Мне так удобнее.
— Как ты в таком виде в прачечную ходишь? — продолжает докапываться он.
— Я ничего не пачкаю, — объясняю я.
Вижу, что даю неверные ответы. Они надеются провалить меня на экзамене и отправить туда, куда до жути боятся попасть все старики.
— Пристрелите меня, — говорит миссис Эпплбаум, — если дети задумают сплавить меня в лечебницу для престарелых.
Я их перехитрю. Тщательно одеваюсь и застегиваюсь. Приглашаю их на ужин. Затеваю стирку и складываю чистое стопкой, чтобы можно было пересчитать простыни, полотенца и наволочки. Не зашториваю окна даже на ночь. О соседке при детях — ни словечка.
— Фил сегодня интересно рассказывал, — смеясь, сообщаю я.
Они с улыбкой переглядываются через стол.
— Что он говорил, мама? — спрашивает большенькая.
— Он говорил, — мысли мои путаются. Хватаюсь за первую подвернувшуюся. — Он сказал: «В ботинке на опушке / Жила-была старушка / С оравою детей, / Что ж делать с ними ей?»
И добавляю с усмешкой:
— Прямо как у меня.
Сын опускает вилку.
— Это сказал Донахью?
— Уж и подурачиться нельзя, — говорю. — Шучу я.
Беру свою малышку за руку.
— «Хикори, дикори, док. / Мышь на будильник скок!»
Щекочу ее, как в детстве, по руке. Она не щекочется.
— Люди, вы что, шуток не понимаете? — спрашиваю. — Ладно, даю последний шанс. Прилетает ангел к Деве Марии. С вестью. У Марии родится ребенок, мальчик, и он будет сыном Божьим. «Вот тебе и на, — говорит Мария. — А я хотела девочку».
— Хорошо-хорошо, мама, — старшая похлопывает меня по руке.
На прощанье я им вежливо говорю:
— Спасибо. Буду рада видеть вас снова.
Вычитала не помню где.
Ложусь я прямо в чем была, чтобы не возиться со всеми этими одеваниями-раздеваниями.
Соседкин племянник обстреливает окно шариками из жеваной бумаги. Матрас подо мной колышется. Голову мотает с подушки на подушку. Из одной подушки прямо мне в нос выплывает перо. Я чихаю.
— Будь здорова! — говорит Том, останавливая раскачивающуюся кровать; при виде его сердце мое затихает.
— Том?
— Ясен пень, он, — балагурит, как всегда.
— Так это ты следил за мной с той стороны улицы?
— Не Том, а любопытная Варвара, — все те же бородатые шутки.
— Том, — говорю я. — Что ж ты так долго.
— Я посылал тебе в окно сигналы.
Он окинул меня взглядом.
— Не слишком много от тебя осталось. Отбираешь хлеб у огородных пугал.
— Том, — говорю я, — хочешь анекдот? Пошла я к подологу, а оказалось, это психиатр. Она мне сказала: «С вами что-то не так. У вас из носа течет, а от ног несет».
— Ну их, детка, пусть смеются, — говорит Том.
И правда, ну их.
Мать сходит с ума
В воспоминаниях моей матери обо мне упоминается трижды: рождение, замужество, дети. Младшему брату повезло больше: у него еще игра на трубе в районном школьном оркестре и медицинский институт.
Нас оттеснили события поважнее: два года учебы в частной школе, где мать ходила в зеленом шерстяном платье и крахмальном передничке и учила французский; погромы, вспышка сыпного тифа, за одну неделю унесшая ее старшего брата и отца; зажигательная речь Троцкого; иммиграция; мучительное ожидание визы в Польше; еще более мучительные годы работы в прачечной на Среднем Западе; курсы английского в вечерней школе; предложение руки и сердца.
— Чего бы тебе хотелось больше всего на свете? — спросил ее возлюбленный.
— Прочесть все книги в библиотеке, — ответила она.
— Хорошо, — сказал он.
За исключением краткого периода, она замужем не работала, зато в каждом большом и маленьком городе, где работал он, они жили в пешей доступности от библиотеки.
— А что, если я прочту здесь все книги? — спрашивала она мужа.
— Мы переедем, — отвечал мой отец.
В последний раз они переехали на Западное побережье, в поселок для престарелых; библиотека там располагалась в банке, поскольку люди охотнее вкладывали деньги, чем брали книги.
— У нас была не семья, а Большой книжный клуб, — говорила мать. — Мы читали. Обменивались впечатлениями.
Теперь она перелистывает страницы молча.
Мать пережила на два года отца и на десять лет — свои воспоминания, и все эти годы мы были искренне привязаны друг к другу.
В воспоминаниях она называла каждого по имени, фиксировала, если они менялись, американизировались, если девичья фамилия сменялась фамилией мужа, а ласковое домашнее прозвище — взрослым обращением.
Меня она назвала Лейлой, что на иврите и арабском значит «ночь».
«Темное для меня было время, — написала она в воспоминаниях, — ночь сокрыла мне дорогу к знаниям».
Однако в те последние десять лет ее жизни, когда я прилетала с Восточного на Западное побережье, я получала не просто три часа выигрыша во времени, а нечто куда большее.
Она встречала аэропортовский лимузин у ворот своего патио.
— Лейла, — говорила она, когда я выскакивала из машины, — вот так радость.
И всё, и больше ни словечка. Давно пора бы к этому привыкнуть, да отчего-то не получается.
Мать, сгорбившись, сидит на больничной койке.
— Лейла, — говорит она. — Я разваливаюсь на запчасти.
— На части, — на автомате поправляю я.
— Благодарствую, — говорит мать. — Спасибо, что совершенствуешь мой английский.
Неожиданно взгляд ее теряет фокусировку. Глаза смотрят враскос.
— Лейла, они на крыше!
Она вцепляется в простыню.
— Кто, мама?
— Казаки!
— Казаков расформировали, — говорю.
Скорее всего, так оно и есть.
Мать приходит в себя.
— Благодарствую, — говорит она. — Люблю историческую точность.
Мать живет в далеком, семидесятилетней давности, времени.
— У меня воруют вещи, — заявляет она, когда я назавтра прихожу к ней в больницу.
— Кто, мама?
— Мужики, — говорит она.
— В этом госпитале нет ни одного мужика, — объясняю, — только музыка.
Мать не спешит меня благодарить.
— Дочь препирается с матерью, — ворчит она. — Куда катится мир?
— Она перенесла удар, — объясняет мне мой братец-медик, стараясь, чтобы не услышала мать.
— Кто ее ударил? — спрашиваю.
— Собственный организм. У нее эмболия почек, и это сказалось на мозге.
Возвращаемся в палату.
— Поезжай в банк, — говорит мать брату.
— В какой банк? — спрашивает он.
— В тот, где у меня счета, — говорит она. — У меня крадут проценты.
— Я съезжу, — обещает брат. — Я обо всем позабочусь.
— Ступай немедленно, чертяка, — говорит мать. — Мне что, весь день ждать?
— Я поеду, — возражает брат, — в свой выходной.
Мать грозит ему пальцем.
— Ой-ой, подумаешь. Мистер Важная Шишка. Доктор Спаситель Человечества найдет время для своей матери.
Братец тоже грозит ей пальцем.
— Уж мне-то можно не пенять, — говорит он. — Я и так ради тебя забросил пациентов.
— Меня облапошивают, — говорит мать.
— Не переживай, — говорит сын.
— Фашистка меня обчищает, арабка меня обчищает, а я не переживай?
— Какая фашистка? Какая арабка? — спрашиваю брата.
— Кассирши в банке, — объясняет он. — Блондинка — фашистка. Брюнетка — арабка.
— Все верно, — соглашается мать. — И загляни в мою банковскую ячейку. А то они спят и видят, как бы прибрать к рукам мои ценности, а меня ликвидировать.
— Какие ценности? — спрашиваю брата.
— Документы о гражданстве, — поясняет он, — фотография на паспорт.
— Все это для вас, — говорит мать, — вас двоих.
И плачет. Единственный раз в жизни я видела, чтобы мать плакала, и это было, когда умер отец. Плачет она вымученно, неестественно. Слезы непривычное для нее дело.
— А вы думаете, почему я ни платьишка себе не покупала, ни помощницу по хозяйству не брала, не ездила отдыхать? — вопрошает она.
— Да покупала ты платья, — говорит брат. — И помощница у тебя была. И ездить отдыхать ты могла бы.
— Ты не понимаешь, — говорит мать. — Когда я трачу доллар, я словно отбираю кусок у своих детей и внуков.
— Дети твои уже взрослые, — толкую ей. — Внуки тоже выросли и сами зарабатывают себе на пропитание.
Мать фыркает. Ее муж не зарабатывал себе на пропитание, однако перед ним всегда ставилась тарелка, а на тарелке была еда.
Однажды, два года тому назад, отец, как обычно, позавтракал яйцами-пашот на цельнозерновых хлебцах, пообедал сырным сэндвичем, поужинал отварной курицей без кожицы, сдобренной чесноком и паприкой, — и умер.
Вскоре после этого матери стали мерещиться незваные гости.
— У меня по крыше скачут казаки, — звонила она мне на Восточное побережье.
— Который час? — спрашивает Сэмюэл.
— Три ночи, — отвечаю. — Мама, — говорю я, — крыша не выдержала бы конного всадника.
Звонит опять, уже на рассвете. Сэмюэл не спит. Я пока сплю.
— Они подглядывают за мной в окно, — сообщает мать.
Я вешаю трубку и набираю номер брата. В Калифорнии три ночи.
— Который час? — спрашивает он. — Я только что лег. Была срочная операция. — Он наконец-то приходит в себя. — К ней в окна невозможно заглянуть, — раз мать не убедишь, братец убеждает меня, — у нее двойные шторы и жалюзи. Затемнение, как в войну.
Когда она звонит в следующий раз (в полдень), я говорю:
— Мама, тебе просто показалось.
— Горе мне: глухо мое дитя к призыву старшего.
Впечатляюще.
— Хорошо сказано, — говорю.
— Благодарствую, — вежливо отвечает она. — Люблю завернуть что-нибудь эдакое.
У ее болезни есть название.
— Уремическое отравление, — говорит приглашенный братом уролог.
Отравленные почки, в свою очередь, отравляют мозг.
— Можно попробовать диализ, — предлагает уролог.
— Да что он знает, балабол, — отзывается о нем моя мать.
— Он знает, что тебе станет лучше, — возражает брат.
Мать аккуратно упаковывает сумку на ночь: зубная щетка, расческа, помада, сменное белье, ночная рубашка, тапочки.
Ее подсоединяют к диализному аппарату.
— Лежим тихо, — говорит проводящая процедуру медсестра, — и кровь у нас промоется, яд уйдет.
— У вас тоже грязная кровь? — интересуется мать.
Звоню ей из Нью-Йорка.
— Тебе лучше, мама?
— Это ты у балабола спроси, — говорит она. — А для меня минута словно час, час словно вечность.
— Красиво сказано, — делаю ей комплимент.
— Люблю образные выражения, — отвечает.
Брат звонит мне в Нью-Йорк из округа Ориндж. Дойдя до разговора с матерью, он только что не кричит:
— Она сказала: «Я здесь больше не останусь, санитары меня обворовывают». — «Что у тебя красть, мама?» — «Очки. У меня не те очки. Это тот черный санитар, он взял мои очки». — «Зачем ему твои очки, мама? У него свои есть». — «А еще он слямзил мою книгу», — сказала. — «Какую? Это его книга, по фармацевтике». — «Все до одной книги принадлежат мне» — так заявила мамуля.
Когда я в очередной раз звоню ей по межгороду, она жалуется:
— Не могу читать. А мне это нож в сердце.
— По-хорошему, стоило бы удалить ей катаракту, но я боюсь, — перезванивает с объяснениями братец.
Враг повсюду, куда ни глянь.
— Мне не дают ходить в туалет, — звонит она из палаты. — Не выпускают ничего наружу.
Брат со вздохом отзванивает, сообщает, что прописал ей мягчительное, слабительное, клизмы.
— Она только и говорит со мной, что о дерьме, — сетует он.
Мать выписывают домой.
Она звонит в любое время дня и ночи. Никогда не спит.
— Она сошла с ума, — жалуюсь Сэмюэлу.
— В супермаркетах так и норовят облапошить, — говорит мать. — Печатают ценники один поверх другого. Не народ, а сплошное ворье.
— Нет, это не сумасшествие, — говорит Сэмюэл.
Чтобы не набивать мошну ворью, она ест все меньше и меньше.
Следующий наш разговор начинается с проклятия.
— Разрази тебя холера, — чудовищное ругательство. — Это лечение меня доконает. Вздорожало втрое. Обирают нас, слабых, дряхлых и больных.
— Тонко подмечено, — говорю я.
Польщенная, она вешает трубку.
Нет, и это еще не сумасшествие.
Звонит братец со своего побережья. Радостным голосом сообщает:
— Она одолжила у соседки швейную машинку. Хочет перешить платья. И правильно, ведь она ничего не ест и совсем исхудала.
Радость его длится недолго. На следующий вечер он звонит снова.
— Она не шьет. Она сидит и кромсает свои платья, — сообщает он.
Лечу к матери и брату.
На мониторе, не нужная ни экипажу, ни пассажирам, крутится нарезка кадров. Там автопогони, перестрелки полицейских, а в салоне подняты шторки, над креслами горит свет и по проходу снуют пассажиры.
Мать снова в больнице. Дожидаясь ее пробуждения, читаю ее «Лос-Анджелес таймс».
И потом транслирую новости.
— Барбара Буш, мама, — говорю я, — тоже сейчас в больнице, как ты.
— Держу пари, ей тоже осточертело отлеживать бока, — говорит мать.
— Может, пройдемся? — предлагаю ей руку.
Она кивает и опирается на меня. Мы медленно бредем коридорами. Она заглядывает буквально в каждую дверь. За одной из них охапки цветов.
И вдруг она как ринется в эту палату.
— Сколько цветов! — восклицает она. — Вы, наверное, Барбара Буш.
От успокоительных и прочих таблеток мать отказывается из-за их расцветки.
— Темно-синие мне не нравятся, — говорит она. — Они мне не идут.
— Мама, — возражает брат, — это лекарство от сердца.
Ей вводят успокоительное внутривенно, и она наконец задремывает. Мы с братом сидим по бокам и держим ее за руки. Всматриваемся в ее лицо в поисках знака, истолкования. Лишь кольцо наших рук и не дает ей уйти.
Ситуация критическая. Уролог объявляет брату, что мать больше не могут держать в больнице.
— Она не болеет, — говорит он. — Она умирает. И это может затянуться.
— Итак, балабол умывает руки, — говорит мать.
И я снова вылетаю к ним.
Медсестры и сиделки, пока брат подыскивал, куда определить мать, привязывали ее к кровати. Она бушевала и ярилась. Укусила одну сиделку, другую расцарапала.
— И поделом, — говорит мать. — Белый свет мне застили.
Она поворачивается к брату.
— У тебя еще есть бассейн? — спрашивает она.
— Куда ж он денется? — отвечает брат.
— Тогда принеси мне мой купальник, — просит.
— Хочешь поплавать, мама? Давно ты не была в бассейне.
— Да, — говорит мать. — Отвези меня к себе. Дай мне купальник. Я покончу с собой.
Совещаемся с братом в коридоре.
— Ясно, что ко мне ее нельзя, — говорит он.
Останавливаемся на частном пансионате с медицинским уходом.
— Это что, салон красоты? — спрашивает мать.
Мы прибыли на место, брат за рулем. Здание окрашено в ярко-розовый цвет.
— Расцветочка что надо, — говорит мать. — Аккурат под мой халат и тапки.
— Тебе здесь нравится, мама? — спрашиваю я.
Она осматривается.
— Хочу сделать заявление. Я еду домой.
— Но ведь там казаки, — говорю я.
— И мужики, — говорит брат.
— Не смешите меня, — говорит она.
К ее приезду подготовлена милая комнатка, на туалетном столике — цветы.
— Во что мне это встанет? — вопрошает мать. — Комната, уход да еще, небось, за букет сдерут вдвое.
— Государство, — заливает ей братец. — За тебя платит государство.
— Три тысячи в месяц, — докладывает он мне. — Все ее трудовые сбережения.
— Еще одно заявление, — говорит мать. — Решено: я хочу на свободу[5]. Свободу мне, свободу!
— Это уже было сказано до тебя, мама, — напоминаю ей.
— Что ж, — говорит, — не стану повторюшничать.
— Будьте как дома, — приглашает сиделка, на вид очень славная.
— Не могу, — отвечает мать, — потому как не мой это дом. Мой дом терпеливо дожидается моего возвращения.
— Мама! — говорит брат.
Она грозит ему пальцем. Он грозит ей в ответ.
— Я грожу сыну, сын грозит мне, и мы так и будем стоять здесь, скрестив наши пальцы, словно мечи, — говорит мать.
— Умеешь ты со словами управляться, — не выдерживаю я.
— Навострилась, — она в ответ.
Навещаю ее в пансионате на следующий день.
— Звонила Роза, — рассказывает она. — Помнишь Розу, мою соседку?
Бодрая старушенция, в свои восемьдесят еще водит машину.
— Как у нее дела?
— Если не считать катаракты, тугоухости и скрюченных артритом рук, у Розы все прекрасно.
Я мнусь в нерешительности.
— Мама, — начинаю я.
— Говори же, Лейла. Не тяни резину.
Я собираюсь ей сказать, что мы внесли взнос за часть дома в Италии. Объяснить, что мы приобрели билеты еще до того, как она разболелась.
— Я купила билеты на самолет в Италию.
Молчание.
— Ворюги, — говорит мать. — Никто их, монополистов, не контролирует, вот они и обнаглели. Билеты, небось, назад не берут.
Снова в здравом уме.
— Попала в самую точку, — говорю я.
— Клише, — бросает она.
— Ну, извини.
— Лично я, — говорит мать, — живу так: день прошел, и ладно. Сколько листков осталось в нашем календаре, откуда нам знать?
Братец до этого сказал в принципе то же самое, но не так красиво.
— Так что поезжайте с Сэмюэлом и вашими друзьями, — говорит мать. — Лейла днем и Лейла ночью, Лейла, мой цветочек.
— Дивно, — замечаю я.
— Еще бы, — говорит она. — Я ж написала воспоминания.
Мы беремся за руки; помедлив, она отстраняется.
— Одна просьба, — говорит она. — Когда меня не станет, переплети воспоминания и отправь их в банк, в библиотеку.
Так в истории матери переплетутся наши истории — то, что происходит в доме брата, в моем доме, в домах наших детей.
«Блаженный приют»
Есть в округе Ориндж дорога, которая сплошь заботится об автомобилях, животных и людях: «Кузовная мастерская Голден-вэлли», «Ветеринарная клиника Голден-вэлли», следом — клиника для людей, спортивный центр «Лос-Кабальерос», где приводят в порядок тело, и медицинский пансионат «Блаженный приют», куда тело помещают, когда в порядок его уже привести нельзя. У «Блаженного приюта» персиковые стены, оранжевая черепица и зеленые ставни. Персонал сплошь мексиканцы, старший персонал — выходцы из Европы. Пациенты преимущественно местные, за исключением одного-двух богатых азиатов. Пациенты различаются, главным образом, способом передвижения: трость, ходунки, кресло-каталка.
За обедом высокий бледный мужчина в шапочке пытается донести до рта куриную тефтельку. Рука дрожит, тефтелька срывается с вилки. Превозмогая тремор, мужчина делает новую попытку, и тут его под локоть толкает каталка. Тефтелька изловлена, наколота, поднесена почти что к самому рту, но неожиданно подкатившие к столу соседки лишают вилку содержимого. Расстроенный, едок промахивается и в третий раз.
Никто не спешит ему на помощь. Кому из обслуги есть до него дело, когда властная женщина в инвалидном кресле звякает ложкой о стакан?
— Клюквенного соку! — надсаживается она.
На ней полосатый, как у фараона, халат.
— Работать не умеют, учи их и учи, — говорит она сотрапезникам. — За те полгода, что я здесь, персонал сменился полностью.
Впрочем, из пациентов тоже мало кто задерживается здесь на полгода.
Женщина за соседним столом открывает рот. У себя на востоке она вела хронику своей методистской церкви, теперь стенографирует местные события.
— Мы отмечаем полуторавековую годовщину, — говорит она.
Она восстанавливается после операции: ехала на машине, и в нее врезались сзади.
Я сижу рядом с матерью в качестве приглашенного к обеду гостя. Мама победоносно ухмыляется: ей выдали не только клюквенный сок, но и два стакана.
— Второй стакан — это мне! — вопит Фараонша.
— Моей дочери, — отвечает мать и, подтолкнув сок ко мне, шепчет: — Пей, живо.
— Можно приказать себе дистанцироваться от боли, — говорит дама-хроникер. — Возвыситься над ней. Ни за что на свете не стану пить обезболивающее. Лучше похожу взад-вперед по комнате.
— Вот еще, — заявляет Фараонша. — Боль противоестественна, и ее необходимо купировать.
Обсуждение занятное. Но мать ни с кем не общается и в подобных дискуссиях не участвует. В столовой она всегда просит, чтобы ее посадили отдельно.
— Зачем тогда вообще сюда спускаться? — спрашивает сиделка, которая ее одевает, причесывает, подкрашивает.
— Это вы меня заставляете, — огрызается мать.
— Вот вам пример, — вещает хроникерша. — У меня бывают жуткие головные боли, аж скулы сводит. Муки адские! А я не поддамся. Я их пересилю и вернусь в церковь, к своим обязанностям.
— Какая прелесть, — через стол говорит мать Фараонше и даме-хроникеру. А насчет творога и тунца под майонезом фыркает: — Какая гадость.
Ее отвозят обратно в комнату.
— Ой! — говорит она.
В «Блаженном приюте» ойкать не принято.
— Ой, вейз мир[6], — говорит мама, растирая вздувшийся живот.
Ее живот под одеялом — как холм. И дышит она с трудом. В комнате прохладно: работает баллон с кислородом. Резиновая трубочка, обвивая ее голову, подает в ноздри кислород.
— Мамочка! — кричит мать. — Мамочка, мама. На помощь!
Но ее мама далеко.
— Я с тобой, — говорю я.
— Что это ты на меня навалилась? — ворчит она.
Моего брата она рожала, когда ей было уже за сорок, и не издала ни стона. Этим фактом биографии она гордится.
— Я старше остальных, — заявила она в предродовой палате, — я должна показывать пример.
А здесь они все ровесницы.
— Ай, уй, — вскрикивает мать.
В окна врывается музыка. Играют на маримбе, музыка течет вдоль по улице из спортивного центра «Лос-Кабальерос». Исполняют «Долорес»: «Ау уй, Долорес, ау уй / ай уй / ла-ла ла…»
И там, и здесь, в стенах «Блаженного приюта», дуэтом голосят одно и то же.
— Не могу я больше! — говорит мать.
— Боли?
— Песня.
На мать теперь надевают фиксатор. Его вид напомнил мне болеро — такие носят музыканты, играющие на маримбе. Но у матери эта штуковина то привязана к креслу, чтобы она не сползала, то, как сейчас, крепится к перекладинам кровати.
Я закрываю окно, и мама затягивает собственный мотив:
К ней подъезжает высокая представительная женщина в кресле, смотрит сочувственно.
— Скажи Элеоноре Рузвельт, пусть катится отсюда, — требует мать.
Мать не одна. С ней живет еще японка, тихая и безропотная женщина.
Японку ежедневно навещает дочь. Каждый вечер заходит сын. Симпатичный внук забегает в обеденное время, всякий раз с подарком для бабули: то зеркальце, то цветок, то гребень. Они обрабатывают ее пролежни присыпкой; мягко переворачивают; балуют японскими деликатесами.
— Пообщайся с ней, мама, — призываю я.
— Она не говорит по-нашему, — отвечает мать.
Однако соседка по комнате успела набраться кое-каких английских фразочек.
— Не журись, — говорит она мне, когда время посещения истекает.
Временами она хрипит и задыхается.
— Рак, — говорит ее сын, — живого места нет.
Он смачивает салфетку и обтирает ее лицо.
— Она такая славная, — говорю я матери.
— Пропасть, — говорит мать. — Неужели ж ты не видишь, что между ей и мною — пропасть?
Сегодня мать лежит с закрытыми глазами. За весь вечер ни разу на меня не взглянула. А тут приоткрывает щелочки и зовет:
— Милая.
— Да, мамочка.
— Помоги мне.
О, если б только кто-то мог помочь — мы ли, родные ли той японской матроны; дочь Элеоноры Рузвельт, учительница, да хоть отпрыски той нетерпеливой женщины в полосатом халате.
Отыскиваю на этаже медсестру.
— У меня дел выше крыши, — осаживает она меня. — Пусть ждет своей очереди.
Возвращаюсь в комнату. Живот у матери все болит. Она все трет его и трет. Проходит час. Еще один. Пытаюсь остановить ее руку; она сбрасывает мою ладонь.
Дочь японской пациентки наблюдает за нами.
— Она вас вырастила, — говорит она, — а теперь вы имеете честь за ней ухаживать.
Уходя, соседкины родственники включают определенный телеканал. Чтобы их девяносточетырехлетняя мамуля погрузилась в атмосферу 1950-1960-х годов. На этом канале непрерывно идут комедийные сериалы. Крутят «Семью Патридж»[7], там белокурая мисс Сьюзан Дей уже добрых лет тридцать взрослеет в наших гостиных у нас на глазах.
Мать, широко раскрыв рот, стонет. Коновалу, который повыдирал ее зубы, плевать на то, как выглядят его престарелые пациентки. Еще недавно у мамы был полный рот здоровых, вольготно расположенных зубов.
— Зубная симфония, — как с восхищением приговаривал ее прежний стоматолог.
В телевизоре страдает от любви «Клевая девчонка»[8]. Ее играет юная Салли Филдс.
Сиделка берет у матери анализ крови на сахар.
— Повышенный, — говорит она. — Буду звонить доктору.
— А боли в животе?
— Не всё сразу, — отвечает сиделка.
На экране Фред Гуинн[9] в роли одного из Мюнстеров.
Прощаюсь на ночь и ухожу, не в силах никому помочь — ни матери, растирающей живот, ни ее задыхающейся соседке, ни клевой девчонке и ее зазнобе, ни Мюнстерам с их перипетиями.
На следующий день спешу по торговой улице мимо аптеки, «Гамбургеров от Аниты», «Кукурузных лепешек сеньора Рубина», клиник для машин, людей и домашних животных прямиком к красочному зданию «Блаженного приюта».
Кровать матери пуста.
Умерла?
— Она в холле, — говорит та самая медсестра, что дежурила вчера вечером.
— Ей лучше? — спрашиваю.
— А то, — отвечает. — Расфуфырилась с ног до головы.
В холле мамы нет.
— На том конце коридора еще один холл, — говорит сиделка.
Мамы там нет. Либо ее умыкнули, либо она сама смотала удочки.
Со мной здоровается какая-то женщина. На матери малиновый халат в зеленых «огурцах», и ее просто не узнать. Глаза, вчера весь вечер закрытые, сегодня распахнуты и кажутся огромными за стеклами бифокальных очков.
— Привет! — радуется мне она. — Пошли со мной обедать.
— По второму разу нельзя, — говорю я.
— Чепуха, — говорит мать. — Мы их заставим тебя покормить.
Вчерашняя сцена повторяется один в один. Я неловко въезжаю коляской в стол, где парализованный джентльмен пытается донести до рта ложку с супом.
— Прогоните эту водительницу! — кричит он.
Женщина в полосатом заявляет:
— Приглашать гостей к обеду чаще одного раза в неделю нельзя.
— Завидует, — шепчет мать.
Миссис Рузвельт кивает ей, осведомляется:
— Как вы сегодня себя чувствуете?
Мать молчит.
— Ответь же, мама, — говорю.
— Один раз ответишь, потом замучают вопросами, — возражает мать.
В ее обеденной карточке указано что-то не то. Сэндвич с ветчиной. Мать пожимает плечами.
— Скажешь, это не антисемитизм? — говорит она.
— Вы ошиблись, — говорю я сиделке. — Она ест кошерное.
— Докторская колбаса — это кошерное?
Я качаю головой.
— А салат с креветками?
Мать возводит глаза к небу.
— Тогда сэндвич с сыром. Уж он-то точно безвредный, — говорит ответственная сиделка.
— Если забыть про холестерин, — встревает миссис Рузвельт.
И расплавленный сыр, и холестерин мы делим поровну. Мать выпивает клюквенный сок и просит добавки, поглядывая краем глаза, принесли ли законный стакан женщине в полосатом.
— Пойдем в патио, — предлагаю я.
В патио можно попасть непосредственно из столовой, однако на деле все оказывается непросто. Медсестра заперла от нас дверь. Дверь нужно держать под замком и охраной, иначе все обитатели «Блаженного приюта» укатят, уковыляют, расползутся во все стороны.
В «Лос-Кабальерос» все играет тот оркестр. Аж земля пульсирует под ногами. Мамины волосы колышутся на ветру, как пушинки одуванчика. Взметаются вверх, опадают. «Долорес» грохочет через ограду.
— Сегодня утром ходила в кружок, — говорит мать.
— Правда? Какой?
— Пения.
Ее слабый голос еще способен выводить мелодию.
«Ай! Ай! Долорес!»
Настоящее то захлестнет, то отступит.
Она то впадает в дрему, то просыпается.
— Скорее, — говорит она. — Пора.
— Пора что, мама?
— Везти меня обратно, — шепчет она.
Я качу ее обратно под кондиционер.
Прошу двух сиделок помочь переложить маму на кровать. И обнаруживаю, что теперь на ней подгузник и что она ходит под себя.
Ей его меняют, а я жду рядом в холле; появляется медсестра.
— Она никогда уже не выздоровеет, — говорит медсестра. — Вы же это понимаете?
Как такое можно знать наверняка? Дама попутала свои должностные обязанности. Решила, что она Ангел Смерти.
— Так дальше и будет — то лучше, то хуже, — говорит медсестра. — Хотите, опишу вам, что происходит?
— Не надо, — отвечаю я, но она не унимается.
— У вашей матери отказывают:
глаза,
легкие,
почки,
мочевой пузырь,
кишечник,
сердце.
Мама в комнате снова начинает петь и причитать.
— Нужно выпускать газы, — говорит медсестра, адресуя это малоприятное задание двум мексиканкам.
— Мы ставим ей клизму в задний проход, — говорят они.
Свою крохотную зарплату они отрабатывают с лихвой.
Слышу, как мать начинает задыхаться.
— Будьте хорошей девочкой, — говорит ей медсестра. — Старайтесь сдерживаться. Вы же не хотите мешать окружающим?
— Какое мне, к чертям, до них дело? — интересуется мать.
В комнату для посетителей входит сиделка, несет в пластиковом пакете грязные простыни и ночнушку.
— Процедура завершена, — говорит она.
Иду к маме. Соседка по комнате спит. По телевизору идет «Я люблю Люси»[10], все самые обаятельные персонажи уже умерли.
Нет смысла будить мать, чтобы пожелать ей спокойной ночи.
На следующее утро мать бодра и весела.
— Всем перед сном дают по рюмке спиртного, — объясняет сиделка. — Они вечно куда-нибудь ее поставят и забудут, но по утру некоторые свою находят.
— Что с возу упало, — смеется ее коллега, — то пропало.
— Как мило, что ты пришла, — говорит мама и, когда я опускаюсь на колени возле ее каталки, треплет меня по щеке.
— Мне пора возвращаться домой, мама, — говорю я. — Сегодня самолет.
Она моргает и силится понять. Она позабыла, что я живу далеко, не в одном с ней городе, не на этой полуторакилометровой улице, между клиниками для зверей и для человеков.
Мама говорит:
— Разверни меня к окну.
Теперь она ко мне спиной. Мне видны завязки ее фиксатора.
Она смотрит исподлобья в небо. Там реет уголок американского флага, его водрузили во дворе «Блаженного приюта».
— Не журись, — говорит мать, не поворачивая головы.
Соседка нажимает кнопку на пульте, и комната погружается в пятидесятые — годы, когда снимали семейные комедии, по пляжу разгуливали загорелые мальчики, а обитательницы этой комнаты были полны жизни.
Песня
Звонит брат:
— Она впадает в кому.
Он проведал мать в пансионате.
— Хороший там за ней уход, — говорит он и рассказывает, как здоровенный усатый мексиканец из обслуживающего персонала умасливал мать поесть.
— Мамуля, — говорил этот детина, — ну хоть ложечку супчика или чуток желе, а?
— Но у нее нет сил даже пить через соломинку, — говорит брат.
Ее тело позабыло прежние навыки и прежнюю жизнь. Глаза не фокусируются; ноги не держат; сердце отказывает. Последние две недели дело не обходится без подгузников.
— Хотят вставить ей в ноздрю трубку, чтобы шла прямо в желудок, — говорит брат. — А я им заявил: «Черта с два!»
Моя мать идет ко дну. А мы бездействуем.
— У нее сводило руки. Она все мяла их, теребила, — продолжает брат. — И тогда я сел рядом и держал их с час, пока она не сложила их и не заснула.
Я летала к матери две недели назад.
Всего две недели назад она еще могла петь.
Сижу у нее. Она мерзнет, стучит зубами.
— Накройте меня! — кричит. — Еще одеял!
За девяносто восемь долларов в день, три тысячи в месяц, могли бы ей дать дополнительные одеяла.
— Разведи огонь, — просит она.
— Здесь нет камина, мама.
— Забыла, — говорит мать.
Огонь приводит ей на ум походную песню, ту, которую она некогда певала в лагере «Мехия».
— Это индийское название? — уточняю.
— Нет, это идиш, — отвечает мать. — Лагерь «Приятное местечко».
— Что это значит? — встреваю я.
— АбвА, — говорю. — Я про рифмовку.
— На идише срифмовано лучше, — отвечает мама. — Знаешь, а ведь у меня был неплохой голос.
Сегодня она еле дышит. Жидкость в легких.
Приходит медсестра, мерить сахар в крови. Вдобавок к уже имеющимся болячкам у матери развился диабет, и ей дважды в день колют инсулин.
— Сколько нам имеет смысл все это тянуть? — позднее, при встрече, спрашивает брат.
Тут мать поворачивается ко мне.
— Походные деньки, — сонным голосом говорит она.
— О чем ты поешь, мамочка?
— Я не то чтобы пою, скорее, вспоминаю, — отвечает мать, — как лихо мы отплясывали там вокруг костра.
Меня вдруг охватывает желание расспросить обо всем, что она помнит.
— Записывай, — говорит мамуля.
Я достаю блокнот — он у меня всегда с собой.
— Какой-нибудь рецепт, — говорит мама. — Какой у меня самый лучший?
— Фаршированная капуста, — подсказываю.
— Олипсес, — отзывается мама. — Посади-ка меня. Лежа пластом много не навспоминаешь. Мысли утекают через маковку.
Сажаю ее, удобно подгибаю ноги. Она объясняет, как фаршировать капусту.
— Отварить капусту до полуготовности.
Дать остыть.
Взять мясо из расчета фунт на кочан.
Соль и перец по вкусу.
Потом обжарить большую луковицу,
с банкой консервированных грибов,
добавить изюм.
Она замолкает и переводит дух.
Сиделка сует ей в нос зонд.
— Мамасита, — говорит она, — кислородику на десерт не желаете?
И мама продолжает с трубкой в ноздре:
— Про соль-перец я сказала? Про лук? Изюм? Тогда все перемешать.
Начинку выложить в кочан,
добавить большую банку консервированных помидоров,
лимон и сахар по вкусу,
налить в кастрюлю воды, чтоб покрывала начинку,
варить, пока мясо не будет легко протыкаться вилкой.
Она откидывается на подушку.
— Про лимон я сказала? А про сахар?
Киваю.
— Так вот, это олипсес.
Зачитываю ей записанное. Она слушает, кивает.
— А теперь мясной борщ, — говорю я.
— Сначала салат с тунцом, — возражает она, — тот, что вы с братом обожали в детстве.
— Я знаю, как готовить салат с тунцом, — сообщаю я.
— Может, сама и расскажешь, а я послушаю? — ворчит мать.
— Тунец, — начинает она, —
сельдерей,
сваренное вкрутую яйцо,
майонез,
кисло-сладкие огурчики.
— Вся хитрость, — говорит мать, — как раз в этих огурчиках.
— Мам, майонез-то никто не ест, — говорю. — Холестерин.
— Тогда лопай всухомятку, — огрызается мать. — Дело хозяйское.
Я задумываюсь.
— А может, заменить йогуртом? — предлагаю.
— Йогуртом напополам с майонезом — и порядок, — соглашается мать.
— А теперь мясной борщ, — говорю я.
— Я устала, — возражает мамуля. — Неохота думать про еду, когда сама лежишь под капельницей.
Она облокачивается на локоть и задремывает. Спит, а время посещения истекает.
— Мамуля, расскажи мне еще, — зову я.
— Ша, ша, — отвечает мама.
И поет, не открывая глаз:
Это значит:
Она откидывается на подушку.
— Пусть у меня уже все отказало, но я, однако, не штиме, не глухонемая.
Мы молчим. Она погружается в сон. Рот ее открывается. Вдруг она хмурится и, вздрогнув, просыпается.
— Что, мамочка?
— Забыла дать тебе рецепт моего русского борща с говядиной. Мясные косточки. Поди к мяснику и купи мясные косточки.
— К мяснику уже никто не ходит, мама, — говорю я.
— Тогда не будет у тебя мясного борща, — отрезает она.
— Хорошо. Рассказывай. Я схожу.
Она глубоко вздыхает.
— Косточки с небольшой мякотью,
картофелина,
целая сырая луковица,
целые морковки,
свежая свекла.
Помыть свеклу, натереть на терке.
— С ботвой? — уточняю.
— Да, можно. Но я делала без, — говорит мамуля. — Хочешь мясной борщ, как у меня, ботву не клади.
Соль, перец, сахар,
банка консервированных помидоров,
все в кастрюлю и варить.
— Всё? — спрашиваю я.
— Если есть лимская фасоль, тоже можно положить.
— А дальше? — спрашиваю.
— Дальше будет борщ.
Ей хочется улизнуть от меня в сновидения.
— А другие рецепты? Песни? Ты пела мне колыбельные?
— Нет, — сказала мать. — В России слишком грустные колыбельные. Вечно причитания какой-нибудь вдовы о том, что ее малютке суждено всю жизнь скитаться по свету. Кому это надо?
— То есть ты нам не пела, не подтыкала одеяльце, не целовала на ночь? — спрашиваю ее полушутя-полусерьезно.
— У меня было три руки, — хмыкает мать, — поэтому я все успевала. В этих песнях ребенку сначала сулят горькую судьбинушку, а потом желают спокойной ночи. Потому еврейские дети такие серьезные. — Она что-то напевает. — Вот, например, от такого ребенок еще в люльке сделается революционером:
Мать улыбается и протягивает руку. Кладет ее мне на плечо:
— Средство надежное, — улыбается мать. — Сама посуди, как мог советский ребенок воспринимать такое:
— И чем кончается? — спрашиваю.
— Так вот о чем эта песня? — спрашиваю.
— Приблизительно, — говорит мамуля. — Это не точный рецепт.
— Но, мама, — не соглашаюсь я, — богатые тоже болеют. Здесь вместе с тобой лежат обеспеченные люди.
— Глупышка, — говорит мать. — Много ли бедняков доживают до моих лет? Старость — привилегия тех, кто может себе это позволить.
Она откидывается на спину. Руки ее подрагивают. Лицо опять хмурое.
— А любовные песни, ма? — спрашиваю.
Никак не угомонюсь. Мне так не хочется, чтобы она уходила.
— А тебе зачем? — спрашивает мама. — Встретила кого? Как бы то ни было, — продолжает она, — любовные песни у русских евреев тоже безотрадные. Влюбленных разлучают, ее выдают замуж за богатого в особняк с хрустальными люстрами, а его, бедолагу, вышвыривают за порог, где он зябнет и дрожит, как листок в зимнюю стужу.
Она умолкает и задремывает. Дрожит, как листок в зимнюю стужу. Одна рука подергивается. Другая ее придерживает.
— Шш, шш, мамале, — тихонько напеваю я.
Я баюкаю ее, и наконец лицо ее разглаживается, руки складываются в уютный замок.
— Ни на какие операции не соглашаемся, — снова уточняет брат по телефону. — Хорошо?
Я долго молчу.
— Хорошо.
— Мы же договаривались, — напоминает он.
— Да, — тихо говорю я.
— Я сообщил в пансионат телефон морга, — говорит брат.
Я молчу. Он все знает лучше меня. И заботиться умеет лучше.
— Да не злодей я, — говорит он. — Мы же не хотим ее баламутить, верно? И заставлять терпеть боль?
Значит, мы расцепляем кольцо наших рук? Перестаем отчаянно бороться с тем Ангелом?
Значит, говорим о ней в прошедшем времени, чтобы успеть свыкнуться?
Значит, если жидкость заполнит легкие, мы не станем повышать дозировку сердечных препаратов?
А сахар подскочит, бросим колоть уколы?
Этот наш междугородний звонок почти сплошь состоит из пауз.
— Читал ей сегодня вечером, — говорит брат. — Не знаю, слушала ли она, но я прочел ей все «Еврейские новости», каждую колонку.
Если нырнуть с лодки под воду, будет ли слышен ли шум мотора?
— Мне показалось, что она никак не может успокоиться, — говорит брат, — и тогда я ей спел.
— Да? — я поражена. — А что ты спел?
— Одну песню на идише, — говорит брат.
— Но ты не знаешь идиша, — говорю.
— Я брал уроки, — отвечает брат.
— Зачем?
— Что не дано, приходится брать самому, — говорит он.
— И как?
— Как песня? — смеется он.
В отличие от меня, он умеет выводить мелодию. Я могу вывести из лесу. Могу вывести из себя, но мелодию вывести не сумею.
Я ни разу не слышала, как он поет. Даже сейчас, по телефону, песня звучит очень трогательно.
— Ты понимаешь слова? — спрашиваю я.
— О, это народная легенда о старом рыбаке, который ходил в море и мечтал о богатом улове и о любви. Но так и не обрел ни того ни другого.
Права была мать насчет еврейских колыбельных.
— Кого-то обходит стороной, такое бывает, — говорю я.
— Бывает, — отвечает брат.
Пусть и мне кто-нибудь споет.
Рассказы с того света
I. Мать в зеркале
Заглядываю в зеркало и поверх своего изображения вижу лицо матери. Хотела причесаться, а тут — она, приглаживает свои густые, волнистые седые волосы.
Насчет волос мы с ней ссорились.
— Зачем ты корнаешь и прилизываешь волосы, мама? — говорила я. — Ты же не мужчина.
— А ты зачем вечно устраиваешь колтун на голове? — отвечала она. — Ты же не подросток.
Наши руки в зеркале синхронно скользят вверх-вниз.
— Мы как две обезьянки, — говорит мама.
Она укладывает боковые пряди полукольцами на щеках.
— Привет из тридцатых годов, — комментирую я.
Вообще-то, когда я видела ее в последний раз, у нее была очень даже симпатичная прическа.
— Что это за платье? — спросила я брата. — Не припоминаю такого.
— То, что я привез, ему не понравилось, — ответил брат, — и он предложил взять из запаса.
— Из запаса? — переспрашиваю.
— Видимо, кто-то купил сразу два, чтобы было из чего выбрать, — говорит брат.
— Ей к лицу, — отмечаю я.
Она лежит с закрытыми глазами, на носу покоятся очки.
Эти очки упокоятся с ней навсегда.
На ней чужое платье, волосы убраны со лба и пышно взбиты.
— Тебе идет, мамуля, — говорю я. — Так и носи.
А сейчас в зеркале она двумя руками разделяет волосы на косой пробор, укладывая их волной.
— В прошлый раз было лучше, — капризничаю я.
На расческе обнаруживается волос.
— Выпадают, — жалуюсь матери.
— А у меня волосы никогда не сыпались, — отвечает она. — И зубы тоже.
— Мне идет такая длина? — спрашиваю. — Я недавно подстриглась в «Барни».
— В «Барни»! — ужасается она. — Что, деньги девать некуда?
Я осекаюсь. Никогда, во веки веков, ни ныне, ни впредь, я не осмелюсь признаться матери, сколько стоит стрижка в «Барни».
— Лично я ходила в ближайшую парикмахерскую, — говорит она.
Мы в ее спальне. Я разбираю стенной шкаф и туалетный столик.
— Где мой увлажняющий крем? — спрашивает она.
— Я взяла его себе, мама, — говорю я.
— Что еще ты взяла?
— Бижутерию, — отвечаю.
— Сама подарила ее ко Дню матери, — говорит она, — и сама же быстренько…
— Еще я взяла носовые платки и шарфики, — признаюсь я, оглядывая отобранную для себя кучку вещей.
На глаза ей попадается черный пластиковый пакет для мусора.
— Ты выбросила мои чулки! — восклицает она. — Прекрасные чулки без единой зацепки. И трусы с лифчиками.
— Ношеное белье никому не нужно, — объясняю я.
— Многие, уверяю тебя, были бы рады чулкам без зацепок, постиранному и аккуратно сложенному белью, — возражает она.
А вдруг она права? Тогда как насчет пояса с подвязками? Носят ли вообще сейчас подвязки?
Она в зеркале окидывает взглядом туалетный столик.
— Ты оставила мой «Лепесток розы», — возмущается она.
— Не люблю этот запах, — отвечаю.
— Все любят, а ты нет.
— Мне нравятся более тонкие ароматы.
Внезапно она хватает флакон, нажимает на распылитель и опрыскивает меня.
Я вскидываю руки.
— Не надо! Не надо!
— Теперь, — заявляет мать, — ты пахнешь в точности как я.
Она берет свою ярко-красную помаду. Подкрашивает верхнюю губу и смыкает рот. Капелькой краски с губ подрумянивается.
Я беру свою помаду и провожу по губам.
— Не твой это оттенок, — говорит мать. — Ну чисто покойница.
— Мам, — зову я, — а так?
Повязываю вокруг шеи ее очаровательный шарфик. Вставляю в мочки ее серьги. На руку надеваю ее браслет. Достаю ее новые, нераспечатанные чулки и натягиваю на ноги.
— Возьми мою пудру, — говорит она.
— Я не пудрюсь, — напоминаю ей.
— Мне тебя толком не разглядеть, — говорит мать. — Я без очков.
— Мне пора, мама, — говорю я и сгребаю то, что отобрала.
— Погоди, — говорит она. — Уже холодает. Возьми то теплое пальто.
— Чье оно? — спрашиваю я, разглядывая убранное в чехол старомодное темное шерстяное пальто с воротником из рыжего меха.
— Твоей тетки, — отвечает мать. — Не люблю, когда добро пропадает. Когда ее не стало, я сразу зашла к ней и забрала из шкафа это пальто. «Буду носить его вместо тебя, сестренка», — сказала я. Проверь-ка карманы.
В карманах обнаруживаются черные кожаные перчатки.
— Не мерзни, — говорит мать.
Зеркало пустеет.
II. Мама приходит в гости
Я привыкла беседовать с матерью на расстоянии, звонить с другого побережья — сначала в поселок для престарелых, потом в пансионат с медицинским уходом. А теперь каждый вечер пятницы и субботнее утро мы проводим бок о бок.
Расчищаю от пальто, молитвенников и брошюр бархатную малиновую подушечку рядом с собой.
— Тебе хватит места, мама? — спрашиваю.
— Более чем, — отвечает.
По ходу службы она вставляет краткие ремарки.
— Поют превосходно. Хотя проповедь, конечно, затянута.
На место рядом со мной покушаются посторонние.
— Здесь занято, — неизменно говорю я.
Она отвыкла разговаривать в такой близи. Стала скупее на слова, нетерпимее.
Едва начинают готовиться к кадишу, сразу меня подталкивает.
— Хочешь оказаться самой последней? — ворчит. — Что люди скажут!
Порой вопрос приходится повторять.
— Что мне делать с ребенком? — спрашиваю. — Совсем распустился. Подскажи, мамуля.
— А я теперь при чем? — отвечает. — Сама справляйся.
— Это беспредел! — жалобно говорю я.
— А я и есть за пределами, — отвечает.
Осенью ко мне в гости намыливается ее обожаемый племянник Дэниел, любезный ей и отвратительный мне.
— Дэниел приезжает, — говорю.
— Передавай ему от меня привет, — откликается мать.
— Я его убью, — сообщаю.
— Не убивай Дэниела! — упрашивает она.
Когда Дэниел наконец уезжает восвояси, мы с мамой встречаемся в обычном месте в обычное время.
— Дэниел жив-здоров, — отчитываюсь. — Я была паинькой.
— Хорошая моя девочка, — откликается она.
Больше всего ей нравится какой-нибудь многолюдный шабат и чтобы сначала Рош ходеш, новомесячье, за ним наречение, потом вызов женихов к чтению Торы и в довершение чья-нибудь бар или бат мицва.
— Сегодня я всласть насмотрелась, — говорит тогда мама.
Скоро зима. Наш траур подходит к концу. На мамино место придут другие прихожане.
Но раз уж я ее хорошая девочка и не стала убивать братца Дэниела, будут ли ее — такие тихие — благословения касаться моих волос, направлять мою судьбу?
III. Подземные толчки
— Нет в них основательности, — заявила их бабушка. — Покажи мне хоть одного, кто крепко стоит на ногах.
Мое дело — защищать своих отпрысков.
— Девочка очень даже стоит, — говорю. — Общается с друзьями, любит брата, моделирует одежду.
Бабушка хмурит брови и задумывается.
Я продолжаю:
— А мальчик, он просто любит ребятишек. Занимается с ними на спортплощадке, плюс хорошо относится к женщинам, и вообще парень он популярный.
— Популярный без меры, — ворчит бабушка. — На каждой руке по подружке.
Извиняться — одна из материнских обязанностей. Мы извиняемся за то, что ребенок не поблагодарил за подарок ко дню рождения. Еще раньше — извиняемся перед другими мамашами за то, что наш малыш в песочнице стукнул кого-то совочком или позаимствовал железное ведерко с уточкой в платье в горошек. В начальных классах мы извиняемся, если ребенок вертится, потом — если он отстает по физкультуре.
— Расскажи мне о них еще что-нибудь хорошее, — просит их бабушка.
— Они любят друг друга, — говорю я. — Любят мир вокруг.
— Маловато, — говорит она. — Человек должен зарабатывать на хлеб. Должен дать начало новой жизни. Определиться, наконец, с подружкой.
Основательность нам всегда была до лампочки.
За столом они до колик смешили друг друга, каламбуря и разыгрывая сценки из своей жизни.
Мне известны их тайные пороки: шутили только «для своих», чурались потенциальных друзей, обладали таким словарным запасом, на фоне которого остальные казались немыми.
Еще один порок — обожали всех пугать. К Хэллоуину наделывали странных светящихся фигур и под звук специально записанной фонограммы — леденящего душу хохота и звона цепей — расставляли их на газоне. Ребят-попрошаек как ветром сдувало.
Взрывы фейерверков, ракеты, химические брызги всех цветов радуги — все, конечно, опасное. Соседская детвора в наш двор валом валила, хотя родители и пытались удержать их подальше от таких взрывоопасных детей.
Как бы ни рядились мои на Хэллоуин, я всегда узнавала их под масками.
И в магнитофонной записи про Замок Смерти безошибочно различала голоса. Я отгадывала всегда: и детский лепет, и подростковый ломающийся голосок. Я знала, как кто из них завывает, как стонет и скрежещет зубами в свободное от учебы время.
— Вечно так продолжаться не может, — заявила их бабушка.
Однако по всему выходило, что может.
— Младший уже не малыш, — продолжает бабушка. — Старшая и того старше. А они застряли: ни назад, ни вперед.
— Все у них хорошо, все в порядке, — говорю я.
— Поезжай к ним, — настаивает она, — и наведи порядок. Скажи: «Дальше так продолжаться не может». Скажи: «Вы должны крепко стоять на ногах».
Я дословно за ней записываю и еду.
Но они каламбурят, перебрасываются шуточками, ораторствуют на темы афоризмов, позаимствованных из календаря. Из них так и сыплется: злокозненные, наветы, хула, неотчуждаемое, рукоплескания, инсинуации. Слова из бабушкиного старушечьего лексикона тут не уместны.
Внезапно, в разгар наставлений, она умирает, так и не узнав, чем все закончилось.
— Они не виноваты, — говорю я у гроба. — Не стану извиняться.
Сейчас вечер. Мои дети сидят в своей скромной съемной квартирке, поглощают продукты с оптового рынка. У них есть крыша над головой и овощи на столе, они набираются ума-разума, стоя у полок книжных магазинов, — и все же они в опасности.
У них под ногами разверзлась земля.
Связи нет. Повреждены линии электропередач. Утром звонит телефон. Мои.
— Вы живы? Здоровы?
— Мы, — мурлычут, — в отпуске.
— Где? Где вы?
— В безопасности. Расслабься, мам, — говорит сын.
— Я места себе не находила, — сообщаю.
— А мы тем более! — отвечают ее детки.
И описывают сюрреалистичную картину: погасший город, вымершие улицы. До луны и звезд — рукой подать.
— Сплошные рытвины, — говорит ее сын-остряк.
— Невозможно крепко стоять на ногах, — подхватывает шутку сестрица.
— Мы гонялись друг за другом, — говорит парень, — по всей округе.
— В итоге оказались там, где и полагалось, — говорит его сестра.
Я молчу.
— Вас только двое? — спрашиваю.
— Никаких подружек, — заявляет ее сынок. — Чтобы балансировать, нужны свободные руки.
— Хоть кто-нибудь из вас работает? — интересуюсь.
— Мама! — возмущаются они.
У них есть работа. Как сейчас принято среди горожан: на полставки, удаленная, проектная, ночная.
— Мы не хотели тебя волновать, — говорят они хором.
На заднем фоне раздается вой пожарных сирен. Аж телефонный провод дрожит.
— Что за утробный звук? — спрашивает она.
— Это у меня в животе урчит, — ответствует шутник.
— Уже все хорошо, — говорит сестрица, — афтершоки совсем слабенькие. Мы какое-то время поживем вместе. На работу сейчас все равно никто не ходит.
Никто не ходит на работу?
— Прислать вам денег? — спрашиваю я.
— Вернем сразу, как только нам заплатят, — говорит девица.
— Глазом моргнуть не успеешь, — заявляет ее сынок, — или пальцем пошевелить.
— Или дух перевести, — подхватывает ее веселая дочурка.
Вешаю трубку и, если можно так выразиться, вызываю их бабушку.
— Ну, что скажешь — крепко они стоят на ногах или как? — спрашиваю я у нее.
Родственники
Мама часто вспоминала о той деревне в России, где она жила.
— Деревню ограждали стены, и вся жизнь протекала в этих стенах, — рассказывала она. — В то время выбирать было почти не из кого. Дядя брал в жены племянницу. Тетка выходила за племянника, сестра обручалась с двоюродным братом. Так вот мы с папой друг друга и полюбили.
Влюбленные мама с папой — до чего любопытно!
— Как ты поняла, что это любовь? — спрашивали мы.
— Он меня поцеловал, — отвечала мать.
— У нее были такие мягкие губы, — говорил отец, — откуда ж мне было знать, что она решит остаться со мной на веки вечные?
С тех пор мои родители счастливо жили вместе и умерли с разницей в полтора года. Сначала ушел отец, а потом память о том поцелуе увела вслед за ним и маму.
Однажды этой зимой я пришла к ней в синагогу с плохой новостью.
— Мама, — сказала я, скользнув на нашу скамью, — брат Бенни умер.
— Он ведь не старый, — сказала она. — Совсем еще не старый. А почему?
Я не в силах сказать правду.
— Надорвался на работе, — отвечаю.
— Такой достойный человек, — говорит мама. Она сникает. Покашливает тихонько. — Славный парень, и не только потому, что наш родственник.
Я молчу о том, что у него развилась аневризма в легочной артерии, горлом шла кровь и вся его квартира была в потеках кровавых плевков. Кровь была на стенах и жалюзи, даже на бумагах на письменном столе.
— Он плохо жил, — говорит мама. — Доктор, а жил, как студент.
Как студент-переросток, в однокомнатной квартирке, где стены десятки лет не знали покраски, а лак на полу давно облез. Книжные полки забиты видеокассетами и книгами. На видеокассетах — телетрансляции «Метрополитен-опера». Книги в дешевых мягких обложках куплены у букинистов. На верхних полках — учебники по медицине в твердых переплетах и большой альбом по искусству с цветными репродукциями, подарок коллег.
Поди еще найди там для похорон хоть один незаношенный костюм.
— Почему он так жил? — недоумевает мама.
Служба вот-вот начнется. Один из прихожан, призывая всех к тишине, затягивает нигун, напев без слов. Раввин укоризненно смотрит на еще не угомонившихся болтунов.
Бенни занимается на скрипке. Я из-под палки занимаюсь на пианино. Бенни упражняется, чтобы достичь вершин мастерства. Я постоянно отвлекаюсь то на метроном, то на часы.
Когда положенные полчаса истекают, лечу к его дому неподалеку: айда гулять!
Он высовывает голову, говорит:
— Я занимаюсь. Не мешай.
— А я твоя двоюродная сестра, — говорю я. — Мне можно.
Учу Бенни танцевать.
— Двигайся на месте, Бенни.
— Как можно одновременно двигаться и оставаться на месте?
— Бедрами двигай, бедрами.
— Покажи как.
Объясняю:
— Кладу руки сюда, тебе на бедра. А ты качай бедрами вверх-вниз, двигайся, шевели тазом.
Мы танцуем самбу.
— Двигайся, Бенни, медленно, не спеши.
— Так? — спрашивает Бен.
У него орехового цвета глаза и прямые светло-каштановые волосы.
— Раскованнее. Двигайся всем телом.
— Я чувствую тебя, сестренка, — говорит Бенни. — Всем телом.
Учу Бенни целоваться. Сама недавно узнала, как это делается. Мы тычемся носами, промахиваемся мимо рта и, чтобы подобраться поближе друг к другу, наклоняем головы набок.
Когда наши губы встречаются, на память приходит рассказ о родительском поцелуе. Оказывается, у мальчиков такие мягкие губы. Оказывается, что даже когда мы потом отстранимся, нас все равно будет связывать паутинка слюны.
— А кому отойдет его собственность? — спрашивает мама.
Она всегда отличалась практичностью. Жизнь превыше всего. Смерть, когда она приближалась, удостаивалась должного внимания. Но едва все заканчивалось, мама кидалась пристраивать оставшееся добро.
— Думаешь, у брата Бенни есть собственность? — отвечаю.
— Он всю жизнь работал, притом врачом. Как это у него нет собственности? — вопрошает мама.
И косится на меня.
— Может статься, все достанется тебе. Он всегда был к тебе неравнодушен. Не то что к твоим братьям.
— На столе вашего двоюродного брата мы нашли только ваше письмо, — еще раньше сказал мне следователь.
Он позвонил мне из участка неподалеку от комплекса «Социальное жилье».
— И в доме — только вашу фотографию. Отсюда напрашивается вывод, что других родственников, кроме вас, у него нет.
— Другие родственники у него есть, — отвечаю. — У меня есть братья.
Следователь сказал:
— Нет никаких свидетельств его общения с кем-либо еще. Попытайтесь выяснить имя его юриста. До тех пор вы назначаетесь исполнителем завещания в отношении его имущества.
Это у Бенни-то «имущество» — у него, который родился в съемной квартирке, а на момент смерти проживал в доме, построенном по программе социального жилья?
Я слишком подавлена, чтобы рассмеяться.
Он всю жизнь только и хотел, что быть доктором.
Играем в доктора у нас в цокольном этаже.
— Где тетя с дядей и мальчики?
— Ушли, — говорю.
— Хорошо, тогда этот темный цокольный этаж — больница.
— Кто болен? — спрашиваю.
— Ты.
— А что со мной такое?
— Для начала мне надо тебя осмотреть.
— Мне щекотно, — брыкаюсь я. — Дай-ка я тебя тоже пощекочу.
— Нельзя, — говорит Бенни. — Я доктор, а ты медсестра. Медсестре нельзя щекотать доктора, ни в коем случае.
— Почему?
— Это не по правилам, — говорит Бенни. — Мне нужно провести медицинский эксперимент. Расстегни блузку.
Он лижет мне кончики сосков.
— Фу! — отпихиваю его. — Вся грудь мокрая.
— Настанет день, сестренка, — говорит Бенни, — и ты сама попросишь меня об этом.
— Настанет день, братик, — обещаю ему, — и ты умрешь, потому что, едва ты дотронешься до моей блузки, я тебя убью.
— Расскажи, от чего умер Бенни, — говорит мамуля неделю спустя. — Я всю неделю была под впечатлением и забыла спросить.
— Там темная история, — говорю.
— Ну, это ж Бенни, — отвечает мамуля.
— Сначала решили, что это инфаркт. В общем-то, в свидетельстве о смерти так и написано: инфаркт.
— Значит, инфаркт и есть, — отрезает мама. — В медицинском документе не может быть ошибки.
— Это не Бенни, — говорю я следователю по телефону. — Бенни был помешан на здоровье.
— Тело было найдено по месту проживания вашего брата, — говорит следователь. — Вы должны опознать тело.
— На нем были очки?
— В момент смерти не было.
— У него карие глаза?
— Как теперь узнаешь, мисс?
— А ямочка на подбородке есть?
— Не припоминаю, — отвечает следователь.
— Вы обратились не по адресу, — говорю я и кладу трубку.
Следователь перезванивает.
— Покойник проживает в том же здании, что и ваш двоюродный брат. В той же самой квартире. Он приблизительно того же возраста. Логично предположить, что…
— Это не мой брат. Взломщик, грабитель или, может, сосед по квартире.
Следователь вздыхает.
— Вы посмотрите фотографии?
На глянцевых отпечатках — не пойми кто с закрытыми глазами, без очков, без выраженной ямочки на подбородке, с темными пятнами на лице.
— Вы обратились не по адресу, — повторяю я.
Но в итоге я его опознаю.
— Бенни никогда бы не допустил инфаркта, — говорит мама. — Он и питался-то только орехами да зеленью.
— И крупами, — подсказываю.
— А еще вечно бегал по лестнице, хотя в их доме прекрасный лифт. На каком этаже он жил? Пятнадцатом? Ни разу не была у него. Вверх-вниз, вниз-вверх. Теннис. Плавание. Это точно был Бенни?
— Потом следователь сказал…
— Следователь? — громогласно изумляется мамуля.
В синагоге повисает тишина. Молящиеся фраппированы.
Перехожу на шепот.
— Из местного отделения полиции. Его вызвали, когда соседи настрочили жалобу.
— Соседи настрочили жалобу на Бенни?
Мне трудно продолжать. Я замолкаю.
— Ну же. Ну, — подгоняет мама.
— Его не сразу обнаружили, — говорю я.
Мама плачет. Я и не знала, что можно плакать после смерти. Волосы растут, и ногти тоже, это да. Но что слезы могут литься, я не знала.
— Совсем один? — спрашивает она. — Он умер в одиночестве? Бедный мальчик.
Мы сидим рядышком и держимся за руки.
— С другой стороны, он и был одиночка, — говорит она. — Почему он так и не женился? Ты не знаешь?
Она пристально глядит на меня.
Качаю головой.
— Бедные его родители, — говорит она. — У них, совсем простых людей, родился гений. Они не знали, как с ним быть.
— Поэтому они и сплавили его куда подальше, — вставляю я.
— Меня сплавляют на учебу, — говорит Бенни, — а мне всего тринадцать!
— Что ты натворил?
— Я знаю тайны, — говорит Бенни.
— Про своих? Ты кому-то проболтался? — спрашиваю.
— Нет, — говорит он, — но они этого боятся.
— Кто они?
— Мать, отец.
— Это из-за того, что мы играли в доктора.
— Про это они не знают, — говорит Бенни. — Просто я умный, вот меня и посылают куда подальше.
— Им не нравится, что ты умный? — спрашиваю.
— Еще как нравится, глупышка, — отвечает Бенни. — Потому мне и приходится ехать.
— Не понимаю.
— Вытуривают из дому — и это в тринадцать-то лет!
— Куда? В школу для трудных подростков? В военное училище?
— В университет, — говорит Бенни, — и жить я буду в общаге.
Пытаюсь его утешить. Глажу по руке. Воркую.
— Перестань! — говорит Бенни, и я отдергиваю руку. — Раскурлыкалась, голубка. Кончай свои нежности. А то еще заразишь меня голубиными блохами.
Дело, как всегда, заканчивается дракой.
— И хорошо, что тебя вытуривают.
Бенни отвечает:
— У меня такое чувство, будто я сделал что-то ужасное, настолько ужасное, что они не могут просто меня отшлепать или запереть дома.
И плачет. В общем, я снова глажу его, воркую:
— Бенни, пусть бы лучше меня сплавляли. Слышишь, а? Пусть бы лучше меня услали далеко отсюда, от родных, в университет.
В глазах у меня слезы.
Бенни, как всегда, в своем репертуаре.
— Тебя бы не взяли, — заявляет он. — Ты не знаешь, что такое номинатив. И конъюнктив. Тебя бы не приняли в университет.
— Вали отсюда и не вздумай мне писать, — рычу я.
Потом он, уронив голову, сидит в подъезде на диване-качалке, и я рядом с ним. Я всегда его прощаю.
— Моих родителей бесит, что я особенный, не такой, как они, — говорит он.
Лично я так давно его знаю, что он не кажется мне особенным, — Бенни как Бенни.
— Они сплавляют меня из дома, потому что я превосхожу их по уму и говорю без акцента.
Возражаю:
— Тогда бы и мои родители должны были меня вышвырнуть.
— Отцу не нравится, что я смотрю на него сверху вниз. Вот с чего все началось. Я уже в девять смотрел сверху на его лысую макушку. Нет, даже еще раньше. Я сидел в кроватке, за прутьями, и заговорил с ним.
С Бенни никогда было не угадать, заливает он или нет.
— Так вот, сидел я в своей кроватке, а потом говорю: «Папочка, привет! Выпусти меня из этой клетки!»
— Он уже разговаривает. Это нормально? — удивился отец.
— Тсс, молчи, — сказала мама.
— Мама, — обратился я к ней, — я медленно хожу, зато говорю быстро, так что помоги мне отсюда выбраться, и мы все вместе поболтаем.
— С ним что-то не так, — говорит папаша. — Не вынимай его, не то соседи подумают, что у нас доме завелась нечистая сила.
— Не глупите, родители, — резонно возразил я. — Просто заговорил немного раньше срока. Не станете же вы держать меня здесь в наказание?
Я перебиваю:
— Так это твоя тайна? Я и так знала, что ты рано заговорил. Они этим гордились. Мама рассказывала, они постоянно хвастались, потому что я в то время говорила лишь отдельные слова.
— Ошибаешься, как обычно, — говорит Бенни. — С тобой мать ходила на прогулку в любую погоду, по всему кварталу, в парки, на площадки. А меня держали в кроватке да в манеже, за решеткой.
— И это вся тайна?
— Есть и еще кое-что, похуже, — сказал Бенни. — Это не они мне читали. Это я им читал.
— Выходит… — я потрясена, — тетя с дядей не умеют читать. Как же твой отец справляется с работой?
— Портному нужны цифры, не слова.
— Но как они обходятся без чтения?
— Слушают радио, глупышка, — говорит Бенни. — С их точки зрения, мы все равно что «Один человек и его семья»[11]. А я — Малышка Снукс[12]. Они думают, мы «Голдберги»[13]. Но я в формат радиоприемника не вписываюсь, посему меня сплавляют в университет.
Бенни долго рыдал и качался на диване, потом отер глаза и пошел домой.
— Так что там с Бенни? — спрашивает мама. — Уже несколько недель, как он умер. Как прошли похороны? Где? Кто был? Много пришло народу?
— Я не была знакома с его друзьями, мама, — говорю я. — Мы с Сэмюэлом похоронили его в Нью-Джерси, там участки недорогие. Пришлось снять деньги с банковского счета, чтобы за погребение заплатить.
— Безответственный, не то что мы с твоим папой, — говорит мамуля. — Участок, бессрочный уход за могилами — все было предусмотрено.
— Ты менч, — говорю ей. — Настоящий.
Мама польщена. Она не избалована моими комплиментами.
— Это и есть главное, — говорит она, — быть менчем.
Но с темы не сбивается.
— Итак, расскажи про похороны.
— Ну, пришли его друзья. Люди-животные, люди-растения, люди-барби, люди-люди.
— Люди-животные — это как? — спрашивает мама.
— Борцы за права животных в полотняных туфлях.
— Он был добрый, — говорит она. — Особенно к животным. Ему ведь в лаборатории приходилось проделывать с ними ужасные вещи. А куда деваться, человек он подневольный. А кто такие люди-люди?
— Работники здравоохранения. Коллеги, врачи, медсестры, социальные работники.
— Значит, он и с приличными людьми водился? Отрадно слышать. А люди-барби?
— Сплошные буфера и ни капли мозгов.
— Брат Бенни? — ахает мама. — Вот это да!
В синагоге звучат привычные мотивы. Порой их разбавляют какой-нибудь новой мелодией, но прихожане этого не одобряют. Они любят службу, как туфли «Энна Джеттикс» — закрытые, удобные, всегда одинаковые.
— Итак, — поворачивается ко мне мама, — кто унаследует его состояние? Животные, растения, доктора с медсестрами или барби? И почему не ты? С какой-такой стати не ты?
Я качаю головой. Когда братец Бенни мне что дал в этой жизни?
— Что ты сказала у могилы? — спрашивает мамуля. — Ты ведь ездила на кладбище, да?
Был ужасно дождливый день, земля чавкала под ногами, залепленные грязью туфли вязли.
— Мы говорили о том, что его поместили в университет тринадцатилетним и это разрушило ему жизнь. С тех пор он так и шел по жизни с клеймом вундеркинда.
— Он так и не сумел найти свое место, — соглашается мамуля. — Что-то ему было рановато, а для чего-то он уже опоздал. Слишком рано, чтобы учиться в университете, слишком поздно, чтобы податься в хиппи. Несчастная жизнь! В чем вы его похоронили?
— В одном из его костюмов, — говорю я.
Про обтрепанные манжеты я умалчиваю.
— Держу пари, этот костюм еще с его бар мицвы, — говорит мама. — Ему всегда было плевать на свой внешний вид. И вот до чего он докатился. Умер, как босяк. Так что там слышно на этот счет?
— Следователь назначил нас исполнителями завещания.
— Может, он хоть что-то припас на черный день, — говорит мамуля. — Не мог же он за все эти годы ничего не заработать. Разве с его стороны, моя девочка, не будет мило немного о тебе позаботиться?
Мы часто говорили о родственных отношениях.
— Наши с тобой родители — двоюродные братья и сестры, — сказал Бенни. — Интересно, насколько это генетически на нас отразилось?
Я ответила:
— Ты уродился с прибабахом. И с золотыми руками.
Потом Бенни спросил:
— Двоюродным брату и сестре по-прежнему нельзя жениться?
— Да, — отвечаю. — У моих родителей незаконный брак.
Бенни спрашивает:
— А если двоюродные брат с сестрой любят друг друга?
— Им разрешается целоваться, — говорю я, — в одну щеку или в обе щеки и немножко в губы.
Бенни интересуется: а что, если нам нарушить правила?
— Нет, — заявляю я.
— И какие же это правила? — уточняет он.
— Двоюродным братьям и сестрам разрешается делить прошлое и настоящее, — разъясняю ему.
— А как насчет будущего? — любопытствует Бен.
— А в будущем не давать друг другу житья.
Он хохочет.
— Таково правило?
— Нерушимое, — отвечаю я.
— Покуда смерть не разлучит нас?
— Да, покуда смерть нас не разлучит.
И у нас были годы прошлого и настоящего. А потом братец Бенни сорвался.
— Как тебе моя крошка, Бен?
Девочка вся в ямочках и очаровательно гулит.
— Младенцы не по моей части, — отрезает он.
— Это не часть. Это твоя родня во втором колене, — говорю я.
— В третьем, если быть точным, — говорит Бен. — Третьесортная сестричка. Вот уж не думал, что ты станешь матерью. Ты вдруг сделалась взрослее меня.
— Я на год тебя моложе, — напоминаю.
— Будь ты моей ровесницей, у тебя нашлось бы время для меня, — говорит Бен.
— У меня вообще ни на что нет времени, — объясняю.
— Вечно ты так, — говорит он и уходит, не сев с нами за стол.
Я убираю лишний прибор.
— Тебе от него полагается компенсация, — продолжает мама.
— Почему это? — спрашиваю.
— Ты общалась с ним все эти годы, а другие дети его не выносили. Он был заносчивым всезнайкой, любил хвост распустить. Но ты повсюду таскала его за собой, даже потом, в колледже, брала на вечеринки. Научила его танцевать. Была ли у него когда подружка, ходил ли он хоть раз на свидание? Припоминаю сейчас, он сказал, что одна девушка разбила ему сердце. Интересно, кто она?
— Интересно, — поддакиваю я.
В другой раз Бен звонит и приглашает меня пообедать, как ни в чем не бывало.
— Могу я просто тебя увидеть? Как твои дела?
— Как и прежде, в положении, — объясняю ему.
— Знаю я это положение, — говорит Бенни смурным голосом, — живот лезет на нос, спину ломит, походка уточкой.
— Хорошо, что ты не пошел в акушеры-гинекологи, — говорю я.
А Бенни отвечает:
— К чему мне дети и их хныканья, срыгивания, рвоты?
— Тогда хорошо, что ты не стал отцом.
— Очень хорошо, — говорит Бенни, — очень хорошо, что я стал врачом, а все из-за тебя.
— Из-за меня?
— Цокольный этаж, — говорит Бенни. — Помнишь?
На большой — целых три часа — субботней службе я непривычно тиха.
Мама спрашивает:
— Ты скрываешь от меня что-то, что мне стоит знать?
— Бенни ненавидел отца и мать, — сообщаю ей. — У него в квартире не было ни одной их фотографии. И вообще ничьей.
Только моя. Где я танцую на какой-то вечеринке много лет тому назад.
— Бедные его родители, — говорит мама. — Они ведь старались, как могли. Только о нем и говорили. Только о нем и думали. А он уехал и ни разу не позвонил, не написал. Ни на один день рождения, ни на один юбилей. Что на День матери, что на День отца — молчок. А когда его отец умер, он даже не явился на похороны. Это не обида, это серьезнее. Они не заслужили такого к себе отношения.
— А с тобой? — спрашиваю. — Как он вел себя с тобой?
— Хорошо, очень хорошо, — говорит мамуля. — Что бы ему получше со своими родителями обходиться! Знаешь, что он сделал? Я раз сказала ему, что интересуюсь вопросами здоровья. Так он тут же пошел и оформил для меня пожизненную подписку на журнал «Превеншн»[14]. Я всегда читала его, лежа в ванной. Этот журнал был моей библией. — Она хмыкает. — А теперь пожизненная подписка кончилась.
Мы замолкаем.
Неожиданно мама вскидывает голову.
— А что стало с его скрипкой? Как он обожал музыку! Помнишь, он оставлял скрипку у нас, а потом приходил вечером из больницы и допоздна нам играл?
— Пошли на концерт, — звонит Бенни. — У меня сольное выступление с Оркестром медиков.
— А ребенка куда деть?
— Оставь дома, — невозмутимо предлагает он.
Итак, я бросаю ребенка и отправляюсь на концерт.
— Пошли на банкет, — умоляет он, когда стихают последние аплодисменты. — Все пойдут.
— А я нет, — отвечаю.
Сэмюэл сидит дома с малышкой.
— Ничего страшного, — сказал Сэмюэл. — Он же твой родственник.
— Но ты единственная моя родственница, — говорит Бенни.
Я иду на банкет, чтобы у Бенни были родные.
— Потанцуем? — спрашивает он.
— Я разучилась, — говорю.
Он кладет руки мне на талию.
— А я нет. Двигайся. Шевели бедрами.
— Так?
— Вот так, — говорит он. — Чуть ближе.
И вдруг он меня отпихивает.
— Твоя блузка! — говорит он. — Ты промокла. И меня мочишь.
После этого мы долгое время не видимся.
И вот теперь я его душеприказчица.
Побывала в его опечатанной квартире. Следователь приподнял клейкую ленту, и мы вошли.
— Вряд ли вы выдержите дольше нескольких минут, — сказал он. На нас обоих были маски.
Пропитанный кровью матрац уже убрали, но пол все еще лип. Я быстро сгребла в охапку все, что показалось мне важным: папки с документами, какой-то блокнот, записную книжку.
Целую неделю я обзванивала людей из записной книжки и сообщала им, что Бен умер. Переждав, пока они нарыдаются или наохаются, утешала их и в очередной раз рассказывала, как было дело.
Бен продолжает умирать. Мне снится, как он умирает, захлебываясь кашлем, а я пытаюсь его поддержать. Снится, что мы лежим в обнимку в его кровати. Он кашляет, потом его рвет. Я вся в крови, словно новорожденный младенец. Хочу заглянуть Бену в глаза, но веки плотно сомкнуты.
На следующей службе появляюсь измотанная. Мама с места в карьер приступает к делу.
— Частной практики у него не было, — говорит она. — Душа у него к этому не лежала. Ненавидел общаться. Но он же работал всю свою жизнь, разве нет? А у врачей зарплата ого-го.
Мы шерстим его бумаги: разыскать бы его адвоката, любовницу, душеприказчика, что угодно. Пусть не ого-го, но хоть что-нибудь.
И обнаруживаются забавные вещи.
Выясняется, что тому самому университету, в который его отправили в тринадцать лет и о котором он ни разу слова доброго не сказал, завещан денежный дар. Университет разжился многотысячным грантом. Получила от него деньги и организация «Люди за этичное обращение с животными». В год по чеку. Досталось и обществу «Доктора за запрет ядерного вооружения», и буддийскому храму.
Рассказываю об этом маме.
— Он проматывает твои денежки! — восклицает она.
И мы дружно хохочем.
— Хороший он был парень, — говорит мамуля. — Надо это признать. Не просто хороший — блестящий. И меня это пугало. У него словно искры из глаз сыпались, вылетали снопами из головы. Я порой считала его шизиком, инопланетянином. Он разбирался во всем: в медицине, психологии, математике, музыке. Не было ни единой книги, которую бы он не прочел. Когда он, в бытность свою практикантом в соседней больнице, иногда ночевал у нас, он успевал рассказать мне программу чуть ли не целого университетского семестра. А еще у него были золотые руки.
Карабкаюсь на дерево на пустыре. Бенни стоит внизу и ругается.
— Слезай давай. Упадешь.
— Нет, не слезу, — отвечаю. — Лучше ты залезай!
— Мне нужно беречь руки, — говорит Бенни.
— «Золотые руки», — передразниваю его мать. — Вундеркинд! Торчи там внизу, неженка!
— Торчи там наверху хоть до самой смерти, пацанка! — рявкает Бенни.
Мама бросает на меня взгляд, и я встаю на кадиш.
— Знаешь, — говорит она, — а ведь по брату Бенни некому прочесть кадиш.
— Знаю, — отвечаю, садясь.
— Я готова делиться, — говорит мама. — Можешь молиться сразу за нас обоих.
— Боюсь, у меня не получится, — отвечаю.
— Вот я не эгоистка, — говорит она, — а ты чего вредничаешь?
Из больницы звонят его друзья-врачи: готовы результаты вскрытия, проводившегося накануне похорон.
— Он умер из-за эмбола, циркулировавшего в легочной артерии.
— Циркулирующий эмбол, — говорю я. — Это что-то вроде пассажира, летающего туда-сюда?
— Бен, — говорю я, когда наконец, после многократных попыток, застаю его дома, — где тебя носило?
— Ездил в Луизиану на встречу медиков. Видел байю[15].
— Она тебя убайюкала?
— Был в Греции на конференции по детской психиатрии; потом на конференции «Дети Фрейда» в Израиле; съездил в Таиланд послушать, что нового в психофармакологии; в Гвадалахаре побывал на семинаре «Аутизм по методу Бруно Беттельгейма[16]».
— И ты повсюду ездил за свой счет?
— Конечно, нет, — говорит Бен. — Мне оплачивали поездки.
— Что ты делал в Таиланде?
— Купил костюм. Он потерялся вместе с багажом.
— А в Греции?
— Грелся на солнце.
— А в Гвадалахаре?
— Танцевал.
Я сказала:
— Это я научила тебя танцевать.
— Да, в числе прочего.
— А именно?
— Ты научила меня равняться на тебя, смотреть на себя твоими глазами. Когда ты ушла, меня не стало.
Мама спрашивает:
— Что у вас дома нового?
— Все как обычно, — говорю.
Я заметила, что ей неинтересны бытовые подробности, разве что как кушает малыш или кто с кем сыграл свадьбу. А семейные истории ей обрыдли. Все они уже рассказаны по тыще раз.
— Бен, — говорю я, — ты никогда не спрашиваешь, как у меня дела, как мои дети, как муж.
Он отвечает:
— Давай договоримся. Ты будешь рассказывать, как дела у тебя, и не рассказывать про мужа и детей.
— Ну еще бы, — говорю я злобно, — зато до переживаний любых других детей тебе дело есть. Твой кабинет открыт для отпрыска первого встречного, для любого мешугинера. Ты привечаешь всех ненормальных, отсталых, аутичных.
— Ты просто ревнуешь, — говорит братец Бен.
— Слышала, он далеко пошел в своей области, — говорит мама. — Тут надо отдать ему должное. Но как сын он полный ноль. Как член общества — полный кошмар. А вот с детьми он, видимо, ощущал родство душ.
Бен рассказывал мне о Тедди. Он приносил ему в палату психбольницы свою скрипку, чтобы тот мог подергать струны.
— «А теперь, — говорю я Тедди, — я кладу скрипку в футляр, это ее кроватка».
Тедди в кроватке не лежится. Его приходится привязывать, иначе он всю ночь неприкаянно бродит.
Бен рассказывает Тедди сказку о тихом мальчике в лесу, мальчике, который молчит. Тедди сидит рядом с Беном, но прикоснуться к себе не дает. Бен рассказывает о том, как к мальчику пришла полевая мышь с белыми лапками. А мальчик молчит, не шевелится. Рядом с ним порхает колибри. Кролик хрупает травой. А кто же этот мальчик? Да это же наш Тедди!
Бен говорит:
— А потом я сказал: пришел олень с большими рогами и потыкался носом в Теддину руку. Тедди долго, долго сидел, а потом потыкался носом в мою.
— Для человека, работающего с детьми, — говорит мама, — ему не хватало терпения. Хорошо, что своих у него не было. Хотя одно время мне казалось, что вы будете вместе. Но вообще-то родственникам жениться неполезно. — Смеется. — Я не в счет.
Как-то раз я сказала Бену:
— Можно тебя кое о чем спросить?
— Спрашивай.
— Ты кого-нибудь любишь?
— Конечно, люблю.
— Кого?
— Пациентов.
— А женщину? — спросила я. — Ты любишь какую-нибудь женщину?
И Бен ответил:
— Когда-то я полюбил одну девушку. Я отдал бы ей все. Ради нее я бы перестал расти.
— Звонил следователь, — сообщаю маме однажды вечером в пятницу. — Сказал, чтобы я подготовила древо родства.
— Это еще что такое? — хихикает мамуля. — Яблоня, что ли?
— Нужно предоставить документы, подтверждающие в суде наше родство. Мое древо жизни, как сказал следователь.
— Где же наши документы? — задумывается мама. — Часть у меня в банковской ячейке. После того как мы переехали в поселок для престарелых, я в доме ничего не держала. У Бенни все близкие умерли. Твои братья знать ничего не знают. Девочка моя дорогая, не могу вспомнить. Я там под конец как-то скисла. Прости. Не смогу тебе помочь.
— Придется нанять юриста, — говорю.
— Опять расходы, — ворчит мамуля. — Не братец Бенни, а кровосос какой-то.
Через неделю докладываю ей, что юрист разбирает бумаги Бена, мы почти все их уже забрали из квартиры. Юрист говорит, что Бенни, наверное, любил играть в прятки.
— Еще как! — отзывается мамуля. — Дай-ка вспомню. «Раз-два-три-четыре-пять, я иду искать, кто не спрятался, я не виноват!» Давно спать пора, а вы все носитесь, а потом ты возвращаешься вся потная, того и гляди простуду схватишь.
Кипятится, прямо как в прежние времена.
Говорю:
— У меня такое чувство, словно Бенни витает в воздухе и дает нам то один, то другой ключ. Юрист раскопал его зарплатные чеки из больницы, так у него эти чеки месяцами валялись. После этого он выяснил, что у братца Бенни под сотню тысяч долларов на пенсионном счету.
— Видишь, что значит жить бережливо, — меняет тон мама.
— Уж кто-кто, а он о деньгах вообще не заботился, — напоминаю ей.
— Верно, — соглашается мамуля. — Клал чеки от пациентов в книги вместо закладок. Бывало, обнаружит их потом, а срок уже вышел. Я несколько раз находила их у нас в книжном шкафу, еще с тех времен, когда он заходил к нам в гости.
— Игры, — говорю. — В игры играет.
Играем в «Монополию» на нашем диване-качалке. Я выигрываю.
— Ваши качели пора смазать, а ты мухлюешь, — говорит Бенни.
— В «Монополию» нельзя смухлевать, — втолковываю ему.
— А если ты не мухлюешь, — спрашивает Бенни, — то почему ты все время выигрываешь?
Говорю:
— Просто в играх я соображаю лучше тебя.
— Этого не может быть, — не соглашается Бен. — Сыграем во что-нибудь другое.
Играем в «Мичиган рамми», причем Бенни не доверяет мне тасовать колоду, тасует сам.
— Рамми! — вскоре объявляю я.
— Мухлеж! — вопит Бенни.
— Просто ты плохо перемешал, — объясняю. — Я собрала все комбинации.
Обыгрываю его и в другие настольные игры. Домино — вообще чепуха. Бен показывает, как играть в шахматы, и я ставлю ему мат.
Годы спустя Бен вспоминает об этом совсем иначе.
Бен говорит:
— Я выигрывал во все игры.
— Вранье! — я возмущена. — Это я выигрывала во все настольные игры.
— Ты просто забыла, — упирается он.
— У меня было время вспомнить, — говорю я. — Одного только не припоминаю: как же так получилось, что ты стал сообразительнее меня?
— Для девочки ты довольно сообразительная, — утешает меня мама, когда я рассказываю ей о наших летних состязаниях. — Иногда стоит слегка поддаться и немного проиграть, чтобы потом выиграть по-крупному.
— Что, например?
— Например, спутника жизни, — говорит она.
— Мама!
Мы с Беном редко видимся, а когда встречаемся, он ведет меня в какое-нибудь вегетарианское заведение, где еду подают на картонных тарелках, и мы разговариваем. То есть я слушаю, а он рассказывает. Чаще всего о Тедди.
— «Тедди, — обращаюсь я к нему, — я сяду в это кресло и подожду, когда ты начнешь бум-бум-бумкаться головой о стену. Я принес подарок. Посмотри, это шлем! Как у футболиста. Надень-ка шлем, Тедди, и можно будет бумкаться о стену без вреда для головы. В этом шлеме ты сможешь пробумкивать насквозь людей, стены, все твои ночные кошмары. Вот так, мой мальчик».
— Уф, — с облегчением говорит Бен, — ребенок может биться головой без вреда для своего мозга. Неважно, с помощью Кого или Чего, все равно спасибо!
— Есть новости от юриста? — спрашивает мама.
— Он изучает его инвестиционные бумаги, вклады, банковские счета. А следователь так от меня и не отстает. «Мы полагаем, что причиной смерти стала аневризма, — говорит он. — Но мы не уверены в этом до конца».
— Что такое аневризма? — интересуется мама.
— Как мне объяснили, это патологическое расширение, выпячивание стенки кровеносного сосуда.
— Так я и знала, что у Бенни какая-то патология, — отзывается мамуля. — Неспроста он все Фрейда штудировал. Вел тайную жизнь.
— Мне известны все твои тайные местечки, — шепчет мне Бенни в цокольном этаже.
— Откуда?
— Я же доктор.
Возражаю:
— Доктора только и делают, что вырезают гланды.
— Доктора — двоюродные братья — другие. Они еще и исследователи.
— Мы всегда будем двоюродными братом и сестрой, Бенни?
— Покуда смерть не разлучит нас, — говорит он.
Бенни, студент первого курса, звонит мне по телефону.
— Мне поручили клевую работу в лаборатории.
— Ты теперь носишь белый халат, как ученый?
— Ношу белый халат, как сумасшедший ученый.
Мы хохочем, и с тех пор я зову его Доктором Франкенштейном. С каждым разом его звонки все печальнее.
— Весь мой белый халат в крови, как у мясника, — говорит он.
— Да ладно!
— Я убиваю, — говорит Бенни. — Вот чем занимаются в лаборатории.
— Кого ты убиваешь? — спрашиваю.
— Мышей, кроликов, а уж что я делаю с кошками…
Мне кажется, он меня разыгрывает.
— С кошками, — смеюсь я. — Любимая шутка моего отца: «Кто спит с котом? Миссис Котт».
— Когда я тебе расскажу, ты меня возненавидишь, — говорит Бенни.
И рассказывает, как дает котятам блюдечки с едой, а в ней подмешан алкоголь, и вскоре котята есть уже не хотят. Только пить.
— Мой профессор ставит эксперимент. Хочет превратить маленьких пушистиков в пьянчуг. Сделать из них четвероногих алкашей. А меня заставляет каждый день тщательно записывать, как они ходят, не спотыкаются ли, отказываются ли от еды, впадают ли в бесчувствие.
— Он псих, Бен, — говорю я. — Вали от него.
— Он псих, а я его подельник.
— Что такое подельник, Бен?
— Отвали. Ничего вообще не знаешь. Ни слов нормальных. Ни чем я занимаюсь. Ничего.
— Не я тебе позвонила. Ты сам мне позвонил.
— Пошла вон из моей жизни, — как обычно, говорит он.
— Да запросто, кошачий убийца, — отвечаю я.
Сообщаю, что выхожу замуж. Бен в это время учится в медицинском институте.
— Кто он? — спрашивает Бен.
Называю имя.
— Я такого не знаю, — говорит он. — А к тем, кого я не знаю, я на свадьбы не хожу.
Университет я бросаю.
— Как погода? — спрашивает мама. — А то я сбилась.
— Нынешняя осень бьет все рекорды по теплу, — сообщаю. — А потом побьет все рекорды по холоду. И то и другое не по сезону.
— А вот у нас в Калифорнии, — говорит мамуля, — каждый день был таким, как ему положено по сезону.
Он по-прежнему периодически мне звонил, сообщал главные новости.
— Я стал веганом, — говорит Бен. — Не ем ни мяса, ни птицы. Кожаную обувь не ношу. Хватит мучить животных.
— В мире полно мучений, — толкую ему. — В каждой стране есть люди, которым нужна помощь, а ты беспокоишься о зверюшках.
С ним я превращаюсь в злюку.
— Где твоя чуткость, мать-земля? — спрашивает он.
— Проехали, — говорю.
Но Бен, пока сам не захочет, не остановится.
— Как насчет приматов? — говорит он. — У них большой палец тоже противопоставлен, помнишь? Как у нас. Может, нужно встать на их защиту и запретить прививать им вирусы иммунодефицита? Или перестать мучить кошек и кроликов?
— Я стою на защите своих детей от кори, — отвечаю я, — коклюша и ветрянки. А приматы мне до лампочки.
— Гадюка! — говорит Бен.
Проходят годы. Сталкиваемся с ним то здесь, то там.
Встречаю его в хорошем ресторане.
— Привет, Бен, — говорю. — Я думала, ты ешь только с картонных тарелок.
Бен говорит:
— Познакомься с моей девушкой. Филиппа, это моя двоюродная сестра. Мы росли вместе, как родные.
Попадается мне на вокзале.
— Бен! Что ты здесь делаешь?
Бен говорит:
— Познакомься с моей девушкой, Йоко. Йоко, это моя двоюродная сестра.
Как-то раз натыкаемся друг на друга в аэропорту.
— Бен, — спрашиваю, — ты с борта или на борт?
— Познакомься с моей девушкой. Лоретта, поздоровайся с моей двоюродной сестренкой.
В отраслевой библиотеке.
— Бен! — восклицаю. — Что ты тут делаешь?
— Ищу кое-что, — говорит он. — Познакомься, это Сачико. Сачико, это моя любимая двоюродная сестра.
А то, помнится, на фильме Вуди Аллена, когда я еще ходила на Вуди Аллена.
— Сестренка! — говорит Бен. — Познакомься, это Кларисса. Кларисса, поздоровайся. Это моя близкая родственница.
Вкратце излагаю это маме.
— Он специально выбирал созвучные имена? — интересуется она. — Кларисса, Лоретта, Сачико, Йоко.
— Мой юрист, — сообщаю ей, — говорит, что его гонорар съест всю мою прибыль.
Бен в одиночестве шествовал по улице.
— Один? — удивленно приподняла я брови.
— Ради тебя я изменил свою жизнь, — заявил он.
— С чего на что?
И снова я попалась в его капкан!
— С этого на то, — сообщил Бен. — Ты переехала, и я тоже переехал.
— Вранье! — отрезала я. — Все ты врешь. Ты всегда жил в этой трущобе.
Юрист обнаружил кое-что любопытное. Среди Беновых списков: «Книги, которые нужно прочитать», «Оперы, которые нужно послушать», «Женщины, с которыми нужно завести роман» — имеется еще один, с перечислением денежных акций.
— Будете как сыр в масле кататься, — говорит юрист, — стоит нам только их заполучить.
— Мама, — говорю я, — вряд ли Бен позаботился о том, чтобы я как сыр в масле каталась. Он ни разу не прислал мне подарка — ни на день рождения, ни на свадьбу, ни на рождение ребенка. Да он бы для меня и пяти центов пожалел.
— Никогда не поздно все изменить, — говорит мама.
— Знаешь что, мам? Поздно.
— Но где же его завещание? — талдычит юрист.
— Он оставил все какой-нибудь Йоко или Клариссе, либо приверженцам тряпочных туфель, либо всем котятам и щенкам на подкорм, — отвечаю.
Телефонный звонок.
— Не могу заснуть, — говорит Бен.
— А я сплю, — шепчу в ответ. — Зачем ты меня разбудил?
— Я не могу спать, — говорит он, — а ты дрыхнешь?
Перебираюсь из постели в соседнюю комнату, потом возвращаюсь в спальню, чтобы положить там трубку.
— Который час? — спрашиваю наконец шепотом.
— Судя по светящимся стрелкам моих часов, три ночи, — сообщает он.
У меня спросонья все сбилось.
— Мне скоро пора кормить ребенка.
— В твоем доме не осталось детей.
— Точно! Они выросли и давно меня оставили.
— Некого тебе кормить, — говорит Бен.
— Ради тебя я сейчас оставила свою постель и своего мужчину.
— Настоящим твоим мужчиной был я, — заявляет Бен. — И буду твоим мужчиной до самой твоей смерти.
Из спальни доносится голос.
— Что-то случилось? — спрашивает Сэмюэл.
— Пока, Бен, — говорю я. — И не звони мне по ночам. Да и днем не усердствуй.
Чуть не запамятовала: за несколько лет до этого был еще один поздний звонок.
— Умер мой отец, — сказал Бенни.
— Дядя умер? Первый из наших родителей.
— Я разговаривал с матерью.
— Это самое малое, что ты мог сделать.
— Пригласил ее в гости.
— Ты не поедешь на похороны отца?
— Моя дорогая, невежественная сестренка, я похоронил его много лет тому назад.
— Какой же ты беспощадный!
— Кого это я не пощадил? — спрашивает Бен.
— Себя и всю свою жизнь, — заявляю я.
Зовет меня в свою трущобу. Поколебавшись, сажусь в метро и еду на окраину.
Разумеется, поесть у него нечего.
— Для чего ты меня пригласил? — спрашиваю, ища глазами, куда бы сесть.
Жалюзи лет десять как не протирали. По полу босиком ходить не стоит.
— Хочу показать тебе фотографии из своих поездок, — говорит он.
ТайландГвадалахараИзраильГонконг.
— Я бы полистала «Нэшнл джиографик», — говорю я.
— Мне хочется рассказать тебе то, что я узнал о мире.
— Схожу на какую-нибудь лекцию.
— Я хотел тебе сказать, — говорит Бен, — что куда бы я ни ездил, с кем бы ни встречался, я думаю о тебе.
— Не говори так, — прошу я.
— Мне просто хочется с тобой пообщаться.
— Бен, — говорю я, — мне хватает общения с соседней подушкой в постели. Подушка эта никуда не ездит. Она всегда лежит рядышком и по ночам сообщает мне новости за истекший день.
— Я тебе не ежедневная газета, — огрызается Бен. — Когда можем, тогда и видимся.
И он раскрывает объятия. Прямо на этом грязном полу, на этих грязных простынях мы обнимаемся, и к старым пятнам на постельном белье добавляются новые. Потом я вскакиваю, подхватываю сумочку и бегу к выходу.
— Я никогда больше сюда не приду! — кричу я. — Никогда!
— Куда ты денешься, — говорит Бен.
— Мама, — рассказываю ей, — юрист обнаружил завещание. Оно лежало в одной из книг вместе со старыми чеками из больницы.
Мама радостно треплет меня по волосам. Однако я не прыгаю от восторга.
— Понятно, — говорит она, опуская руку. — Ну, расскажи. Любопытно же. Тогда кому? Людям-барби? Людям-животным? Людям-растениям? Людям-людям?
— Всем им достаются лишь те чеки на небольшие суммы, о которых я тебе говорила.
— Ну и?
— Хочешь знать, кому достанутся наградные-призовые и все бабло-фуфло? — спрашиваю я. — Сиротам.
Мы молчим. Даже пение нас не трогает. Когда все встают, я устало поднимаюсь на ноги.
— Так я и знала, — говорит мама.
— Интеллектуально одаренным сиротам, — поясняю, — он основал специальную организацию.
— Таковым Бенни себя и считал, — говорит мама. — Где наше древо родства и генеалогическое древо?
— Не могу их найти, ма.
— Наверное, я их выбросила, когда переезжала, — говорит мама. — С этим переездом со Среднего Запада в Калифорнию была такая морока, а я к бумагам всегда небрежно относилась.
Она сникает. Потом встряхивается.
— Ты будешь оспаривать завещание?
— А смысл — без фамильного древа и против сирот?
— Как же так? И больше ничего в нем не было?
— Было, по мелочи. «Общество бездомных» получит его носки и трусы. Кампания по борьбе с неграмотностью — подержанные книженции. «Престарелые горожане» — телевизор и видеомагнитофон с кассетами. Инвалиды — велотренажер. Наука — его тело. А портфолио отойдет одаренным сиротам.
— А тебе ничегошеньки? — спрашивает мама. — А я-то его кормила-поила. Часами выслушивала.
— Мне достается квартира, — говорю я.
— В комплексе «Социальное жилье»? — уточняет мама.
— Крохотная, запущенная, обшарпанная квартирка.
— Но, Господи, почему? — И тут ее осеняет: — Ну так продай ее, и дело с концом.
— В завещании оговорено, что я не имею права ее продавать.
— Что ему от тебя нужно? — недоумевает мама. — Он вечно чего-то от тебя хотел.
— Полагаю, ему нужно, чтобы я отпирала дверь, входила в пустую квартиру и думала о нем.
— Вот нахал! Дурость какая, — говорит мама. — И ты будешь так делать?
— Нет. Я вообще больше не буду о нем думать. Его и так было в моей жизни через край.
— И квартира будет стоять пустая?
— Может, я зайду туда и крикну в каждый угол: «Бен, я не стану о тебе думать. Я вычеркнула тебя из своей жизни». А потом выйду и запру за собой дверь.
— Будь практичнее. Сдай ее какому-нибудь студенту. Практиканту одной из окраинных больниц.
Больше сказать нечего. Главная тема исчерпана.
— А как же кадиш?
— Ма, пусть сам справляется, без меня.
— Он никогда не умел справляться сам, — говорит мама. — Не умел быть менчем. Я не жадная. По пятницам молись за Бенни, а утром по субботам — за меня.
Она подталкивает меня. Я устало поднимаюсь и произношу слова молитвы, которая повторяется за службу четырежды и все равно каждый раз необходима — чтобы помнили.
В деревне, на родине моих родителей, доверяли только родственникам. Чужие могли предать. Племянница превращалась в женщину на глазах своего дяди. Двоюродные братья и сестры каждый день тесно общались. А все равно нельзя. Всегда было нельзя, и будет. Даже когда смерть разлучит их.
Мама тяжело опускается на место.
— Это я была виновата, — сказала она. — Ты родилась от брака родственников. Мне бы надо было смотреть за тобой денно и нощно. Ты будешь стоять подле меня и думать о нем, а я, рядышком, стану тебя оберегать.
Моя мать, кинозвезда
Мама сидит на бархатной подушке, я рядом. Для меня это последняя возможность расспросить ее о первых годах замужества, о том, что она любила, какие цвета предпочитала.
— Какие у тебя были любимые цвета, мама? — спрашиваю.
— Винный и аквамариновый, — отвечает она, не задумываясь.
— Но ты никогда их не носила. Всегда покупала мне, — удивляюсь я.
— Чтобы хоть одна из нас их носила, — отвечает.
В синагоге надлежит соблюдать приличия, но, пока читаются тексты и поются псалмы, мы шепчемся.
— Твой любимый фильм?
— Кино, ты хочешь сказать, кино. Все люблю.
— Это не ответ, — сопротивляюсь я.
— «Женщины»[17], — припоминает мамуля. — Больше всего я любила картину «Женщины».
— Ее ругают.
— А ты не слушай чужую ругань, — говорит мама. — В ней играют сплошь звезды первой величины: Джоан Кроуфорд, Розалинда Рассел, Полетт Годдар, а в главной роли — Норма Ширер[18].
Прихожане на скамьях впереди и позади нас начинают проявлять недовольство.
— Во время службы нельзя разговаривать, — высказывается местный завсегдатай, который постоянно вешает пальто на спинку моей скамьи.
Мы с мамой смотрим строго перед собой.
— Расскажу тебе кое-что, чего ты не знаешь, — шепчет мама, выдержав паузу. — Говорили, я была похожа на Норму Ширер.
Мама сидит рядом со мной, ссохшаяся, со сморщенным личиком, — копия собственной матери в восемьдесят шесть лет.
— Меня так и называли Нормой Ширер, — продолжает мама. — Помнишь картину в гостиной, которую нарисовал художник с набережной Атлантик-Сити?
Эта картина висела в гостиной все мое детство, хотя наряд, в котором мама позировала, давно выцвел.
— На мне была блузка, вышитая красными, желтыми и голубыми цветами на черном фоне, и черная шелковая юбка.
— Юбку не было видно, — вставляю я в приступе исторической достоверности.
— Волосы убраны назад и подколоты над ушами. Вылитая Норма Ширер.
Когда мы разбирали ее вещи, я первым делом сняла с гвоздя этот портрет и увезла к себе. Она на нем нежная и юная. Хрупкая, с вьющимися волосами. Обещаю ей непременно посмотреть «Женщин».
До следующей службы успеваю взять этот фильм в прокате. Жуть.
— Что ты нашла в этом фильме, мамуля? — недоумеваю.
— В кино, — поправляет она.
— Он сексистский, снобистский…
— Плевать, — говорит мама. — Главное, Норма победила. Она была прекрасной матерью, прекрасной женой и в конце концов одолела эту потаскушку, Джоан Кроуфорд.
Мы молчим.
— У меня были волосы, как у Нормы Ширер, — говорит мамуля. — Такие же темные и вьющиеся. А глаза… — она на миг задумывается, — орехового цвета, как у нее. Фигуры такой у меня никогда не было, но не было и времени заниматься фигурой.
Она гладит рукой свое бархатное сиденье.
— Это было пятьдесят с лишним лет назад, — говорит она. — Какое это теперь имеет значение?
— Тсс! — шикает представительный мужчина, чье представительное пальто топорщится у меня под спиной.
— Эйн андере велт, — мать погружена в грезы о прошлом.
— Как вы тогда жили? — спрашиваю.
Мне хочется знать все.
— Каждый из нас был на кого-то похож, — мечтательно отзывается мамуля.
Лицо ее разглаживается, как складки на бархатном сиденье.
— У нас, вернее, у твоего отца была компания, а верховодил всеми Рекс, сокращенно от Рексфорд. Рекс был похож на Уильяма Пауэлла[19]. Помнишь такого? «Тонкий человек» с Мирной Лой? «Мой слуга Годфри» с Кэрол Ломбард? Рекс был худой, подвижный, носил тонкие усики и слыл умником, Уильям Пауэлл до кончиков ногтей.
— Кто еще был в вашей компании? — спрашиваю. — Какие звезды экрана?
— Скажут ли тебе хоть что-нибудь их имена? — говорит мама. — Моя подруга Рэй, школьная учительница, была тощей-претощей. Ее прозвали Сейзу Питтс[20]. Мими, жена преподавателя математики, была задорной, как Джанет Гейнор в «Звезда родилась» с мистером Фредриком Марчем. В нашей компании была жена страхового агента, Руби. Ее прозвали Джоан Кроуфорд — за гордый нрав, широкие плечи и высокий рост.
Она улыбается.
— Мой типаж был, скорее, старомодным. Как-никак я уроженка Старого Света.
— А остальные были откуда? — спрашиваю.
— Все до единого урожденные американцы. Но нас с ними разделяло не только это.
Она крутит на пальце обручальное кольцо. Раньше она была полной, и оно врезалось ей в кожу. А теперь свободно болтается.
— У них имелось высшее образование. А я и в школе-то не доучилась.
— Тебе с ними сложно приходилось?
— Еще бы, — говорит моя мамуля. — Как думаешь, приятно быть чужачкой?
Проходит неделя. Мы с мамой ждем не дождемся, когда в конце службы мне полагается встать и помянуть ее. Это ее любимый момент. Когда он настает, она кладет ладонь на мою руку.
— Кем был для тебя Уильям Пауэлл? — спрашиваю ее, когда идет молитва шепотом.
— В жизни или в кино? — уточняет она. — В кино он меня пугал, Мистер Светский Лев. А в жизни Рекс был лучшим папиным другом. Они все делали сообща. Стоило одному приняться за книгу, как второй тут же писал вторую главу. Один высказывал какую-нибудь идею — другой тут же ее подхватывал и развивал. Они забавно смотрелись вместе — эдакие Матт и Джефф из комиксов[21]: каланча Рекс и коротышка твой отец.
— Рекс часто бывал у вас дома?
— Не часто. Скорее, почти круглосуточно.
— Ты не возражала?
— Твой папа его обожал. Как тут возразишь?
Мама одевается дурно. И всегда так одевалась. Пусть волосы у нее вились, а серые глаза походили на грозовые тучи, но одежду она покупала в дисконтных магазинах, на распродажах в конце месяца.
— Я отличалась от прочих дам в нашей компании, — рассказывает мамуля. — Они носили шляпы и перчатки. Некоторые работали. На ответственных должностях. Преподавателями. Счетоводами. Но у меня было одно преимущество. Я единственная могла принимать их всех у себя в гостях.
Она раздувается от гордости.
— Бывало, Рекс предложит: «Давайте соберемся у вас или у вас», а те в ответ: «Ой, я сейчас не могу», или «У меня не прибрано», или «Тогда мне нужно бежать готовить угощение, а я не люблю ничего делать впопыхах». А едва Рекс спросит меня: «А может, к вам?» — как у меня, глазом моргнуть не успеешь, готов салат с тунцом, крутыми яйцами и кисло-сладкими огурчиками. Насыплю маковых печенек, наварю кофе, раскрою столик для бриджа, и мы часами сидим за ним и беседуем.
— Неугомонные! — бурчит мужчина позади меня, тот самый, что до последнего не торопится забрать пальто со спинки моей скамьи.
— И ты, мама? — не выдерживаю я. — Ты тоже сидела и беседовала?
— Я сидела и слушала.
— А как себя вели эти женщины? Они тебя не обижали?
— Случалось. — Мама отворачивается. — Вот Рэй, учительница, прекрасно ко мне относилась. Всегда говорила: «Садитесь, Броня. Дайте отдых ногам».
— А другие?
— Мужчины, они были обходительные, образованные, как твой отец. А женщины чуток задирали нос.
— Они тебя обижали?
— Ни в коем случае! — отвечает мама.
Служба подходит к концу.
— О ревуар, — прощается со мной мамуля.
Всю неделю я представляю себе, как она, повязав поверх домашнего платья передник, обслуживает всю компанию. Много десятилетий назад гости сидели за ее столом, поедали ее печенье, протягивали кружки за новой порцией кофе, а саму ее не замечали.
Мама — идеальная хозяйка, ее не застигнуть врасплох; я не такая. На день рождения она неизменно дарила мне бытовую технику: блендер, пылесос, швейную машинку. Но ни до пыли, ни до измельчения продуктов, ни до французского шва у меня так руки и не доходили. А вдруг это до сих пор ее огорчает?
Даже если и так, то, может, я еще смогу наверстать упущенное за эти годы? В ближайшую пятницу я сажусь рядом с ней и ощущаю прикосновение ее ладони; мама шелестит страницами моего молитвенника, отыскивая нужный разворот.
— Расскажи о Рексе, — прошу я.
Она улыбается.
— Он со слуха играл на фортепьяно. Сочинял музыку. Выдумывал языки. Смешил нас.
— И ты, мама? Ты тоже смеялась?
— Почему нет? — удивляется она.
На людях мама никогда не смеялась, улыбалась только. За кухонным столом, над домашними байками, она хохотала до упаду. Но при посторонних она будто бы не понимала смысла шуток.
Женщины из папиного окружения смотрели на нее пренебрежительно. Они вели совсем другую жизнь. Мама ни разу не была в салоне красоты. Не ходила с ними по магазинам, закупалась исключительно на распродажах. Когда компания выбиралась в кафе, она из-за своего кашрута была им в тягость.
— Это Руби, — продолжает мама, — сказала, что я похожа на Норму Ширер.
Руби курила сигареты с длинным мундштуком.
Но почему Руби так сказала? Может, потому, что никогда и никого не приглашала в свои элегантные апартаменты? Или потому, что однажды поглядела на мамины ясные глаза, вьющиеся волосы и вдруг на миг подобрела?
Теперь я смотрю на Норму Ширер, как смотрела бы на свою мать. На следующей неделе беру еще один фильм с ее участием — «Восторг идиота», тоже 1939 года. Снова ревет лев на заставке «Метро-Голдвин-Майер». В «Восторге идиота» Норма Ширер говорит с русским акцентом, прямо как мамуля.
— В России я увлекалась театром, — говорит мама, когда я делюсь с ней впечатлениями от Нормы Ширер в роли русской графини. — И у меня была прекрасная осанка. Ничего-то ты о своей матери не знаешь. Думаешь, я всю жизнь была домоседкой? В юности, когда я жила в маленьком городке в России, у меня была возможность пару лет посещать частную школу. Там меня учили танцевать, говорить по-французски, играть на сцене. Я обожала играть! Больше всего на свете я хотела стать актрисой. Потом приехала сюда, устроилась в прачечную и забыла о сцене. А все-таки, — говорит она, — знаешь что? Возможно, я и стала бы Нормой Ширер, будь у меня тогда, в 1939 году, свой Перс Вестмор[22], который бы меня гримировал, и свой Эдриан, который бы меня одевал.
— Что же ты делала тогда, в тридцатых? — интересуюсь я.
— Остановитесь хоть на минуту, — встревает сидящая перед нами вдова.
Но моя мать — профессиональная мемуаристка.
— Что я делала в тридцатых? А вот слушай. Жизнь у меня была собачья, — говорит она. — Жила я у родни твоего папы на задворках магазина в Парадиз-Велли, «черном» районе Детройта. А твой брат внезапно заболел. Двусторонний мастоидит. Проснулась и слышу, что он задыхается. Наутро позвонила педиатру. Сказала, что ребенок очень болен, что у него высокая температура, что денег прямо сейчас у меня нет, но, как только муж получит работу, я отдам ему с первой же зарплаты. Доктор меня облаял: дескать, не суйся с пустыми руками.
— Ублюдок!
— Вы опять за свое? — оборачивается ко мне вдова.
— И тогда мы позвонили нашему другу Рексу, — шепчет мама мне на ухо. — Он был знаком с этим врачом. Рекс перезвонил и сообщил, что доктор скоро будет. Тот вскрыл оба уха и пообещал проведать малыша на следующий день. С первой же подработки, которую нашел твой отец, я с ним расплатилась.
— Ты была счастлива, мамуля?
— Что за вопрос? — фыркает она. — И с чего вдруг сейчас?
Она опускает голову и смотрит на свои руки, такие тонкие, что, кажется, они растворяются в складках ее юбки. — Сейчас-то чего?
Она молчит.
— И да и нет, — говорит она. — Мы были молоды. Это счастье. Но мы были бедны. А это несчастье. Нищета — это, знаешь ли, не мюзикл с маленькой мисс Ширли Темпл[23], отбивающей чечетку.
— Я терпеть не могла Ширли Темпл, — мелочно говорю я.
— Это зависть, обычная зависть, — отзывается мамуля. — У тебя не было таких ямочек на щеках и умения заучивать тексты. И кудряшки приходилось каждое утро завивать. Эстер Уильямс[24] царила в воде, Соня Хени — на льду, и обе снимались в кино. Сколько было возможностей! Ширли уже сходила с дистанции, Джейн Уизерс почти что вышла в тираж, а ты упражнялась спустя рукава.
Она вдруг произносит:
— Степ, шаффл, хоп, даун, даун.
— Ты все помнишь! — восклицаю я.
— А кто разучивал с тобой чечетку в цокольном этаже? А ты танцевала так, словно у тебя не ноги — протезы.
— Ты во мне разочаровалась, мама?
Она явно сопоставляет деньги, потраченные на мои уроки и туфли для чечетки, и всю дальнейшую мою жизнь.
— Некоторые успехи у тебя были, — говорит она.
— Сделайте одолжение, — встревает впередисидящая женщина, — подыщите себе другую синагогу.
— Что за люди! — возмущается мамуля. — Лично я с соседями всегда ладила. С богатыми ли, бедными, хорошими, плохими — мы всегда находили общий язык.
— Но во время Великой депрессии все было не слишком ладно?
— Нормально было, — говорит мама. — Малыш выздоровел. Ты росла смышленой девочкой. Мы перебрались в дом моей матери, и он казался нам хоромами, хотя мы с твоим отцом спали в прихожей, бабушка — в кухне, а спальни сдавались жильцам. Сложные были времена, но все ладили между собой, обходилось без споров и ссор.
Неужели и вправду были такие времена, когда родственники теснились под одной крышей с постояльцами и обходились без денег и без ссор?
— Твой отец с Рексом пели смешную песенку, — вспоминает мама. И поет мне на ухо:
— Как вы развлекались? — интересуюсь.
— Только и можешь думать, что о развлечениях? — фыркает мамуля.
Она погружается в воспоминания полувековой давности.
— Мы ходили в кино, — рассказывает она. — Сдвоенные сеансы, строго два раза в неделю — новый репертуар, плюс анонсы, мультфильмы, кинохроника. Ну и лакомое блюдо: кино про гангстеров — Джеймс Кэгни и Пол Муни, Спенсер Трейси и Эдвард Г. Робинсон[25]. Любовные истории. Юмор: «Новые времена» с Чарли Чаплином и Полетт Годдар, его подругой на экране и в жизни. Все мечты находили воплощение на экране.
— Зачем вы вообще ходите на службы? — спрашивает та вдова с переднего ряда.
— Вот-вот, и я о том же, — поддакивает мужчина сзади.
Мы затихаем, но субботняя служба такая долгая: молитвы-восхваления, молитвы-прошения, молитвы-благодарности, молитвы-покаяния. Мы встаем, садимся, снова встаем, садимся, вверх-вниз, как йо-йо, так что почти сразу мы с мамой снова начинаем болтать, не переставая вскакивать на ноги и садиться.
— Вы часто выбирались куда-нибудь с Рексом?
У меня, хоть он и уехал, когда я была еще маленькой, остались о нем романтические воспоминания.
— Рекс приходил почти каждый день. Мы до самой темноты, а то и за полночь, обсуждали насущные дела. Он часто приводил с собой друзей. По два-три раза в неделю брал нас на вечеринки, встречи, лекции, в кино или музеи, приглашал к себе домой.
— Отец сидел без работы, а у Рекса водились деньги?
— Да, покуда он сам не потерял работу, они все ее по тем или иным причинам теряли. Одного, учителя, директор после урока социологии объявил красным, навсегда закрыв ему доступ к преподаванию. У другого в свое время не хватило денег на учебу в медицинском институте, и он брался за черную работу, но потом не стало и ее. У третьего было столько домочадцев, плюс родители, плюс бабушки и дедушки, что он пришел в полицейский участок и попросился в тюрьму. Завидовать было ровным счетом некому. Веселого было мало, моя девочка.
— Потом Великая депрессия закончилась и стало хорошо, да? — спрашиваю.
— Депрессия закончилась, — отвечает мама, — но хорошо не стало. Рекс переехал в Калифорнию, а как иначе, ведь он же второй мистер Уильям Пауэлл. Ему нашлась работа — товароведом в магазине. Он, бедняжка, ее ненавидел. Последнее, что он сделал перед отъездом, — снял на видеокамеру, как ты бьешь чечетку под «Отправляйся восвояси». Ты улыбаешься там во весь свой щербатый рот.
Описание меня огорошивает. Я бы предпочла, чтобы Макс потом тоже вспоминал обо мне с ностальгией.
— Я тебя нарядила, завязала большой бант. Ты била чечетку, размахивая руками, бант подпрыгивал вверх-вниз. В до блеска начищенных туфлях сверкало солнце. Звезда домашнего кинематографа, — рассказывает мамуля.
Она ожидала от меня большего, это понятно.
— Почему вы с папой не поехали? — спрашиваю.
— Твой отец испугался. Великая депрессия превратила всех в трусов, — говорит мама.
И плачет. Слезы вытекают из ее глубоко запавших глаз и скапливаются в складках кожи.
— Двадцать пять лет кряду отец смотрел в окно и приговаривал: «Как же мне не хватает Рекса». А Рекс у себя в Лос-Анджелесе каждый день вздыхал: «Как же мне плохо без него». Рекс не мог простить жене, что она увезла его от привычного круга общения, от закадычного дружка.
— А как обстояли дела у вас? — интересуюсь. — Отец тоже на тебя злился?
— Нет, но вечно повторял: «Мы были, как Давид и Ионафан»[26].
— А потом?
— Потом случилась Вторая мировая война, за ней война в Корее, а потом Рекс умер. А следом умер и твой отец. И все закончилось. Замену друг другу они так и не нашли.
— Но у папы была ты!
— Я не умела петь смешные песенки на вымышленном языке. Не умела изображать игру на пианино. Была плохо образована. Мы редко общались с нашими прежними знакомыми.
— Тогда надо было перебираться к Рексу, — замечаю я.
— Ты мне будешь указывать, как я должна была поступить? — вскидывается мамуля. — Нужно рассчитывать свои силы. Мы что, Оуксы из кино «Гроздья гнева», чтобы ехать в Калифорнию? И что бы мы там делали? Собирали фрукты, как Генри Фонда и Джейн Дарвин?
— У меня к вам персональная просьба, — говорит мужчина позади, поглубже заталкивая мне под спину свое пальто. — Не желайте мне хорошего шабата.
— Не могла я вот так вот взять и уехать на другой конец страны, — говорит мамуля. — У меня здесь жили мама, братья. Да и как было сорвать с насиженного места вас, детей?
— А что такого? — говорю я. — Нам бы понравилось в Калифорнии.
Мама на своей бархатной подушке становится почти прозрачной, тает на глазах.
— А кроме того, — говорит она, — там бы никто не знал, что я вылитая Норма Ширер.
Свой жир уже поперек горла
Рядом со мной на скамье сидит мама. Раньше она занимала два места, две бархатные подушки. Теперь одно место свободно.
Мама ощупывает свое лицо.
— Дай-ка мне зеркальце, — говорит она.
Смотрится.
— Стоило похудеть, как все лицо в морщинах. Да еще волоски на подбородке.
— Нормально выглядишь, мама, — говорю я.
Старуха она и есть старуха.
— В следующий раз захвати с собой увлажняющий крем, — наказывает мамуля. — Здесь так жарко — все равно что сидишь на батарее.
Пока с кафедры делались объявления об обеде в пользу больных СПИДом, посещении пациентов в местной больнице, занятиях кружка, концерте, мамуля вся извертелась.
— Просто диву даюсь, как они еще ухитряются службы отправлять, — говорит она.
В последние дни ее воспоминания сделались остры, а язык — еще острее.
В прежние времена она была добродушной, любящей.
Или я ошибалась?
Помню, как в детстве мы ездили на автобусе в центр за покупками, обратный путь был долгим, и я засыпала на ее большой, мягкой груди, а она сидела не шелохнувшись.
Помню, как, возвращаясь из школы, я трещала без умолку о своих делах, совершенно не интересуясь, как прошел день у нее. Она слушала, и послеобеденное солнце освещало ее улыбающееся лицо.
Помню, как еще несколько месяцев назад она гладила меня по голове и держала за руку.
В теплые края мы с ней перебрались не так давно. А раньше обе жили на Среднем Западе и однажды холодным зимним днем случайно столкнулись в супермаркете, в очереди к кассе. Я стояла за ней, гадала, кто бы это мог быть: головка маленькая, в косынке, а пальто старое и с трудом сходится на груди.
— Мама, на кого ты похожа! — возмутилась я.
— Я вышла за покупками, — огрызнулась мама. — А не в оперу.
Позади нас обнаружилась мамина соседка.
— Миссис, это вы? — спросила она. — Вас и не узнаешь.
— А мне плевать, — заявила мама и отвернулась от нас к кассиру.
Она переселилась в Калифорнию, в поселок для престарелых, подальше от зимы, тугой косынки и старого пальто.
В этом поселке толстых не водилось.
Вахтер в бассейне, прежде чем разрешить его жителям макнуться в джакузи, проверял у них давление — не дай Бог высокое. Физкультурник допускал до тренировки только после взвешивания.
Единственной опасностью в том поселке оставался вес: ни краж, ни разбойных нападений не было. Всю территорию с самого начала обнесли забором и хорошо охраняли.
Я приезжала туда к ней, мы вместе гуляли; малейший подъем вызывал у нее одышку.
— Такой вес на себе таскать — смотрите, как бы беды не вышло, — бросил однажды проезжавший мимо автомобилист.
Прихожане вместе с молитвенниками носили в церковь и синагогу диету Притыкина[27].
По ночам жители поселка шпацирали[28] в льняных костюмах, а мама, в домашнем платье, безвылазно сидела в своем патио.
Мне стыдно за нее. Я вдруг поняла, что всегда ее стыдилась.
Ее объемов и обхватов, плоти, выпирающей из лифчика, валиком нависающей над поясом. Эту вездесущую плоть надо было держать в узде.
Стыдилась ее акцента. Английский был для нее неродным языком, но если грамматику она освоила, то произношение сохраняла прежнее, вывезенное из Старого Света. Вместо «е» выговаривала «э»: «Отмэрьте мне мэтр ткани». Местоимения употребляла наобум.
Стыдилась ее непрезентабельного внешнего вида. Одежды, скупаемой на распродажах безо всякой примерки. В Калифорнии она носила одни лишь балахоны да халаты.
Мне, ребенку-конформисту, было стыдно за все, в чем ей было с собой комфортно.
Теперь мы молча сидим рядом, пытаясь в оставшиеся нам месяцы узнать, наконец, друг друга.
Неожиданно мама поворачивается ко мне.
— Мне всегда было за тебя стыдно, — говорит она.
— За меня? Почему? — я изумлена.
— Прежде всего, из-за твоего глупого смеха, — объясняет мама. — Потом, из-за твоей взбалмошности. Да еще твои волосы, растущие отовсюду: мохнатые подмышки, ноги, брови.
— Почему же ты молчала? — спросила я. — Я бы постаралась измениться.
— Перестала бы хохотать, аки гиена?
— Ага.
— Стала бы ответственнее?
— Возможно.
— А волосы?
— Нет, только не волосы.
Только не моя непокорная, буйная шевелюра.
— А еще ты плохая хозяйка, — прибавляет мама.
Я сижу и размышляю над ее словами. Из года в год она дарила мне то блендер, то швейную машинку, но я так и не научилась ни строчить, ни смешивать.
— Я тебе не нравилась? — спрашиваю у нее.
— В целом, да, — отвечает.
— Не знала, — говорю.
— Вот и славно, — отзывается она. — Значит, ничего плохого не случилось.
Поднимаемся на молитву — восславить Всевышнего.
— Забавно, — замечает мать, — что Ему постоянно нужны молитвы. Ему всегда мало.
Кантор затягивает веселую мелодию на стих о соблюдении субботы. Мать отстукивает ритм рукой по спинке скамьи перед собой. Она всегда обожала петь. Помню ее выступления с женским хором: рот раскрыт, глаза смотрят строго на дирижера. Даже в очень большой аудитории, среди многих других певиц в темных одеяниях, мы легко ее узнавали. Она занимала в ряду сразу два места.
Во время «тихой молитвы» следует хранить молчание, но меня распирает от вопросов.
— Чем я тебе не нравилась? — уточняю я в третий раз.
— Ты задирала нос, — отвечает мать. — К отцу относилась хорошо, а на меня смотрела свысока. Ты, что греха таить, считала себя лучше меня.
Грамматика — не подкопаешься.
— Верно, — соглашаюсь.
— Почему? — это до сих пор ее обижает. — Я много читала. Была в курсе мировых новостей. Содержала дом в уюте и порядке. В чем, ну в чем я провинилась?
— Ты была чудовищно дремучей, — объясняю. — И придавала большое значение всякой ерунде.
У меня накопился на удивление длинный список претензий.
— Ты только и говорила, что о еде. И никого, кроме себя, не слушала.
— Как и ты, например, — фыркает мать.
— Жевала с открытым ртом, — продолжаю.
— Итак, мы обе друг другу не нравились, — подытоживает мать.
Выходит, эти встречи вечером по пятницам и утром по субботам, этот год скорби — сплошное лицемерие?
— Прости, что я тебя обижала, ма, — говорю я. — Я не знала.
— Вот именно, — говорит мать. — Ты ничего не замечала.
Мы садимся. Мой молитвенник открыт. Она знает службу наизусть. Объявляют номер страницы. Я листаю.
— Смотри-ка! — замечает мать. — Тут сказано, сегодня новолуние!
Кантор трижды провозглашает новолуние.
— Я всегда молилась за наступление нового месяца с радостью, — говорит мама. — А если что не заладится, то совсем скоро, через двадцать восемь дней, по этому календарю, настанет еще один месяц. Четко, как женский цикл.
Она с любопытством косится на меня.
— Кстати, о цикле. Передышка уже наступила? — интересуется.
— Наступает, — говорю.
— Это просто семечки, — она сплевывает воображаемую шелуху. — Не бери в голову.
— Меня как будто подключили к розетке, — жалуюсь я.
— Приливы и приступы, — говорит она, — все как полагается. «Открой окно», командовала я твоему отцу. «Закрой окно». «Открой, закрой», и так всю ночь. «Одеял. Укрой меня». А потом эти одеяла сбрасывала.
— А перепады настроения тоже были? — спрашиваю робко. — Синдром пустого гнезда, например.
Никогда раньше не разговаривали мы по душам.
— Ничуть, — отвечает мама. — Дождаться не могла, когда вы, птенчики, упорхнете. Мне всегда было хорошо вдвоем с вашим отцом, и наконец я заполучила его в безраздельное пользование.
Исполняют одну из ее любимейших песен. Но она не поет, а лишь беззвучно шевелит губами.
— Пропал голос? — спрашиваю осторожно.
— Я пела эти песни тысячи раз, — она зевает. — Надоело.
Надо же, в своих записках она говорила иначе.
Мама продолжает:
— Если Он наш Отец, наш Щит, неужели ему было трудно защитить нас во время Холокоста?
— Нашла время спрашивать, — говорю.
— Лучше поздно, чем никогда, — возражает мать.
Мы поднимаемся для последнего благословения. Она наставляет на меня пальцы «пистолетиком».
— Трах-тах-тах!
Всю неделю я вспоминаю, как мать подступала к Богу с вопросами. В записках, которые она мне оставила, она представала совсем другой. А еще всю неделю я сплю и вижу, как мы с ней едим. Весь стол уставлен тарелками, тут сразу и второе, жаркое или курица, и суп, и салат. Не надо вставать за переменой. Можно есть и есть без остановки.
Ее самооценка колебалась в зависимости от прорывов и провалов окружающих. Она стыдилась своего скудного образования, зато чрезвычайно гордилась превосходным зрением и острым слухом.
— Я-то вижу вдаль на километр, — говорила она, указывая на отца — тот носил очки с толстыми линзами и придвигал газету к самому носу.
— Булавка упадет — и то услышу, — хвасталась она, тогда как у отца слух все ухудшался. Когда они переехали в поселок для престарелых, он заказал себе слуховой аппарат на оба уха и специальное устройство для телефона.
Соседей своих по этому поселку, в отличие от соседей на Среднем Западе, она любила.
— Сделай потише, — вечно шикала она на отца, который включал свои новости и спортивные передачи на полную громкость. — Ты мешаешь соседям!
— Кто ваши соседи? — однажды спросила я, приехав к ним в гости.
— С одной стороны чудный мужчина, у него жена умирает от рака. С другой — активная дама, к ней на выходные приезжает бойфренд. «Не судите меня, — заявила она мне. — На дворе двадцатый век!»
— Да уж, — говорю я.
Отец улыбается. Ему симпатична эта восьмидесятилетняя дама, живущая от них через стенку, которая скачет по садовой дорожке, гоняет на авто и колесит по миру с камерой на плече.
— Жизнь здесь бурлит, — говорит мама. — Кто-то находит последнего любовника, кто-то — последнее пристанище.
Вскоре слуховой аппарат вынули из отцовских ушей, очки убрали в футляр. Как ни старались декораторы в покойницкой, на переносице остались глубокие следы от носовых упоров.
Спустя полтора года и она нашла последнее пристанище.
Брат выставил их дом на продажу. Я несколько раз наезжала в поселок, чтобы помочь разобрать кладовки.
— Взгляни, — сказал брат, — здесь все платья, которые она когда-либо носила. И все папины костюмы.
Рубашки и костюмы отца — все одного размера. С момента свадьбы и до самой его смерти шестьдесят один год спустя его вес оставался неизменным.
Платья же матери были расфасованы в целлофан по размерам — с 9-го по 44-й. Все когда-либо купленные туфли тоже были в наличии, с 7-го до 10-го размера. Некоторые платья ушивались, другие расставлялись.
— Она ничего не выбрасывала, — заметил брат. — Тут лежат все до единого твои письма, а в этом конверте — все наши с детьми открытки ко дню рождения и Дню матери.
В последний свой раз я уношу из ее дома адресованный мне конверт 9х12.
Внутри — пачка разрозненных листков. Бегло их просматриваю и засовываю обратно в конверт.
На следующей неделе мать спрашивает:
— Что ты читала в последнее время? Люблю послушать про книги. Особенно про биографии.
— Я как раз читаю биографию, — отвечаю, — Вирджинии Вулф.
— Зачем тебе эти английские антисемиты? — фыркает мама. — Я оставила тебе полный шкаф с книгами, среди них биография Давида Бен-Гуриона, автобиографии — одна Голды, другая — Аббы и еще одна — Щаранского[29].
Вообще-то я их читала, но не желаю доставлять ей удовольствие.
— Кстати, — спрашивает она, — ты читала хоть что-то из того конверта, который я тебе оставила?
— Не все, — отвечаю.
— Тянешь время, а бумага-то желтеет, — замечает она. — Прямо как я.
— Я прочту, — тут же обещаю я.
— И увидишь, — говорит мама, — как ты была ко мне несправедлива.
В конце службы, когда все жмут друг другу руки и желают хорошего шабата, я отворачиваюсь от матери. Не хочу пачкать рот ложью.
И вот наконец я открываю тот большой конверт. В нем странички, отпечатанные на машинке, обрывки бумаг, вырезки из газет. Беру в руки листок, адресованный какому-то обществу под названием «АТ».
Это они были виноваты. Их нужно винить. В первые годы замужества я весила 55 килограммов, хотя и родила уже детей. Я не (зачеркнуто «была кубышкой») страдала ожирением. Но в подростковом возрасте дети стали приглашать домой друзей. Мне все время приходилось стряпать для них и печь, а потом подъедать остатки. Я превратилась в живой утилизатор мусора.
— Ошибаешься, ма, — возразила я вслух. — По всем пунктам ошибаешься. У нас не было много друзей. Брат был застенчив. После школы — прямиком домой и дверь на запор. У меня их тоже было раз, два и обчелся. Ты все выдумала для «АТ».
— Мама, — говорю ей в ближайшую пятницу, — это не из-за меня ты располнела.
— Сначала я тебя вынашивала, — перечисляет она. — Затем пила пиво, чтобы молоко было богатое. Потом налегала на еду, чтобы были силы с тобой нянчиться. То же самое потом с твоим братом. Далее вы оба подросли и стали клянчить конфеты, печенье, торты. А позже стали клянчить и ваши приятели.
— Мама, — возражаю я, — люди бывают толстые, бывают худые. Думаешь, мне приятно было, когда меня в школе дразнили «скелетом»?
— Человек не всегда толстеет сам по себе, — говорит мать. — Его буквально провоцируют на ожирение — все и вся. Взять, к примеру, телевизор: там людям специально платят за то, чтобы они у нас на глазах поедали вредную пищу.
Помню случай, кажется, не далее как прошлогодний, когда я пришла навестить мать — скрасить ей одиночество. Первым делом она спросила: «Есть хочешь?» Сама она уже съела обед — она такой много лет готовила для них с отцом — сэндвич с тунцом, борщ со сметаной, сырники и маковые печеньки. Но все равно села за стол и поела со мной — за компанию.
В эту пятницу мать говорит:
— Тем людям я могла излить душу — не вам. Вам не было до меня дела. До меня и моей борьбы с лишним весом.
— Я этого не понимала, — призналась я.
— Девочка она смышленая, только дурочка, — отзывается мать.
— А с отцом ты это обсуждала?
— Когда у человека кожа да кости, что с ним можно обсуждать?
— Ты пошла к толстякам?
— К «Анонимным толстякам»[30], — отвечает мать.
— «АТ», — догадываюсь я.
— Твой отец подшучивал: «Вы, девахи, собираетесь и перемываете друг другу не косточки, а жир?» Я старалась не обращать внимания, но неделя за неделей — одно и то же. Шутника могила исправит.
За прошедшую неделю я уже прочла ее «признание» для «АТ».
В детстве, когда я жила в России, я пережила страшный голод, поэтому, став взрослой, я постоянно скупала и запасала еду из страха, что настанет дефицит. Замужем, вместо того чтобы готовить на четверых, я готовила на восемь, а то и на десять человек.
Она запасала все. На чердаке у нас были залежи туалетной бумаги и консервов, закупленных на распродажах в супермаркете. Мы лазили на чердак за консервированными фруктами, банками с лососем, тунцом, стручковой фасолью, кукурузой, ананасами. Мы питались со скидкой.
— Чем ты занималась в «АТ»? — интересуюсь.
— Я была книжным обозревателем, — рассказывает мама, — делала обзоры литературы по нашей тематике. Можно сделать акцент на психологию, на социально неблагополучное или голодное детство. Можно взять что-нибудь вдохновляющее, например, автобиографию какой-нибудь женщины, которая, вместо того чтобы изводиться мыслями «я бочонок на ножках», препоручила себя Его заботам и обрела самоуважение. Куда ни глянь, люди страдают и заплывают жиром.
У алтаря какой-то коротышка пытается удержать разновесную Тору. На одном валике намотано чуть-чуть, другой гораздо тяжелее. Коротышка поднимает свиток, приближает его к глазам и чуть не роняет на пол. К нему кидаются на помощь.
Маму этот эпизод позабавил.
— Зачем они вызвали мужчину-цыпленка? — говорит она. — Вызвали бы лучше женщину-великаншу.
Она возвращается к рассказу о своих обязанностях в «АТ».
— Я делала обзоры «Дневник чревоугодника, которому свой жир уже поперек горла» и «Как стать себе лучшим другом».
На неделе из маминых обращений к участникам общества я выяснила, что она обращалась к Богу еще и с другими, не указанными в сидуре, молитвами.
— Я научилась вести собрания, — говорит мама. — Я была очень робкая, ты же знаешь, и стеснялась выступать на людях, в том числе из-за акцента. Но я делала глубокий вдох и начинала: «Доброе утро. Сегодня понедельник. Добро пожаловать на утреннее собрание „АТ“. Прежде всего, давайте познакомимся. Я представлюсь сама и подойду к каждой из вас. После чего мы встанем в круг и вознесем молитву об укреплении». Ну, знаешь, эту, — уточняет она. — «Укрепи меня, Господи, и дай мне смирение вынести то, что я не в силах изменить» и так далее. Быть ведущей ой как непросто. Моей задачей было их разговорить. Например, я обращалась к ним:
Повторяйте, как мантру: воздержание и еще раз воздержание. Представьте, как изменится ваша жизнь, ваши животы станут плоскими и вы станете не ходить, а словно парить над землей.
Я узнала это вступление: оно тоже было среди тех бумаг.
— Почему ты не пошла к «Весонаблюдателям»[31], мама? Мне кажется, у них проще.
— Нет, — возразила мамуля. — В «Весонаблюдателях» принято взвешиваться. Если ты прибавила, тебя чихвостят почем зря. Если сбросила — свистят и аплодируют. Я же искала тихую компанию товарок по несчастью.
Мать была несчастна, а я ее не поддержала.
По окончании службы мать чмокает меня в щеку. Все вокруг обмениваются рукопожатиями, целуются с родными и друзьями.
— Береги себя, — говорит мать. — А то совсем осунулась. Гляди, закончишь, как я.
И смеется.
За эту неделю я прочла в ее вырезках из газет новые молитвы. Особенно поразили меня в одной из ежедневных газет «Десять заповедей жен» из колонки «Дорогая Эбби дает советы».
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЖЕН
Не оскверняй тело твое ни обильной едой, ни табаком, ни алкоголем, и тогда бессчетны будут дни твои в доме мужа твоего.
Почитай мужа твоего превыше матери твоей, и отца твоего, и дочери, и сына твоего, ибо он спутник твой, данный тебе на всю жизнь.
Не заводи ссор.
Не дозволяй ни единому человеку жалеть тебя за тяготы твои…
— Бедная мама, — вздохнула я.
А вот совет из «Популярной психологии» — «Как себя контролировать».
Контролируйте себя: свой нрав, свои эмоции, свой вес.
Прихожу в синагогу, а мама меня уже ждет. Поглядывает на дверь и при виде меня расплывается в улыбке, машет рукой. Зубы ее потемнели из-за плохого ухода в последние годы, но улыбка такая призывная, что я устремляюсь к нашей скамье прямо в пальто.
— Я по тебе скучала, — сообщает мамуля.
— Мам, — говорю я, — если бы ты так отчаянно себя не контролировала, то и есть бы столько не приходилось.
— Это еще что такое? — фыркает мама. — «Движение за освобождение женщин»?[32] Главная причина всех мировых разводов.
Я снова начинаю испытывать к ней недобрые чувства.
— Я тебя задела? — смягчается мама. — Запамятовала, что ты сама из них.
— Как с тобой разговаривать? — кипячусь я.
За какую-то минуту наша любовь вновь сменяется застарелыми разногласиями.
— Давай сегодня будем молчать, — говорю я. — И сидя, и стоя.
— Как тебе будет угодно, — ответствует мать.
Кантор поет:
— Дивная мелодия, — замечает мать. — Не слышала такой.
Сегодня какое-то музыкальное попурри.
Кантор поет:
— В «АТ» тоже так говорили, — вставляет мать.
Мы дружно ухмыляемся.
— Спроси у меня какой-нибудь рецепт, — вдруг предлагает она.
— Ты мне уже давала рецепты, — напоминаю ей. — Фаршированной капусты, мясного борща и салата с тунцом.
— А я рассказывала, как готовить мандельброт, жареную мацу и морковный цимес?
— Если спросить тебя, — отвечаю, — все твои советы сведутся к «добавь щепотку того и щепотку сего».
Мама щиплет меня и заливается смехом.
— Ты что, не хотела, чтобы я научилась готовить? — спрашиваю.
— Похоже, так, — отвечает мамуля. — Наверное, я тебя оберегала.
— Я знаю все твои рецепты, — говорю. — Нашла твою тетрадь с праздничными блюдами.
— Неужели ты их прочитала? — удивляется она. — Я вспоминала их для тебя, записывала в эту тетрадь синими чернилами, а потом — толстыми лапами все несподручно — опрокинула на нее стакан воды, и чернила расплылись. Прощай, рецептики.
— Я сумела их разобрать, — говорю.
— Раз ты такая умная, — говорит мама, — то как ты будешь печь мандельброт?
— Надо взять, — перечисляю я, — яйца, сахар, любое растительное масло без запаха, ваниль, муку, пекарский порошок, соль, грецкие орехи.
Смолкаю, пытаясь вспомнить, что там дальше.
— Очень даже неплохо, — отмечает мама. — А что еще?
— Изюм, засахаренные вишни, корицу и сахар.
Мама сияет.
— Превосходно. У тебя всегда была хорошая память. Скоро Песах, так что расскажи-ка мне, — она делает паузу и выдает, — как делать жареную мацу.
— Спроси я тебя, ты бы сказала: «Возьми мацу и обжарь на сковородке, вот тебе и жареная маца».
— Ну да, — говорит мама. — Но там и еще кое-что, ты помнишь?
— Маца, яйца, обезжиренное молоко, соль, перец.
— Можно еще покрошить туда лук, — вставляет мама.
— В рецепте этого не было.
— Ну так впиши.
— Хорошо, — обещаю.
— Так вкуснее, — говорит мама.
У возвышения что-то происходит. Пожилой мужчина читает молитву за здравие какого-то больного.
— Бедолага, — говорит мамуля. — За жену молится, не иначе.
Она вслушивается. Качает головой.
— Все с ног на голову! Дед молится за внучку!
Община сочувственно гудит.
— Так, хорошо, — говорит мама, — теперь морковный цимес.
И смотрит с прищуром. Думает, подловила меня.
— Варианта три, — докладываю я. — Первый: морковь, кабачок и корица. Второй: морковь, изюм, яблоки. И наконец: морковь, ананас и засахаренная вишня.
— Засчитано! — ликует мамуля.
И, снова глянув на меня с прищуром, выпаливает:
— Хлеб с лососем, запеканка из мацы, пирог на Песах.
Рассказываю и эти рецепты.
Она складывает руки и закрывает глаза.
— У меня оно было, — говорит она. — Вдохновение. Истинное вдохновение, посланное свыше. А ты вечно сбиваешься то на бестселлер какой-нибудь, то на киносценарий.
— Да нормально я готовлю, — защищаюсь я. — С голоду не умираю.
— Ты не вкушаешь удовольствия — одну только пищу, — говорит она. — А что, если выпустить бестселлер, но не худлит?
Тут нас призывают встать на молитву, и она подскакивает от неожиданности.
— Поваренная книга особого толка, — говорит она, когда мы садимся обратно. — Перепечатки рецептов из моей рукописной тетради плюс новые идеи, которыми я поделюсь с тобой в ближайшие месяцы, и последний ингредиент — мои мемуары.
— Куча поваренных книг составлена на основе мемуаров, — встреваю я.
— Я еще не закончила, — осаживает меня мать. — Вечно ты перебиваешь.
Я молчу. В этом вся она.
— Надо придумать название, — говорит она.
— «Наедаемся до пуза», — предлагаю.
— Не будь прусте, — говорит она возмущенно.
Прусте, наверное, значит «грубая», «резкая».
— «Вкус к жизни», — ее вариант.
— Кажется, был такой старый фильм? — возражаю я. — А как насчет «Сыты по горло своим жиром»?
— До чего ж ты противная, — говорит мать. — Я с того света пытаюсь тебе помочь, а ты сопротивляешься.
Сопротивляюсь я всю неделю. Она с нетерпением меня поджидает.
— Нашла мои воспоминания? — допытывается. — Нам только и нужно, что вставить туда рецепты.
— То есть между погромами и вспышкой сыпного тифа будет идти рецепт борща? Как там папа говорил, «перемываем не косточки, а жир»? Давай так книгу и назовем.
— Нет в тощих людях оптимизма. — Глаза ее горят. — Как тебе такое: «Еда навсегда»? «Стряпня длиною в жизнь»? «Неземная пища»?
— «Неземная пища»! — Мы дружно хохочем.
— А что по поводу этого торжества обжорства сказали бы члены «АТ»? — интересуюсь.
— Они бы лиг ин дрерд.
В гробу она видала всех прежних членов «АТ»!
— А все эти клятвы насчет самоконтроля, послушания и подчинения?
— Плевать, — отвечает мамуля. — На дворе двадцатый век.
— Да уж, — соглашаюсь я.
— Итак, сделка?
— Но только когда у меня будет свободное время, — уговариваюсь я.
— Мы вместе, малышка, ты да я, — восклицает мама. — Мы команда!
Раздается одна из многих мелодий, изначально то ли славянская, то ли сефардская, то ли арабская, которой в шабат приветствуют невесту-субботу.
— Но с чего ты решила, что наша книга будет пользоваться успехом? — спрашиваю.
— А у нее есть фишка, — отвечает мамуля, — это первая поваренная книга, написанная посмертно.
Остаток службы она сидит с улыбкой на губах.
Когда день гаснет, а служба подходит к концу, она поворачивается ко мне.
— Ты начинаешь мне нравиться, — говорит она.
Тайны
Обычай предписывает, сколько держать траур и когда ему выходит срок.
По еврейской традиции тот, кто читает поминальный кадиш, — заступник перед Богом за усопшего на одиннадцать месяцев. А оставшийся месяц года покойный молится за себя сам. Так всегда полагалось, и я думала, что так оно и будет.
Каждую неделю, в пятницу вечером и в субботу утром, мы с мамой уютно сидим рядышком. Мама не устает восхищаться нашей богато украшенной синагогой с массивными люстрами и витражами, сплошь в именах вкладчиков.
— Дворец, не иначе, — высказалась мама.
— Тебе нравится? — удивляюсь.
— Да, при нынешних обстоятельствах, — отвечает мама.
Каждый раз кто-нибудь из прихожан норовит усесться на ее место, но я тверда: «Место занято». Здесь все иначе, чем в ее прежней синагоге. В поселке для престарелых в округе Ориндж синагогу, когда в ней возникла надобность, наспех слепили из шлакоблоков. Там, главным образом, провожали членов общины в последний путь.
Мама оглядывается.
— Деньги прямо-таки кричат, — говорит она.
Сидящий с нами на скамье мужчина хмуро отрывается от молитвенника.
— И что же они кричат? — спрашиваю шепотом.
— Они кричат: э-ге-гей, я богатей, и теперь мое имя сияет на солнце всех ярче и всех крупней, — отвечает мама.
Я устраиваюсь на скамье: складываю пальто, придвигаю молитвенник. Заглядываю через плечо к мужчине справа, чтобы узнать, на какой мы странице.
Он раздраженно перелистывает эту страницу.
— С казаками не общаемся, — говорит о нашем соседе мама. Откидывается на спинку скамьи и спрашивает: — Ну, что нового?
— Аномальная жара, — докладываю я.
— В Южной Калифорнии так шпарило круглый год, — отвечает мама. — Мои розы зацветали, распускались, вяли. И почти сразу же давай цвести снова.
Сосед захлопывает молитвенник и уходит.
Мама хихикает.
— Вернется. Пальто забыл.
И усаживается поудобнее, благо есть где. Я отогнала от нашего ряда всех, кто пришел позже меня.
— Что нового в семье?
— Ничего, — говорю.
Она скрещивает руки на груди.
— Куда им спешить, у них впереди вечность, — говорит она с ехидцей. — И когда только они повзрослеют?
— Мам, хватит, — отвечаю я. — Лучше замолви за них доброе словечко.
— Это я могу, — в мамином голосе сквозит гордость. — Я тут, наверху, не без связей, сама понимаешь.
И поправляет свою красную бархатную подушку.
— Ты имеешь в виду папу? — спрашиваю.
— Связи, а не общество друзей, — отвечает мама. — Ты думаешь, ты здесь зачем? Чтобы напомнить Ему о связях, протолкнуть меня наверх, так сказать.
Возникает наш прежний сосед, срывает со скамьи пальто.
— Доброго здоровьичка! — напутствует его мама.
Он поворачивается к нам спиной.
По проходу к нам спешит служка.
— На вас поступила жалоба, — сообщает он мне.
Мы с мамой пристыжены.
— На работе все в порядке? — спрашивает она, едва шевеля губами.
— В порядке, — даю лаконичный ответ.
— Надо кое-что уладить, — говорит мама.
— Что?
— Кое-что между нами.
— Опасное это дело, — говорю.
— Начинай первая, тогда и я тебе кое-что скажу, — предлагает она.
Служка смотрит в нашу сторону. Я гляжу строго перед собой.
— Мне нечего рассказывать, — говорю.
— Когда мне было семнадцать, — сообщает мама, — я встретила свою любовь.
Я опускаю молитвенник.
— Кто это был? Где?
— Ты прямо как твой папочка, упокой Господь его душу. Вечно этот журналистский напор: кто? что? где? когда? почему?
— Ага, — говорю. — Вот и давай по порядку.
— Где: в Польше. Когда: после Первой мировой войны. Кто: юный джентльмен. Почему: потому что я была привлекательной юной леди.
— Это было до папы? — ревниво уточняю я.
— Было, было. — Мать закрывает молитвенник. — Целая майса, не хухры-мухры.
— Тот возлюбленный, — напоминаю я.
— Семьдесят лет назад, — говорит мама, — а кажется, будто вчера.
— Расскажи.
В этот момент проносят Тору. Мама подталкивает меня к краю скамьи, чтобы я поцеловала свиток.
— Это мой излюбленный момент в субботу, — замечает мама. — Тора проплывает в своем бархатном облачении, а мы подходим и целуем ее на счастье.
Тора возвращена в Ковчег.
— Рассказывай, — талдычу.
— Жила-была, — начинает мать, — юная девушка, у нее были мать и старшая сестра, ужасно, как ты увидишь, злая. Сбежав из России, они два года провели в Польше, в ожидании американских виз. Дело было в маленьком польском городке, зимой, когда свирепствовали холод и голод, что для той страны всегда было в порядке вещей.
Все поднимаются с мест, а я даже не замечаю.
— Вставай, — подсказывает мать.
Вверх-вниз. Один из способов по-быстрому уважить Всемогущего.
— Все мы были беженцами из России, — продолжает мать. — На ночь нас пускали в синагоги, но днем, на время служб, мы обязаны были уйти. Мужчины спали внизу. Мы с твоей бабушкой и моей сестрой ютились на галерее, на ступеньках между скамьями.
Дважды в день община кормила нас чуть подслащенным рисовым супом из сухого молока. Это составляло весь наш дневной рацион.
Сестра воротила нос, и матери пришлось продавать наши пожитки, чтобы ее подкормить. Мать недоедала, лишь бы побаловать старшенькую.
Чтобы матери с сестрой было полегче, я нанималась в прачки к горожанам, таскала на реку вороха одежды, выколачивала на льду каждую вещичку. В то время о резиновых перчатках и не слыхали. Мои руки так дубели от холода, что час потом не могли отойти.
Я ей сочувствую, но меня подстегивает нетерпение:
— А возлюбленный? Ты повстречала его возле реки? Как сирена, приманила его на берег?
Но историю рассказывает мать, а ее подгонять бесполезно.
— Трудно мне приходилось, — говорит мать. — От студеной речной воды у меня всю жизнь потом страшно сводило руки. Такая вот награда за мое доброе дело.
— А сестра?
— Ей надоело. Быть бедным — это так скучно. «Что нам делать?» — ныла она. Я кое с кем переговорила, и, тут ты уже знаешь, мы создали театр. У меня был дрей, дивный поворот головы, я умела делать реверансы, петь, немного танцевала, хорошо запоминала текст. А сестра стала билетершей. К нам присоединились некоторые горожане, и среди них был один студент, красивый юноша.
— Мама! — ахаю.
— Стройный. — Голос мамы звучит мечтательно. — Белокурый, с добрыми глазами, то ли голубого, то ли орехового цвета, забыла.
— И что было дальше? — мне невтерпеж.
По проходу приближается служка. Я поспешно вскакиваю на «тихую» молитву. Во время этой молитвы служка не имеет права вас беспокоить.
— Чудом пронесло, — говорит мать.
Снова садимся.
Загораживаюсь молитвенником. Служка оглядывает общину, выискивая нарушителей порядка.
— Говори! — шепчу матери.
— Мы с тем юношей в чем только не играли: в любовных историях, трагедиях, драмах, даже музыкальных комедиях. Я участвовала во всех пьесах, где и он, только главные роли мне выпадали нечасто.
Даже сейчас ей горько об этом вспоминать.
— На них претендовала одна богатая девушка из того городка. Наши актеры из числа местных жителей настаивали, чтобы главные роли отводились ей, хотя всем было очевидно, что у нее длинный нос и жидкие волосы.
— А твоя сестра? Развеселилась, наконец?
— Нет, она мне завидовала. Помогала репетировать и нудила: «Слишком тихо подаешь реплики. А это вообще говоришь не так. Тебя поднимут на смех».
Раввин с возвышения хмуро косится на мой ряд. Я срочно ныряю за оброненной перчаткой.
— А дальше? — шепчу с пола.
— Спектакли приносили небольшой доход. Основная часть денег шла в пользу беженцев, но перепадало и актерам. Поэтому я сказала: «Мамуля, я больше не могу стирать на реке. Я должна репетировать. Пошлите Фанни».
— Молодец! — одобряю я.
— Моя старшая сестра Фанни мнила себя чуть ли не царицей Савской. Мать родила Анну после двух выкидышей и была так счастлива, что купала ее в молоке. А тут сестре предлагали полоскаться в ледяной реке.
— Она была того? — уточняю.
— Можно и так сказать, — отвечает мать. — Но кто знал? Однажды у нас появилась чудесная роль — Леи, невесты в пьесе С. Ан-ского «Диббук»[33]. Лея одержима духом своего погибшего возлюбленного. После его смерти Лею против воли хотят выдать за другого, и тут в нее вселяется дух прежнего жениха. Естественно, на роль пробуют ту богачку. Все, как обычно, перед ней стелются. И вдруг внезапно встреваю я: «Я могу сыграть и Лею, и Диббука. Вам не понадобится вторая актриса». Сначала я представила им нежную влюбленную Лею, затем изобразила, как из девичьего рта вырывается утробный голос — это говорит призрак, отвергнутый любовник. Длинный нос у богатой девушки с досады вытянулся еще сильнее. А я получила роль. Мой возлюбленный был в зале во время премьеры. В том спектакле он не участвовал. После представления он встал в первом ряду, в самом центре, и принялся мне хлопать, а потом у меня в руках очутились цветы.
— Мама! — восклицаю я. История пробрала меня до глубины души.
— Потом он исчезает. Я все играю, а он не приходит. «Ты его не видела?» — спрашиваю у сестры. «Нет, — отвечает она. — Ты на него прямо-таки вешалась, бесстыжая». Я была такая молоденькая. Жизни не знала. Мы спали все вместе в углу галереи, и я ждала, пока мать с сестрой уснут, чтобы дать волю слезам.
— Что-то твоего парня сегодня не видно? — спрашивая, Фанни не отрывалась от продажи билетов.
— Он не мой парень, — отвечаю я.
— Видать, нашел себе другую подружку, — говорит Фанни, — не иначе как ту богачку с длинным носом.
Когда «Диббук» шел в последний раз, меня много вызывали, но на сердце было тяжко. Мой друг не пришел на заключительный спектакль.
Возле театра меня поджидала хорошо одетая, изысканного вида женщина в черной шляпке и вуали, скрывающей лицо.
— Вы Броня? — спрашивает она.
— Да, — отвечаю. — Я Броня.
— Поди сюда, дорогая, — говорит она, — здесь слишком людно.
Я не двигаюсь с места. С чего бы вдруг мне идти с незнакомым человеком?
— Мне нужно кое-что тебе сказать, — говорит она, и голос у нее печальный.
И рассказывает, что с моим другом случилось несчастье, ужасное несчастье.
Тут кто-то хлопает рукой по кафедре, и я подскакиваю от испуга.
— Где уважение? — громыхает раввин.
Мы с мамой замолкаем, но ненадолго. Ей не терпится рассказать, а мне — дослушать эту историю.
— Он играл в теннис, споткнулся. Ударился головой и потерял сознание.
— Могу я его увидеть? — спрашиваю я у его матери.
— Нет, девочка. Никто и никогда не сможет больше его увидеть.
Мы обе стоим и плачем.
— Он рассказал мне о тебе, — продолжает его мать, — и взял с меня обещание передать это лично тебе в руки.
Она протягивает мне маленькую коробочку, а в ней — кольцо. Затем она отворачивается и уходит прочь.
И снова глухой хлопок по кафедре. Мы с мамой ждем, пока стихнет эхо от удара рукой по дереву.
— Где они сейчас? — спрашиваю уголком рта. — Та коробочка? Кольцо? Никогда их не видала.
— Это загадка, — отвечает мать. — Они исчезли.
— Во время твоих скитаний из Польши в Америку?
— Нет, — говорит мать. — Из моей постели. Я прятала их под подушку, а однажды сунула туда руку, а их нет. Где искать виновных? Наша галерея была забита людьми, ожидающими своих виз. Я перетряхнула подушку и одеяла. Искала везде. Всех спрашивала, но кольцо, подарок моего друга со смертного одра, украли.
— Ты кого-нибудь подозревала? — спрашиваю.
— Даже если и подозревала, что я могла сделать? Обвинить, устроить сцену? Я знала, что пропажу не вернуть, а актриса я была неплохая. Так что я сделала вид, будто ничего не случилось, и держалась стойко. И ни разу не пролила ни слезинки, кроме как на сцене. Они так и не узнали, как мне было дорого это кольцо. Это служило мне утешением.
— А что потом, мама?
— Потом я приехала в Золотую страну, поступила на работу в прачечную — похоже, стирка и была моей специальностью. Ну и записалась на вечерние курсы. Встретила твоего отца. И жила долго и счастливо.
— Правда, мама? — спрашиваю. — В самом деле?
— Не зря же я играла Лею, — отвечает моя мать.
Всю неделю я размышляю о тайне, которую рассказала мне мать. Злюсь на тетю Фанни. Чем больше я думаю о ней, тем пуще распаляюсь. Порасспрашиваю-ка я маму еще в ближайшую пятницу.
Прямо с порога я открываю рот.
— Ты хоть раз пыталась поставить сестру на место? — интересуюсь я, стряхивая капли с зонта и сворачивая плащ мокрой стороной внутрь.
— Мне не было нужды сводить с ней счеты, — говорит мать. — Судьба сама с ней поквиталась. Если она ждала, что перед ней будут кланяться, что она будет всю жизнь как сыр в масле кататься, то она сильно ошибалась. Ни мужа, ни ребенка не случилось у царицы Савской.
Она смотрит на меня.
— Вот и вся моя история. Теперь твой черед выполнять уговор, — говорит она.
— Какой уговор? — удивляюсь.
— У тебя тоже есть тайна, которую ты мне не рассказываешь, — настаивает она.
Пианист настраивает прихожан на возвышенный лад, наигрывая литургическую музыку. Раввин перед службой беззвучно молится с закрытыми глазами.
— Не отнекивайся, — говорит мать. — Тебе было лет шестнадцать-семнадцать.
Что шестнадцать, что семнадцать — ничего не помню, что там было.
— Подскажи, — прошу.
— Нет, — заявляет мать, — это твое дело рассказывать, мое — слушать.
— Хоть намекни, — уговариваю.
Мама подкидывает мне в топку пару полешек.
— На первом курсе ты вела себя безответственно. Тебя рано приняли в университет, слишком рано, как мне кажется, и тебе это не пошло на пользу.
— Так, а дальше? — спрашиваю. — Протяни мне соломинку.
— Ты плохо себя чувствовала, — напоминает мама. — Лежала в постели. Потом пришел твой парень, звезда легкой атлетики, если я правильно помню, и вы шептались и звонили по телефону из подъезда.
— А ты откуда знаешь? — удивляюсь.
— Матери, у которой дочь на выданье, всегда все известно, — отвечает.
Внезапно я кое-что вспоминаю.
— Это было в тот раз, когда ты вернулась из кино. Ты забыла ключи, и я тебе открыла. А ты с порога — ни «привет», ни «хороший был фильм» — залепила мне пощечину, — говорю я.
— Вполне возможно, — говорит мать.
— Почему? За что?
— Этот твой приятель-атлет довел тебя до беды.
— Не понимаю, — говорю я.
— Я только что посмотрела «Милдред Пирс»[34] с Джоан Кроуфорд и Энн Блит. Дочь опозорила мать. Мать была хорошей женщиной, а чем дочь ей отплатила? Соблазнила ее возлюбленного.
— Твой-то возлюбленный умер, — напоминаю ей, — и ты была замужем за папой. За что пощечина? Помню, и в другой раз так было: ты посмотрела какой-то фильм, пришла домой и меня ударила.
— «Пинки»[35], — отвечает мама, — с Джинн Крейн. Чернокожая дочка пытается сойти за белую, третирует мать, оскорбляет ее.
— А я-то тут при чем? — спрашиваю.
— Помнишь, нас бьют, когда приходят первые месячные? — говорит мама. — Чтобы дочь не опозорила семью. И я дала тебе пощечину, чтобы ты об этом не забывала.
Поют красивую песню, с рефреном: «Хочу раскрыть тебе всю душу без утайки».
— Скажи без утайки, — говорит моя мать. — Какую гнусность ты совершила?
— Тридцать лет назад? — уточняю.
— Не имеет значения когда, — огрызается мать.
Она в бешенстве поворачивается ко мне и, кажется, готова меня ударить.
— Мама, — говорю я, — я из-за тебя вот уже одиннадцать месяцев здесь, по два раза в неделю.
— Нечего меня виноватить, — огрызается мать, — ты просто выполняешь свой долг.
— Ах, так? Тогда мне тебя не ублажить, — отвечаю.
Пианист исполняет песню за песней, возвещающие прибытие невесты-субботы.
— Так какой там у тебя был секрет? — спрашивает мать.
— А такой, — говорю, — что я нашла твою коробочку и твое кольцо.
— Что ты такое говоришь? — возмущается мать.
Все встают с мест, обращают лица к дверям синагоги, к миру. Они приветствуют калу[36]: «Входи, входи, невеста».
— Ты ворошишь прошлое, — говорит мать, — чтобы меня обидеть.
— Вовсе я не хочу тебя обидеть, — возражаю. — Просто пытаюсь оградить свою личную жизнь.
— Нет никакой личной жизни, сколько бы лет ни прошло, — говорит мать. И смотрит с прищуром: — Ты, едва тебе минуло шестнадцать, то есть аккурат на семнадцатый день рождения, сделала аборт. Я права или?..
Молчу. Все головы поворачиваются обратно. Раввин смотрит: кто там до сих пор не угомонится?
— Ты залетела от своего спортсмена и пошла на аборт, — настаивает мать. — Признайся. Скажи как есть.
— И не собираюсь, — отвечаю. — Тебя это не касается. Я, в отличие от тебя, не пускала в свою постель ни мать, ни старшую сестру. И нечего на мне отыгрываться.
— Ступай домой, — заявляет мать. — Кому ты нужна? За меня молится падшая женщина.
Я надеваю плащ и собираюсь уйти прямо посреди службы.
— Погоди, — зовет мать. — Я слегка погорячилась.
Никогда ей этого не прощу.
Сижу в плаще и каменно молчу, а она в конце службы тихонько желает мне хорошего шабата, святого дня.
Я хмыкаю.
— До следующей недели? — спрашивает мать. — В то же время, на том же месте?
Я встаю и ухожу, смешиваюсь с другими прихожанами.
Раввин у дверей пожимает всем руки. Меня он просит задержаться.
— Идеальная дочь, — говорит он. — Однако одиннадцать месяцев миновали. Дай своей матери возможность самой за себя попросить. Не вставай теперь во время кадиша.
Субботние утренние службы я пропускаю, а в следующую пятницу прихожу с опозданием.
— Здравствуй, незнакомка, — приветствует меня мать.
Я холодно смотрю на нее.
— Рада тебя видеть, — поспешно поправляется она.
Идет час за часом, а я почти не раскрываю рта.
— Приближается мое время, — говорит она. — Вставай.
Сижу как истукан.
— Пора за меня молиться, — говорит она.
Качаю головой.
— Одиннадцать месяцев прошло, — отвечаю. — Теперь твоя очередь.
Зачитывают длинный отрывок, предваряющий кадиш, — о преемственности, о памяти, о смягчении боли.
— Давай! Ну же! — велит мать.
И тянет меня за рукав. С неохотой поднимаюсь. Раввин изумлен. Это явный сверхнорматив.
Я возношу хвалу Богу, пою древнюю молитву, которой раньше молились за ученых.
Мать удовлетворена.
— Я это так просто не оставлю, мама, — говорю я. — Ты поступила дурно — и тогда, и сейчас.
— Скажи мне только одно, — шепчет мама.
Я молчу.
— Я была права?
— Ты была права, мам, — отвечаю. — Я действительно совершила дурной поступок.
— Я так и знала, — говорит мать.
Служба окончена. Я встаю и ухожу.
— Погоди! Постой! — зовет мать.
Через неделю она буквально лопается от нетерпения.
И, не дав мне снять пальто, спрашивает:
— Это было связано с сексом, да?
— Это не имело к сексу никакого отношения, — говорю я.
— Но что еще может стрястись у юной девушки? — удивляется мать.
— Сколько мне минуло — шестнадцать или все-таки семнадцать? Сплошь парни. Сплошь политика. В здании университета что ни этаж, то другая политическая партия: демократы, республиканцы, социалисты, коммунисты. Невозможно было пройти мимо телефонной будки, чтобы не вляпаться в дискуссию. Подняться по лестнице, чтобы не вступить в дебаты. Выпить кофе в общежитской забегаловке, чтобы не ввязаться в прения. Я пропускала сначала по одной «паре», потом по две, а потом и день за днем.
— Ты говорила, что сидишь в библиотеке. — Мать потрясена.
— А там все то же: записочки, перешептывание, обсуждение статей. Жаркое время было у меня в университете.
Я сдерживаю улыбку. Возможно, это и было моим образованием.
— Итак, — говорит мать, — что случилось?
— Не успела я оглянуться, со всеми этими заседаниями, Обществом Юджина В. Дебса[37], «Ветеранами против войны» и так далее, как настали экзамены, а я весь семестр лодыря гоняла.
— Все можно нагнать, — наставительно замечает мать.
— Без шансов. Я призналась своему приятелю, тому, спортсмену. Он был добрый и вызвался помочь, чтобы меня не отчислили.
— Отчислили! — восклицает мать. — И это нашу целеустремленную малышку?
— Приятель попросил своего двоюродного брата-медика написать справку, что я из-за гриппа весь семестр соблюдала постельный режим и не могла посещать занятия. Помню, как этот брат, в белом халате, протянул нам бумажку и смерил нас презрительным взглядом. «Постельный режим, понимаю!» — сказал он. От смущения мы с приятелем не могли смотреть друг другу в глаза.
— Это тот спортсмен? — спрашивает мама. — Он тебя бросил? Да что он о себе возомнил? Качок тупой.
— Меня оставили с испытательным сроком при куче «четверок» и «тройке» по немецкому. А спортсмен поступил на юридический и женился на редакторше университетской газеты.
— Тот самый бегун?
— Бегун убежал далеко вперед, — сказала я.
— Подумаешь, — говорит мать. — Ты себе получше нашла, и даже бегать за ним не пришлось.
— Я боялась рассказать тебе о том, что случилось, — говорю. — Ты дважды ударила меня невесть за что. А если бы повод действительно появился, что вообще тогда было бы?
— Ну, это совсем другое, — говорит мать.
— Я спрятала от тебя академическую ведомость. Подделала твою подпись, когда отметки рассылали родителям. Ты и знать ни о чем не знала.
— Это, конечно, нехорошо, — говорит мать. — Но дочь с испытательным сроком не позор для семьи. А дочь, сделавшая аборт, — безусловно. Так что, как видишь, в итоге все обернулось хорошо.
— Нет, мама, — сказала я, — не все хорошо.
— Посмотри на себя, — говорит мать. — Хороший муж. Красиво одета. Полный холодильник. Взрослые дети. Все хорошо.
— Не так хорошо, как могло бы быть, — объясняю. — Я застряла на одном месте, никуда не расту, не могу пойти в науку.
— Для девушки у тебя нормальное образование, — говорит мать.
— Я была сущим ребенком, мама, — плачу я. — Я едва из пеленок вышла, а мое будущее было уже предрешено.
Сидящая впереди женщина, услышав, как я всхлипываю, не оборачиваясь, протягивает мне бумажную салфетку.
— Мной не руководили.
— И мной не руководили, — отвечает мать.
— Но я мечтала состояться, — говорю я.
И снова заливаюсь слезами. Мне дают вторую салфетку.
— Я тоже, — отвечает мать. — Хотела стать актрисой, но мои родные проголосовали против.
— Родные? — поражаюсь я.
— Двое против одного, — подтверждает она. — Они не хотели, чтобы здесь, в Америке, я пошла учиться.
— Против были твои мать и старшая сестра?
Мать кивает.
— В демократии побеждает большинство, — говорит она. — Так все хорошее и закончилось.
— Да уж, хорошего мало, — отвечаю.
— Так что не огорчайся, наше имя ты не опозорила, — говорит мать.
— Но и не прославила тоже, — возражаю.
Подошло время кадиша, а мы и не заметили.
— Помоги мне подняться, — просит мама.
Она стала еще меньше. Опирается на спинку скамьи перед собой, чтобы не упасть.
— Теперь тебе молиться за себя все двенадцать месяцев, — говорю.
— Нет, — отвечает мать. — Я кое-что не завершила. Я молюсь за тебя.
— Я не умерла, — возражаю.
— Ты могла бы все переиграть, — говорит мать. — Могла бы вернуться к учебе, поработать над собой. Пока не умер, все возможно.
Я в совершенном ошеломлении поднимаюсь с места. Раввин смотрит на меня и качает головой. Сажусь, а мать продолжает молиться.
Шепот
Бродим с мамой по прибрежным скалам Ла-Хойи[38]. Вслушиваемся в шум океана.
— До чего непривычно, — говорит мама, — разгуливать средь бела дня, словно какая-нибудь леди.
С моря до скал доносится шепот. В нем различимы хриплый смех, колыбельная, вздохи любовников. Теперь мама говорит застенчивее, тише. Когда-то она пела в хоре. Перед концертом вдевала серьги в растянутые дырки в ушах, брызгалась духами. Кубышечкой гордо стояла в ряду и вместе со всеми старательно открывала рот. Ее седые волнистые волосы в лучах рампы казались почти прозрачными. На службах в поселке для престарелых ей приходилось утыкаться в молитвенник, чтобы петь потише.
Мы с мамой предприняли небольшую вылазку. И сегодня впервые за пятьдесят восемь лет ей предстоит провести ночь без отца.
— Как ощущения? — спрашиваю.
— Чувствую себя вольной птицей, — весело отвечает она и берет меня под руку.
Она называет это «ходить по-польски».
Мы смотрим вниз, на пляж, где устанавливают столы для участниц мероприятия. Волны разбиваются о мол. Океан тихо плещется о берег Детской бухты. Здесь природой созданный амфитеатр. Пляж — сцена, а зрители разместятся на трибунах, на моле либо рассядутся, как на стульях, в углублениях скалы.
— Это твои декорации, мама, — говорю я. — А я буду смотреть на тебя вон оттуда.
Рядом с нами организаторы устанавливают динамики. Закрепляют их в корпусе и придавливают мешками с песком. Через круглые черные зевы этих ящиков снизу, с пляжа, будут транслироваться речи участниц.
— Что-то я нервничаю, — отвечает мать. — Давай еще раз все обговорим.
Завтра организаторы застелют столы белыми скатертями. Расставят возле каждого по четыре стула. На скатерти положат листки с четырьмя вопросами.
Этот день будет особенным, отличным от других, потому что в этот день старухи выйдут на берег морской, дабы изрекать истину, вещать на все голоса — от низкого до высокого — о главном: своем возрасте, приготовлениях к смерти, чувстве свободы, отношении к «Движению за освобождение женщин».
Некоторые из этих вопросов я, дочь, никогда не осмелилась бы задать матери, однако мне необходимо услышать, что она думает о теле, в котором пребывает. Мне необходимо узнать, сколько, по ее мнению, ей осталось.
Читаем с мамой вывеску на спасательной станции — штабе организаторов: «Шепот/Волны/Ветер: произведение искусства».
Мама у меня и есть произведение искусства.
«Мероприятие заранее согласовано, и все, что здесь происходит, осуществляется в его рамках. Призываем оказывать содействие, чтобы мероприятие прошло без помех».
— А какие могут быть помехи? — спрашивает мама.
— Нападение морских чаек, дождь, шквалистый ветер, серфингисты, лоточники, мамаши с детьми, транзисторные приемники.
Опасное это дело, выездное мероприятие.
— Как тебе мой белый костюм? — интересуется мама. — Откопала в старых запасах.
Насчет ее «раскопок» я молчу: блуза тесна, врезается в шею, впивается в подмышки, лопается на мощной груди. Брюки из полиэстера туго обтягивают налитые ягодицы. Но мать есть мать. Ходить по магазинам ей давно обрыдло. Новый костюм — расточительство. При этом она обязана была одеться в белое, как и все остальные в этом огромном стаде белоснежных голов.
Вскоре мне предстоит узреть парад белых теннисных туфель, белых туфель из Красного Креста с жесткими супинаторами, блестящих белых туфель из пластика, белых кожаных мокасин; те, кто поувереннее держится на ногах, будут во вьетнамках, на каблуках. Сто шестьдесят старух в возрасте от шестидесяти двух до девяноста девяти лет прошествуют в сторону моря.
Я думаю о женщинах и воде. Женщины всегда стремились к воде. На берегу можно было постирать вещи, искупаться, вымыть волосы — всю-всю гущу. Мокрые волосы, покуда они сохли, можно было рассыпать по плечам, делить на пряди, играть на них, как на арфе.
Воду набирали в горшки, чтобы сварить обед, ею поливали растения.
Наконец, в нас самих был мешочек с водой — плавающий внутри, наполненный водой мешочек.
Идея этого мероприятия, проекта «Шепот», принадлежит Сюзанне Лейси[39]. Любопытно, как ей удастся осуществить такой перформанс с непрофессионалами, собрать воедино фрагменты столь многофигурного полотна.
— Сюзанна сказала, чтобы мы не надевали цветных шляпок, — говорит мама, — и сумочки чтобы с собой не брали.
Она, как и все старушки, беспокоится за свою сумочку. Все они с большой неохотой сдают свои ридикюли — рычаги их управления жизнью, «дипломаты», хранящие их сокровища: кошелек, пудру, расческу, носовой платок, нитроглицерин от стенокардии, помаду, флакончик духов и — у моей мамы — карточки 8x13 см с вопросами, которые им предстоит обсуждать на берегу.
— Их будут охранять, — говорю я.
Тихий океан неспокоен. Закат розовый, с переходом в пурпур, на небе валок из туч. На его нежном фоне резко вычерчены скальные породы.
— Почему такое название — «Шепот»? — спрашивает мама.
Потому что женщины обожают шептаться и шушукаться.
Шепчут они, чтобы не разбудить детей или когда хотят тихонько кого-то подбодрить. Шепчут, когда поверяют тайны; шепчут, когда стесняются.
Произношу врастяг: шшшшопоттт. Звучание этого слова полностью отражает его суть. Нежный шуршащий звук, похожий на шелест листьев или прибоя. 19 мая сто шестьдесят женщин придут сюда, чтобы вынырнуть на поверхность и заявить о себе в полный голос.
В каких случаях шептала моя мать?
— Шшш. Соседи услышат! — сердито шикала она, случись мне, подростку, расшуметься.
Еще шептала, уткнувшись в наши волосы, когда гордилась нами или жалела, случись нам пораниться. Напевала шепотом:
В Ла-Хойе мы с мамой остановились в мотеле, в одном номере на двоих. Шторы задернуты неплотно. Мамино лицо освещено луной. Это совсем не та мама, которую я знала ребенком. Она иначе себя чувствует; кожа одрябла, кудри распрямились. Рот приоткрылся во сне. Зубы тоже не те. Серебряные пломбы почернели. Весь рот в дырках. Где ее ровные белые зубы, которые до последнего не нуждались ни в пломбах, ни в зубодере?
— Этот дантист меня не спрашивает, — объясняет она в первый же день моего приезда, — дергает, и все.
И теперь это старый забор с отсутствующими штакетинами.
Как бы мне хотелось запечатать прошлое печатью, разгладить ее лоб, вернуть волосам яркость, подтянуть подбородок.
Ее глаз было не различить за бликующими стеклами очков, а до папиных ушей было не добраться из-за слухового аппарата.
Внезапно меня охватывает страх. Мне хочется разбудить ее, чтобы она меня успокоила. Я боюсь ее потерять. Боюсь своей старости.
— Мама, — шепчу, — не оставляй меня. Молодость уходит, а это так страшно.
Теперь только вниз и вниз — и мне жутко. Лавиной скатываюсь в пропасть. Календарь сбрасывает листки, с бездумной скоростью отсчитывая время.
— Мама, — говорю ее спящей спине, — неужели черты моего лица расплывутся? Подбородок обвиснет? Глаза перестанут различать носки туфель? Грудь и живот сольются воедино?
Мама тихонько похрапывает.
— А как же моя семья? Я ведь тогда не увижу, что с ними будет дальше.
Пересаживаюсь в кресло и оттуда внимательно ее разглядываю.
Когда я родилась, мама была совсем молоденькой и играла со мной в снежки. Потом превратилась в молодую мать семейства с темными волосами на пробор и большими серыми глазами. И, все еще моложавая и стройная, возилась со своей первой внучкой. Не может быть, чтобы все эти мамы меня покинули — были и сплыли.
Настает утро 19 мая, день теплый и ясный.
— Пойдем на балкон, порепетируем, — предлагает мама.
Нам приносят завтрак в номер, и мы устраиваемся с подносом на балконе. Я прислуживаю маме; она сидит довольная.
В руках у нее карточки 8x13.
— Как вы относитесь к «Движению за освобождение женщин»? — зачитывает она. И отвечает: — По правде, если женщинам дать свободу, то некому будет заботиться о детях, а мужчинам не за кем будет ухаживать.
Качаю головой.
— Это меня спросили, — замечает она. — И выступаю тут я.
Она читает свои заметки.
— «Разводы ранят детей. Самовыражение — это хорошо, но как бы чрезмерная свобода не обездолила детей».
— Мама, — взвиваюсь я, — какое отношение имеет «Женское движение» к обездоленным детям?
— Вот еще, — возражает мама. — Кто из нас старше? Переходим к следующему вопросу. «Как обстоят дела с вашим здоровьем?» Я бы, может, и пожаловалась на здоровье, да кому охота слушать? Вопрос третий: «В последнее время у вас стало больше ограничений. Пугает ли это вас?» Имеется в виду, что я старая и завишу от других. Ну, честно говоря, свободы у меня никогда и не было, так что без разницы. Вопрос четвертый: «Как вы готовитесь к смерти?» — Тут она оживляется: — Чудесно. Я чудесно подготовилась. За все заплачено: гробы, участки, надгробия. Тебе останется лишь дать денег раввину, сотню или около того, не больше. Среди них встречаются шнореры[40], они так и норовят ободрать вас как липку, пока мы испускаем дух. А еще вид, Лейла, сама увидишь, вид роскошный — с вершины холма прямо на океан. И не близко к дороге, а то машины так бы и гоняли ночами напролет. Мы с папой все предусмотрели, чин чином. Молодцы.
— Мама, — рыдаю я.
— Что ты хнычешь, как маленькая, — говорит мама. — Кто умирает, ты или я? Это мне бы следовало все глаза выплакать. Кто знает, сколько нам еще отпущено и доведется ли на свадьбе у внуков погулять? С их-то темпами — вряд ли. Так что не тебе, а мне впору слезы утирать.
Собираемся на завтрак: мама в своих тесных блузе и брюках из полиэстера, я с блокнотом и ручкой (меня пригласили написать об этом событии сценарий для радио). В программке, в числе других ста шестидесяти выступающих женщин, числится моя мама.
— Они переврали мое имя, — говорит она. — Символично. Наконец-то я на сцене, и то под другим именем.
Но как только мероприятие набирает ход, она обо всем забывает.
Женщинам в белом предстоит завтрак в «Каса де Маньяна», доме престарелых в Ла-Хойе, с видом на море. Женщины рассаживаются за столиками в низком оштукатуренном здании в испанском стиле, под красной черепичной крышей. «Каса де Маньяна», Дом завтрашнего дня. Я жду, когда мать и другие женщины станут говорить о прошлом, настоящем и будущем, сколько бы им его ни осталось.
— Всем добро пожаловать, — говорит Сюзанна Лейси собравшимся в зале. — Сами вы себя не видите, но выглядите вы сногсшибательно!
Мама заливается румянцем. Из четверых за ее столиком она самая молодая и кажется сущей девчонкой. Рядом с ней сидит бабушка Сюзанны (она подсинила волосы, сделала перманент) и, приосанившись, слушает вступительное слово.
По другую руку от мамы занимает место женщина с венским акцентом; вместо обязательного для всех белого она позволила себе явиться в красно-коричневом. Ее волосы окутаны легким, как дымка, шарфиком.
Она говорит моей маме:
— Мне хочется вальсировать, это глупо, да? Я обожаю вальс. Но ведь в мои восемьдесят с хвостиком уже глупо кружить под «Голубой Дунай»?
— Вовсе нет, — отвечает мама.
Сюзанна говорит:
— Все мы, кто работал над этим проектом: женщины и мужчины, молодежь и старики — делали это потому, что у каждого из нас есть мать или бабушка, которых мы любим всей душой и которым хотели бы помочь.
Мама слушает и кивает. Она была прилежной ученицей, хоть в школу ей довелось ходить совсем мало.
— Мы не знаем, каково это — дожить до такого почтенного возраста, — продолжает Сюзанна, — как вам спалось этой ночью, мучают ли вас боли, что доставляет вам удовольствие и что вы чувствуете, когда умирает дорогой вам человек.
Мама сидит, задумавшись. Вспоминает. Все эти женщины вспоминают людей, которые были в их жизни. Собравшись на берегу, они станут рассказывать о тех, кто уплыл далеко. Мама будет думать о тех, в память о ком она в годовщину смерти — йорцайт — зажигает поминальную свечу: своих родителях, всех своих братьях и сестре Фанни, а еще о родителях мужа и его брате, племяннице и маленькой внучке. Эта последняя смерть очень сильно ее подкосила. Когда мама зажигает эту большую — гореть она будет долго — свечу, рука ее дрожит.
— Я хочу, чтобы каждая из вас вознеслась — стала богиней, — заканчивает Сюзанна свое приветствие, — и вновь, как и прежде, пифией.
Мама ухмыляется. Из-за отсутствия некоторых зубов ухмылка получается проказливой. Потом, едва я начну ее перебивать, она будет в шутку говорить, предостерегающе поднимая палец: «Цыц! Я пифия».
Вдоль улицы выставлены канатные ограждения. Молодежь из оргкомитета готовится выступать в роли костылей, поводырей, ходунков, белых тросточек.
В «Касе» женщины сидят еще с сумочками: вышитыми бисером, кожаными через плечо, сделанными из кожзама; у одной такой к голубому кожзаму — коричневый кожаный ремешок. Мамина сумочка, как всегда, тяжеленная. Все эти дамские сумочки: и полотняный мешок, и сумочка на тонком ремне через плечо, и старомодный клатч — будут — точь-в-точь как кошки и собаки — терпеливо лежать и ждать своих хозяек.
На улице уже собрались фотографы и операторы. Среди них встречаются такие, которых зовут Ф. Глаз-Алмаз, Паша, Джакузи.
Кажется, эти женщины собрались на обычный прием в саду; они сидят и ждут указаний. Затем пифии и богини отодвигают стулья и готовятся на выход.
Они движутся под магнитофонную запись, заблаговременно подобранную Сюзанной Стоун, звукооператором. Шествуют под пронзительные крики чаек и надрывный вой сирен. Торжественно, в одиночку или парами, чеканят шаг в такт прибою. Того и гляди погрузятся в какой-нибудь ковчег и выйдут в море. И среди этого людского потока плывет моя мать.
Набрасываю в блокноте портреты участниц.
Колонну возглавляет белая женщина девяноста лет, ее алюминиевые ходунки блестят на солнце.
Женщины щурятся от яркого солнца, они стесняются, чувствуют себя не в своей тарелке.
Женщины с распухшими лодыжками, в толстых чулках.
Мексиканка на костылях в белом, отделанном атласом, подвенечном платье.
Белая женщина в большой соломенной шляпе.
Крошечная кособокая филиппинка в домашнем костюме и белой шляпке с узкими полями, проходя мимо, подмигнула мне.
Та женщина с венским акцентом, в красно-коричневом шарфике, который не дает съехать ее пучку, и в кружевном жилете нежных тонов.
Афроамериканка в большой шляпе с цветастой лентой вокруг тульи.
Еще одна женщина с немецким акцентом — светловолосая, коротко стриженная, в белых серьгах и вязаном шарфе.
Стайка японок: мамы и бабушки, все с иссиня-черными волосами.
Высокая белая дама в сетчатом жакете ведет за руку женщину пониже.
Камбоджийские монахини с бритыми головами и в белых тогах.
Афроамериканка в белом шарфе, белой соломенной шляпе, с белыми серьгами-обручами в ушах.
Белая женщина, обвешанная бусами из белого бисера.
Прически самые разные: и аккуратно уложенные волны, и кудряшки «мелким бесом».
Проходит мама. Она явно изумлена: это ж сколько местных набежало!
Мама беседует с шагающей с ней бок о бок приятельницей, миссис Клэр Литтл, бабушкой Сюзанны Лейси восьмидесяти семи лет.
— Чему они радуются? — спрашивает мама у миссис Литтл. — Чему аплодируют? А еще почему, скажите, миссис Литтл, эти люди плачут?
Я не успеваю расслышать, что та отвечает: женщины переходят улицу и одна за одной скрываются за выступом скалы. И вновь появляются лишь далеко внизу: идут, увязая в песке. Мама, как сомнамбула, медленно бредет по зыбучей почве туда, где ее ждут столик и заготовленные вопросы.
Одна женщина уже рассказывает свою историю, помогая себе жестами. Возле ее столика на песке сидит черная птица, слушает.
До чего неожиданно видеть на пляже старух! Мы привыкли, что пляж — пространство лоснящихся гладких тел, бикини, мускулистых атлетов. Множество старых женщин на фоне морского пейзажа — картина сюрреалистичная, необыкновенная.
В стороне от залива проходит тренировка по подводному плаванию. Инструктор с учениками, все в зеленых масках с трубками и резиновых черных костюмах для серфинга, кажутся чудищами, вылезшими со дна морского. Белые волосы женщин, расположившихся на пляжах А и В в Детской бухте, напоминают плавательные шапочки. В воздухе парит ослепительно белая чайка. Царит праздничная, прямо-таки свадебная атмосфера. Женщины оживленно переговариваются, кивают друг другу белыми головками-пионами, словно пышно распустившиеся цветы.
— Когда я сошла по лестнице, — позже рассказывала мне мама, — и увидела, как синий океан сливается с небом, я будто в рай попала.
Невдалеке вижу маму, но видеть ее такой непривычно. Не стоит у плиты. Не подает обед. Она улыбается и непринужденно общается с окружающими. До чего же редко выпадала ей такая возможность. Ее жесты по-актерски выразительны и отточены.
Она репетировала вчера со мной свой рассказ на балконе мотеля:
— Я собиралась стать актрисой. Играла на сцене — в России и Польше, в те два года, что мы ожидали виз. Уж в Америке-то я точно буду играть, думала я, но надо было вернуть нашей тете деньги, занятые ею на переезд, — ведь нас было шестеро, — и я пошла работать. Устроилась в прачечную. А затем вышла замуж. И вот сейчас, шестьдесят пять лет спустя, когда мне уже восемьдесят один год, я соперничаю с голливудскими старлетками.
Перед широкой водной гладью женщины говорят и слушают друг друга. Громкоговоритель усиливает их голоса. До меня доносится призыв одной из белых женщин: «Не валяйтесь в постели!»
Другая заявляет: «А теперь я хочу делать только то, что хочу, — и точка».
Афроамериканка за маминым столиком, с розой в волосах, утверждает: «Вся разница между „теперь“ и „тогда, в молодости“ — лишь в том, что я стала медленнее лазить по горам».
Они размышляют о старости.
— Молодежь, наверное, смотрит на меня и думает: недолго тебе осталось.
— Гаснут огни, — вторит другая.
Они говорят о смерти.
— Смерть надвигается все ближе… Нельзя попусту тратить ни минуты жизни…
Обсуждают дома престарелых: кто-то с ужасом, кто-то спокойно.
— А мне тут, в моем заведении, нравится, — говорит одна белая, — у меня есть книги, есть телевизор. Готова довольствоваться тем, что имею.
— Я вот что хочу спросить, — обращается к маме дама из Вены. — Как по-вашему, в восемьдесят четыре глупо мечтать о романе?
— При таком-то румянце? Вовсе нет, — ответствует мама.
Что ощущаешь, когда постепенно пустеет твое жизненное пространство? Что ощущаешь, когда с возрастом язык твой вечно натыкается не только на отсутствие зубов, но и на отсутствие близкого человека, пустоту вместо ушедших сестры или брата?
Сорок минут я стою и слушаю, как женщины доверительно и вдумчиво беседуют между собой. Когда действо завершается, одна из участниц возмущена: «Я еще не договорила!»
У этих женщин поразительная цепкость. Вставая, они крепко держатся за скатерть; опираются на стол и выпрямляют спину, чтобы тронуться в путь к подножию лестницы. Женщины поведали свои истории и теперь будут возвращаться, карабкаться обратно по крутым ступеням, опираясь на помощников из числа молодежи и своих более юных товарок.
На песке у опустевших столов резвятся младенцы.
Женщины возвращаются в «Касу». Вместе с сумочками их дожидается двухэтажный автобус веселенькой расцветки, он отвезет их в церковь Святого Иакова на банкет. Женщины рассаживаются, улыбаются с верхотуры. Мама машет из окна. С крыши спасательной станции Сюзанна дирижирует последним песнопением.
Смотрю на маму, она сидит в автобусе со своими новыми знакомыми: афроамериканкой с розой в волосах, румяной дамой из Вены, горделивой миссис Клэр Литтл. Они о чем-то шепчутся.
Сюзанна Стоун, звукооператор, потом сделает о «Шепоте» радиопередачу. Она напишет мне из своей студии в Сан-Франциско о том, как ей жилось среди всех этих голосов: «С прошлой субботы моя душа, которой вообще-то тридцать один, говорит на разные голоса: ей то восемьдесят один, то шестьдесят пять, то семьдесят два. Голоса эти и пытаются подольститься, и дают наставления, и дразнятся, и оплакивают молодость, красоту, близость, потери».
Свой сценарий я озаглавливаю «Шепот: за пределами живого».
— Что происходит в том неизведанном месте, где деревья уже не растут, а голоса затухают? — вопрошаю я. — Хотелось бы знать, что происходит там, где нет ничего живого.
Мы возвращаемся на машине в поселок для престарелых, где живут родители.
— Моя актрисочка! — приветствует папа маму.
Они обнимаются. Два дня разлуки за пятьдесят восемь лет.
— Ну как, что нового узнала? — интересуется папа.
— Узнала, что не глупее прочих, — ответствует мама.
И хохочет так, что от блузы отлетает пуговица.
Уезжая, смотрю в заднее стекло, а они мне машут. Папа вскоре зябнет и уходит в дом, а мама продолжает махать, покуда лимузин, везущий меня в аэропорт, не скрывается из виду. Мне кажется, что это не она меня, а я ее провожаю.
Я не хочу, чтобы ты от меня уходила, мама. Пусть ты многое оставишь: мне — твои волнистые волосы, моей дочери — глаза орехового цвета. Не уходи. Останься. Я буду бережно вслушиваться в твой шепот.
Она подарила мне еще пять лет. И одиннадцать месяцев.
Коротко об авторе
Американская писательница Эстер М. Бронер, урожденная Эстер Фрэнсис Массерман (1927–2011), родилась в семье еврейских иммигрантов, отец ее работал в газете, мать была актрисой идишского театра в Польше.
Много лет преподавала в разных университетах, вела семинары по писательскому мастерству.
Наиболее известны романы «Ее матери» (1975), «Сплетение женщин» (1978), «Красный отряд» (2009).
Писала также эссе, пьесы для театра и для радио.
Издала сборник «Женская агада» (1977, 1994) совместно с Наоми Нимрод, книгу воспоминаний «Утро и Траур: дневник кадиша» (1994), в которой она рассказывает о своих попытках читать кадиш по отцу в ортодоксальной нью-йоркской синагоге.
С 1976 года вела седер для женщин, нередко в своей манхэттенской квартире.
И в жизни, и в творчестве уделяла много внимания положению женщин в обществе, особое внимание — положению еврейских женщин.