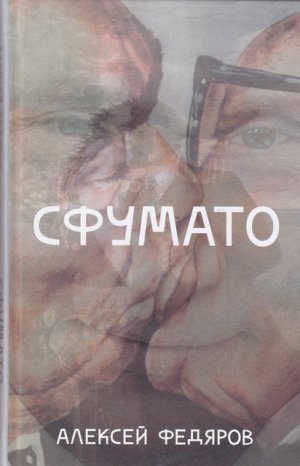
© Алексей Федяров, автор, 2019
© «Захаров», 2019
Родился в 1976-м в Чувашии, вырос в деревне в сотне километров от Чебоксар, столицы региона. В 1992 году закончил школу, поступил в Чувашский госуниверситет, на юридический факультет. С пятого курса начал работать следователем в прокуратуре. Ушёл из прокуратуры в 2007-м, с должности начальника отдела следственного управления прокуратуры Чувашии. С тех пор в бизнесе.
Страна меняется неизбежно, быстро, авторы изменений суетливы и нерасчётливы. За этим наблюдают те, кто спокоен. Пока наблюдают. Горизонт их планирования далёк. Ни первые, ни вторые – не хорошие и не плохие. Все хотят остаться в живых. Все хотят сохранить то, что имеют. И тяжелее всех будет тем, кто хочет сохранить много.
Алексей Федяров
Часть 1
2032
Пролог
Школа стоит в парке. Если обойти здание или пройти сквозь него, через широкий холл первого этажа, попадаешь на пригорок – спуск к реке. Лестница, что ведёт к воде, массивная, мраморная, она расширяется книзу, и последняя ступень приводит на небольшую террасу. Мрамор верхних ступеней чёрен, но чем ниже, тем светлее он становится. Терраса белоснежна.
– Это важно – видеть цвет ступеней, – говорит учитель, когда ведёт своих избранных к реке, – чем выше ты поднимаешься, тем темнее твой путь.
Поздняя осень, солнечно, изморозь лежит резким контрастом на верхних чёрных ступенях и легко искрится ниже, на белых. В парке ярко от света, который падает сверху и отражается от инея на траве.
Из школы выходят юноши, их четверо, и три девушки. С ними мужчина, ему много лет, но никто не знает сколько. Занятия закончились, и пришло время дышать у воды.
– Скажи, – спрашивает он у одного из учеников, – что ты запомнил о населении кластера «ЗФИ»?
– Население – сорок семь тысяч человек, заселено пять островов архипелага: Хейс, Солсбери, Грэм-Белл, Земля Александры, Земля Георга, – отвечает высокий худой юноша.
Светлые глаза его полуприкрыты, он смотрит на учителя, лицо не выражает ничего, и невозможно понять, улыбается ли он вообще когда-нибудь.
– Хорошо, – отвечает учитель и кутается в длинный тёмный плащ, словно ему зябко от этого взгляда или от воздуха, что ближе к воде начинает холодить особенной, влажной стужей осенней реки.
Снизу школа кажется совсем небольшой, черепица на её крыше, что немного ниже верхушек деревьев вокруг, тоже блестит инеем.
– Дышите, – говорит учитель, – воздух холоден, он меняется каждый день. Но это ваш воздух.
Ученики молчат.
От воды поднимается пар, его струйки почти не видны, это не туман, это замерзающая влага, а вечером, если замереть, можно будет услышать, как на поверхности воды потрескивают, зарождаясь, кристаллы льда. – Скажите, учитель, – вдруг тихо говорит ученик, – а почему в кластере «ЗФИ» так много людей?
– Много? – переспрашивает учитель, и поперёк его лба возникают две морщины.
Возникают и тут же сглаживаются.
– Даже если не считать родившихся там, мне кажется, что это много, – рассеянно проговаривает ученик, уже не спрашивая. Он понимает, что ответ должен будет найти сам.
Учитель думает. Смотрит на избранного.
– Немного. Или много. Подумай, верные ли это категории для тех, кто идёт вверх по чёрно-белой лестнице?
Солнечный луч делает морозное дыхание видимым и раскрашивает его в цвета радуги.
– Да, если ты ещё различаешь цвета ступеней, – отвечает вдруг ученик.
Глава 1
Кластер «ЗФИ»
Окон в доме два, они маленькие, большие здесь ни к чему, света всегда мало, потому что мало солнца. Нужно тепло, а его легче беречь, когда окна именно такие или их нет вовсе. Некоторые так и делают – заколачивают одно или оба окна. Но холод остаётся всегда. С этим надо просто научиться жить.
– В это время в лесу на деревьях уже есть листья. Они быстро растут, очень быстро, и скоро лес становится зелёным. Оживает всё – деревья, трава, звери, птицы, пчёлы и мухи. В июне в лесу не бывает тихо. Все живут – поют, трещат, шумят, играют, выбирают себе пары и выводят потомство.
Мужчина говорит тихо, кутаясь в потёртый полушубок из оленьей шкуры. Его слушает мальчик, который лежит на кровати. Их двое в небольшом домике.
Кровать застелена, постельное белье застиранное, но чистое.
За окном шумит ветер. Ему подвывает небольшая металлическая печь.
– А что самое красивое в лесу?
Мужчина задумывается.
– Сейчас в лесу красиво всё. А осенью – рябина. Когда листьев уже почти нет, а те, что остались на деревьях, – совсем жёлтые и скоро тоже опадут, ягоды рябины становятся красными. Они очень красивые, эти ягоды, особенно когда выпадает первый снег.
– Они вкусные?
– Кислые, – улыбается мужчина, – им нужно немного подмёрзнуть, тогда они становятся сладкими.
– Здесь рябина была бы сладкой всегда, – говорит сквозь сон мальчик.
– Спи, Станислав, – отвечает мужчина и поднимается.
Он подходит к печке и подкладывает в топку угольный брикет.
Угля мало. Завтра надо по работе в управу, заодно придётся попросить. Настроение от этого портится, просить всегда очень унизительно, но делать нечего, лето выдалось холодным.
Мужчина выходит на улицу. Сыро. Ветер. Ночью летом здесь светло, и к этому сложно привыкнуть.
– Так будет только первые годы, – шутила Лена, его Лена, лучшая из женщин этого мира.
– А сколько их будет, первых? – спросил он однажды.
– Пока мы не видим, когда будет последний, каждый год будет первым, – ответила она тогда. И добавила: – А мы пока ничего не видим, Толя.
Их забрали в 2024 году, спустя тринадцать месяцев после Конвенции.
Приговор, бэкграунд уровня «экстра» с выселением в кластер «ЗФИ», конвенциональная комиссия вынесла через неделю.
«ЗФИ» – Земля Франца Иосифа. Самый северный кластер. Здесь главные распространители чуждых ценностей – те, кто был недоволен всем до и быстро разочаровался новым порядком после Конвенции.
Анатолий и не мог быть причислен к другим – писатель, автор романа «Вечный обман оттепели» и профессор ныне запрещённого университета. У Лены тоже не было вариантов – журналист издания, которое уничтожали во все времена.
Главного редактора этого журнала приговорили чуть позже. Живёт она в соседнем домике. Живёт – и это хорошо.
Лена ехала этапом беременной и родила Стаса уже здесь.
Управа в центре архипелага, на острове Солсбери. Это удобно, потому что он совсем рядом с островом Хейса, где сейчас живёт Анатолий с сыном.
Островов в кластере «ЗФИ» много, но даже при СССР здесь не было ничего, кроме военного аэродрома и научных станций. Сейчас здесь живут люди. Управу поставили на острове Солсбери, там ледники и крутые скалистые холмы, что торчат обрубленными шпилями. Это по-своему красиво, но никто не ездит туда смотреть на пейзаж, на Солсбери у всех есть дела поважнее.
Сейчас, в июне, в управу надо добираться через пролив на моторной лодке.
Из соседнего домика выходит пожилая женщина. Ей тоже зябко, она вышла покурить.
– Вам опять не спится, Анатолий? – говорит она негромко.
– А вы всё не можете привыкнуть курить в доме, Виктория Марковна?
– Нет, это невозможно.
– Я завтра в управу. Вам ничего не надо там?
– Нет, дорогой мой сосед. Присмотреть за Станиславом?
– Да, буду признателен. Он зайдёт к вам после уроков.
Анатолий молчит. Солнце светит, но этот свет холоден.
– Как же мы так ошиблись, Виктория Марковна? – спрашивает он.
Он иногда задаёт ей этот вопрос. И знает ответ.
– Об этом думать поздно. Обратной дороги у нас нет. Ни у кого нет.
– Почему мы остались одни?
– Мы и были одни.
Этот ответ он тоже знает.
– Доброй ночи, Виктория Марковна.
– Доброй ночи, Анатолий.
Он заходит в дом, тихо притворяя дверь, сын уже спит. Идет к комоду и берёт с него фотографию в рамочке. На ней красивая женщина, ей чуть за тридцать. Она в синем платье, улыбается и смотрит на рыжую белку на стволе сосны. Рука Лены протянута к белке, на раскрытой ладони лежит ломтик мандарина. Ей было интересно, возьмёт белка мандарин или нет.
Москва, Нескучный сад, они любили гулять там. Лена, его любимая девочка, мама их Станислава.
Цвета на фотографии поблёкли, платье уже не синее, белка стала серой, а мандарина и раньше почти не было видно. Но Анатолий помнит всё в деталях.
Белка не взяла тогда мандарин и убежала.
Когда Стасу было почти два года, они возвращались через пролив с Солсбери на свой остров. Анатолий был ещё неопытен на воде и не заметил притопленной льдины, её почти не было видно. Удар был несильный, лодка не пострадала, но Лена со Стасом выпали за борт. Он их вытащил, сразу вытянул из ледяной воды и быстро привёз на берег, а потом они добежали домой, где он растопил печь и растирал их самогоном, что берегли к важному случаю, и случай оказался действительно важный, важнее некуда.
Стас не заболел тогда.
А у Лены началась лихорадка, она горела три дня, три ночи и ушла под утро.
Они даже не поговорили напоследок, она не приходила в сознание свои последние сутки.
Но он знал, что она скажет. Выжить и вывезти отсюда сына.
Хоронил он её на островном кладбище, где уже набралось несколько десятков могил. Первые годы в этом климате самые тяжёлые. Могилу выбил в скалистой промёрзшей земле глубокую, чтобы не разрыли медведи. Поставил камень. Попросил работавшего на расчистке советского аэродрома бывшего художника-карикатуриста сделать надпись – тот не отказал и в выходные выбил на камне даты рождения и смерти, фамилию, имя и отчество.
Анатолий приходил туда часто, смотрел на камень, на изученные до каждого штриха буквы: Соколовская Елена Сергеевна. Его поздняя любовь, она младше него почти на пятнадцать лет. Была младше.
На «р» рука художника дрогнула, он, видимо, замёрз, и хвостик у буквы получился немного наискось. Это было странно – читать свою фамилию на могильном камне. Мысль, что рядом будет и его камень, сначала была слабой, её было легко прогнать, вера, что всё закончится, держала на поверхности.
Но камней становилось больше, а людей на островах меньше не становилось, хотя женщины почти не рожали. Людей продолжали везти.
Сейчас Анатолий Соколовский, бывший писатель и бывший профессор, почти не сомневается – он тоже ляжет на островном кладбище. Почти – потому что никто ещё не уехал отсюда, но он знает, что всегда бывает кто-то первый.
Он подходит к сыну, трогает его голову. Жара нет. Он всегда так делает теперь, уже почти семь лет это его ночной ритуал. Пора спать.
Глава 2
ЦПС
Слепень летел за Давидом Марковичем от самого дома. Он пытался подлететь с разных сторон, ему надо было непременно сесть на человека и сделать какие-то свои важные слепневские дела, но атакуемый им человек жил в этой местности давно, почти девять лет, к гнусу привык и отмахивался вишневой веточкой с крупными листьями, какие бывают только летом и только здесь, экономно и точно, не отвлекаясь от размышлений.
День занимался солнечный, короткое лето – а других здесь, в кластере «Северо-Восток 2000 плюс», ждать не надо – выдалось жарким. И то хорошо, жар не якутский пар, как говаривал заведующий поселковой госпродлавки Иван Павлович. Он три года назад перережимился с «5000 плюс» и про якутский пар рассказывал, что это такой туман, который появляется, когда температура ниже 40 и от этого пара на лету замерзают птицы.
Иван Павлович, долговязый сухой мужик пятидесяти с небольшим лет, прожил под Якутском пять зим, потерял отмороженными три пальца на левой ноге и во вранье замечен не был.
Иногда, подвыпив, Иван Павлович вставал и, широко раскинув худые руки, показывал, как птица летит и вдруг – раз – и падает, околевшая от холода.
– Хрясь, Маркович, она оземь и разлетается на осколки, не соберёшь.
– Ужас, – покорно соглашался Давид Маркович и начинал собираться.
Эта пантомима означала, что друг устал и скоро будет спать.
Навстречу проехал новенький трактор. Красный, с жёлтыми иероглифами на двери кабины. «Верный братскому союзу», – автоматически прочел Давид Маркович. Китайский давался ему тяжело, но выбора не было. Конвенция требовала.
При воспоминании о Конвенции у Давида Марковича испортилось настроение. У него был самый бесполезный в его ситуации язык – немецкий. Немецкий – это кластер «100 плюс», совсем рядом с домом. Бывшим домом.
Там лето, к которому не надо привыкать. И там не надо учить китайский. Но туда не попасть. За несколько лет до Конвенции он, тридцатилетний журналист без постоянного места, нашёл работу мечты, как потом выяснилось, в сомнительном «средстве массового радиопрограммирования». Так было указано в его приговоре.
Он готовил тексты для новостей, которые читали ведущие. Тогда он завидовал ведущим, их известности, их знали все, и это было незаслуженно, они были глупыми и вальяжными, но их приглашали на вечеринки, им наливали вино и виски. Он хотел стать ведущим и стал бы.
Но потом, когда всех ведущих отправили осваивать мерзлоту в кластер «5000 плюс», Давид Маркович завидовать перестал, хотя там даже китайский был не нужен, там по Конвенции языком братских народов был принят русский.
– Ибу ибуди – хуэйдао муди[1], – пробормотал Давид Маркович, подходя к госпродлавке.
Слепень в очередной раз увернулся от ветки в руках человека и, устав, приземлился на табличку над дверью. Давид Маркович, автоматически отслеживавший траекторию своего назойливого спутника, отвлёкся от размышлений и посмотрел на место его посадки. Что-то было не так. Слепень сидел на высыхающей чёрной краске, которая сначала держала его за ноги, а потом, когда он, пытаясь взлететь, довёл амплитуду размаха крыльев до максимальной, прихватила и за них.
Сама табличка изменилась.
«СОДОМИТАМ ВХОД» было теперь написано на ней. Слово «ВОСПРЕЩЁН», что размещалось второй строкой, кто-то совсем недавно закрасил.
О не зря погибшем слепне Давид Маркович уже не думал. Дело было плохо. Хотелось колотить в дверь тараном, бить в набат, но надо было быть осторожным, и он постучал их особым стуком, с паузами и дробями.
Иван Павлович не спал, это было время их утреннего кофе – из зерна, пережаренного особым образом.
– Доброе утро, Давид, заходи, – поприветствовал обычного своего утреннего гостя Иван Павлович.
– Опасная ситуация, Ваня, – шепнул Давид Маркович, поднимая глаза к табличке.
Иван Павлович вышел, развернулся, посмотрел.
– Грёбаный ЦПС, – выругался он.
– Думаешь, такая нелепая провокация? – спросил Давид Маркович.
– Ну а кто ещё? Менты не меняются. Вчера же заходил, ты сам видел. Смотрел кругом. Я ж продлавка. Под особым надзором. Не было печали. Конец квартала, июнь, им показатели нужны.
Иван Павлович до бэкграунда был крупным полицейским начальником и знал, что говорил.
– Оперуполномоченный отдела ЦПС кластера «Северо-Восток 2000 плюс» Тарасевич, – мягко улыбаясь, скороговоркой, но разборчиво представился накануне Ивану Павловичу невысокий, рано начавший лысеть молодой человек с рассеянным взглядом.
Лавку пора было закрывать, вечерело, и Давид Маркович зашёл к Ивану Павловичу, как он часто делал по дороге домой, без нужды – выпить чаю и поговорить ни о чём.
Сейчас он стоял у двери и смотрел на посетителя.
– Что за ЦПС? – очень серьёзно переспросил Иван Павлович.
– Центр противодействия содомитам, – так же мягко ответил оперуполномоченный.
– Чем я могу вам помочь?
– Я, собственно, познакомиться. Объект у вас поднадзорный, государственная продуктовая лавка.
– Так нас по этой части Центр противодействия чуждым ценностям надзирает.
– ЦПЧЦ эффективно продолжает функционирование. ЦПС выделен из него ввиду особой важности данного направления деятельности, – официально и неожиданно строго ответил оперуполномоченный.
– Коллектив вверенного мне учреждения продуктовой торговли неукоснительно соблюдает руководящие указания Центрального конвенциального совета, – в тон ему ответил Иван Павлович.
Видно было, что тон этот ему знаком и привычен.
– Табличка у вас, смотрю, имеется, образцу соответствует, – похвалил Тарасевич, уходя, Ивана Павловича.
Давид Маркович смотрел на друга удивлённо. Тот никуда не торопился.
– В ментовке ничего никогда не меняется, друг мой, – улыбаясь, повторил Иван Павлович, – до 10 у них совещание. Потом соберутся. Ехать им до нас 15 минут. У меня ещё почти полтора часа. Иди к себе. Я за краской.
И пошёл в подсобку.
Давид Маркович достал пачку сигарет, вытянул одну и закурил.
Спокойствие Ивана Павловича его восхищало. За отсутствие таблички на продлавке могли отправить на месяц в лесхозпром, корчевать пни за дорогими китайскими братьями-лесорубами. А за такую табличку – «СОДОМИТАМ ВХОД», легко сложилось бы и уголовное дело за пропаганду чуждых ценностей. А это – повышение уровня бэкграунда. И снова мерзлота.
Тарасевичу нужны были дела, он их искал и готов был шить – закрашенная ночью табличка говорила о многом. Это было плохо.
Но сегодня у него не получилось. И это было хорошо.
Иван Павлович вышел и стал аккуратно выводить на табличке слово «ВОСПРЕЩЁН».
С минуту Давид Маркович разглядывал иероглифы на упаковке сигарет, прочесть не смог, сплюнул и пошёл в свою контору. Служил он редактором в местной газете «Свет Конвенции».
– «Свет Конвенции» скажи, да всю правду доложи, – шутил над ним Иван Павлович.
Контора была недалеко, скоро Давид Маркович уже сидел в своём кабинете и писал очередной очерк об успехах хлеборобов. «Несмотря не неблагоприятные условия погоды хлеборобы обеспечивают…» Слова застревали и не хотели ложиться на бумагу.
Редактор отбросил ручку. По улице проехал полицейский внедорожник.
Иван Павлович наверняка уже закончил восстанавливать табличку. Давид Маркович не переживал.
Он вышел на крыльцо, закурил и посмотрел в сторону продлавки. Полицейская машина чуть замедлила ход возле неё и проехала дальше.
– Ну какой же всё-таки характер у него, – вполголоса проговорил Давид Маркович, аккуратно забросил окурок в урну и вернулся в контору.
Сел за стол. Текст не шёл. Вспоминать про времена, когда текст для вальяжных ведущих «средства радио-программирования» летел у него в любое время суток и в любом состоянии, не хотелось. От этих воспоминаний очерки о хлеборобах переставали даваться вообще. Гнать их надо, эти воспоминания, это Давид Маркович решил для себя давно.
Но работать всё равно не хотелось. Было душно.
Хотелось к Ивану, в подсобку, холодного пива и вытянуть ноги на топчане.
Редактор «Света Конвенции» встал и подошёл к окну. Постоял и собрался уже садиться за текст, работу надо было завершить.
К крыльцу подъехали две длинных чёрных машины. Давид Маркович замер и машинально заложил руки за спину: это были машины, на которых ездили те самые люди, что отправили его сюда, за 2000 плюс километров от Москвы. И они приехали снова.
Люди вышли. Немного людей, все в костюмах, но считать их сил не было. Зашли в контору.
– Фельдман? Давид Маркович? Не нервничайте, мы к вам, – негромко сказал ему коренастый мужчина, явно привыкший командовать.
– А я очень нервничал, что вы вдруг не ко мне, – неожиданно ответил Давид Маркович, поправляя очки, сползавшие на вспотевшем носу.
– Шутите, это хорошо, – улыбнулся мужчина и представился: – оперуполномоченный отдела по защите конвенционального строя Управления президентской безопасности кластера «Северо-Восток 2000 плюс». Мы проведём у вас обыск. А потом проедем к нам. С вами.
УПБ. Чекисты нашли новое лицо своей службе, дракон бессмертен, подумал Давид Маркович, набрал воздуха, задержал его в лёгких и, непроизвольно напрягая дрожащие пальцы, спросил:
– А по какому поводу?
– Мы пока начнём, а вы подумайте, – добродушно ответил оперуполномоченный, – пока присядьте, вон там, у окошка. Вы же опытный и умный человек. Глупостей же не будет?
– Не будет, – ответил Давид Маркович, неровно прошёл по комнате и сел на стул для посетителей, тихо заскрипевший под ним. На его кресле, за его столом уже по-хозяйски расположился оперуполномоченный.
Глава 3
Солсбери
Дома на островах – примкнутые торцами щитовые коробки. Они жмутся здесь друг к другу, как люди. Так теплее. Анатолий видел как-то в управе фото острова сверху. Три длинных червя лежат параллельно вдоль острова, и пять наложено на них перпендикулярно. Одно здание стоит поодаль от червей, на площади в центре острова – это почтовый участок, построенный задолго до Конвенции. Это было почему-то важно тогда – иметь почтовый участок на архипелаге, где никто не живёт, а из действительно важного вокруг на тысячу километров – перестроенная из списанного норвежского дока нефтяная платформа.
Здание самое большое на острове, в нём два этажа.
На почте Анатолий и работал, и это было хорошо, место тёплое, а много было мест работы холодных: люди прибывали, и им надо было строить дома, надо было расчищать улицы и вывозить мусор.
Неплохо было ещё на оленьих фермах. Оленей здесь завели для мяса, молока и шкур, кто-то в центре решил, что кормить себя кластеры должны сами. Получалось плохо, но всё равно с оленями стало лучше, чем было без них.
Люди боялись гиблых мест – геологических экспедиций, когда людей отправляли долбить карьеры в вечной мерзлоте в поисках полезных ископаемых. Говорили, что они здесь есть. Но пока карьеры ничего не давали, они только забирали людей.
В лавках появились папиросы – «ЗФИ-Карьер». Крепкие, говорили, что их любят на материке.
Анатолий разносил письма приходящие и сортировал письма уходящие, складывал их в коробки и раз в неделю отвозил на Солсбери. Там цензор, он решает, что можно отправить, а что будет вложено в личное дело отправителя.
Через три года в кластере «ЗФИ» выселенный получает право на отправление и получение писем. Это важно, если спустя такое время остаётся, кому писать, и известно, куда писать.
Люди всегда находят и то и другое.
Анатолий вышел из дома рано, очень хотелось успеть вернуться не поздно. Он любил вечера с сыном. Ему надо было много рассказать. Книг на острове не достать, читать их приходилось по памяти. Стас слушал. Хуже было со стихами, Анатолий их всегда плохо запоминал, вот Лена бы читала их помногу и не задумываясь.
Виктория Марковна обещала накормить сына и помочь ему сделать уроки, это успокаивало. Она была строже, но Стас любил проводить у неё вечера.
– Она другая, папа, – сказал он как-то отцу, – она, наверное, как мама.
Маму он не помнил.
Анатолий отвернулся тогда. Рвал воздух разинутым ртом и медленно выдыхал.
К девяти часам он уже собрал все письма, они были аккуратно отсортированы по кластерам: стопка в «5000 плюс», стопка в «2000 плюс», их два – «Северо-Восток» и «Юго-Восток». Эти стопки большие, туда пишут много. Меньше – в «1000 плюс», хотя этих кластеров четыре – по сторонам света: Восток, Юг, Запад, Север. Почти нет в кластер «100 плюс». Оттуда вывезли почти всех, кому могут писать выселенцы кластера «ЗФИ». И никогда нет писем в кластер «Ноль плюс». Его освободили и от чуждых, и от родственников чуждых. Не осталось там и их друзей.
Это – первый идеальный кластер. Так пишет официальный орган Центрального конвенционального совета «Возрождённая правда».
Анатолию осталось собрать письма в коробки, сложить их в тележку и толкать её к дебаркадеру, что служил островной пристанью.
Сначала он услышал шум двигателя, а потом увидел в небе приближающуюся точку, быстро увеличивающуюся. Вертолёт. Прилетал он на остров редко, здесь не выбивали в мерзлоте карьеров и не расчищали бывший аэродром, комиссиям здесь было скучно.
Вертолёт приземлился на площадке у почтового отделения. Чистить эту площадку тоже было обязанностью Анатолия, сегодня он её подмел, а зимой приходилось каждый день разгребать снег и долбить наледи.
Лопасти ещё не перестали вращаться, когда из вертолёта вышли двое мужчин. Анатолий уже стоял у края площадки, ждал: людей, которые прилетают на вертолёте, нельзя встречать в отделении, к ним надо бежать, их надо встречать, их взгляды надо ловить.
– Соколовский? – резко спросил один из мужчин.
– Да, – ответил Анатолий.
Стало не по себе.
– Пройдёмте, – так же резко проговорил мужчина и показал не вертолёт.
– Куда вы меня? – пытаясь улыбаться, спросил Анатолий.
– Солсбери. Срочно. Заходим, заходим! – прикрикнул мужчина.
Письма взять не разрешили, и это было очень тревожно.
Через минуту вертолёт уже летел на остров Солсбери.
В кабинете управы, куда привели Анатолия, было светло, хотя окна были зашторены наглухо. Горела лампа под потолком, что было редкостью: полярным летом света здесь не жгут, экономят топливо.
Люди – трое мужчин и одна молодая стройная женщина с собранными в пучок тёмными волосами, все в штатском, но обманчиво штатском, смотрели на него резко, одновременно с вызовом и ожиданием.
– Не будем тянуть, – подождав минуту, после того как Анатолия посадили на стул, сказал старший.
Старший – именно так он себя вёл. Он сидел напротив и смотрел на аккуратно сшитое дело, лежавшее перед ним на столе.
– Центральный конвенциональный совет в лице судебной комиссии девять лет назад оказал вам доверие. К вам не применена высшая мера. Через три года вы могли рассчитывать на снижение уровня бэкграунда и направление на материк.
– Да, я рассчитывал, – быстро проговорил Анатолий.
Он ждал этого. Эти двенадцать отбытых лет, дюжина с плеч, как её называли выселенцы, была мечтой. Единственной. О ней боялись даже думать и упоминали только шёпотом, среди своих. Самых своих.
– Вы не оправдали доверия. Вам будет предъявлено обвинение в призывах к пересмотру режима использования ядерного оружия.
– Когда?! – задохнулся Анатолий, пытаясь тут же спросить, когда он такое мог сказать, заверить, что это ошибка и он такого не говорил, он вообще против ядерного оружия, он всегда был пацифистом и страдал за это ещё тогда, при прежнем режиме.
– Сейчас, – ответил старший.
И это было про обвинение.
Неожиданно пришла ясность, и читал текст Анатолий спокойно. Из постановления следовало, что обвинение ему предъявляет старший следователь отдела по расследованию особо важных дел Центрального управления президентской безопасности. Фамилия следователя была засекречена. Но это и не имело значения.
В комнате остались только женщина и тот самый следователь. Старший, как стал его называть Анатолий. Неожиданно для себя он отметил, что женщина в узкой чёрной юбке до колен. Он очень давно не видел женщин в юбках. Он даже успел что-то почувствовать, что-то стыдное после смерти Лены и неуместное здесь. И забыл об этом сразу.
Остальных старший отпустил, не говоря ничего, просто взглянув и кивнув головой.
– Не верю, – сказал Анатолий, прочитав, – он не мог такого вам сказать.
– Все могут, – ответил следователь.
– Я не буду давать показаний и подписывать.
– Покажи ему, – коротко сказал старший женщине.
Та раскрыла дело на нужной странице и остановилась. Она сомневалась.
– Покажи, – ещё раз сказал старший, – он по первой категории идёт.
Последнее он добавил почти неслышно.
Этот допрос Анатолий читал медленно. «Высказывал сожаления о неприменении ядерного оружия в отношении братских народов в период подготовки условий Конвенции, выражал уверенность в необходимости срочной передачи контроля за ядерным оружием в руки так называемых истинных патриотов родины. Убеждён, что Соколовский является ярым противником Центрального конвенциального совета и, в случае снижения ему бэкграунда, продолжит подрывную деятельность».
В подписи допрошенного Анатолий видел «р» со скошенным хвостиком, такую же, как на могиле Лены. Не замёрз он тогда, тот художник-карикатурист, просто у него такая «р», а вот Анатолий, сидя с ним на кухне домика и разливая хлебный самогон в кружки, слишком разгорячился и говорил, много говорил, а главное – лишнего наговорил. Смерть Лены тяжело ему далась, и сказал он, что взорвать надо было все эти братские народы, всех, кому верили и кого ждали, а Конвенцию сжечь, лишь бы Лена была жива. Художник соглашался и пил, а Анатолий, сорвавшись раз, больше такого не произносил. Но сказанного хватило.
– Не подпишу, – сказал он ещё раз, – да и зачем вам моя подпись?
– Все подписывают. Нужно, чтобы все подписывали, – ответил старший, – такой порядок. Не дури, Соколовский.
Анатолий вспомнил, как в начале четвертого президентского срока того, кто, казалось, навсегда, писал очерк о пытках в полиции. Он думал и не находил ответа, зачем надо было пытать этих несчастных, к чему эта сакральная страсть к явке с повинной.
– Никто не знает, – ответил ему тогда один старый опер, – так всегда было. Подпишет злодей явку, так тебе и на душе легче.
Теперь Анатолий должен был облегчить душу этим двум подтянутым людям с резкими взглядами – засекреченному следователю и его красивой помощнице. – Нет, – сказал Анатолий, – бейте.
Когда он очнулся в третий раз, светло в комнате стало не сразу. Он лежал на спине, но голова была повернута в сторону. Повернули, чтобы кровью не задохнулся, понял он. Боли не было. На полу он увидел несколько зубов в кровавой слизи. По щеке стекало что-то тёплое. Кровь, сомнений не было. Пощупать дёсны языком он не мог, язык не шевелился.
Били те двое, что было ушли, отпущенные старшим. Били спокойно, с перерывами. Смотрели на него и видели, когда и куда надо ударить.
– Звать старшего? – спросил один.
Анатолий закрыл глаза.
– Работаем, – сказал второй.
Боль вернулась.
В окно светило ночное северное солнце. Анатолий лежал на полу в том же кабинете. Шторы больше не закрывали света. Старший сидел рядом с ним на стуле.
– Подписал? Ну молодец, – проговорил он, – отдыхай, Соколовский. Скоро утро. Судебная комиссия ждёт.
Свет снова погас.
Глава 4
Альтернатива
Обыск проводили тщательно. Видно было, что не первый раз, что это просто работа, которую люди делают хорошо. Завораживало, как они вытаскивали ящики письменного стола, раскладывали бумаги и быстро читали их, что-то убирая в сторону, а что-то передавая главному в группе, тому самому, что представился Давиду Марковичу. Передавая документы, они кратко комментировали их, почти неслышно, а главный кивал и тоже быстро просматривал бумаги.
Каток, подумал Давид Маркович. Меня снова переезжает каток. Начал нарастать страх. Потели ладони, от этого было стыдно, а от стыда он краснел и потел уже весь.
– Переживаете? – спросил главный оперуполномоченный.
– Да, – честно ответил Давид Маркович.
– Есть из-за чего?
– Да.
– Из-за чего?
– Я не знаю. Но знаю, что вы найдёте, если надо. А раз вы приехали, значит, надо.
Оперуполномоченный отодвинул стопку бумаг и посмотрел на Давида Марковича.
– Давид, – вкрадчиво сказал он, – не торопись. Мы поговорим сегодня. Обязательно.
Ответить Давид Маркович не смог. Грудь сдавило. Он слышал, как глухо и медленно стучит его сердце где-то под горлом.
По улице снова проехал тот самый красный трактор. У тракториста было пухлое лицо, он улыбался, и Давид Маркович узнал его. Он писал о нём очерк, о том, какой он передовик, выполняет план и любит жену. Это было в доме тракториста, тот сидел за столом и звучно пил самогон из стакана крупными глотками, пухлое лицо его раскраснелось, он беспрестанно звал жену – субтильную женщину с усталыми глазами, и когда он её звал, огромные кулаки его сжимались, а когда она приходила и спрашивала, что подать, он смотрел на неё осклабившись – был доволен.
– Вот так живём, – говорил тракторист, – не жалуемся, выпить есть, закусить тоже, и никуда без нас в деревне, не ты же, Маркович, пахать будешь? Ты же и плуг куда прицепить не знаешь.
Не знаю, подумал Давид Маркович, глядя на уезжающий трактор, и вдруг почувствовал острую зависть к этим огромным кулакам, пухлому лицу и самогону звучными глотками.
Почти у самого окна встала полицейская машина, та же, что недавно проехала мимо редакции в сторону продлавки. Из неё вышли ещё двое мужчин, и это были не полицейские. Они зашли в редакцию. Один из них нёс несколько конвертов. Давид Маркович стал догадываться.
Вика. Сестра. Её письма в руках оперуполномоченного безопасности, неважно какой именно безопасности и как сейчас называется чрезвычайная комиссия, ничего не меняется вторую сотню лет. Чекистам нужны её письма.
Главный посмотрел на конверты. Переглянулся с передавшим их. Кивнул.
– Оформляемся, – коротко скомандовал он. – Фельдмана в машину.
Ехали недолго. Чекистам в полицейском участке выделили кабинет начальника – их боялись и боявшиеся не скрывали этого. Начальник полиции, улыбаясь и пятясь, вышел, притворяя дверь аккуратно, чтобы не хлопнуть.
– Управление президентской безопасности, – сказал он молоденькой девушке-секретарю, испуганной нежданными посетителями, которых боялся сам шеф, – не пускай никого. Кофе носи. Всё делай, что попросят. Улыбайся. Да не бойся ты, чего бояться, не звери же.
Сказал и не поверил себе. Тяжело пошёл в кабинет заместителя: уходить из околотка было нельзя, все дела отменялись.
– Виктория Марковна Фельдман твоя сестра, так? – спросил главный, закурив у открытого окна сигарету. – Так, – ответил Давид Маркович, – старшая.
Он сидел на табуретке в центре кабинета, где они остались вдвоём с оперуполномоченным.
– Письма её у тебя дома нашли.
– Да, мы переписываемся. В установленном порядке, с разрешения администрации кластера, одно письмо в квартал.
– Вижу. Все письма тут? – оперуполномоченный показал стопку конвертов на столе.
– Я не помню. Наверное, все, я не прятал ничего, – чувствуя, как немеют пальцы на руках, ответил Давид Маркович.
– Хорошо, хорошо, это очень хорошо… А известен ли тебе Анатолий Соколовский, выселенный в кластер «ЗФИ» в 2024 году?
– Да, конечно… Он очень известный писатель. Был… – запнулся Давид Маркович.
– Что писала о нём Виктория Марковна?
– Что они живут по соседству. Иногда она занимается с его сыном. Очень смышлёный мальчик, так она говорит.
Давид Маркович говорил и боялся сказать лишнего. Но ещё больше боялся он замолчать, почему-то ему казалось очень страшным – замолчать и не суметь ответить на вопрос этого человека.
– Что ты думаешь о ядерном потенциале нашего государства?
– Я… я не думал об этом…
– А Соколовский?
– Что Соколовский?
– Он думал об этом?
– Я не знаю…
– Ты виделся с ним в 2024 году незадолго до его распределения в кластер «ЗФИ»?
– Мельком, если я верно помню. Столько времени прошло…
– Где?
– На дне рождения у кого-то из друзей, если не ошибаюсь…
– Не ошибаешься. О чём вы говорили?
– Я не помню, это было очень давно…
Давид Маркович смотрел на допрашивающего, и страх был сильнее его, глубинный страх перед тем, кто знает о тебе всё и для кого ты ничего не значишь. Оперуполномоченный видел этот страх. Он уже понял, что победил, и, никуда не торопясь, стоял у окна, докуривая сигарету. Дым зависал в спёртом воздухе клубами и медленно утекал в окно. Выбросив окурок на улицу, допрашивающий подошёл к Давиду Марковичу, между делом захватив со стола бланк допроса.
– Ты молодец, – сказал он, встав перед Давидом Марковичем, – почитай и подпиши.
Показания уже были напечатаны на бланке.
Давид Маркович прочитал текст. Сил не было. Слишком хорошо ему было известно, что может быть, если…
Взял ручку, подписал в положенных местах.
Потом спросил. Знал, что глупо, но спросил:
– А что с ним будет?
И запнулся, не надо было этого спрашивать, конечно не надо.
Но страшный человек ответил:
– Не об этом тебе надо думать. А об альтернативе. О том, что завтра ты можешь быть рядом с ним на судебной комиссии. Мог бы быть. «ЗФИ» ближе, чем ты думаешь.
Давид Маркович ничего не сказал. «Мог бы быть». Именно о чём-то таком он и думал, об этом и только об этом, последние часы, с момента, как подъехали к редакции эти две длинные чёрные машины, что стояли сейчас прямо у крыльца участка, и полицейские, выходя, боязливо обходили их, стараясь не коснуться.
Оперуполномоченный отошёл к столу. Аккуратно сложил протокол допроса и два протокола обысков – дома и в редакции Давида Марковича – в портфель. Нажал кнопку селектора. Зашла секретарь. Руки она держала перед собой, сцепив пальцы, но они всё равно дрожали.
Чекист видел это. Усмехнулся едва заметно. Он привык к этому давно.
– Принеси кофе. Два. Этому тоже.
И, обращаясь к Давиду Марковичу:
– А теперь мы поговорим.
Глава 5
Первая категория
Сознание возвращалось, и это было плохо. Несколько раз Анатолий проваливался обратно, туда, где боли не было.
Сын. Эта мысль взорвала сумерки, и Анатолий открыл глаза, поняв – больше он не сможет уйти в обморок. Он попытался вдохнуть воздух и замер: сломанное ребро в левом боку впилось в плоть.
– Лежи, – услышал он голос откуда-то сверху и сзади.
Голос был знакомый, но подумать о том, чей он, сил не хватало. Сил не было вообще ни на что. Была боль. И кровь. Она текла из сломанного носа и разбитого рта, а ещё из рассечённого лба, пропитала толстый свитер и грубые брюки, местами засохла, приклеив одежду к коже.
– Воды, – прохрипел Анатолий.
Большая и тёплая ладонь легла ему под затылок и приподняла голову.
– Пей, – сказал тот же голос.
Край металлической кружки коснулся губ, в рот потекла вода. Анатолий с трудом сделал несколько глотков и повернулся на правый бок, поднявшись на локоть. Левая рука не слушалась и висела плетью. Собравшись, Анатолий сумел сесть на полу, опершись спиной об холодную стену.
Перед ним стоял художник-карикатурист. Одежда его была чистой, крови на нём Анатолий не видел. Тот даже улыбался, правда, одними губами.
– Живой, – сказал художник, – думал, помрёшь. Даже завидовать начал. Сильно тебя били, конечно, но убивать не стали. Поживёшь ещё немного.
– А тебя не били? – еле слышно спросил Анатолий.
– У меня другая история.
Другая история. Его не били, но он здесь.
– Зачем ты так? – спросил Анатолий, поняв.
– Какой смысл упираться? – ответил художник. – Будешь ещё пить?
В углу стояло старое эмалированное ведро с крышкой. – Пойдёшь на парашу?
Вставая, Анатолий понял, что указательный и безымянный пальцы на левой руке сломаны – они неестественно выгибались наверх, опухли и касаться их было невозможно, боль отдавалась по всему телу.
– Видишь, правую руку оставили, ссать и подписывать можешь, – вдруг расхохотался художник.
Потом он сел на пол, закрыл лицо руками и без звуков и слёз заплакал.
Подписывать, вдруг вспомнил Анатолий. Подписывать…
Между пальцев левой руки зажат карандаш, безымянный и указательный пальцы под карандашом, средний и мизинец сверху, ладонь прижата к столу, на тыльную её сторону легла узкая и твёрдая кисть допрашивающего.
Эта кисть уже сжималась в кулак и жёстко била – в висок, в нос, в ухо. На неё надевался тонкий элегантный кастет из блестящего тёмного металл, и этот кастет два раза ударил Анатолия в зубы – коротко и жёстко, так бьют бывалые боксеры и опытные палачи. Несколько зубов вылетели сразу, несколько качались, подсчитать сил не было. Потом кастет врезался в рёбра, в колени, в пах.
Человека, который не сопротивляется, бить не сложно.
Теперь кисть давила на пальцы и зажатый между ними карандаш. Медленно.
Анатолий кричал. Хрипел. Хватал разбитыми губами воздух.
Потом кисть надавила сильнее, что-то хрустнуло, потом ещё.
– Хватит…
– Ну вот видишь, а только начали. И зачем тебе это было надо?
Свет в камере становился ярче. На стене напротив окна отчётливо проявилась тень крупной решётки.
– Всё подписал? – спросил художник.
– Да.
– Орал ты хорошо.
– Знаешь, а ведь они действительно только начали.
– Все ломаются.
Зачем это всё? Анатолий чувствовал, что эта мысль будет рвать его до конца. А конец был близок, всё шло к нему, всё получалось у этих людей, с лёгкостью вытащивших из него признание. Что теперь? Куда? Карьер?
Он, читавший студентом о пытках тридцатых и представлявший себя на месте тех, кого пытали и кого не стало вскоре после мучений – неважно, как они их прошли, – думал тогда, в юности, а что он? Что сможет он?
– Ничего, – проговорил он вслух.
Успокаивала лишь одна мысль – он не сдал никого, он не оговорил.
– А ты прочитал, что подписываешь? – вдруг задал ещё один вопрос художник.
Эта простая и дьявольская в своей подлости мысль соединилась с мыслью о бессмысленности мучений.
– Нет, – честно ответил он.
– Ну вот, значит, и ты меня сдал, – просто сказал художник, – квиты мы.
– Да откуда ты знаешь?! – вскипел Анатолий.
– Не вопи, скоро всё узнаем, комиссия у нас на сегодня.
– Почему так быстро?
– Мы – первая категория, гордись.
Художник улыбался, и это была улыбка человека, знающего, что его ждёт.
– Расскажи мне, что случилось, – беззлобно сказал Анатолий.
Злиться, действительно, было больше не на что.
Расчищать бывший военный аэродром в вечной мерзлоте сложно в любое время года. Там миллионы бочек из-под топлива, брошенная техника, горы металла и прочих отходов, смёрзшихся, покрытых многолетней спрессованной наледью. Художник работал там долго – почти три года, и это было много, слишком много.
– Понимаешь, когда каждый день идёшь умирать и никак не умрёшь, ты начинаешь хотеть жить, – размеренно говорил художник.
Ему больше ничего не надо было доказывать, оттого он был спокоен и нельзя было не верить тому, что он говорит.
– Я устал, по-настоящему устал. Рисовать – вот всё, чего я хотел всегда, и здесь я бы мог рисовать, ведь им нужны художники – ты видел их стенды со стенгазетами. Им там бездари рисуют. А я бы сделал хорошо. Я пошёл, да, пошёл на приём к особисту. Мне сказали: конечно, работай, мы присмотримся, докажи своё перевоспитание. Я же думал, что смогу говорить то, что можно говорить, чтобы никто не пострадал, но это очень сложно, да, Толя, это очень сложно. Если ты с ними, то не сможешь фильтровать, ты будешь делать и говорить всё, что они скажут. Не верь им, Толя… Да тебе уже поздно, и мне поздно. Мы уже не успеем поверить никому, даже если захотим. Нам больше некому верить, ты понимаешь? Мы не встретим больше никого, чтобы верить. Мы и друг другу сейчас верим, потому что оба друг друга предали. А знаешь, как я предал тебя? Они спросили, о чём ты там говорил с Соколовским, когда пил самогон у него. И мне стало страшно: если они знали, что мы пили, значит могли знать, о чём ты тогда говорил, ты же кричал, что взрывать надо было в муку и эту братскую Америку, и этот братский Китай, и Европу, уж её-то, Европу, в первую очередь, зря, что ли, Крым брали и боеголовки там стоят. Помнишь, как ты кричал?
– Помню…
– И я рассказал это, а это не просто разговор, это первая категория, понимаешь, это дело центрального аппарата УПБ, и наши не смогли не сообщить, так они и сказали, обязаны сообщить. И эти прилетели, они же из нулевого кластера, понимаешь? А что я? Я не сообщил, утаил, я рассказал, только когда особисты спросили меня о тебе. А это – недонесение о первой категории и само по себе тоже – первая категория. Тебе давали читать мой допрос?
– Да.
– А это нарушение для них. Знаешь, почему дали?
Анатолий вспомнил, как замялась женщина перед тем, как показать ему протокол.
– Почему? – спросил он, уже понимая ответ.
– Потому что мы уже никому не расскажем. Первая категория – это высшая мера.
Глава 6
Соглашение
Утром следующего дня Давид Маркович проснулся в своей небольшой квартирке трёхэтажного колхозного дома. Голова ныла.
Накануне он вернулся затемно, открыл бутылку водки, налил полный стакан и выпил. Потом ещё один. Водка была правильная, из запасов Ивана Павловича, не эрзац, который стали развозить по госпродлавкам в последнее время. Стало легче. Он лёг, не раздеваясь, и уснул.
Проснувшись, он удержался от желания налить себе оставшейся водки. Надо было идти на работу.
Он сел на кровати и стал вспоминать вчерашний разговор.
– Сергей Петрович. Это моё имя, – так представился ему оперуполномоченный, когда секретарь полицейского начальника принесла им кофе. – Мы теперь будем иногда встречаться.
– Встречаться? – переспросил Давид Маркович, понимая, что вопрос этот пуст и не нужен.
– Встречаться, Давид Маркович. Мы оценили вашу готовность без избыточных мер убеждения сотрудничать с органами президентской безопасности. Безусловно, это убеждает нас в необходимости привлечения вас к взаимодействию на постоянной основе. Вы достаточно давно занимаете серьёзную должность, вы – редактор газеты, вы распространяете влияние.
Давид Маркович поёжился два раза – когда прозвучали слова об избыточных мерах убеждения и о том, что он распространяет влияние. Но промолчал.
– Вы же не можете не замечать, – продолжал Сергей Петрович, – что кластеры заселяются, осваиваются новые территории, люди переезжают в новые дома. Вы согласны?
Давид Маркович кивнул. С этим трудно было спорить. Точнее, он бы хотел с этим поспорить, это было невозможно, так не должно было быть, но было.
Люди ехали и ехали, их отправляли очень далеко от тех мест, где они жили, сначала экстремистов «явных», потом тех, кто писал о них, затем тех, кто проходил свидетелями – здесь часто все они встречались. Конца этому не было.
Давид Маркович думал иногда, когда разрешал себе: а что, точнее, кто теперь там, откуда увезли его, Ивана Павловича и тракториста с пухлыми щеками и вообще всех, кто сейчас здесь, в кластерах, что ближе и дальше?
Но это страшные мысли, их надо гнать, их слышно, а это опасно. Ничего нет опаснее.
– Но люди не любят переезжать, – проговорил Сергей Петрович, – они не любят менять обстановку и развиваться, поэтому они начинают волновать себя вредными мыслями. Вы меня понимаете?
Давид Маркович вздрогнул – его мысль была услышана.
– Оппортунистами становятся люди, а с этим мы будем бороться, – резко завершил Сергей Петрович.
Он снова отошёл к окну и закурил.
– А что от меня будет нужно? – осторожно спросил Давид Маркович.
Оперуполномоченный поморщился, было в этом что-то разочарованное, словно он увидел обычное и надоевшее, что видел всякий раз, подводя очередного нужного ему человека к черте, за которой два пути, но нет выбора.
– Давид, вот чего ты ждёшь? – спросил он. – Что я тебе должен сказать? Как там – сущая безделица, самая малость, так писали в ваших романах об ужасах кровавой гэбни? Все эти ваши романы суть замаливание. Вот все подписали, но не я, все стучали, но не я, а если пишут, что подписали какую-то бумажку, так это ж формальность, и никогда потом ничего и никому. Перехитрили, вот именно они-то, пишущие, и перехитрили. А то мы ж дураки, чекисты. Испуганный вусмерть поэт, что в окно прыгает от страха, когда мы в дверь стучим, нас, когда мы его под окошком ловим и привозим в серое здание, вдруг обводит. Почитать, так все ваши интеллектуалы, борцы с режимами ясноглазые стояли насмерть, а мы им руки ломали и ноги, жён насиловали с дочерьми на глазах, чтобы потом пару подписей получить и расстрелять. Нет, Давид, человек слаб, ты слаб, они были слабы и будут слабы. Подписывали всё от страха, ещё до того, как их ломать начинали по-настоящему.
– А почему тогда ломали потом? – так же осторожно задал ещё один вопрос Давид Маркович.
– Потому что враги.
– Чьи?
– Государства. И народа.
– А какого народа я сейчас враг, после Конвенции? – спросил Давид Маркович, понимая, что вот это уже совершенно лишнее, но сложно было не задать этот вопрос, очень сложно.
Сергей Петрович заулыбался. Широко заулыбался – ему понравился вопрос, – и Давиду Марковичу стало спокойнее.
– Ну наконец что-то услышал от тебя не по схеме, – сказал он и протянул Давиду Марковичу сигарету, – закури. Хорошие. Пойдём к окну. Не бойся, не выпрыгнешь. Да и невысоко здесь.
Прозвучало это не как шутка. «Выпрыгивали», бывало такое.
– Вот смотри, – проговорил Сергей Петрович, затягиваясь и показывая на улицу, – кого ты видишь? Там люди. Они идут по своим делам. У них у всех есть занятия. Это – простые люди. Все непростые дальше, севернее. Это наша работа, чтобы так было. А эти люди, что здесь, – народ. Колхозники. Лавочники. Говновозы. Вечный и глубинный народ. Им надо объяснять, что на них одних надежда, потому они говно и возят. Без этого нельзя, ты же не станешь всю жизнь говно возить без сакрального смысла?
– Если только заставите, – проговорил Давид Маркович.
– Заставить всех невозможно. А дать святую цель и извечного врага не так сложно, как кажется. И недорого, уж точно дешевле лагерей. Тогда они всё делают сами. Цели можно менять и врагов тоже. Это несложно.
– Но мы-то вам зачем тогда? Я, например?
– Понимаешь, сами они не умеют рассказывать. Они могут только про глупых баб и нечистую силу придумывать. Затем вы и нужны, потому всех вас нельзя в якутские карьеры. Никто, кроме вас, врагов народа, не расскажет про вас народу лучше. Ты нужен, сам народом не будучи, чтобы ему, народу, рассказывать, какой он великий и с хитрецой, и про себя, какой ты подлый враг – сало народное жрёшь задарма, толку от тебя никакого, одни диверсии. Агент, одно слово. Чей – неважно, это по обстоятельствам. Вот и выходит, что ты со своей газетой в деле борьбы с вами незаменим. Они, кроме неё, ничего не читают. И им хорошо.
Давид Маркович вспомнил тракториста с пухлыми щеками. Да, спорить было сложно.
– Думаешь, мы вас повысылали по удалённым кластерам? Нет, они. Потому что вы ему, народу, враги. Потому что у вас очки. Музыка у вас странная. Книги толстые. Вы заговоры плетёте. Потому что и то самое говно они возят, а вы нет, вы его только производите. Из хлеба, который они делают. Лишние вы народу. Чуждые. А чуждый всегда рано или поздно становится врагом.
– И я нужен только для этого? Делать газетёнку?
Сергей Петрович перестал улыбаться и отошёл от окна. Сел в кресло.
Давид Маркович непроизвольно залюбовался, как легко у этого человека получалось делать пространство своим. Лишь час назад в этом кресле сидел полицейский начальник, и каждый входящий боялся его, а теперь тот сидит в кабинете неподалёку, так, чтобы можно было быстро явиться по первой просьбе, и боится сам. – Понимаешь, – заговорил снова оперуполномоченный, – странная это штука, работа с чуждыми. Вычистишь, вывезешь и расселишь тех, кто останется, но тут из него, из народа, снова чуждый выведется. Сам по себе. Как кружочки в символе инь-ян. Белый кружочек в чёрном. И чёрный в белом. Рождается из противоположности.
– Так что же от меня нужно? – повторил вопрос Давид Маркович.
– Ты будешь работать. Это будет важная и очень нужная работа. Опасная: таких, как ты, не любит ни народ, ни ваши. Будешь получать премии. Ты подпишешь сейчас соглашение о конфиденциальном сотрудничестве. И будешь нашим сотрудником. Не сексотом, нет у нас таких должностей. Это тоже ваши «оттепельщики» придумали. Конфиденциальным сотрудником. Ты будешь искать и наблюдать чуждых. Тех, что выводится из народа. И тех ваших, кто хочет притвориться народом.
Отвечать было не нужно. Всё было решено.
Вспоминая вчерашний день, Давид Маркович не мог прогнать подленького чувства, что ему стало легче.
Соколовский – да, вот это было низко и мерзко, жаль человека, но помочь уже нельзя, сегодня уже судебная комиссия. Она могла быть с его, Давида Фельдмана, показаниями, или без них, повлиять на результат он не мог. УПБ не отпускает никого. Но важнее другое. Она могла быть лично с ним, с Давидом Фельдманом, и кто-то другой дал бы показания в отношении него.
Да, это было важнее, а подленькое чувство оставалось только забыть.
В дверь постучали.
Давид Маркович открыл. Это была девочка, дочь соседа, колхозного агронома, Семёна Ефимовича. Тот жил один и растил дочь, Давид Маркович не спрашивал, где его жена, это давно было не принято – спрашивать о таком.
Девочка восьми лет заходила за книгами, теми редкими книгами, что сохранил или сумел найти нынешний редактор газеты «Свет Конвенции».
– Я книгу вернуть пришла, – сказала девочка и протянула ему «Денискины рассказы» в потрёпанном переплёте.
– Здравствуй, Машенька, – растерянно проговорил Давид Маркович, – я тебе вечером занесу новую, у меня пока беспорядок.
– Спасибо, – ответила Маша и ушла.
В доме действительно был беспорядок после вчерашнего обыска. Но хозяин квартиры смотрел на разбросанные вещи и думал о другом. Вот. Выводится из народа чуждый, на его, Давида, глазах. Читает сомнительного автора. И хочет читать ещё.
Но не только от этого кололо под сердцем. И Давид Маркович вспомнил.
– Скоро у вас будут новости. Ждите, – сказал ему вчера вместо прощания Сергей Петрович, оперуполномоченный УПБ.
Глава 7
Хомяки
Виктории Марковне никуда не нужно было торопиться утром. Она вышла из того возраста, когда работа была обязанностью, даже по меркам места, где она сейчас жила, а работы, которой хотелось бы заниматься в радость, здесь не было. Талоны на минимум выдавали, этого минимума ей хватало, страдала Виктория Марковна лишь из-за отсутствия даже не книг – информации.
Вся её жизнь до Конвенции существовала где-то в стремнине потока новостей, сюжетов, писем и сообщений. Она привыкла чувствовать эти волны, проходящие сквозь поры кожи и дающие жизнь, радовалась, когда замечала в стриме крупинки ценного и особенно – когда замечала первой. Тогда сердце начинало стучать реже, мир замирал, она брала крупинку в руки, делала новость или материал – неважно, что именно, но это была работа, которая давала желанную усталость.
Это было всегда, и казалось, что будет всегда, но оборвалось в один вечер, и пустоту внутри заполнить было больше нечем.
Здесь, на северных островах, где Виктория Марковна оказалась сразу после Конвенции, работы было много: обустраивать жизнь в холоде посреди воды, которая почти весь год подо льдом, долбить мерзлоту и выживать – адский труд. И этот труд ничего не даёт, он только забирает.
Мерзлота тянет в себя жизнь, в этом не сомневается никто на островах «ЗФИ».
Год назад Виктории Марковне исполнилось шестьдесят и талоны стали ей выдавать не за труд, а чтобы не умерла. И это было странно – прислали её сюда, чтобы она не жила.
Раз в неделю Виктория Марковна ходила почти через весь остров к знакомой, ещё из той, прежней жизни.
Тогда, до, знакомая писала дерзкие пьесы и участвовала в штабах смешных кандидатов во власть. Им нужны были талантливые авторы, очень талантливые, чтобы объяснить, что они, кандидаты во власть будущую, вовсе не кормятся от власти нынешней, а даже оппозиция. У некоторых получалось. Авторам это было неважно, это тоже была лишь работа.
Сейчас, после, знакомая уже не была драматургом и автором политических технологий, она тоже оттрудилась на мерзлоте и талоны свои получала третий год пенсионно.
Сегодня был именно тот день, когда подруга ждала в гости, и Виктория Марковна, одевшись потеплее – летний северный ветер суров, – пошла.
Первые шаги давались тяжело, промёрзшие колени противились ходьбе, они хотели больше никогда не сгибаться и не разгибаться, но это время ещё не пришло.
А я иду, где ничего не надо, где самый милый спутник – только тень, вспомнилось вдруг.
Вдох. И веет ветер из глухого сада.
Вдох. А под ногой могильная ступень.
Пошло легче. Не бывала ты здесь, Анна Андреевна.
Виктория Марковна любила стихи. Жалела Ахматову, этих прекрасных из Серебряного века, Гумилёва, Мандельштама, Цветаеву и вообще всех их, страдавших.
А потом пришлось страдать самой, жалость расплылась, растеклась и потеряла резкость.
Она шла по неширокой улице между двумя линиями низких домиков, выстроенных сплошной линией – стена к стене. Таунхаусы, вспомнила она слово.
Стало смешно. Живёт в таунхаусе, за городом, как хотела когда-то, но всё было недосуг, надо было кипеть в центре, а таунхаус и загород – это чтобы писать на покое когда-то потом.
И вот он наступил, этот потом, и таунхаус есть за городом. Очень далеко за городом.
Мужа и детей у неё не было никогда, хотя мужчинам она нравилась и, было, предлагали. Не получилось. Виктория Марковна улыбнулась, её развеселила мысль, что хозяйством всё-таки обзавелась.
Дорога вела мимо почтового участка, там работал сосед, Анатолий Соколовский, умница, интеллектуал и писатель в прошлом, а ныне сортировщик писем, с трудом пытающийся не казаться умницей и интеллектуалом.
У почтового участка приземлялся чёрный вертолёт.
Это было плохо.
Люди вышли из вертолёта и кричали что-то встречавшему их Анатолию, а потом затолкали его перед собой. Вертолёт улетел.
Хомяки. Опять. В голове забилась старая детская песенка.
Как жаль, что только две щеки. Шаг вперёд.
Но не теряют бодрость духа хомяки. Ещё шаг.
На свете нет иной задачи. Остановка.
Мы хомяки, и мы хомячим.
Виктория Марковна развернулась и пошла назад, в сторону дома. Они снова хомячат, потому что они хомяки и у них нет другой задачи.
Разумное внутри говорило, что надо идти туда, куда шла, и не разворачиваться. Это не её война, её войны закончились. Подумалось, что никто не умел так убивать разумное, как последняя интеллигенция Садового кольца.
Виктория Марковна размеренно дошла до дома Соколовского. Торопиться пока было некуда, вертолёт второй раз прилетит позже. Обязательно прилетит. Открыла незапертую дверь – закрываться здесь принято не было, – вошла. Оглядевшись, собрала детские вещи и учебники, сложила на покрывало. Подошла к фанерному комоду, достала ящичек, в котором Анатолий хранил документы – она знала этот дом и была здесь своей. Взяла метрики и талоны, положила поверх учебников, вернув ящик на место.
Взгляд упал на фотографию Лены на комоде. Сердце привычно сжалось, но уже пора было торопиться, и Виктория Марковна просто взяла самодельную рамочку с выцветающей фотографией молодой женщины и тоже положила к книгам. Завернула покрывало, узелок получился не слишком большой, но, чтобы вместить жизнь мальчика девяти лет, вполне пригодный.
Дома она убрала принесённые вещи под кровать и стала ждать Станислава, поглядывая в окно. Он должен был зайти к ней после школы, как он обычно делал, не заглядывая домой. Зашёл и в этот раз.
Тучи, собиравшиеся было поутру, разошлись и солнце светило ярко, фигурка мальчика в проёме двери очерчивалась контрастно, свет бил ему в спину, искрился в волосах. Лицо в таком ракурсе – в тени, но Виктория Марковна знала, что он смотрит на неё спокойными светлыми глазами, слегка рассеянным и обволакивающим взглядом.
Он всегда держал паузу при встрече и не торопился здороваться, как другие островные дети.
– Здравствуй, Станислав, – сказала Виктория Марковна наконец, не выдержав, как это часто случалось. – Здравствуйте, Виктория Марковна, – ровно ответил он, продолжая стоять в проёме.
– Заходи.
– На улице потеплело, – ответил мальчик, – хорошо, когда тепло.
– У меня есть рис и тушёнка, как ты любишь. Проходи.
Станислав, словно с усилием отрываясь от солнечного света, зашёл в комнату.
– Мы сегодня решали уравнения. Мне нравится математика, – проговорил Станислав, когда Виктория Марковна поставила перед ним тарелку с рисом.
Она давно заметила за ним эту способность – отвечать на ещё не заданный вопрос.
– А мне никогда не давалась математика, – ответила она.
– Вы учились в Москве? – вдруг спросил мальчик.
– Да, это была хорошая старая московская школа, – ответила Виктория Марковна.
– Папа тоже учился в Москве. А мама нет, она приехала из другого города.
– Да, – ответила Виктория Марковна, – она родилась и выросла в Екатеринбурге. Это тоже большой и красивый город. Сначала ей было сложно, Москва другая, там по-другому даже говорят… говорили. Но она быстро привыкла.
– А здесь как говорят? – Станислав задал этот вопрос очень серьёзно.
Виктория Марковна часто думала о том, кто сейчас с ней рядом, и ответила не задумываясь:
– Здесь говорят так, как говорили в Москве, Станислав.
И те, кто говорил в Москве. Те, кто ещё остался.
Но этого говорить она не стала.
Глава 8
Резерв
Отец рассказывал Станиславу, что на материке большие школьные каникулы у детей летом, а зимой они ходят в школу. Это очень странно: зимой ходить по улицам тяжело и дети на островах сидят дома и помогают взрослым расчищать снег. Метели почти каждый день и снега много, к апрелю дома заметает по крышу.
Станислав любит солнце и свет, иногда свет бывает жарким, тогда можно снять одежду и кожа на теле краснеет.
Утром, когда Станислав шёл в школу, на небе были тучи, но потом поднялся сильный ветер и стало ясно. Он видел это в окно школьного кабинета. Учеников в школе немного, дети на острове рождаются редко, часто болеют и умирают.
Станислав не болел никогда, сколько себя помнил. Отец говорил, что это, скорее всего, из-за того, что совсем маленьким Стас выпал с мамой из лодки в воду и чуть не погиб, но его спасли и у него навсегда появился иммунитет. А мама умерла, она очень сильно простудилась тогда. Папа пытался её вылечить, но не смог.
Последним был урок географии. Станиславу всегда казалось, что их старый учитель смущается, когда водит указкой по карте и рассказывает о Москве, и не верит себе, когда говорит о других городах. Особенно это было заметно, когда учитель говорил о новейших городах, которых в третьем классе на карте стало намного больше, чем было в первом. Учитель сам отмечал эти точки и аккуратно выводил их названия синей тушью.
Новейшие города – те, что появились после Конвенции. Станислав спросил как-то учителя, почему эти города так быстро появляются и растут. Ему было интересно, кто их строит и зачем эти люди уезжают из своих городов, где у них дома и друзья.
– Люди часто уезжают из своих домов, – ответил тогда учитель, не глядя на Станислава.
– Я бы тоже уехал строить город, – сказал Станислав.
Учитель промолчал.
Станислав шёл поначалу не торопясь, а потом вдруг вспомнилось, что сегодня отец задержится. Тогда он пошёл быстрее. У Виктории Марковны ему нравилось. Она умела вкусно готовить и много рассказывала, если Станислав спрашивал.
И он спрашивал. Иногда его вопросы удивляли Викторию Марковну.
– Если новейшие города строят так быстро, значит, это можно было делать и раньше? – спросил он однажды.
– Раньше мы не думали об этом, – немного растерянно ответила тогда Виктория Марковна.
– Значит, думали другие.
Другой его вопрос удивил Викторию Марковну меньше.
– Нам рассказали, что города строят там, где есть нефть, газ, железная руда и другие ресурсы. Что их очень много. Что раньше люди жили бедно, а теперь будут жить хорошо, потому что ископаемых хватит на всех. Почему раньше их не хватало на всех? Они же были, а людей было меньше.
– Потому что не все жили бедно, Станислав. И сейчас не все будут жить хорошо. Ты ещё многое увидишь. Я старая и тоже видела, как города строятся, а потом умирают. Так устроена жизнь.
Рис и тушёнка пахнут вкусно, если их разогреть. Запах был уже на улице за дверью Виктории Марковны. Она знала, когда он придёт, ждала.
Станислав открыл дверь. Постоял на пороге. Зашёл.
Ел он не торопясь, разговаривая с Викторией Марковной, задавая ей вопросы и обдумывая ответы. Вертолёт он услышал издалека и, когда сказал об этом, увидел, что Виктория Марковна не удивилась.
– Держись, мальчик, – сказала она ему, – твои вещи здесь. В вашем доме сейчас будет обыск.
И показала на узел из покрывала, спрятанный под кроватью.
– Если меня заберут, иди в школу с вещами. Там, может быть, помогут тебе. К соседям зайти не пытайся, никто не пустит.
– Все боятся? – спросил Станислав.
– Да, Стас. И хотят жить.
Станислав уже видел обыски и как выводят из домов людей. Есть расхотелось.
Люди, которые зашли в дом, были спокойны.