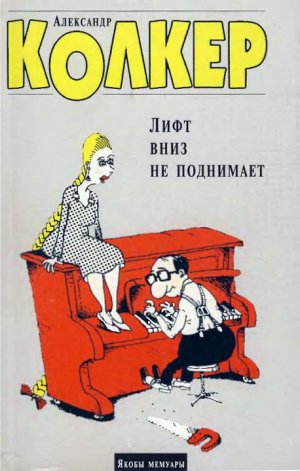
Посвящаю Марии Леонидовне Пахоменко
Лифт вниз не поднимает.
Эту подпись я прочитал в одесской гостинице “Лондонской” в 1969 году. Прошло много лет, о мне никак не избавиться от ощущения, что вся моя жизнь определяется этим парадоксом.
Подарок Утесова
Родился я 28 июля 1933 года в Ленинграде. Первая удача связана с незабываемым эпизодом. Во дворе я познакомился с Борисом Максимовичем Фирсовым. Ему было девять, мне пять. Я отдал ему большое, в железной оправе, с ручкой, увеличительное стекло, а он мне — красную звездочку. Я был счастлив и считал, что Боря просто лопух. Чтобы понять, кто из нас был тогда лопухом, понадобилось пятьдесят с лишним лет…
Еще до войны поступил в музыкальную школу, что на Каменноостровском проспекте, дом 5. В классе профессора Александра Давыдовича Печникова начал осваивать азы скрипичного искусства. Так хотела моя мама.
Скрипачом я был очень слабым. Прежде всего, я трусил. Выхожу на школьную сцену с маленькой скрипочкой — четвертушкой — и умираю со страха. Пальцы не слушаются. Полуобморок.
Спасла меня война. Уверяю вас, что тушить на крышах немецкие зажигалки вместе с “взросляками” было совсем нестрашно. Это вам не “Пчелка” Шуберта!
В январе 1942 года меня с сестрой увезли в далекую сибирскую деревню Лапино (Омская область, Ишимский район). Две тысячи блокадных детей, почти все дистрофики, доходяги. Эвакуированных, а по-местному “кувырканных”, привезли в деревенскую рубленую избу и накормили до отвала горячей перловой кашей. Для многих эта каша была последней…
Пока мы жадно засовывали в рот перловку, шустрые местные жители основательно обчистили нас, позарившись на детские вещички. Потом нам объяснили, что народ здесь озлобленный. Основное население — сосланные по линии “НЭКАВЭДЭ”…
Эвакуация. Это налеты на местные огороды. Это бередящие мальчишескую душу сцены, когда наши молоденькие столичные воспитательницы от безысходности добивались “любви” у местных мужиков. Это стремительный полет с горы на самодельных лыжах, прикрученных к заплатанным валенкам при помощи веревки и сучковатой палки. Это смерть моих сверстников от голода, холода и болезней. Это раннее, не по годам, повзросление. Это военные песни — искренние, мелодичные и печальные.
Услышав впервые “Землянку” и “Темную ночь”, я повторял их сотни раз, молча, про себя, чтобы никто не слышал. “До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага…”. А дальше не могу. Реву.
В начале 1944-го вернулись в Ленинград. Отцу, пробывшему всю войну на казарменном положении в блокадном городе, разрешили привезти семью.
После войны занятия скрипкой пришлось совмещать с учебой в общеобразовательной школе. Здесь я подружился с Сергеем Беликовым. Наше совместное детище — школьный джаз-оркестр: скрипка и аккордеон — я, рояль — моя старшая сестра Ольга (“вольнонаемная”), тромбон — Борис Фирсов (играть на тромбоне он не умел и просто пел в него басовую партию), а также ударные — пионерский барабан и ряд бутылок.
Душа джаза — Сергей. Поет, сочиняет стихи, бьет чечетку, отлично рисует. Пять минут — и на картошке вырезана печать.
Билеты распространялись по школам. Бесплатно.
Наша путеводная звезда тех лет — кино. “Веселые ребята”, “Цирк”, “Серенада Солнечной долины”, “Джордж из Динки-джаза”…
Такого откровенного подхалимажа история еще не знала! Зато снисходительное отношение к нашей успеваемости и тайное покровительство нам было обеспечено. Василий Матвеевич, грузный немолодой человек, приходил на все наши концерты. Садился в первом ряду и ждал начала. Когда Беликов — он же солист, он же конферансье — ломающимся юношеским голосом выкрикивал: “…где директором Василий Матвеевич Шиков!”, директор вставал. В этот момент на его круглом лице уживались два чувства — застенчивость и самодовольство. Раздавались негромкие, нерешительные аплодисменты. Василий Матвеевич, галантно поклонившись, покидал зал…
Первые песни, первые концерты, первый успех, главным образом у девочек. Тогда мы отчетливо осознали: аплодисменты — это великая движущая сила!
И вот первая рисованная афиша:
В 1947 году в Ленинграде гастролировал джаз под управлением Утесова, и мы с Сергеем осмелились явиться к нему в гостиницу “Астория”. Представляете, как нас занесло! Два сопляка прорываются в “люкс” к выдающемуся мастеру.
Было десять часов утра. Мой скрипичный футляр оказал магическое действие на старого швейцара. Про Беликова я небрежно, через плечо, кинул: “Это со мной!”. Робко стучим в номер. Дверь открыла его дочь — Эдит. И свершилось чудо! Перед нами наше божество, наш кумир — великий Утесов!
Мы наперебой пели ему наши мальчишеские песенки, свято веря, что обогатим ими репертуар мастера эстрады.
В номер вошел официант и принес Леониду Осиповичу и Эдит первый завтрак — горячий шоколад и зеленый горошек в вафельных чашечках. Я даже предположить не мог, что аромат горячего шоколада может так мешать показу песен и вызывать столь обильное слюноотделение.
Кончилось тем, что Утесов нас похвалил, песен не взял, но подарил 1500 рублей. На аккордеон.
В садике перед “Асторией” мы с Сергеем прыгали от радости, без конца обнимались, поверив, что будущее безоблачно и прекрасно. Аккордеон “Хонер” с тремя регистрами у нас в кармане! Вот оно, счастье! Вот великий покровитель талантов, бескорыстный и мудрый наставник!
На следующий день объявили денежную реформу…
Как хотелось верить, что Леонид Осипович накануне о ней ничего не знал.
Значительно позже, будучи уже довольно известным композитором, я встречался с Утесовым у него дома, в Москве.
Звоню в дверь. Примерно минуту слышатся металлическое лязганье, какое-то клацанье и перестук. Это хозяин открывает входную систему запоров — десятка полтора замков, щеколд и цепочек. В прихожей под потолком висит огромная связка надувных разноцветных шаров. Для многочисленных малолетних родственников и знакомых.
Мы прошли в кабинет, где меня поразили две вещи — коллекция северных статуэток из моржовой кости и большой, во весь рост, портрет, на котором был изображен молодой Утесов, отражающийся в зеркале.
Леонид Осипович, сильно постаревший, долго читал свои стихи. Было видно, что он относится к ним трепетно. На одно из стихотворений — “Мальчик Ван Ли” — он предложил написать музыку. Наверное, это объяснялось тем, что Утесов уже знал мои наиболее популярные песни. Я как-то прочел в “Правде” его восторженный отзыв о моей “Зависти”.
Песня “Мальчик Ван Ли” у меня не получилась. Стихи были откровенно слабыми. Тема дружбы великих народов тогда волновала меня мало. Впрочем, как и сейчас.
О двух мальчишках, прорвавшихся в гостиницу “Астория”, я Утесову напоминать не стал.
У Сергея Беликова отец погиб на фронте. С матерью и младшим братом он никогда бы не вернулся в Ленинград, но его поэтический дар выручил тогда всю семью. Мальчик Сережа написал в эвакуации целую поэму о блокадном городе и послал ее в Москву на имя ААЖцанова. Пришел вызов. Беликовы вернулись.
После седьмого класса Сергей пошел работать на “Печатный Двор” художником-оформителем. Школу бросил. Большого труда стоило мне затащить его в десятый класс, чтобы он получил аттестат зрелости. Пропустив занятия в восьмом и девятом классах, Сережа тупо взирал на синусы и косинусы. Учителя на многое закрывали глаза, зная о незавидной судьбе одаренного неуча. Когда на выпускном экзамене по физике ему достался вопрос “Трансформаторы переменного тока”, он, как молодой Пушкин в Лицее, возвышенно выпалил импровизацию:
Ему поставили “отлично”.
Потом Сергей окончил филфак Ленинградского университета, болгарское отделение. Зачем? Он и сам не знал.
Подрабатывал Беликов тем, что “крутил” куплеты популярным эстрадникам П. Рудакову и В. Нечаеву. Платили, как правило, “наличманом”.
Жил он с матерью и братом в десятиметровой каморке на Карповке. В этой же коммуналке жила девица. Они расписались. Постоянные свары, скандалы, мордобой, нищета.
Кончилось это все трагически. Сережа повесился на чемоданном ремне в своем туалете. Ему было двадцать девять.
…В тринадцать лет я вступил в комсомол, наврав в райкоме, что мне четырнадцать.
Кто за тебя мазу держит?
В послевоенном ленинградском дворе верха держали взросляки. Особым авторитетом пользовались те, кто побывал на тюремных нарах, то есть — чалился.
Козырять блатным жаргоном было особым шиком. Черняшка и беляшка — черный и белый хлеб. Бацилла — жирное. Балабаска — сладкое. Кто за тебя мазу держит? Долбан? Емеля? — Кто тебя опекает?
За меня мазу держал Чураха. Именно ему я носил в скрипичном футляре бациллу и балабаску. Если б моя мать знала, куда исчезает скудный семейный рацион! Но ей было не до меня. После войны она родила нам младшую сестренку. Назвали ее Галей. Отец рвал и метал. Ребенок получился случайно. Конечно, во всем была виновата наша несчастная мать.
Отец у нас был суровым. Работал он всю жизнь бухгалтером в одном очень серьезном заведении, но считал себя выдающимся чекистом. Вторым после Дзержинского.
По праздникам мать ставила перед ним на стол огромное блюдо с вкуснейшими сладостями собственной выпечки с орехами и черносливом. (Слюна течет даже при воспоминании.) Отец съедал добрую половину печенья и, не взглянув на мать, выдыхал куда-то вверх: “Хорошую я купил муку!”.
Мою принадлежность к блатному миру должен был подтверждать внешний вид: клеши шириной не менее тридцати сантиметров, тельняшка, уголок которой выглядывал из небрежно расстегнутой рубашки, фикса (золотая коронка) и, обязательно, широкий ремень с надраенной морской пряжкой — бляхой.
Чтобы обрести этот стандартно-угрожающий вид, мне пришлось изрядно потрудиться.
Ну, клеши были изготовлены путем вставки во внутренний шов брюк нескольких клиньев. Золотая фикса — фольга, искусно наклеенная на зуб. Тельняшки не было. Ее заменял полосатый уголок, подшитый к рубашке. Но бляха! Взросляки наваривали на обратную сторону такой пряжки свинец. Когда в жестокой драке сходились — стенка на стенку — две банды, она превращалась в грозное оружие. Бляху мне подарил отец, не подозревая о ее зловещем назначении. Вроде бы все.
Такой вид не оставлял никаких сомнений — этот хряет в блатных! Единственное, что выдавало меня, — рост 142 сантиметра, очки на носу и футляр со скрипочкой.
Однажды меня затащили в парадную два подростка. Я попытался оттянуть их, выкрикивая весь фраерский набор:
— Кто за тебя мазу держит? Да я вас в рот… по нотам!
Ребята молча делали свое дело. Снимали с меня ремень с заветной бляхой. Потом дали хорошего пинка и смылись.
Нести скрипку, одновременно придерживая падающие брюки, довольно сложно. Отец всыпал мне “по двадцатое число”. Моя приблатненность заметно уменьшилась.
Зачастую я приходил домой в слезах. Во дворе меня обзывали евреем. Я возмущенно жаловался матери: “Разве я еврей? Я же ленинградец!”.
В тринадцать лет отец купил мне аккордеон. Трехчетвертной “Гигантилли” с одним регистром. Заветная мечта свершилась! Всю ночь я не спал, подбирая по слуху вальс “На сопках Маньчжурии”. Аккордеон не скрипка! Неважно, что перламутровый красавец закрывал меня от подбородка до колен. Зато какой шик! Желание покрасоваться рождало одержимость. Новый тембр звучания живо напоминал военные песни. Одним словом, довольно скоро я освоил этот волшебный инструмент. Вершиной моего исполнительского мастерства стала знаменитая “Карусель”, которую виртуозно исполнял сам Юрий Шахнов!
С тех пор я стал подрабатывать. Ходил по городу с учителем танцев. Играл на аккордеоне танго, фокстроты, вальсы-гавоты, польки. Он платил мне один рубль в день (по старым ценам).
Запомнился урок танцев в кардиологическом санатории на Каменном острове. Тучные, с одышкой, сердечники неподвижно сидят на стульях.
— Танцуем полечку-пипирочку! — с ухмылкой объявляет “балетмейстер”. — Маэстро! Темп средний! — Это уже в мой адрес.
Шутка сердечникам нравилась. Не слезая со своих мест, они начинали сучить ножками, как новорожденные.
Заработанные деньги отдавал матери небрежно. Подумаешь! Делов-то!
Спортивно-музыкальный вуз
В 1951 году по совету все того же Бори Фирсова поступил в ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина). Специальность — автоматика и телемеханика.
В те годы электроника бурно врывалась во все сферы жизни. Профессия инженера-электрика считалась сверхпрестижной. Зачем быть плохим скрипачом, когда можно быть плохим инженером?!
Студенческая среда была очень пестрой. Многие парни донашивали гимнастерки и бушлаты. Резкий контраст этим бывалым, понюхавшим пороха мужикам составляли первокурсницы. Белые передники, туго заплетенные косички, круглые от страха перед преподавателями глаза.
ЛЭТИ тогда называли так: спортивно-музыкальный вуз с небольшим электротехническим уклоном. Баскетболисты Олег Мамонтов и Олег Попков, легендарный Виктор Набутов, писатели Ким Рыжов, Михаил Гиндин и Генрих Рябкин, актриса Алла Прохорова, социолог и философ Борис Фирсов, композитор Александр Колкер — это только единичные примеры из длинного списка выпускников института, щедро пополнивших ряды спортсменов и деятелей культуры.
Поступив в ЛЭТИ, я не порвал с музыкой.
В институтском джаз-оркестре играл первую скрипку, а главное — начал посещать семинар при Ленинградском отделении Союза композиторов. Здесь под руководством И. Я. Пустыльника и других профессиональных педагогов изучил полифонию, анализ формы, гармонию. Одним словом, сдал экстерном курс консерваторских дисциплин.
В институте царила этакая “дедовщина”. Она заключалась в беспрекословном и восторженном почитании старшекурсников, которые в наших глазах были настоящими корифеями. Наиболее нахальные из них могли при всей аудитории обратиться к профессору: “Послушайте, коллега!” или “В целом я согласен с вашими доводами!”.
Отношение старшекурсников к нам было в основном пренебрежительным. Их вечно озабоченные взгляды скользили над нашими головами. Труднее всех приходилось хорошеньким первокурсницам. Обед в институтской столовой становился для них тяжким испытанием.
Два амбала подсаживаются к столику, за которым сидит юное создание, и начинают обсуждать содержимое ее тарелки.
— Уверяю тебя, что эта мясная косточка мне знакома, — говорит первый.
— Не понял. В каком смысле знакома? — серьезно подхватывает второй.
— Я вчера ее обгладывал и хорошо запомнил. Особенно вон тот хрящик!
— Какой именно? Покажи.
— Да вон тот!
Палец “корифея” лезет в тарелку первокурсницы. Вспыхнувшие щеки, смятение и стремительный бег из столовой были наградой этим хохмачам. Нетронутая тарелка щей, естественно, становилась их добычей.
Кима Рыжова я впервые встретил на зачете по электрическим машинам. Встреча эта была, как теперь говорят, судьбоносной. Наше содружество продолжалось больше двадцати пяти лет…
В аудиторию, где проходит зачет, врывается рыжий, среднего роста, худощавый студент. Он с трудом управляется с кучей учебников, толстых тетрадей и свернутых в рулон чертежей. “Невооруженным глазом” видно, что в последний день зачетной сессии этому второкурснику надо “столкнуть” не один зачет.
— Я занимал очередь! — ошалело произносит студент и подсаживается к преподавательскому столу. Группа первокурсников почтительно помалкивает. В ответ на заданный вопрос он запузыривает такую тираду, которая повергает всю аудиторию, включая преподавателя, в явное замешательство:
— Кривая короткого замыкания асинхронного двигателя пересекает кривую холостого хода вышеозначенного двигателя в точке А вследствие того, что работа асинхронного двигателя в режиме короткого замыкания принципиально отличается от режима работы этого двигателя в режиме холостого хода. Особенно при форсаже.
Преподаватель подается всем корпусом вперед. Студент, заглотнув очередную порцию воздуха, продолжает:
— Эта точка А, где происходит пересечение указанных выше характеристик — короткого замыкания и холостого хода, указывает на многовариантность решения поставленной вами задачи и при оптимальном ее решении может принести ощутимую выгоду народному хозяйству нашей великой страны при эксплуатации двигателей этой серии.
— Вы так полагаете? — успевает вставить преподаватель.
— Разрешите закончить, — перебивает его студент. — Боюсь потерять главное!
Напряжение в аудитории достигает критической отметки. В воздухе явно пахнет “коротким замыканием”. Студент продолжает:
— Предложенное мной нестандартное решение задачи асимптотически приближает к нулю величину затрат электроэнергии при работе под нагрузкой этих видов асинхронных двигателей, столь широко используемых в нашей отечественной электропромышленности.
Приближается развязка. Аудитория замерла. Студент, как дошкольник, невинно моргает пушистыми рыжими ресницами. Экзаменатор потирает лоб и смотрит невидящим, отрешенным взглядом куда-то вдаль.
— Интересная мысль, — произносит он задумчиво. — Надо будет на досуге хорошенько обдумать ваш нестандартный ход рассуждений… Давайте вашу зачетку! Очень интересная мысль!.
Так талантливо скинуть зачет мог только настоящий корифей. Корифея звали Ким Иванович Рыжов.
“Весна в ЛЭТИ”
В 1952 году комитет комсомола ЛЭТИ, возглавляемый все тем же Борисом Фирсовым, поддержал идею пятерых литературно одаренных студентов — К. Рыжова, М. Гиндина, Г. Рябкина, М. Смарышева, И. Трегера и одного музыкально одаренного — А. Колкера. Мы задумали объединить в веселом студенческом спектакле все институтские самодеятельные коллективы: оркестр, балет, хор, певцов, артистов, спортсменов. Название будущего шедевра (в этом никто из авторов ни минуты не сомневался) — “Весна в ЛЭТИ”.
Репетировали днями и (главным образом) ночами. Весь институт замер в ожидании премьеры. Преподаватели ставили нам “трояки” вместо заслуженных “неудов”. Самые смазливые студентки стали обращать внимание на самого невзрачного из всех авторов. На меня. Что касается Кима… Ну ладно, об этом позже…
И вот, когда прошли генеральные репетиции и мы были готовы поднять занавес, умер Сталин.
Все плакали. Нет, всех сотрясали рыдания. Лысеющие деканы ничем не отличались от чувствительных студенток. Как Дальше жить? Да и зачем дальше жить?!
Но были и такие лихие студенты, которые в эти скорбные дни вели себя иначе. Они заказывали аудиторию для проведения траурного комсомольскою собрания и, закрывшись на ключ, “шпилили” там круглые сутки в преферанс. Благо, занятий не было.
Мы, создатели спектакля, отчетливо понимали, что шутить и веселиться наша страна не будет никогда!
И вдруг жизнь сделала головокружительный кульбит — Никита разоблачил Иосифа.
В мае 1953 года состоялась премьера нашего искрометного, зубодробительного, музыкального спектакля “Весна в ЛЭТИ”.
На афише среди авторов красовалось и мое имя — “музыка Александра Колкера”.
Конная милиция и студенческие патрули пытались сдержать уставшую от траурных маршей толпу молодежи. Казалось, все ленинградское студенчество собралось в тот вечер на подступах к Выборгскому Дворцу культуры. Наиболее шустрые проникали внутрь через крышу. По каким-то вентиляционным шахтам. Кончилось все тем, что атакующие снесли все кордоны и ворвались в зрительный зал. Материальный ущерб обошелся институту в кругленькую сумму.
Понять сегодня это почти невозможно. Но тогда, в далеком 1953-м, еще не было Арлазорова, Богдана Титомира и группы “Полиция нравов”. А мы были!
Вот как описывает “Весну в ЛЭТИ” наш земляк известный театровед Эмиль Яснец в монографии “Александр Колкер”:
“…Кинопролог показывает горячие минуты перед началом занятий. Обвешанный гроздьями молодых людей, приближается к институту на просевших рессорах автобус десятого маршрута — “червонец”. Сломя голову бегут студенты и преподаватели, многие из них хорошо знакомы зрительному залу. На часах в вестибюле без двух минут девять. В одно мгновенье все стихает. Улица мертва. Начались лекции.
И тут к входу подлетает такси! Открываются дверцы и — не торопясь, вальяжно — выходят двое. Он: завитый кок, импортный цветастый галстук, туфли на толстенной микропоре, узкие в обтяжку брюки “дуды”. Стиляга начала 50-х годов — Арнольд Кукеш (И. Трегер). Она: ярко накрашенный рот, прическа в стиле “я у мамы дурочка”, смелые телодвижения и вызывающий разрез на юбке. Одним словом, Мэг Купидонова (А. Прохорова).
Парочка проходит в вестибюль и становится под знаменитыми часами. Здесь институтский “бродвей” — место сбора любителей сладкой жизни, преферанса, просто прогульщиков.
Заканчивается кинопролог показом полупустой аудитории. Входит глуховатый профессор и произносит всем известную сакраментальную фразу: “Я вот тут с вами…, а меня ждут заводы юга!”.
Здесь зал грохнул так, что перегорели радиоусилители.
Сюжет о любви “всеобщественника” Сени Птичкина (М. Смарышев) и “забубенного” отличника Феди Смирнова (А. Знаменский) к вполне положительной студентке Нине Алмазовой (И. Попова) разворачивается в интерьере весны, ветки сирени и “чьей-то записки в несколько строчек”.
Интермедии, сценки, веселые номера и остроумные репризы показывают институтский быт в горизонтальном и вертикальном разрезах. Расположенный рядом с ЛЭТИ знаменитый Ботанический сад помогает авторам в разрешении многих лирических сцен. А когда стиляга Арнольд Кукеш застыл, облокотившись на дерево с табличкой “Дуб обыкновенный”, радиоусилители пришлось менять вторично.
Эпизод в общежитии позволяет продемонстрировать “частную жизнь” студентов; сценка “В раздевалке спортзала” — неплохой повод для выступления акробатической группы под руководством Александра Плотникова (чемпиона и тренера сборной страны и одновременно студента ЛЭТИ); “Репетиция джаз-оркестра” — это еще и лирическая песня “Ночь весенняя”, а картинка “В столовой оригинальный танец с огромным ножом…
Совсем другое — сцена студенческого карнавала. Праздничная лента вальса окаймляет несколько хореографических миниатюр и среди них — остроумную танцевальную зарисовку “Хлестаков”.
Кипучего бездельника, профсоюзного деятеля Волокитова играет Ким Рыжов. Он сам написал себе куплеты “заорганизованного” бюрократа:
Ким обладает приятным тенорком и отличным музыкальным слухом. Неназойливое грассирование — р-р — придает его пению особую привлекательность”[1].
На премьере с Кимом случился небольшой “ляп”. Дело в том, что дружки посоветовали Рыжову для храбрости и для лучшего звучания верхнего, тенорового регистра принять грамм сто пятьдесят…
Свой коронный номер “Куплеты Волокитова” Ким исполнял на авансцене в сопровождении трио — аккордеон, гитара, контрабас. Первый куплет начинался словами:
Выходит на сцену институтский кумир, гроза всех (без исключения!) студенток, Кимуха. За его спиной звучит вступление нашего трио:
— Ум-па, ум-па, ум-па, ум-па…
Рыжов беспомощно улыбается.
— Ум-па, ум-па, ум-па, ум-па…
— Подскажи первую строчку, — просительно шепчет Ким, пытаясь обыграть непомерно долгое “умпанье” музыкантов.
— “Я не помню…” — шепчу ему с натужной улыбкой, продолжая: — Ум-па, ум-па, ум-па, ум-па…
Покрывшийся испариной ''корифей” жалобно умоляет контрабасиста:
— Первую строчку!
— “Я не помню…” ум-па, ум-па, ум-па, ум-па.
В зале всепрощающий хохот. Наконец затуманенное сознание начинающего алкаша проясняется и он азартно тенорит:
Студенческий гимн, написанный мной для финала представления, звучал в исполнении солистов, хора и оркестра как клятва верности институту, родному городу, молодости:
Песню подхватил весь зал. Пели студенты, пели профессора и преподаватели, пел ректорат и партком. Незабываемые минуты!
Я пережил много премьер, но такого успеха не припомню. И это продолжалось на всех последующих представлениях.
Почему? Ну, смело, конечно, было по тем временам. Юмор, а тем более сатира, были не в почете. Не следует забывать, что все это было написано и отрепетировано еще при жизни “отца всех народов”.
Было бы несправедливо не упомянуть режиссера спектакля Наума Бирмана, дирижера оркестра Анатолия Бадхена, балетмейстера Виссариона Зосимовского. Позже они стали видными деятелями культуры Ленинграда.
Слава о нашей “Весне в ЛЭТИ” разлетелась по всей стране. На наших представлениях побывали Аркадий Райкин, Дмитрий Кабалевский, Игорь Владимиров, Николай Черкасов, Николай Акимов… Спектакль повезли на гастроли в Москву. Успех сногсшибательный. Пресса нас не заметила.
Московский зритель резко отличается от ленинградского. Первый выражает свои эмоции бурно, раскованно. Второй — сдержанно, настороженно поглядывая на соседа. Удивляться здесь не приходится. Наших горожан всю жизнь учат скромности. Не надо высовываться! Не надо забывать, что вы областной центр. А мы — столица! Зачастую эти уроки были жестокими…
Поскольку участники “Весны в ЛЭТИ” заканчивали учебу и разъезжались “по городам и весям”, мы решили увековечить наше творение и явились (судьба-злодейка!) в гостиницу “Астория”…
В “люксе”, где я когда-то встретился с великим Утесовым, нынче остановился великий Охлопков. В то время популярнейший киноактер возглавлял Главк кинематографии. С ним прибыл и главный редактор Госкино товарищ Витензон. Группа авторов во главе с тем же Борей Фирсовым в девять часов две минуты постучала в номер Николая Павловича.
— Почему опоздали на две минуты? — грозно спросил Охлопков. — Я человек государственный, человек дела. Каждая моя минута расписана на месяц вперед!
— Извините нас. Мы…
— Знаю. Слышал отзывы, — продолжал государственный человек. — В Москве не смог достать билет на вашу “Весну в ЛЭТИ” (!). Товарищ Витензон, приказываю вам…
Спины наши напряглись. Мы слегка привстали с мягкого кожаного дивана.
— …заключить с талантливой молодежью договор! — чеканил Охлопков. — Пусть по этому спектаклю напишут киносценарий. А мы снимем двухсерийный цветной художественный фильм. Извините. Спешу.
Что с нами творилось! В садике перед “Асторией” мы прыгали от радости, без конца обнимались, поверив, что будущее безоблачно и прекрасно! Вот оно, счастье! Вот великий покровитель талантов, бескорыстный и мудрый наставник!
К сожалению, на этом все и кончилось.
— Витензон, Витензон нам поставил формазон, — напевали мы, горестно вздыхая.
…Летом 1995 года Марина Петрова — самая талантливая наша радиожурналистка — предложила мне сделать передачу о “Весне в ЛЭТИ”. В 1953-м она сама была студенткой и сумела прорваться в Выборгский Дворец культуры. Потом она сделала запись нашего спектакля. С тех пор в фонотеке радио хранится уникальная пленка.
После радиопередачи мне оборвали телефон. Звонили знакомые и незнакомые, мои ровесники и те, кто помоложе: “Спасибо! Огромное вам спасибо за передачу. Как глоток чистого воздуха! Мы помолодели на сорок лет!”.
Так уж вышло, что наша “Весна в ЛЭТИ” стала звездным часом целого поколения.
Вперед! Марш!
Мое воинское звание — старший лейтенант-инженер военно-морского флота. В ЛЭТИ была военная кафедра. Студентам, прошедшим морскую подготовку — месяц в Кронштадте и месяц в Лиепае, — присваивали офицерское звание.
— Первая рота, слушай мою команду! Подъем!
Этот немилосердный окрик бравого старшины раздавался ежедневно ровно в шесть часов утра. “Чего орешь?! Изверг! Мы же студенты!”. А изверг, гладко выбритый, с отутюженными стрелками брюк, продолжал издевательство:
— Одеваться и заправлять койку надо за две с половиной минуты! Первая рота, слушай мою команду! Всем в койки! Раздеться догола!
На военные сборы я брал с собой аккордеон. И не зря. Не такой уж я дурак! Когда в кубрике (мы базировались в морском экипаже) объявлялась “большая приборка”, я хватал свой “Гигантилли” с одним регистром и начинал бравурным маршем подбадривать однокурсников. Драить палубу под музыку — совсем другое дело!
Средства самозащиты были заготовлены на все экстремальные случаи. Строевой подготовкой мы занимались на Якорной площади, а морскую пехоту из нас пытались сделать на Бычьем поле. Есть такое топкое место в Кронштадте. Морской пехотинец Колкер представлял собой жалкое зрелище. Карабин, противогаз, скатка (свернутая колбасой шинель), на поясе две гранаты, а на ногах “модельная обувь” — ГД (“говнодавы”). И это все при моей хлипкой комплекции! От крика старшины я постоянно вздрагиваю.
— Первая рота, слушай мою команду! Атакуем противника! Пятьсот метров бегом! — Старшина ехидно подмигивает мне. — Вперед! Марш!
Какой марш! Я могу пробежать только один шаг! Но… Голь на выдумки хитра! Быстро достаю заранее заготовленную табличку — “я убит”. Вешаю ее себе на шею и падаю в придорожный кювет.
Два наряда вне очереди значительно лучше, чем смерть на Бычьем поле.
Эта позорная страница моей воинской службы искупается другим, приятным, воспоминанием. Было это уже два года спустя, в Лиепае. Вторые наши военые сборы проходили на телеуправляемом корабле “Цель”. Это уникальное судно служило мишенью для совершенствования стрельбы крейсеров и эсминцев. Нутро “Цели” было напичкано различной автоматикой и аппаратурой дистанционного управления.
Когда после войны делили фашистский флот между союзниками, нам досталась личная яхта Адольфа Гитлера, а англичанам этот корабль-цель, бывшее название крейсер “Гессен”.
На банкете по случаю раздела флота наш адмирал запросто перепил адмирала английского. В результате англичанин поплыл домой на гитлеровской яхте (на фиг она нам нужна!), а наш заполучил крейсер.
Трюмы этой посудины были забиты пробкой и бочкотарой, чем достигалась высокая непотопляемость. “Цель” оставалась на плаву при любых пробоинах.
На стрельбах артиллеристы старались раздолбать все надстройки — рубку, трубы, мачты. Зато старпом нашего корабля имел три личных автомобиля! Он сдавал в металлолом искореженное на стрельбах железо. Десятки тонн. Природная забывчивость не позволяла ему отдавать вырученные деньги государству…
Потом в доке наваривали новую трубу, новую рубку, новые мачты. Цикл повторялся.
Корабль кишел крысами. За поимку одной крысы боцман давал одно увольнение на берег. За поимку одной поросной (беременной) крысы — два.
Самым шустрым из нас был Женя Каслов. Он ловил крысу, надувал ее и успевал добежать до боцмана:
— Разрешите обратиться! Студент… Виноват! Матрос Каслов!
— Слушаю, матрос.
— Докладываю. Только что поймал в трюме поросную крысу!
— Откуда ты знаешь, что она поросная?
— Докладываю, — продолжал придуриваться Каслов, — у нее беременный живот! Взгляните.
— Молодец, матрос. Как, напомни, твоя фамилия?
— Матрос Каслов!
— Молодец, матрос Каслов. Благодарю за службу!
— Служу Советскому…
— Отставить! — перебивал афериста бывалый служака. — Крысу за борт! А тебе два наряда вне очереди!
— За что? Товарищ…
— Отставить разговорчики! — орал боцман. — В другой раз, когда будешь надувать крысу, прилагай меньше усердия. У твоей живот больше баскетбольного мяча! Кругом! Марш!
После окончания сборов был устроен футбольный матч — сборная моряков против сборной студентов. В нашей команде были настоящие спортсмены. Перворазрядники и даже мастера спорта. Одни играли в баскетбол, другие занимались плаванием или бегом. Главное, они были атлетически подготовлены к матчу.
Моя спортивная слава ограничивалась вторым разрядом по шахматам. Но во мне жил настоящий боец и я уговорил капитана нашей команды поставить меня в нападение!
Истекало время второго тайма, а счет был прежний — 0:0.
И тут случилось чудо. Мяч, посланный сильнейшим ударом нашего защитника, стукнулся о мою голову и рикошетом отскочил в ворота команды моряков. Ура! 1:0 в нашу пользу!
Несколько минут, оставшиеся до конца матча, над футбольным полем летел призывный клич нашего капитана: “Пасуй Колкеру!”.
После окончания института (диплом я 'защитил на “пять шаров”) мы с Кимом “сыграли в ящик”. Почтовый ящик № 128. Некоторое время работали инженерами. Вернее, делали вид, что работали. Платили нам по 90 “рэ” в месяц. Мы сидели в лаборатории и писали песни.
Правды ради надо сказать, что Рыжов несколько раз ездил в командировку на Север. Там в ледовых пустынях испытывалась продукция нашего сверхсекретного НИИ. Не уверен, что Ким Иванович внес крупный вклад в обороноспособность нашей державы, но облитерирующий эндартериит он там заработал. Страшная, неизлечимая болезнь. Беда! В 1964 году Киму ампутировали правую ногу.
…Когда входил завлаб, я стремительно совал паяльник в канифоль, а Кимуля начинал на своем рабочем столе закручивать огромный шуруп. Так мы демонстрировали наш трудовой порыв!
Иногда в лабораторию вваливалась группа пьяных до потери пульса военпредов. Целый день они в соседнем помещении “забивали козла” и пили за могущество отечественного военно-морского флота.
— Требуем предъявить готовую продукцию! — произносил какой-нибудь капитан первого ранга. — Однако штормит!
Великих тружеников качало, как в девятибалльный шторм.
Мы предъявляли. Они принимали. Ах, если бы эта продукция, проходившая под грифом “Совершенно секретно. Особая папка”, еще и работала!
Дни моей инженерной деятельности совпали по времени с настойчивым ухаживанием за будущей женой — Марией Леонидовной Пахоменко. Какая уж туг работа!
Мне повезло. В те времена была номерковая система. Если твой рабочий номерок висит на табельной доске, значит, ты служишь отечеству справно!
Я имел дубликат своего номерка. Если вместо работы я бежал на свидание с любимой, то Рыжов, придя на службу, вешал два номерка — свой и мой. Что касается его отношений со строгой табельщицей… Ну ладно, об этом позже.
Не обнаружив Колкера на рабочем месте, завлаб выказывал свое возмущение:
— А где же Колкер? Не вижу его целый день!
— Только что был здесь! — гудела вся лаборатория, театрально возмущаясь недоверием начальства. — Вероятно, поднялся в спецбиблиотеку!
— Странно. Я только что оттуда! — не унимался завлаб.
— Вспомнил! — вступал в разговор Кимуха. — Колкера вызвали в экспериментальный цех, в другой корпус.
Но однажды я сгорел.
После бессонной ночи (нет-нет, вы подумали не о том — Нева, разведенные мосты) я пришел на работу. Уткнулся носом в резиновый тубус осциллографа (это такая штуковина, вроде огромного, телевизора) и уснул. Незаметно подкрался завлаб. Разбудил меня и немедля предложил написать заявление “по собственному желанию”.
В целях экономии бумаги я предложил Рыжову сделать это одновременно. В заявлении значилось:
Заведующему лабораторией № 1 лабораторно-исследовательского отдела НИИ п/я 128 тов. Ходорову В. Я.
Заявление
Согласно с Вашим желанием просим уволить нас по собственному желанию.
Колкер. Рыжов.
“А мы отдыхаем так!”
В 1956 году мы сотой Ленинградский молодежный эстрадный ансамбль (ЛМЭА), побравший в себя лучшие самодеятельные силы города. Слава “Весны в ЛЭТИ” не давала нам покоя.
Возглавил ансамбль А. Балхен. Очень помог нам все юг же Б. Фирсов, бывший в то время одним из лидеров ленинградского комсомола. Нельзя не вспомнить и А. Камчугова — директора Дворца культуры Промкооперации. Именно он заложил под воплощение нашей идеи ошеломляющую сумму — миллион рублей!
Декорации и костюмы к первому спектаклю-обозрению были выполнены по эскизам Николая Павловича Акимова. Молодежным энтузиазмом в свои солидные годы выдающийся художник и режиссер не страдал. Но когда с ним заключили договор на очень солидную сумму…
Зато большой симфо-джаз мог из глубины сцепы выезжать к самой рампе на уникальном, движущемся станке. Солисты, танцоры, музыканты, кукловоды, актеры и вокальные ансамбли были одеты (или раздеты) с большим вкусом. Акимов!
Все знают Акимова-режиссера и Акимова-художника. Но немногие слышали его саркастические, уничтожающие суждения о том, что он высмеивал или презирал. Приведу лишь два эпизода.
Город выделил Акимову квартиру в новом доме па Петровской набережной. Этот прекрасный дом с огромными квартирами и высокими окнами смотрит через Неву на Летний сад и Троицкий мост. Здесь же поселили Е. Мравинского, Г. Товстоногова, Е. Лебедева, А. Петрова, В. Стржельчика. Короче говоря — весь “бомонд”. Для порядка одну квартиру на первом этаже дали рабочему. Естественно, со звездой Героя Соцтруда, члену горкома КПСС. В народе этот дом метко окрестили “дворянским гнездом”.
После одного из спектаклей Акимов решил похвастать новыми апартаментами и пригласил в гости Кима Рыжова и меня. Входим в парадную. Лифт не работает. Освещения нет. Мы стали подтрунивать над новоселом:
— Какое безобразие! Позор! В чем дело, Николай Павлович?
— Не знаю, не знаю! НЕ Я РАЗГОНЯЛ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ! — зло выпалил Акимов.
Николай Павлович не любил оперетту. Особенно он не любил одну опереточную примадонну, которая до преклонных лет позволяла себе любые непристойности, лишь бы сорвать аплодисменты. Характеристика Акимова была убийственна: “ТВОРЧЕСКУЮ ПАЛИТРУ ЭТОЙ АКТРИСЫ ОБЕДНЯЕТ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРДЕТЬ НА СЦЕНЕ!”
Афиши с интригующим названием “А мы отдыхаем так!” приглашали любителей эстрады на нашу первую программу. И снова предстартовая лихорадка, и снова ожидание премьеры…
Для этого ансамбля я написал двадцать песен. Из них две были бесспорными шлягерами, по-современному — хитами: “Дождик” (“…кап-кап-кап-кап, каплет дождик…”) и “Парень с Петроградской стороны”. Обе на стихи Кима Рыжова. Я и сейчас храню маленькую пластиночку, “сорокапятку”. На ней Кимуша со своим неизменным “р-р” поет с оркестром про парня с Петроградской стороны, которого “не раз встречали вы на берегах Невы”. Известный ленинградский композитор Г. Носов, прослушав эту запись, не преминул мне заметить: “Ты, Колкер, неглупый человек. И я не хочу тебя обидеть. Но тактически было бы правильнее записать эту песню, где уж больно много буквы “р”, с другим исполнителем. Русским”.
Звездой нашего ансамбля была Нонна Суханова — обаятельная, долговязая нескладуха. С обезоруживающей улыбкой она божественно пела под Эллу Фитцджеральд. Именно она исполняла мой “Дождик”.
Эта песня — гвоздь программы. Как и другие, она была театрализована. Кроме солистки на сцене выступал балет. Но какой балет!
Поскольку место действия песни — пляжу Петропавловской крепости, наши танцовщицы были (о, ужас!) в купальниках.
На приемке спектакля Главным управлением культуры Ленинграда больше всех возмущалась Нина Пельцер. Она решительно требовала запретить этот номер.
— Омерзительная вульгарность! Тлетворное влияние Запада! Куда смотрит комсомол?! — выкрикивала опереточная балерина, всю жизнь задиравшая в канкане выше головы свои очаровательные ноги!
Плотину прорвало! “Надолбы” из Главного управления культуры, перебивая друг друга, клеймили нас позором. Знаменитую оттепель слегка подморозило…
Но вот слово взял первый трубач оркестра, слесарь пятого разряда Геннадий Махов:
— А мы отдыхаем так! Не надо нас прикрывать. Нам, рабочему классу, это нравится!
После премьеры ко мне подошел Н. П. Акимов:
— Не можете, Саша, устроить мне в непринужденной обстановке встречу с Нонной?
На следующий день мама готовила фаршированную рыбу…
Нонна пришла пораньше и немного трусила. Звонок в дверь — и в комнату входит Николай Павлович со свитой: дирижер Анатолий Бадхен, режиссер спектакля Наум Бирман, Ким Рыжов и зав. сектором художественной самодеятельности ДК Промкооперации Исаак Эткинд, научивший меня закусывать водку сладким сырком с изюмом. Пришел еще кто-то. Не помню.
Акимов оценивает богато накрытый стол и плотоядно поглядывает на Нонну.
И вдруг Суханова, надев свою обезоруживающую улыбку, подходит к мэтру.
— Коля! Сядь со мной рядом! Не бойся! — ласково произносит наша нескладуха, поглаживая лысину Николая Павловича.
Метр позволил себе выпить рюмочку. Глаза его помолодели, и он угостил нас забавнейшими историями.
Нонна выпила рюмочек десять. Она взгромоздилась на рояль и села по-турецки, скрестив ноги. Белый треугольничек ее трусиков, как луч театрального пистолета, был направлен прямо в нос Акимову.
Нонна пела. Пела по-английски. Я аккомпанировал. Все умирали от удовольствия. Я умирал больше всех. “Колыбельная Птичьего острова“ приводила меня в сумасшедший экстаз.
Акимов попросил: “Саша, вызовите мне отдельное такси…”.
Утром позвонила Нонна.
— Ничего особенного. Даже платочка не подарил. Не ожидала.
Потом в портретной галерее Николая Павловича появилась новая работа. “Артистка Нонна Суханова”.
В 1957 году мы выступали в Москве на Всемирном фестивале молодежи.
Я давно приметил такую закономерность. После московских гастролей — будь то какой-нибудь театр или музыкальный коллектив — всегда наступает спад. Москва действует на периферию разрушительно.
Так было и с нами. Ансамбль стал разваливаться. Зато на профессиональную эстраду ушло более сорока человек. Назову лишь несколько имен. Лидия Клемент, Мария Пахоменко, Нонна Суханова, Герта Юхина, Георгий Штиль, Вячеслав Бесценный, Павел Кравецкий.
В ансамбле я впервые увидел Марию Леонидовну Пахоменко. Увидел и победил. Ей было девятнадцать, мне двадцать три. У нее была толстенная, до щиколоток белая коса и абсолютный слух. У меня были песни, скромная популярность и учащенное сердцебиение. Сорок лет мы вместе.
Сначала было трудно. Уволившись с инженерной работы, я лишился своих кровных 90 “рэ“ в месяц. И хотя первые мои песни исполнялись довольно широко, авторских гонораров я еще не получал.
Скажем, “Песенку почтальона” на слова Л. Норкина с успехом пела Майя Кристалинская в сопровождении оркестра Олега Лундстрема. Ну и что? Известность была, а денег не было. А тут семья.
В 1960 году у нас родилась дочь Наташа. На помощь родителей уповать не приходилось. В Машиной семье четверо детей, в моей — трое.
Стал играть на всех “пыльниках”. Так назывались многочисленные танцевальные вечера. Зато какой опыт!
Помню Мраморный зал ДК им. Кирова. Наш оркестр играл вальсы и фокстроты, мазурки и блюзы. Появился первый рок-н-ролл.
Рядом, в соседней комнате, работала выездная сессия Василеостровского районного суда. В антракте между танцами выходила строгая дама и торжественно объявляла: “Выездная сессия районного суда приговорила сейчас к трем годам лишения свободы гражданина Иванова, пырнувшего в припадке ревности ножом гражданку Сидорову. Танцуем полонез-мазурку!”
Когда уважаемая публика была недовольна нашей игрой, в оркестр летели дымовые шашки. Вот она, композиторская школа.
Однажды мне позвонил мой приятель Сергей Слонимский. Сейчас он профессор консерватории, народный артист.
— Сандро! Как пишется партия ударных инструментов в рок-н-ролле?
Он тогда писал музыку к какому-то кинофильму.
— Сережа, — говорю ему, — сходи на танцы. Например, в Мраморный зал. Мы играем рок-н-ролл. Послушаешь.
— Как же я пойду на танцы! — пугается маститый композитор. — Ведь там рабочие! Вероятнее всего, они меня изобьют!
— Ну тогда не пиши музыку в современных ритмах! — хохочу я в телефонную трубку.
“Долго будет Карелия сниться…”
М. Гиндин, Г. Рябкин и К. Рыжов объединили свои дарования в один литературный триумвират. Получилось — ГИНРЯРЫ.
Вместе с ними я отправился в 1963 году на “чёс”. Или просто — на заработки. Наша концертная бригада была молодой и выносливой. Иногда мы давали пять (!) концертов в день. Выступали где угодно — за прилавком магазина, в детских яслях, в местах заключения.
— Не влияет роли, — любил говорить Рыжов, — лишь бы хорошо башляли.
Позарез нужны были деньги. Особенно мне. Ребята к тому времени написали программу одного из спектаклей А. Райкина и обзавелись зимними пальто с бобровыми воротниками. Я еще обходился плащом.
Наш путь лежал в Карелию и Мурманскую область.
Продать билеты на наши концерты было трудно. Что это такое — ГИНРЯРЫ? А кто такой Колкер?
Чтобы не сорвать гастроли, мы серьезно подсуетились.
Во-первых, был приглашен пройдоха-администратор. Само собой, еврей. Знающие люди говорили, ему удавалось сделать аншлаг даже в тех случаях, когда провал был неминуем.
В Ненецком национальном округе он сумел продать все билеты на спектакль “Анна Каренина”. Сам по себе этот факт уже вызывал сомнение. Но когда мы узнали, что гастролировал со спектаклем самодеятельный молдавский театр и артисты играли на молдавском языке, мы зауважали нашего администратора безмерно.
А происходило это так. Наш пройдоха приехал в Нарьян-Мар заранее. Он ходил по городу и сам расклеивал афиши — “Анна Каренина”. При этом он водил на поводке маленького медвежонка…
— Ура! Цирк приехал! — восторженно кричала местная детвора.
Администратор загадочно улыбался и ничего не отрицал.
— У вас не найдется лишнего билетика? — спрашивали вечером у входа в местный Дом культуры.
…Во-вторых, афиша наших концертов была составлена хитроумнейшим образом. Мы по-своему использовали “эффект медвежонка”.
Все коми и суоми читали на афише главное — Аркадий Райкин — и валили валом на наши концерты, после которых разгорались горячие споры, доходившие до потасовок. Который из них Райкин?
В Сортавале мы жили все вместе в одном большом “люксе”. Бывший офицерский бордель, переделанный в гостиницу после финской войны, был выстроен с комфортом. Вояки могли заказать напитки, изысканный ужин и девочку. Ужин подавался прямо в номер на индивидуальном микролифте.
Зажигалась лампочка (надо думать, красная), офицер открывал створки п вынимал поднос. Кушать подано!
В паши дни все ото, естественно, не рабошо. Я имею в виду не девочек, а лиф|.
Мы все следили га Кимом, чтобы он не курил. Это было ему противопоказано напрочь. Но наш “облитеритик” смывался на озеро и дымил там, как паровоз.
Колдовская красота сортавальской природы вдохновила Кима на первые строчки нашей будущей “Карелин“:
Я схватил аккордеон и заперся в туалете… К вечеру песня была написана.
“Карелию” вдохновенно спела Лидия Клемент.
Художественный совет Ленинградского радио, прослушав песню, вынес решение: “Дешевый банальный вальсок. Не покупать и не рекомендовать к исполнению”.
Лидия Клемент. Мы жили вместе на даче в Кирилловском. По дороге на Выборг. У Лиды с мамой там был свой домик, а мы снимали комнату, чтобы вывозить на лето дочку. Загорали вместе, на озере. Как-то я заметил, что Лида заклеивает пластырем родимое пятно на ноге…
Она умерла в двадцать четыре года. Лида была красивой и талантливой. Умирала она под звуки “Карелии”. В тот скорбный день Центральное радио передавало эту уже очень популярную песню двенадцать раз.
Это все, что мне удалось сделать тогда для нашей Лиды.
ВППС
В жанре песни я всегда себя считал учеником Василия Павловича Соловьева-Седого. Речь идет не о формальных занятиях учителя с учеником. Нет. Тем более, что Василий Павлович никогда не увлекался преподавательской работой.
Просто его песни не нуждались в объявлении автора. Зазвучит мелодия, и сразу ясно — так ярко, так самобытно мог сочинить только он!
Как жаль, что многие нынешние композиторы, работающие из “материала заказчика”, не понимают главного: успех и долголетие песни в первую очередь зависят от талантливой мелодии, не похожей на все песни сразу.
Визитной карточкой страны стала песня Василия Павловича Соловьева-Седого “Подмосковные вечера”.
В последние годы я регулярно просиживаю штаны в жюри многочисленных песенных конкурсов. “Под крышами Санкт-Петербурга”, “Шлягер-95”, “Шлягер-96”, “Золотой шлягер”.
Я постоянно в курсе того, ЧТО сегодня звучит на эстраде и в эфире.
С Александрой Пахмутовой мы играем в такую игру.
Встречаемся где-нибудь на фестивале — в Курске или Таганроге — и обмениваемся впечатлениями. Какие из современных супершлягеров поразили наше композиторское воображение? Какие из них с особой настойчивостью раскручивает телевидение?
— Слышал такой перл? — спрашивает меня Александра Николаевна:
Прирожденная артистка, она точно воспроизводит весь видеоряд. Вот на телеэкране появляется нечто округлое, обтянутое зелеными лосинами. А вокруг этого округлого прыгает доведенный до полового экстаза лось-жеребец.
Но меня не возьмешь голыми руками! И я цитирую припев такого шлягера, который слышал своими ушами по первой программе телевидения:
…За глаза мы называли Василия Павловича — ВПСС. Он знал это, но не сердился, поскольку никогда в партиях не состоял.
Тактика партии состояла в том, чтобы некоторые видные деятели культуры были беспартийными. Это олицетворяло торжество “свободного” волеизъявления. Например, беспартийными были Н. Акимов, Г. Товстоногов, В. Соловьев-Седой.
С другой стороны, партия могла резко поправить свое экономическое положение, приняв в КПСС — ВПСС. Партийные взносы популярного композитора составили бы внушительную сумму.
Правда, возникала опасность потерять выдающегося песенника. Отдать свои трудовые в никуда?! В черную дыру?! Вася этого бы не пережил!
Бывало, какой-нибудь создатель “маловысокохудожественных” произведений шепотом спрашивал меня:
— Как ты думаешь, старик, сколько зашибает Васятка?
— Ты кого имеешь в виду? — прикидывался я дурачком.
— Во дает! Ну, с кем ты накоротке?
— Л! Гы имеешь и виду Василия Наиловича? Как бы 1сбс это образно объясни 1 ь, — творю я, оглядываясь по стропам и понижая тлос. — Только сугубо между нами!
— Обижаешь, старичок!
— Понимаешь… — Беру любознательною коллегу иол локоть и отвожу в угол. — Понимаешь… Короче! Вася па свои гонорары запросто может кушпь Индию!
Еще в студенческие годы в Ленинградской консерватории сдружилась фоица — Вася Соловьев-Седой, Ваня Дзержинский и Николай Ган.
Дене1 было шусто. Однако, когда получили первый авторский юнорар, решили шикануть. Махнун на юг к морю. На всех ‘троих денет не хватало. По жребию в Крым отправились Вася и Вайя.
Всю наличность пропили дня за два. Оставшейся мелочи хватило лишь на телеграмму:
“Ленинград. Консерватория. Гану. Еще.”.
И такой эпизод, о котором я уже рассказывал в фильме “То, что на сердце у меня”. Дело было в послевоенные годы. Вася любил путешествовать по стране. Летом он частенько ездил в Москву на своей “Волге” вместе с закадычным другом и шофером Виктором Евстигнеевым.
Конечно, по сравнению с “Красной стрелой” в автопробеге были и свои изъяны. В поезде, например, можно было начать пить еще до отправления. Поскольку желающих заняться этим невинным развлечением было великое множество, надо было первым проникнуть в буфет и занять место у стойки. Занять место в своем куне можно было и под утро.
В машине Василий Павлович помалкивал. Иногда он напевал что-то себе под нос. Иногда просто улыбался. Это означало, что композитор сочиняет очередную эпиграмму.
Где-то под Вышним Волочком решили искупаться. Жара. Разделись. Влезли в речку. И вдруг…
Бежит народ, что-то кричит, руками машет. Впереди мальчишки, за ними бабы и мужики. Подбегают к купающимся и наперебой орут: “Куда полезли?! В речке боеприпасы!”.
Оказывается, недавно именно в этом месте саперы обнаружили подарок военных лет.
— В войну видывал и не такое, — замечает Василий Павлович, сохраняя спокойствие и выдержку. — Меня, друзья, этим не напугаешь!
Вылезли из воды, оделись, сели в машину и помчались в сторону Москвы, приветливо помахав остолбеневшим местным жителям.
Проехав километров тридцать, храбрецы обнаружили, что едут без ботинок. Только Вася мог позволить себе войти в отель “Метрополь” в носках.
Свадьбу своей единственной дочери Василий Павлович справлял долго и в разных местах. Апофеоз события проходил на даче, в Комарово. Огромный участок — полгектара, огромный дом, огромный сад. Гостей было много. Гуляли на славу. Прошло несколько дней…
Татьяна Давыдовна, жена композитора, всю жизнь провела в суровой борьбе с алкоголем. Сама спиртного не выносила, я бы сказал, по происхождению: родилась в семье киевских врачей, пианистка, прямая, строгая, рыжая, красивая.
На даче Татьяна Давыдовна была уверена в себе и спокойна. Без ее высочайшего разрешения нигде и ста граммов не сыщешь. Все стерильно!
Начинал Вася работать рано утром. Самое продуктивное время. Но после свадьбы дочери стал быстро уставать.
— Что-то я притомился, — говорил он жене. — Пойду в сад яблоньки окучивать…
— Иди, Васенька, иди, — соглашалась Татьяна Давыдовна, — это полезно! Только прошу тебя с участка не уходить. Час ранний, магазин еще закрыт.
— Татьяна! Как ты могла подумать?!.
Минут через двадцать Вася приползал “на бровях”. Какая-то “кафка”!
Оказывается, в разгар свадьбы, под шумок, этот остроумный и дальновидный мужик зарыл под каждую яблоню по три бутылки “Отборного” коньяка. Талант!
Соловьев-Седой жил в огромной квартире на набережной Фонтанки. Дом старинный, петербургский, но без балконов. Втиснутый в лестничную клетку лифт вмещал максимум двух человек. Вася умещался в нем один, но с трудом, а на табло сразу же загоралась лампочка — “перегруз”. Забраться же на свой этаж без подъемного устройства ему было тяжело: возраст, вес и постоянное нарушение функций вестибулярного аппарата из-за безмерного обожания спиртного.
Однажды Вася не добрал. А был уже второй час ночи и взять было негде. Крадучись спустился на улицу и стал ловить машины, чтобы добыть бутылку. Ночью, в расчете подработать на таких страждущих, шоферы возят под сиденьем бутылку-другую водки. Это сейчас через каждые два шага расположены “шопы”, работающие круглосуточно. Главное и несомненное завоевание демократии! А тогда?!.
Машин ночью мало. Таксисты с пассажирами не останавливаются.
Наконец, великий Василий останавливает грузовик с выдвигающейся люлькой — чинить фонари, менять дорожные знаки, натягивать электропровода.
Повезло. Пожилой шофер достает из-под сиденья бутылку. Вася садится к нему в машину:
— Стаканы есть?
— Ну.
— Тогда наливай. И себе тоже.
— Я за рулем. Не буду.
— Ты что, сукин сын, каждую ночь пьешь с Соловьевым-Седым? Наливай, говорю!
— Закуси нет!
— Наливай!!
Тяпнули. Стали болтать. Вспомнили военные дороги…
В те годы самые выдающиеся полководцы зачислили Василия Павловича в свою маршальскую семью. И по праву. Его песни воевали наравне с “катюшами”, “илами” и “тридцатьчетверками”.
Интересно, что Исаак Осипович Дунаевский, мелодии которого распевала вся страна, в войну замолчал. В своих письмах он потом объяснял это тем, что его сковало какое-то оцепенение, какой-то ужас. Мажорный оптимизм его довоенной музыки, воспевший непобедимость и всяческие преимущества нашего строя, рухнул, как карточный домик.
…Минут через двадцать Вася захорошел, почувствовал, что добрал.
— Сажай меня в свою люльку и вези вон к тому окну. Это приказ! — пропел пьяный композитор на мотив какой-то оперной арии…
Татьяна Давыдовна никогда не знала — придет, не придет? Жив ли? Ночь. Тишина. Как маятник слоняется она по гостиной.
Вдруг слышит, кто-то тихо скребется в окно. Решила, что сдвинулась.
Подбегает к окну. Отдергивает штору.
В призрачном свете ночного фонаря ей улыбается пьяная и счастливая физиономия любимого мужа…
Соловьев-Седой в песне был глыбой, эпохой, вершиной! Рядом с ним в Ленинграде трудились и другие композиторы-песенники — Носов, Прицкер, Феркельман, Сорокин. Но в сравнении с Васей они были лишь пригорками.
Однажды Василий Павлович встретил своего приятеля Георгия Носова, у которого чувство юмора и самоиронии было не главным. Будучи слегка навеселе, Вася решил пошутить:
— Вот что я скажу, Гоша, — у тебя всего две хороших песни.
— Ты, Вася, извини меня! — заводится с пол-оборота Носов. — Мое песенное наследие…
— Нет у тебя никакого наследия. И песенного тоже! — обрывает его Соловьев-Седой. — “Далеко-далеко” и “Я счастлив, что я ленинградец”. Остальное не в счет.
— Ты, Вася, из-из-извини меня! — начинает от злости заикаться Гоша.
— Не переживай! Ты сразу успокоишься, — продолжает издеваться Вася, — когда дослушаешь меня до конца.
— Ну, да-да-давай!
— Поскольку ты, Гоша, живешь в мою эпоху, спустя несколько лет тебя забудут и твои песни будут приписывать мне.
Георгий Никифорович тайно недолюбливал Василия Павловича, считая, что ему слишком уж везет, хотя талантом они равны.
В те годы деятели искусств сходили с ума, желая заполучить какую-нибудь бляшку или звание. Носов здесь исключением не был. Он мечтал стать лауреатом Сталинской премии! Другие регалии его волновали меньше.
У ВПСС этого добра было — не сосчитать. Заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, народный артист СССР, трижды лауреат Сталинской премии, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, ордена Шахтерской Славы трех степеней, ордена всякой другой славы и куча медалей. Одним словом, когда он навешивал на себя весь этот “иконостас”, он сгибался. Медали, висяшие в самом нижнем ряду, стыдливо прикрывали… Да, да. Именно это.
Недавно, слушая петербургское радио, я обратил внимание на объявление диктора:
— Василий Соловьев-Седой — “Далеко-далеко”…
С Васей мы встретились в аэропорту Пулково. Он летел в Одесский театр музкомедии на премьеру своей оперетты “У родного причала”. Я и Ким Рыжов летели в тот же театр, чтобы показать наше первое творение в этом жанре, опереггу “Журавль в небе”.
Всем известно, что премьера — это праздник. Поэтому начали еще в аэропорту, в ресторане, благо вылет задерживали на два часа.
Накачались изрядно, а ВПСС взял еще с собой несколько стеклянных фляжек с коньяком. Они были удобны тем, что без усилий помещались во внутренние карманы. Получался этакий коньячный бронежилет.
В полете великий песенник и мы, его попутчики, уничтожили все запасы и стали громко, на весь самолет, выяснять — кто из нас самый талантливый.
— Ким! Прошу тебя! “Сядь со мною рядом”. Знаешь такую песню? Моя, — начал разговор Василий Павлович.
— Это не ваша песня! Как вам не стыдно! — возмущался я. — Может быть, “Карелия” тоже ваша?
— Моя, — убежденно продолжал Вася, — все песни мои, кроме плохих!
— Я не могу сесть рядом с вами, — резко менял тему Кимуха, — потому что не знаю, где мои костыли…
— Оставь этого очкарика и перелезай ко мне. Я тебе помогу.
— Лезу, — объявлял Рыжов окружающим.
— Кимуша! Ты допускаешь серьезный промах. Зачем ты пишешь все время с Колкером? Это ошибка. Давай напишем с тобой песню века!
В Одессе нас встречал весь театр. Прямо у трапа самолета, почтительно улыбаясь, стояли звезды первой величины: Водяной, Сатосова, Крупник, Ошеровский (режиссер) и вся дирекция театра.
Первым по трапу скатился Вася, за ним, не удержавшись на костылях, спланировал Кимуха. Я не упал лишь только потому, что тащил чемоданы, служившие мне опорой.
Учитывая, что после спектакля Василий Павлович в гостинице “Лондонская” давал банкет на двести персон, одесситы умоляли его поспать и до премьеры не пить. Но уже через минуту горничная бежала за очередной бутылкой.
Вечером нас привезли в театр и затолкали в комнатку администратора площадью, примерно, четыре квадратных метра. ВПСС был пьян в хлам.
Вдруг открывается дверь и появляется величественная одесситка. На голове “хала”, на плечах дорогое каракулевое манто, на лице полный макияж. Администратор подобострастно кидается к ней, чтобы принять шубку. И тут Василий Павлович, с неимоверным усилием оторвав голову от администраторского столика, спрашивает: “Что за курва?”.
Дама, вспыхнув, вылетает пулей в фойе. Обалдевший администратор, стуча от страха зубами, шепчет: “Это третий секретарь обкома КПСС. По идеологии”.
Премьера прошла на ура. Вся Одесса кричала: “Желаем автора!”.
Слегка проспавшись за три часа, пока артисты из кожи лезли у родного причала, чтобы угодить автору, на сцену вышел САМ:
— Дорогие мои евреи! Я вам еще не то напишу! — крикнул Вася в зал.
— Ура! Чтоб ты так жил! — неслось из зала.
— Давайте все вместе споем мои “Подмосковные вечера”!
Больше Вася сказать ничего не мог. Его повело в сторону оркестровой ямы. К счастью, артисты в последнее мгновенье не дали ему грохнуться вниз.
В Одессе Василия Павловича любили не меньше, чем в Ленинграде, и конечно же прощали ему маленькие шалости.
На банкете были все, кроме Васи.
Соловьев-Седой умирал в “Свердловке”. Это ленинградская “Кремлевка”.
За несколько дней до смерти в разговоре со мной великий мастер сказал, вернее прохрипел: “Саня, ты лучше других знаешь ящик моего письменного стола, где лежат все мои регалии. Отдаю весь этот драгметалл, только бы один-единственный раз сходить в лес, в грибы…”
Ленин и Сталин
В 1965 году меня приняли в Союз композиторов.
Я уверен, что поступить на работу в Объединенный институт ядерных исследований значительно легче, чем тогда стать членом творческого союза.
Сначала тебя обсуждает песенная секция Ленинградского отделения Союза композиторов (ЛОСК), потом Секретариат ЛОСК, потом Правление ЛОСК, потом Секретариат Союза композиторов РСФСР, потом Правление Союза композиторов РСФСР, потом Секретариат Союза композиторов СССР, потом Правление Союза композиторов СССР. Подпись Первого секретаря Союза композиторов СССР Т. Н. Хренникова венчала конец этих мытарств.
А дело-то было плевым.
Некоторые мои песни стали в стране очень популярны. Моя профессиональная оснащенность тоже не вызывала сомнений. Андрей Петров, возглавлявший наш Ленинградский Союз композиторов тогда (и возглавляющий его по сей день), мог просто выписать мне “корочки” и дело с концом. Ну как тут не вспомнить А. Сухово-Кобылина: “Что, просителя попарить надо? Так мы его попарим!”.
На жизнь я подрабатывал, аранжируя сочинения других композиторов, среди которых было много маститых, отмеченных высокими званиями. Но это не мешало им не знать, каким концом берется в рот кларнет.
Написать партитуру для оркестра — большой творческий и физический труд. Платили оркестровщику за это копейки. Двадцать копеек за один такт. Таким образом, если я оркестровал песню Носова или Прицкера, Соловьева-Седого или Колмановского, я получал за эту изнурительную работу пятнадцать-двадцать рублей. Не деньги, а слезы.
Итак, я член творческого союза. Это считалось большой победой. Особенно по тем временам. Сейчас я ни за какие коврижки не полез бы в эту лирическую организацию, но тогда…
Некоторые обыватели считают, нет, они просто убеждены в том, что членам творческих союзов платят деньги, типа зарплаты. Что им дают бесплатно огромные петербургские квартиры. Это глубокое заблуждение.
Такими привилегиями пользуются единицы, любимчики режима.
Что касается меня, то я считаю себя заслуженным строителем СССР. Я выстроил за свои кровно заработанные три кооперативные квартиры: дочери, себе с женой и матери с сестренкой Галей. В противном случае мы все закончили бы свою жизнь в знаменитых ленинградских коммуналках.
Сколько раз я слышал восклицания такого рода: “Неужели Марии Пахоменко и Александру Колкеру город не мог выделить приличную жилплощадь?!”. Черт его знает! Может быть, и мог. Но для этого надо было превратиться в ПРОСИТЕЛЯ.
Творческие союзы. Зачем нас всех собирали в кучи? Куча художников, куча композиторов, куча писателей. Правда, так легче было следить за умонастроениями…
Каждая из таких куч напоминала пауков в банке. Каждая куча делилась на две явно неравные части — людей одаренных (их меньшинство) и создателей “маловысокохудожественных” произведений (основная масса).
При этом я заметил такую закономерность. Бездари никогда не смотрятся в зеркало. Все свои неудачи они объясняют интригами одаренных.
Любимое занятие неудачников — считать деньги в чужом кармане. А, как известно, “в чужой руке всегда толще”! (Народная мудрость.)
Перед композиторскими съездами издавались газетки, где меня изображали всегда таким образом: либо на Колкера сыпался с неба золотой дождь (“кап-кап-кап-кап-каплет дождик…”), либо Колкер энергично дергал рычаг колонки и выкачивал не воду, а опять же монеты (“качает, качает, качает…”).
В монферрановском особняке, на Большой Морской, 45, где находится Санкт-Петербургское отделение Союза композиторов, есть уникальный концертный зал. Он целиком сделан из дерева, на что ушло более ста пород экзотической древесины. Высокие итальянские окна. Напротив, на уровне второго этажа изящная балюстрада. В углу винтовая лестница. Лишь небольшая часть стен над деревянными панелями обтянута муаровым штофом.
В этом зале композиторы исполняют свои опусы. Здесь же они пьянствуют. Сюда же их привозят, но уже в гробах, для прощания со своими коллегами.
Однажды, еще не будучи членом союза, я был приглашен на празднование Старого Нового года в этот зал.
Столики были накрыты. За “правительственным” восседал Андрей Петров с женой и приглашенный на праздник Мстислав Ростропович.
В конце зала, поближе к выходной двери, приткнулись я и Рыжов.
Дома мы с Кимом приготовили выступление и записали его на магнитную ленту. Поскольку в стране была оттепель (якобы!), мы решили позволить себе… В нашей сценке было всего два персонажа — Ленин и Сталин. Картавый Рыжов играл Ленина, а я Сталина.
— Скажите, Иосиф Виссарионович, а кто такой этот ваш Колкер?
— Он написал, Владимир Ильич, песню “Дождик”.
— А что дал этот “Дождик” рабочим и крестьянам?
— Да ничего не дал, Владимир Ильич. Кроме того, этот самый Колкер — еврей!
— Так может быть, Иосиф Виссарионович, мы возьмем этого самого Колкера и…
— Я угадал вашу мысль, Владимир Ильич. Мы возьмем его и расстреляем!
— Верно, батенька! Совершенно верно!
Мы были уверены, что на праздновании Старого Нового года такая невинная юмореска вызовет безудержный хохот и гром оваций. Прозвучали последние слова нашего дуэта, записанного на магнитофон, и…
Тишина. Зловещая тягучая тишина. Лишь один человек мелкими торопливыми шажками стремительно кинулся к телефону.
А я всегда считал его музыковедом…
Беспомощно оглядываюсь и, заикаясь, спрашиваю у Петрова:
— Что мне делать? Андрей Павлович!
— Возьми свое творение, спустись в туалет и мгновенно уничтожь! Иначе Союза композиторов тебе не видать, как своих ушей! — отвечает, заикаясь, Андрей Павлович.
Я схватил пленку и ринулся вниз к туалетам. Пленка рвалась с трудом. Заграничная! Сливной бачок набирал очередную порцию воды очень медленно. Наконец, все следы преступления были уничтожены.
При выходе из туалета меня облапил Ростропович:
— Умоляю! Дай переписать! Это гениально!
— Что переписать? — удивленно смотрел я на него.
В 1968-м я стал одним из первых лауреатов премии Ленинградского комсомола. Газета “Смена” поздравила меня такими строчками:
“За музыку звонкую, яркую, смелую Тебе мы завидуем завистью белою!”.
На следующий год Андрей Петров, как бы невзначай, напомнил мне, что я горячо желаю быть в первых рядах строителей коммунистического общества. И вот я в КПСС.
Зачем вы, мальчики, красивых любите?
Маша Пахоменко?
Мария Пахоменко?
Мария Леонидовна Пахоменко?
Время здесь не властно. Это очень красивая женщина!
Маша родилась в Ленинграде, но все ее родственники — мать, отец, бабки и деды — из Белоруссии, с Краснополья.
Я вывел формулу: белорусы — это те же русские, но со знаком качества.
Мне повезло вдвойне. Маша красива и умна. Редкий случай.
Моей везучести просто нет предела. Маша красива, умна и предана своей семье. Весь день она колготится, ни разу не присев. Продуктовые магазины, обед, стиральная машина, уборка.
Отдых для нее наступает к вечеру, когда, наведя скромный макияж, она едет на сольный концерт.
Сначала Маша пела в женском вокальном квартете. Солисткой она стала значительно позже, в шестьдесят четвертом году.
Мне стоило больших усилий — в те времена, когда она еще пела в квартете, — уговорить ее выступить в новом амплуа и записать свою первую сольную песню “Качает, качает, качает…”.
Песня была написана на стихи Льва Куклина к спектаклю “Иду на грозу” по роману Д. Гранина. Дебют этот был несомненной удачей.
Расставшись с театром, песня зажила своей самостоятельной жизнью. Молодой, удивительно чистый, а главное, незнакомый Машин голос сыграл здесь важную роль. Через год всё и вся “качало” — корабли и поезда, молодежные вечера и концертную эстраду. Позже Мария Леонидовна стала исполнительницей очень многих песен наших композиторов. От М. Блантера и В. Соловьева-Седого до А. Пахмутовой и В. Гаврилина.
Из моих “женских” песен она спела почти все.
“Опять плывут куда-то корабли”, “Утоли мои печали” — стихи Инны Кашежевой; “Хохлома”, “Чтобы ни случилось” — стихи Михаила Рябинина; “Стоят девчонки”, “Красивые слова”, “Моя Россия”, “Рябина” и романс Лиды (из мюзикла “Свадьба Кречинского”), “Чудо-кони” и “Признание” — все на стихи Кима Рыжова.
Песня “Признание” — это исповедь женщины, вышедшей замуж не по любви. А сколько таких было в послевоенные годы…
И хотя война была далеко в прошлом, проблема замужества у нас оставалась болезненной во все времена. “Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят”. Эту статистику регулярно подправляли Корея и Вьетнам, Афганистан и Чечня, Таджикистан и… Убивают самых юных. Женихов.
Вот и голосят по всей России безутешные матери и обезумевшие невесты.
Ким написал такие грустные и жизненные строчки:
Эту песню Маша поет уже четверть века. Песня не стареет.
Интересно устроен наш зритель. Он, не задумываясь, отождествляет поэтический образ песни с исполнителем. Увидел в телепередаче, как Пахоменко искренно и проникновенно поет “Признание”, и мчится к телефону: “Правда, что вы с Марией развелись?”. Многие годы нам на концертах задавали, смущаясь и краснея, один и тот же вопрос: “Извините меня за нескромность, говорят, что вы с Пархоменкой развелись. Это правда?”.
Я не понимал, почему советский народ был так недоволен тем, что Пахоменко вышла замуж за Колкера. Сначала мы горячо оправдывались:
— Да что вы! У нас образцовая дружная семья, у нас растет дочь. Она тоже хочет стать артисткой!
Но раздавался очередной телефонный звонок и кто-нибудь из знакомых или незнакомых спрашивал:
— Правда, что вы развелись?
Меня научили — никогда не оправдывайся. И когда умирающий от любопытства поклонник (поклонница) Пахоменко начинал лепетать что-то по поводу нашего развода, я приглушенным, скорбным голосом отвечал:
— Да. Случилось непоправимое. Мы развелись. Маша вышла за Кобзона, а я женился на Пьехе…
— Ой, врешь! — весело кричали в ответ.
В 1968 году во Франции в Каннах Мария Леонидовна стала победительницей европейского конкурса грамзаписей “МИДЕМ”, завоевав Большой приз.
В те годы вышло более двух миллионов дисков с записями песен в исполнении Марии Пахоменко.
Советскую звезду поселили в отеле “Карлтон”. Часов в девять утра бесшумно открылась дверь и в апартаменты вошел стюард. Прямо к кровати он подвез столик, на котором, кроме легкого завтрака, красовался красивый литографский проспект. Известную эстрадную певицу приглашали посетить салон, где продавались бриллианты.
Владельцы салона надеялись, что мадам Мария сможет удовлетворить свой взыскательный вкус и приобретет какие-нибудь украшения.
Особое внимание посетителей салона должны были привлечь сравнительно низкие цены, не более 150 тысяч долларов.
Артистам, выезжающим за границу на международные конкурсы, наше государство платило суточные…
В зале, где проходили репетиции гала-концерта, было прохладно. Артисты, дожидаясь приглашения дирижера, сидели, накинув на плечи шубки или модные тогда дубленки. И вот приглашают на сцену мадам Пахоменко, чтобы отрепетировать с оркестром песню “Чудо-кони”.
И туг Машей овладевает жуткое сомнение. Что делать с дубленкой? Выйти в ней к оркестру? Неприлично. Свернуть и взять под мышку? Неудобно петь. Оставить в зале? Но впереди через несколько рядов сидит какой-то жуткий тип, совершенно не внушающий доверия, — черные до плеч волосы, косоватый воровской взгляд. Черт его знает. Дубленка-то дорогая! А главное, единственная! Оставишь в зале, а потом…
Слава богу, все обошлось. Маша отрепетировала и спустилась со сцены. Дубленка была на месте. Следующим вышел к оркестру этот подозрительный тип. Им оказался всемирно известный композитор Фрэнсис Дей.
В 1971 году на конкурсе “Золотой Орфей” представительное международное жюри присудило “Гран-при” молодой ленинградской певице Марии Пахоменко.
Нетрудно себе представить мое беспокойство за жену, когда ее отправляли в Болгарию. Чиновников из Минкульта СССР никогда не волновало, где певица возьмет концертное платье, кто сделает ей прическу. Их не интересовало, кто напишет партитуры конкурсных песен для большого эстрадно-симфонического оркестра, как вы будете защищать честь великой страны на международном форуме песни. Это ваши проблемы.
Мужа вместе с женой, естественно, за рубеж не выпустили.
Звоню в Москву. Спрашиваю: “Какие сведения из Болгарии? Как выступает Пахоменко?”. Отвечают: “Не знаем. Исчерпан лимит на телефонные переговоры”.
Дозваниваюсь в Варну, находящуюся в нескольких километрах от Бургаса, где проходит конкурс.
Спрашиваю: “Как выступает Мария Пахоменко?”. Апаше по культурным вопросам отвечает: “Не знаем. У нас очень много работы!”. Называть себя во множественном числе было принято у “культурных” апаше. Фантастика!
И вот счастливая Маша звонит в Москву, в Министерство культуры и докладывает:
— Впервые в нашей стране завоевала высшую награду международного фестиваля “Золотой Орфей” — “Гран-при”!
— Что “Гран-при”? Что “Гран-при”? А где первое место?! — возмущаются в Москве. Фантастика!
Своеобразная реакция на победу Пахоменко была и в Ленинградском обкоме партии.
— А что, “Золотой Орфей” действительно из чистого золота? — спросил по телефону высокомерно-пренебрежительный голос.
— Ага. Четыре с половиной килограмма чистейшего золота 96-й пробы! — ответил я за Машу. — Прошу возле дома выставить вооруженную охрану!
Фантастика!
Я настороженно отношусь к обилию новых имен на современной эстраде. Все эти Ники, Лики, Вики… Многие из них, как мотыльки-однодневки. И даже стоящий (или лежащий) за их спиной финансовый магнат не всесилен. Ах, если б можно было купить талант и сценическое обаяние!
Но есть имя, которое много лет вызывает у меня и Марии Леонидовны бесспорное почитание. Это Алла Борисовна Пугачева. Целая эпоха в нашей песенной стране!
Тем больнее было услышать в цикле телевизионных передач, посвященных любимой певице, что первой артисткой в нашей стране, завоевавшей “Золотого Орфея”, была она, Алла Пугачева.
Кому-кому, а ей-то уж известно лучше других, что за несколько лет до нее, в 1971 году этой престижной награды была удостоена Мария Пахоменко.
“Хочешь жить — умей вертеться!”. Этот постулат принял в моей жизни индивидуальный опенок. Раскрою некоторые семейные тайны.
Если для театра характерна, скажем, “сцена у фонтана”, то моя жизнь наполнена “сценами у дверей”. У входных дверей в нашу квартиру.
Звонок в дверь.
— Мария! Это мы. Твои соседи. Из общежития! “Разговоры да разговоры, слово к слову тянется, разговоры стихнут скоро, а любо-о-овь останется!”. Мария! Ну, не жидись! Дай треху!
Звонок в дверь.
— Разрешите доложить — капитан первого ранга Иванов! Выполняя поручение экипажа ракетного крейсера “Свирепый”, хочу вручить вам, Мария, скромный букет цветов.
— Товарищ капитан первого ранга! Да где же вы видели, чтобы к артистам приходили в семь часов утра? Хотя бы и с цветами! — возмущается за дверью Пахоменко.
— А вы, Мария, не переживайте. Знаете, как много в жизни красот для тех, кто рано встает? Вам надлежит букет, безусловно, принять. А в знак, так сказать, ответной благодарности прошу вас исполнить для меня лично мою любимую песню “Ах вы ночи, матросские ночи”. Если у вас не парадная, так сказать, форма одежды, это меня не смущает. В какой-то мере, это даже приятно!
— Слушай мою команду! — рявкаю я из-за двери тоном контр-адмирала. — Кру-угом! Марш!
Звонок в дверь.
— Я люблю Марию…
— Я тоже, — отвечаю миролюбивым тоном.
— Мне нужно срочно ее увидеть. Я хочу ее прямо сейчас…
Выглядываю в дверной глазок. Стоит парень. Следы неуравновешенности украшают его тусклое лицо.
— Молодой человек! Хотите увидеть Марию Леонидовну? Пожалуйста, приходите на концерт. Сегодня концерт в Театре эстрады, на Желябова. Возле ДЛТ. Усекли?
Звонок в дверь.
— Вы меня не поняли. Я сейчас ее хочу…
— Сейчас я спущу тебя с лестницы! — храбро кричу я через закрытую дверь, мысленно соизмеряя свою щуплость с его спортивной фигурой.
Звонок в дверь.
— Я очень хочу…
Забыв, что у меня семья, что я могу ее никогда больше не увидеть, выскакиваю на лестничную площадку. Мои очки оказываются на уровне живота страдателя:
— Во-первых, Пахоменко нет дома. Во-вторых, хромай отсюда! Донжуан сраный! Постыдился бы! Мария Леонидовна тебе в матери годится!
— Нет! Нет! Это ложь! В какие матери? Мария совсем молодая! Молодая и безумно красивая! Я люблю ее! Я целую ее… когда она поет в телевизор.
Завязывается потасовка. От неминуемых увечий меня спасают соседи.
Страдалец кубарем скатывается по лестнице вниз. У меня в руках остается его шапка.
Звоню в милицию.
— Так, мол, и так. Приходил один… Говорит, что любит.
— Александр Наумович! — посмеивается дежурный райотдела. — Вы успокойтесь. Если вернется за шапкой, вы позвоните нам. Мы сразу.
На другой день Маша с дочкой уехала к родственникам. Я один.
Звонок в дверь.
— Извините меня! Ради всего святого! Вы никогда меня больше не увидите! Мне стыдно за вчерашнее. Как дурно я поступил!
Этот высокий литературный “штиль” растопил мое сердце. Выхожу на лестницу. Отдаю шапку.
— Давай поговорим как мужчина с мужчиной, — говорю тихо и ласково. — Мария Леонидовна воспитывает дочь. У нее сложная и напряженная жизнь. Хочешь проявить к ней свои чувства? Приходи на концерт. Принеси цветы. Ей будет приятно. И тебе тоже.
— Я очень вам признателен. Еще раз извините! Я исчезаю!
Взял шапку и ушел.
Дочь, окончив Ленинградский институт театра, музыки и кино, стала работать на эстраде. Иногда на концертах мы выступаем всем семейством — Маша, Наташа и я. А теперь, когда подросла внучка (ей уже восемь лет!), — две Маши, Наташа и я.
Если мы выступаем втроем, “доброжелатели” ленконцертовского помола шипят в спину: “Сообразили на троих!”.
Было часов одиннадцать вечера, когда, “сообразив на троих”, мы подъехали к дому.
Высадив из машины своих дам, я подхватил мешок с концертными платьями и проводил их до дверей квартиры. Так спокойнее.
Гараж у меня рядом с домом. Загнал свою рабочую лошадь “в стойло”. Из темноты ко мне подходит… Нет! Это не тот! Тот был совсем молодой. Я запомнил его на всю жизнь! А этот — усы, бородка. На носу пенсне.
— Я люблю Марию! Я хочу! — услышал я родной голос.
Милиция обнаружила у временно не работающего гражданина Шутко, кроме усов, бородки и пенсне, список предметов, необходимых ему для полного счастья: золотые запонки, кольцо с бриллиантом, автомобиль “Волга” черного цвета и Мария Пахоменко.
Чтобы покинуть город, ему дали 24 часа. Яичными визитами он нас больше не тревожил. Он писал письма. Кажется, из Ростова-на-Дону. Нашим соседям.
Несколько достоверных цитат из писем других “поклонников”. (Умные, уважительные письма я отложил в сторону.)
“Дорогая Мария! Мне больше по душе, когда поешь ты, а не эта Пьеха. Или Пиеха. Точно не знаю, как она пишется. У нее голос, как будто она не смазывает его прополизатом — продукт пчеловодства. Я бы посоветовал ей смазывать. И регулярно. А у тебя голос, как ручеек. Я постоянно хожу к тебе на концерты. Но это тайна, которую ты не должна даже догадываться!”
“Мария! Выхожу замуж за капитана. Говорят, ты очень добрая. Пришли мне к свадьбе белую кофточку с рюшками. 52-й размер. И черную юбку. 48-й размер. Хочу, чтобы была в обтяжку. Мой капитан любит, когда это в обтяжку. Ты женщина, должна догадаться, на что я намекаю. Жду. Мой адрес спиши с конверта…”
“Муж моей любимой женщины!!!
Сейчас я служу в рядах советской армии. Но когда я выйду на свободу, сразу приеду в Ленинград и отрежу тебе шнобель. Я прослышал, что ты лупишь Марию, сука поганая. Смотри у меня!
Высылаю тебе свою фотографию. Здесь я с братом. Я в шапке, а брат без шапки. Ему повезло больше. Он уже вышел на свободу…”
“12. 06. 1978
Дорогая Мария Леонидовна!
Я восхищен Вашим неповторимым талантом. Вчера решил купить катер с мотором. Думаю, что певица с Вашей внешностью не может быть жадной. Прошу выслать мне переводом две тысячи рублей. (Указан адрес.)
Если не можете сразу выслать две тысячи, вышлите одну. А одну будете должны.
Ваш почитатель. Дорохов.”
В 1971 году мы гастролировали в городах промышленного Урала.
В Челябинске нас поселили в лучшую гостиницу “Интурист”. Любопытно, зачем Челябинску, в те времена наглухо закрытому для иностранцев, гостиница с таким названием?
В день приезда было два концерта. На ужин сил уже не хватило, и мы отправились спать.
В середине ночи телефонный звонок:
— Это говорит дежурная по этажу.
— Чем обязан?
— У нас в городе ЧП.
— Не понял. А при чем здесь мы?
— Да вы-то, я почти уверена, ни при чем.
— Милейшая, не морочьте голову! У нас завтра два концерта! Дайте отдохнуть!
— А вы не грубите! Берите паспорта и выходите из номера. Вас будет проверять уголрозыск!
Спросонья, а может сдуру, бужу Машу. Она в халате, я в пижаме — выходим.
Высокий мужчина с вузовским ромбиком в петлице просит предъявить документы.
— Вы извините нас, — говорит он, слегка заикаясь, — ищем опасных преступников.
— Какого черта?! — вскипаю я.
— Спокойно! — повышает голос работник угро. — Так. Пахоменко Мария Леонидовна. Паспорт вроде бы в порядке. Только непонятно, что это у вас за печати наляпаны на последних страницах?
Я насторожился.
— Ну а вы, стало быть, Колкер Александр Наумович. Ее супруг?
— Да, супруг. Как вы догадались?
— Значит, так. Вы, супруг, идите досыпать. Вот ваш паспорт. А Пахоменко придется пройти с нами.
Здесь надо было действовать.
Многочисленные пересечения границы оставляют в наших паспортах разноцветную мозаику: кружочки, ромбики, овалы, треугольники. Работник милиции, который не знает, что означают эти штампы?!
Вырываю у него из рук Машин паспорт и кричу, как зарезанный:
— А ну-ка, предъяви свои документы!
— Да что вы нервничаете? — подбегает ко мне дежурная по этажу. — Я этого товарища знаю. Он из уголрозыска. Товарищ Хайруллин.
— Предъяви документы! Сейчас подниму на ноги всю гостиницу!
И вдруг товарищ Хайруллин кидается к лестнице и бежит вниз, перескакивая через три ступеньки. Я за ним. Маша за мной.
Издали кричу швейцару:
— Задержи его! А то смоется!
— Что вы нервничаете, товарищ артист? — улыбается швейцар. — Это товарищ Хайруллин, работник нашего уголрозыска. Я лично проверил у него документы!
Товарищ Хайруллин бежит через площадь. Я за ним. Маша за мной.
— Вернись сейчас же! — кричит перепуганная Пахоменко. — Или хочешь, чтобы он тебя размазал по стенке?
Тем временем товарищ Хайруллин, перекинувшись с таксистом парой фраз, нырнул в темный проем подворотни. Я за ним. Маша за мной.
— Остановись! Идиот! — кричит жена, хватая меня за пижаму.
Запыхавшись, подбегаю к таксисту:
— Что хотел этот тип? Его надо задержать!
— Да он просил свезти его в аэропорт, а у меня смена кончается, — зевает таксист. — А ты что? С бабы соскочил? В исподнем бегаешь по ночному городу!
Вернулись в гостиницу. Звоню 02. Излагаю дежурному ГУВД всю историю.
— Минуточку, сейчас все выясним, — говорит дежурный. — Вы в каком номере? Понятно. Я вам перезвоню минут через десять. Вы не спите!
Через десять минут он сообщил нам, что, действительно, в уголовном розыске Челябинска работает майор Хайруллин. Работник серьезный, имеет награды. Раньше за ним такого не замечалось. Правда, со вчерашнего дня он в отпуске и должен был отбыть в санаторий, в Сочи.
— На всякий случай с утра приставим к вам охрану, — успокоил нас дежурный.
До отъезда из Челябинска нас неотступно сопровождал милейший подполковник в штатском…
Уже в Ленинграде я получил из Челябинска письмо.
“Уважаемый Александр Хаимович! (?)
Сообщаю вам, что во время пребывания на гастролях в нашем городе вы чуть не стали жертвой матерого бандита. Дело в том, что работник нашего уголовного розыска майор Хайруллин перед вылетом на лечение в город Сочи напился… Этим воспользовался злоумышленник, завладев его служебным удостоверением и авиабилетом. Сейчас бандит задержан. Он трижды судился за кражи и изнасилования. Выношу вам благодарность за проявленную бдительность и личное мужество. Вы предотвратили трагическое развитие событий. Сердечный привет Марии Леонидовне.
Начальник ГУВД города Челябинска, полковник Рождественский. Майор Хайруллин из органов уволен.”
Приезжающая на отдых в Сочи публика делилась на две части.
Одни режутся на пляжных лежаках в преферанс, забравшись под спасительный навес. Время для них останавливается. Они не отсчитывают быстро бегущие дни. Они любят посещать этот наш самый дорогой и модный курорт весной и осенью, в бархатный сезон. Среди этой публики профессиональные карточные шулера “кидалы”, торговцы валютными проститутками, пожилые холеные денежные тузы и молодые ненасытные сердцееды, пускающие на ветер состояние своих именитых родителей.
“Великие труженицы” отсыпаются в это время после ночных перенапряжений. Вечером они воссоединяются со своими обожателями и отправляются в рестораны. Гудеть!
Другие, их явное большинство, ловят каждую минуту, чтобы насладиться морем и солнцем. Их совершенно не смущает, что прибрежная полоса “самого синего в мире” становится желтой от несметного количества купающихся и отсутствия пляжных туалетов.
На Ахун они карабкаются пешком — активный отдых. Они с ужасом считают оставшиеся до конца отпуска дни и деньги.
Это наша публика. Этим подавай вечером культурную программу.
В прошлые годы эстрадные звезды первой величины редко бывали где-нибудь на “краешке земли” — в Инте, Ухте, Воркуте, Норильске, Талнахе. Разве что за солидное вознаграждение. Зато в курортный сезон сочинская филармония могла заполучить одновременно Пьеху и Кобзона, Зыкину и Гуляева, Пахоменко и Хиля, Пахмутову и Фельцмана.
Наша публика металась между концертными залами, чтобы увидеть и услышать своих любимцев, своих кумиров.
…Маша пела в закрытом Зимнем театре. Зал — битком. Дышать нечем. Распахнутые входные двери не спасали. Концерт был “безразмерный”.
— Пожалуйста, “Подсолнухи”!
— Давай “Признание”!
— Нет, лучше “Любовь останется”!
— Мария! Мы весь концерт простояли в боковом проходе. Спойте для нас “Стоят девчонки”!
Концерт закончился. Толпа, разгоряченная зноем и песнями, сгрудилась возле артистического выхода. Маша очень устала. С разбега мы прыгнули в ожидавшую нас машину. Щелкнули дверные кнопки, но отъехать не удавалось. Любопытные поклонники облепили автомобиль, чтобы вблизи рассмотреть любимую певицу.
Один улегся на капот и уткнулся носом в лобовое стекло.
Вдоволь насмотревшись, он громко сообщил окружающим:
— Ничего особенного! Обыкновенная баба!
Он сидел на тополе против окна нашей квартиры и рассматривал Пахоменко.
Одно окно у нас выходит на пустырь. Мы никогда не задергиваем на нем шторы — домов напротив нет. А тут еще зима. Поздний час. Темень.
После концерта Маша позволяет себе расслабиться. Приятно скинуть все “доспехи”. Тело дышит, усталость проходит.
Мы живем на пятом этаже, а Ким Рыжов над нами, на восьмом. (Потом он переехал.) Кимуха каким-то чудом разглядел внизу на дереве здоровенного мужика. Удобно устроившись на толстой ветке тополя, мужик неотрывно смотрел в нашу квартиру.
— Саня! Вцгляни в окошко! К вам пришли! — ехидно сообщил мне по телефону соавтор.
Маша кидается в другую комнату. Я вглядываюсь в темноту. Двухметровый “медведь”, слегка раскачиваясь, приветствует меня, вежливо приподняв кепочку.
Телефон в нашем отделении милиции не отвечает. Звоню дежурному по городу. В тот вечер дежурил полковник Юрий Надсон. Он был приемным сыном композитора И. Дзержинского, поэтому мы были знакомы.
Обращаюсь к нему, не соблюдая субординации:
— Юра! Против моего окна на дереве сидит какой-то мужик. Он пристально рассматривает Машу.
— Задерни шторы, — отвечает полковник, озабоченный более серьезными происшествиями.
— Я опасаюсь, что этим не кончится! Пришли наряд милиции.
— Саша! Я не могу поставить по наряду милиции возле каждой артистической семьи. Кстати, рассмотри-ка получше своего воздушного визитера. Может быть, это Шура Броневицкий? Ты ведь в курсе, что они развелись с Эдитой. Не исключено, что он ищет себе новую солистку.
— Тебе смешочки, а мне тревожно за семью! Пришли наряд!
— Ладно. Успокой Машу. Черная речка, 61? Высылаю.
Спускаюсь вниз и становлюсь под деревом. Чтобы унять волнение и страх напеваю тихонечко, под нос: “Стою под тополем, грызу травиночку…” Сейчас примчатся мои спасители и я проучу наглеца. Не прошло и минуты, вижу, к моему дому движутся “анютины глазки” — милицейский “козел” с мигалкой. Мысленно благодарю Надсона за оперативность и кричу наверх “медведю”:
— Эй, ты! Дерьмо любопытное! Вали вниз! Сейчас ты у меня схлопочешь!
Любопытное дерьмо стало быстро скользить по стволу. Еще секунда, и он просто раздавил бы меня.
— Товарищи, сюда! Да вот же он! Вот! Товарищи! Задержите его скорее! Видите, он убегает! Куда же вы, товарищи?.
“Анютины глазки”, насмешливо подмигивая мне, удалились в сторону Комендантского аэродрома. Оказалось, что это были не те “анютины глазки”.
Пока я призывно кричал “Товарищи!”, верзила куда-то исчез. Смылся.
Прошло минут десять. На бешеной скорости подлетает к моей парадной наряд милиции. Пять человек во главе с майором!
— Где? Кто? Вы, надо думать, Колкер? А где же нарушитель? — наперебой кричали прибывшие стражи порядка. — Мы по команде самого товарища Надсона!
Я извинился за беспокойство.
— Значит, так! — говорит старший наряда. — Мы будем за углом! В засаде! Если появится, кричите! Или звоните 02! У нас рация. Будем через минуту! Шутка сказать, сам полковник Надсон!
“Козел” отправился в засаду. Я поднялся домой.
Против окна на тополе сидел тот же верзила и, слегка раскачиваясь, приветствовал меня, вежливо приподняв кепочку…
Я задернул штору и лег спать.
Моя вершина
Оглядываюсь назад и понимаю, что с годами песенные рамки стали тесны, что надо было преодолеть тяготение популярности композитора-песенника. Иначе — по наклонной вниз.
Работа над крупной формой для музыкального театра открыла второе дыхание.
Конечно, у меня был опыт работы в театральных спектаклях и в кино.
И все-таки там музыка носила прикладной характер. Она лишь помогала воплощать режиссерский замысел, помогала актерам раскрывать свои сценические роли.
Меня же тянуло к современному мюзиклу и опере, где музыка становится главным действующим лицом, где музыка диктует режиссерское и актерское решение спектакля или кинофильма.
Обычно у художника, артиста, музыканта бывает мечта, вершина, к которой он идет долгие годы, но покоряет ее не всегда.
Моей вершиной стала музыкальная трилогия по пьесам Александра Васильевича Сухово-Кобылина — мюзикл “Свадьба Кречинского”, музыкальная драма “Дело”, опера-фарс “Смерть Тарелкина”.
Этой трилогии я отдал двенадцать лет своей жизни и думаю — не напрасно.
Правда, я отвлекался на другие работы, но трилогия — это главное.
Свою жизнь я помню только по датам премьер. Если исключить премьеры песен, останется театр и кино. Таким образом, вся моя биография укладывается в две-три страницы. Эгу премьерную статистику я переношу в конец книги.
Ким, Кимуха, Кимуша
Я работал с разными поэтами и драматургами. И лишь один из них навсегда вошел в мою жизнь. Я говорю про Кима Ивановича Рыжова.
“Остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер…”
“И наверно, крылья кто-то выдумал, потому что птице позавидовал…”
“Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят…”
Мы с Кимом жили в одном доме на набережной Черной речки. Он на восьмом этаже, а я на пятом.
Композитору и поэту лучше всего работать рядом, по соседству, постоянно общаясь. Тогда музыка цепляется за слово, слово за музыку.
Иногда я писал на его готовые стихи. Иногда Ким мучился, подтекстовывая написанную мной мелодию. Ему приходилось втискивать поэтические строчки в музыкальное прокрустово ложе. Это непростая задача, если ты поэт, а не рифмоплет. Здесь Киму нет равных. Сказывается его природная музыкальность.
Нам помогало одинаковое мироощущение и схожие критерии в искусстве. Вот так мы и проработали с Кимушей более четверти века.
Душа в душу.
Я не хочу сказать, что Рыжов не писал с другими композиторами. Писал, и немало. Но со мной у него получалось лучше. Впрочем, как и у меня с ним.
Далее я хочу рассказать о моем друге, о его беспримерном жизнелюбии.
Не зря, видно, говорят, что мужчины любят глазами, а женщины ушами. Ким сразил бесчисленное множество женских сердец. Он никогда не бравировал своими победами, но любил меня подкусить: “Ну что ты, Саня, такой неумеха? Неужели тебе неведомо, что с женщиной надо поноэльничать? А сколько у тебя ног, не имеет никакого значения!”.
О нашей поездке в Карелию и Мурманскую область я уже упоминал. Тогда мы были молодыми, здоровыми и бесстрашными. Нас не пугали тучи комаров-вампиров, от укусов которых падали даже олени. Ехали на “чёс”, за деньгами.
Мы прилично подзаработали, выступая с концертами в Кировске, Апатитах, Североморске, Полярном, Кандалакше, Ловозере… Все не упомнишь.
Петрозаводск был конечным пунктом гастролей. Каждый из нас получил приличную по тем временам сумму. Естественно, решили гульнуть и отправились в ресторан “Арктика”.
В каком-то северном магазинчике мы купили себе свитера. Всем одинаковые, очень красивые, норвежские, цвета маренго. Гиндин, Рябкин, Колкер и Рыжов выглядели в этой униформе бригадой лесорубов. Странным было лишь одно — из четырех лесорубов трое были людьми еврейской национальности.
Рядом с нами за тремя сдвинутыми столиками гуляли настоящие лесорубы и рыбаки. В их компании сидела одна смазливая блондинка. Ухажеры постоянно освежали ее бокал, что вызывало ее ответную благодарную реакцию: время от времени она фальшиво, но громко голосила популярные песни советских композиторов.
Слава богу, заиграл оркестр. И туг наш Кимуха, разогретый винными парами и длительным воздержанием, встает и направляется в сторону блондинки. Лесорубы и рыбаки притихли. Мы тоже.
В институте считалось, что у Рыжова хорошее английское произношение. У кого считалось, я не знаю. До нас долетели отрывочные слова:
— Айм сори… эскюз ми… зе танцен… айм бизнесмен…
Услышать в том далеком 1963-м английскую речь в Петрозаводске? Разве что во сне. Эффект превзошел все ожидания. Наш ловелас увел из-под носа суровых мужиков их “фемину” и, нежно обняв ее, поплыл в медленном танце.
— Ту мору, — долетело до нас…
Мы понимали, чем должен закончиться этот вечер, и решили не испытывать судьбу. Взяли под белы рученьки Кимулю и разошлись по номерам.
Из Петрозаводска уезжали на следующий день, под вечер.
Такси было уже нагружено нашим багажом и концертными костюмами, а Рыжов, закрывшись на ключ, все еще предавался любовным утехам со смазливой блондинкой. Время поджимало, мы опаздывали на поезд.
Решительный Рябкин вызвал дежурную, открыл рыжовский номер ее ключом и выволок влюбленную парочку. В вагон мы блондинку не пустили.
— Кимушенька! Родненький! Я обязательно скоро приеду к тебе в Ленинград, и мы поженимся, как ты обещал! — голосила смазливая блондинка, размазывая по лицу косметику.
— Айм сори…
— Да ладно, хватит тебе, сволочь ты этакая!
Поезд тронулся.
На следующий день Кимуша пришел в себя только после трех бутылок “Жигулевского” и поведал нам о своем романе.
После ресторанного загула, как и обещала — ту мору, — к нему в номер пришла гражданка. (Так Ким называл всех смазливых блондинок.)
Труднее всего было объяснить ей, почему он, богатейший бизнесмен, одет так скромно? Если не сказать, бедно. Почему он занимает одноместную клетушку с умывальником, но без туалета? Так ведь можно пролететь и не добиться взаимности! И Кимуха пустился во все тяжкие:
— Как это по-русски… О! Пушнина! Айм бизнесмен! Пушнина!
Здесь Рыжов схватил карандаш и написал число с двенадцатью нулями.
— Май ту чемодане, — продолжал “бизнесмен”, — как это по-русски? О! Банхоф! Вокзал!
— Что вокзал? — вставила гражданка. — Стырили, что ли?
— Йес! Сты-ри-ли! — радостно взвился Рыжов.
Дама сдалась. Потом Кимухе надоело быть английским богачом и он перешел на чистый русский:
— Слушай, не обижайся. Налей-ка по рюмочке.
Гражданка оказалась с юмором:
— У меня для тебя тоже сюрприз. Я не успела долечить “триппак”… Не боись! Шутка!
Впопыхах Ким забыл в гостиничном номере паспорт, электробритву, домашние тапочки и деньги. Дежурная по этажу все это переслала в Ленинград. Она была на нашем последнем концерте и, услышав “Карелию”, полюбила и песню, и обаятельного Кима Ивановича.
Как перевести еврейское слово “шлемазл”? Говорят, что это не переводится. Самое близкое к этому в русском языке — мудак. Но это грубо и очень приблизительно. Кто-то говорил мне, что здесь нужен перевод при помощи жестов: надо пальцем вытереть нос, а потом этот палец вытереть о пиджак. Получится — “шлемазл”.
У Кима есть школьный товарищ Яша Бердичевский. Если Рыжов окончил школу с серебряной медалью, наш общий друг Шура Плотников (в простонародье — доктор Шурка) — с золотой, то Яша медалей не получал. Он не стремился овладеть фундаментальной наукой и пошел по другой части, по коммерческой. Не знаю, существуют ли на свете два более несовместимых понятия — “бизнесмен” и “шлемазл”? Яша их совмещал.
Жил он недалеко от Кима, в маленькой двухкомнатной квартире.
Когда Марии Ивановне, матери Рыжова, надоедали мальчишники (вместе с девчонками), она выставляла сына прочь.
Яша никогда не отказывал другу в пристанище, и все продолжалось у него на квартире.
Подтрунивая над Яшкой, Кимуха любит рассказывать, как коммерсант охмурял какую-нибудь гражданку. Будучи принципиальным противником материальной заинтересованности в вопросах любви, Бердичевский полночи мог талдычить одну и ту же фразу:
— Ну почему? (Пауза.) Нет, ты должна! (Пауза.)
И снова…
Зная скуповатость, нет, расчетливость своего школьного товарища, Кимуха на полном серьезе предлагал ему другой, испытанный метод.
Покупаешь маленькую водки (1 руб. 49 коп.) и одну бутылку кваса (37 коп.). Затем этот изысканный набор ставишь на подоконник. Обязательно на солнце!
Приглашая в гости даму, надо вскользь заметить: “Надеюсь, ты не откажешься со мной отобедать?”.
Когда гостья переступит порог квартиры, следует сразу же предложить ей “аперитив” (для возбуждения аппетита) — большую рюмку теплой водки и полстакана теплого кваса. На запивочку. Затем надо удалиться минут на десять. Якобы для разогревания обеда.
Спустя десять минут можно смело входить. Гражданка лежит…
Но даже такой способ овладения Яша считал накладным.
Заделаться бизнесменом Бердичевский явно поспешил. Ах, если бы он повременил лет двадцать! Скольких бед он сумел бы избежать! Да и Рыжов с Колкером не нахлебались бы позора. Но Яша был нетерпелив. Зарплата инженера-химика не позволяла ему разгуляться. А хотелось. Как хотелось!
Его дядя, миллионер, жил в Америке. Однажды, посетив Россию и встретив племянника, он посоветовал ему заняться колоссально прибыльным делом. Дядя не обнаружил в нашей стране автоматов для приготовления диетического парового мяса! Можно подумать, что остальное дядя обнаружил.
Яша, питавшийся всю жизнь бутербродами, плохо понимал, про что бубнил дядя. Он занялся менее утомительным делом. Он попытался сделать навар на спекуляции нейлоновыми рубашками.
Ким Рыжов не бросает в беде друзей, особенно школьных. Я тоже не бросаю в беде друзей, особенно соавторов. Когда мне позвонил Ким и сказал, что Бердичевский попал в беду, что надо срочно лететь в Сочи и спасать его, я, не раздумывая (а жаль!), спросил: “Когда вылет?”.
Один торгаш, некий Черняк, отправил Яшку в Сочи, снабдив его партией нейлоновых рубашек. Там этот товар ценился дороже, и Черняк рассчитывал получить приличный куш. Сам же Бердичевский, как реализатор операции, имел с одной рубашки два рубля!
Все эти подробности мы узнали с Кимом в зале суда, где судили выдающегося коммерсанта.
— Свидетель Колкер Александр Наумович, 1933 года рождения, член Союза советских композиторов. Встаньте. Зачем вы прибыли в Сочи и что хотите сообщить суду?
Суровый и официальный тон судьи подействовал на меня, как холодный душ. На судебном процессе я был впервые.
— Я знаю Якова Бердичевского как хорошего товарища…
— Вы можете сказать что-нибудь по существу дела?
— Да. Я знаю Яшу Бердичевского…
— Достаточно. Садитесь.
Эта жесткая интонация судьи была лишней. Ноги и без нее стали ватными. Я медленно опускался на скамейку. Самопроизвольно.
— Свидетель Рыжов Ким Иванович, 1932 года рождения, член Союза советских писателей. Встаньте. Зачем вы приехали в Сочи и что хотите сообщить суду?
Ким сделал вывод из моего нелепого поведения и решил растопить женское сердце. Умелец! Он довольно долго хлопал рыжими ресницами, как бы справляясь со своим горем. Выжав скупую мужскую слезу и глядя откровенным взором на пышный бюст совдеповской Фемиды, он проплакал:
— Я знаю Якова Бердичевского как…
— Достаточно. Садитесь. Вы оба свободны, — подытожила судья наши свидетельские показания.
Яшке дали полтора года.
Пока мы с Кимом выступали в суде, Черняк, прилетевший с нами в Сочи, не терял времени даром. Появляться в суде он не собирался. Боялся засветиться. Зато в ресторане гостиницы “Приморская” Черняк заказал шикарный стол.
Мы пришли с Кимом злые и голодные. Молча ели, много пили.
Странно, что судебная обстановка рождает такой аппетит. Мне казалось, будто я ем после блокады первый раз! Изрядно захмелев и оставив на столе гору грязной посуды, закурили…
— Сменить скатерть! — громко приказал Черняк. — Я буду заказывать!
Официант услужливо натянул на стол хрустящую крахмалом белоснежную скатерть. “Что прикажете подать?” говорила его поза.
— Три кофе! — брезгливо тявкнул Черняк.
Хозяин жизни.
Полтора года Бердичевский рубил сорго на Северном Кавказе.
Раскаяние в содеянном? На свободу с чистой совестью? Не смешите меня!
Все время отсидки Яша разрабатывал грандиозные планы построения капиталистического общества в одной, отдельно взятой стране. Жажда предпринимательства душила по ночам. В распаленном мозгу “бизнесмена” рождались фантастические проекты. Смелость своих замыслов он и не думал соизмерять с постулатами уголовного кодекса.
Вернувшись из заключения, Бердичевский обнаружил сказочный подарок. Американский дядя подарил ему “за боль годов, за все невзгоды” новенькую “Волгу”. Вот теперь бизнес приобретет особый размах! Да здравствует дядюшка-миллионер и его диетические котлетки!
Один из лучших капитанов дальнего плавания Ленинградского морского пароходства некий Липштейн, тайно перевозил из Европы в Советский Союз золото. Товар этот в виде тонких пластин, тщательно обернутых изоляционной лентой, переправлялся в южные регионы страны.
Бердичевский пошел на “дело” — надо было перевезти маленький сверточек с улицы Ленина на улицу Куйбышева. Там двое своих людей заберут у него сверток и выдадут наличными пятьдесят (!) рублей.
Чем не бизнес? Вот что значит новенькая, блестящая заводским лаком “Волга”!
Правда, дивиденды невелики, но это ведь только начало! Первый шаг к новым победным свершениям!
От улицы Ленина до улицы Куйбышева не больше трех километров. Бердичевский ехал не спеша. Остановился в условленном месте. В точном соответствии с предварительной договоренностью к нему подошли двое…
— За незаконные валютные операции бывший капитан Ленинградского морского пароходства Липштейн осужден на четырнадцать лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии общего режима.
— За пособничество в проведении незаконных валютных операций, принимая во внимание вторую судимость, Бердичевский осужден на четырнадцать с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Я слышал, что Липштейну удалось значительно сократить срок своего заключения и сидел он, как говорится, с копченой колбаской.
Что касается Бердичевского, то он просидел от звонка до звонка. Вдали от вершин Северного Кавказа в страшных лагерях Коми АССР. Шлемазл.
В те годы, когда облитерирующий эндартериит сделал свое черное дело, Ким оставался заядлым курильщиком. Две пачки в день были его нормой. Ничего страшнее при этой неизлечимой болезни не бывает. Никотин способствует сужению и отмиранию капилляров, питающих ткани нашего тела. И если начинается гангрена — ампутация.
Много лет он пытался сломать себя и бросить курить. Но, когда садился за пишущую машинку, испытывал такие мучения, что рука непроизвольно тянулась к сигарете. Были испробованы все средства от таблеток до гипноза. Все безрезультатно.
И вот наступил трагический момент, когда у Кима началось постепенное омертвление пальцев оставшейся, левой ноги. После недолгих раздумий решено было обратиться в клинику Первого медицинского института к профессору Курбангалееву и доценту Игнашову. Они слыли в городе самыми крупными авторитетами по этой болезни.
Отбытие в больницу решили отметить скромным застольем…
В приемный покой я должен был доставить Кимушу к семи часам утра. Сборы заняли минут десять, благо дело было знакомое: домашние тапочки, зубная щетка, пара книг и шахматные часы. На больную ногу привязали большую калошу. Для крепления использовали широкий бинт. Обувь не модельная, но удобная.
В приемный покой явились минута в минуту.
Одинокая уборщица, как корабельную палубу, надраивала кафельный пол, готовясь к приходу профессора. Испытывая некоторую усталость после вчерашнего возлияния и распространяя вокруг себя водочный “шмек”, Кимуха улегся на маленький диванчик. В приемных покоях всегда стоят такие маленькие диванчики, покрытые белой простынкой. В нижней части диванчика — оранжевая клеенка. Для ног. Улегся он в кепке (у него есть сшитая на заказ “ленинская” кепка) и в пальто. Костыли я забрал. Сел в коридоре на скамейку и сразу “отключился”.
Проснулся я от крика:
— Это ты — “известный поэт Ким Рыжов”?! Пошел вон отсюда! Надо же так нажраться с утра! Свинья ты, а не поэт! Вот протрезвеешь, тогда и приходи на ампутацию!
Кимуха тупо смотрел на высокого, худого, с благородной сединой профессора, окруженного свитой подчиненных ему врачей.
Спасая Рыжова, я решился на крайние меры.
— Профессор! Это пахнет от меня, а не от него, — произнес я, всунув голову в приемный покой. Ноги я предусмотрительно оставил в коридоре.
— А ты кто такой? — взвизгнул профессор.
— Я сиделка. Я сопровождаю Кима Ивановича…
— Вон! Я сказал — вон отсюда! Вместе! Оба!
Кто бы мог подумать, что в эти минуты решалась судьба моего Кимуши.
Мы убрались. Так была спасена его левая нога.
У Генриха Рябкина есть такой афоризм — “ничего не известно!”. По-моему, это лучшее произведение Генриха Семеновича. По крайней мере, применительно к нашей жизни!
Вот Паша Луспекаев не сумел вырваться из рук профессора Курбангалеева и не стало гениального артиста. Я же затолкал в машину гениального поэта. Так он вырвался из порочного круга.
Правда, процесс последующего лечения был долгим, болезненным и необычным. От энергетических скипидарных ванн до сеансов у знаменитой Нинель, которая своим мощным биополем прогревала сосуды. Но главное — результат. Болезнь отступила. Ногу удалось спасти!
В то утро мы ехали из больницы молча. Первым не выдержал Ким:
— Саня! Что-то безумно звенит в голове. Умоляю! Ну будь человеком. Ты же прекрасно знаешь, что мне отпустят без очереди! Ну, зайчик мой! Такой звон, будто челеста какая-то…
Пришлось остановиться у пивного ларька. Бомжи вежливо пропустили инвалида. “Хорошо тому живется, у кого одна нога!” Я отказался от своей кружки. Это было небезопасно. Очередь молча развернулась в сторону моих очков.
Улыбающийся Рыжов влез на заднее сиденье. Утирая пот, он приподнял свою “ленинскую” кепочку. Из-под кепочки вывалилась солидная связка ключей. Закрыв утром квартиру, знаменитый поэт бросил ключи в головной убор и натянул его на лысину… Челеста!
На этом приключения наши не закончились.
Когда ты сидишь за рулем, отказавшись от своей кружки пива, и мысли твои где-то далеко, очень неприятен внезапный окрик пассажира:
— Стой! Немедленно остановись!
Я перепугался насмерть. Что случилось? Бью по тормозам. Сзади слышатся мат и проклятия — в меня чудом не вмазались идущие следом машины.
— В чем дело?! — кричу Рыжову.
— Санечка! Посмотри, какая идет гражданка! Экстра! Ну, в крайнем случае, твердая хорошая! Выскочи на минутку, попроси телефончик!
Я выдал такой пассаж, что Ким Иванович даже поднял брови.
Видя, что гражданка проплывает мимо, он энергично распахнул заднюю дверцу и вывалился из машины:
— Девушка! Можно вас на минуточку?.
Что может ответить девушка, увидев небритую рыжую физиономию совершенно правильной круглой формы, два костыля и одну ногу с привязанной белым бинтом калошей?
Глубоко затянувшись, Кимуха хлопнул дверцей.
— Ехай! — огорченно произнес он.
— Ну и гад же ты! Так напугать меня! Подумаешь, твердая хорошая!
— Ладно, успокойся. Что ты понимаешь в любви? Композе! — продолжал знаменитый поэт. — А вдруг дала бы телефончик?
Чтобы закончить эпизод, надо объяснить, что такое “твердая хорошая”.
По-моему, авторство принадлежит Шурке Плотникову. Именно он, будучи профессором и доктором наук, разработал такую классификацию гражданок: экстра (почти не встречается), полуэкстра (очень редко), твердая хорошая, хорошая, полухорошая, полуплохая, плохая, вне классификации.
Чтобы долго не объяснять, говоришь: “твердая хорошая” — и все понятно.
Однако могут быть и ошибки в оценке индивидуума. Это зависит от времени воздержания.
Когда-то мы любили с Кимом ездить в Дом творчества композиторов в Репино. Когда-то — это лет тридцать тому назад.
В столовой Дома творчества было предусмотрено четырехразовое питание. Стоимость путевки в основном состояла из оплаты коттеджа и еды.
Приезжая, мы первым делом набивали холодильник бутылками и разнообразной снедью. Это позволяло нам принимать многочисленных гостей и не посещать столовую, где непременно надо было сюсюкать с коллегами по поводу хорошей (или плохой) погоды.
Через полчаса после приезда мы уже сидели за удобным низким столиком и гоняли трехминутки. Это когда на всю шахматную партию играющему отводится три минуты. Не уложился в три минуты, и на шахматных часах падает флажок. Значит, ты проиграл. Не думай, как слон. Но, если играешь в шахматы прилично, можно клиенту в те же три минуты поставить мат.
Такая игра, как наркотик. Можно просидеть сутки. А если еще и с бокалами…
Мы с Кимушей проводили за этим занятием все двадцать четыре дня, пока не кончалась путевка.
Гости нас посещали разные: Марк Фрадкин, Андрей Петров, Станислав Пожлаков. А однажды забежал Дмитрий Дмитриевич Шостакович:
— Извините, ребята, так сказать! У меня в коттедже случайно все кончилось, так сказать. Поэтому забежал к вам, зная, что у вас, так сказать, всегда есть…
Я и не ожидал такой прыти от великого композитора. Одним махом опрокинув стакан коньяку, он поправил пальцем на носу очки и вежливо попрощался:
— Извините, ребята, так сказать! Спасибо большое!
Однажды приехал Саша Галич с Аллой Ахундовой. Если с Галичем мы дружили, то его спутницу видели впервые. Она много и удачно писала для детей. Стихи, пьески, сценарии мультиков. Высокая, в старомодных круглых очках, она напоминала учительницу начальных классов.
Шахматы были временно отодвинуты.
В ж вечер мы много пели и много пили. “Учительница начальных классов” оказалась весьма одаренной и в этом жанре. Галич привез с собой гитару и перепел нам почти все свои шлягеры.
Но даже в этом шумном застолье мой музыкальный слух уловил посторонний звук. Кто-то явно топтался возле нашего коттеджа, у самого окна.
Я был уверен, что это Фридрих Брук…
К фортепианному дуэту “Брук и Тайманов” он никакого отношения не имеет. Он композитор. Якобы.
Говорят, что киевские евреи самые высокомерные и противные. Противнее только евреи харьковские. Фридрих Брук приехал в Ленинград из Харькова. Его приняли в наш Союз композиторов, потому что членов правления ошеломила политическая направленность его песен. За давностью летя могу немного ошибиться, но только немного. “Заря коммунизма встает над страной!”, “Рабочий класс, тебе моя рука!”, “Красное знамя реет над нами!” — таково было творческое кредо выпускника Харьковской консерватории.
В Соединенные Штаты Америки он рванул первым.
Выехать в те годы с семьей на постоянное место жительства за океан было практически невозможно. Но не для Фридриха!
Может быть, компетентные органы тогда оценили его идеологическую преданность по-своему?.
Приехав в США, Брук сразу же получил фантастическое предложение — написать музыку к кинофильму! В Голливуде!!
Продюсер вручил ему киносценарий и дал время подумать о музыкальном решении будущего фильма. Уже наутро Брук радостно сообщил:
— У меня все готово! Мы привыкли работать стремительно и одухотворенно! Выезжаю на киностудию, чтобы ознакомить вас с материалом!
Брук играл увлеченно и очень громко! Похоже, что он использовал музыку своих патриотических песен. Американские кинодеятели прервали его вдохновенную игру:
— Мистер Брук. Мы настоятельно советуем вам срочно вернуть полученный вчера аванс. Только так вы сможете избежать долговой ямы. Мы тоже умеем работать стремительно и одухотворенно!
Мистер Брук рванул со всем семейством в обратном направлении и обосновался в Финляндии. Он открыл музыкальную школу, и финские граждане, вспоминая Рахманинова и Рубинштейна, Гилельса и Рихтера, потащили в колледж господина Брука своих детей. Детей учат играть громко! Очень громко! Родители довольны.
Сейчас Фридрих снова принят в сомкнутые ряды Союза композиторов Санкт-Петербурга. Фантастика!
…У Брука лисья мордочка и настороженная застывшая улыбочка, выражающая неуемную “любознательность”. Проветривая прокуренный коттедж, я не раз натыкался на эту улыбочку.
— Работаете? Ну-ну…
Именно поэтому в тот вечер посторонний звук не вызвал у меня никаких сомнений. Где-то рядом ходит Фридрих.
Саша Галич с особой нежностью относился к “топтунам под окнами”. Распахнув окно, он поставил на подоконник рюмку коньяка и бутерброд с икрой…
Я часто испытываю чувство неловкости, вспоминая тот пьяный вечер и ту минуту. Под окном стоял Яша Вайсбурд.
— Гран мерси, дорогие мои! — произнес благодарно Яков.
Опрокинул одним махом стопарь, взял бутерброд и еще раз как-то лучезарно произнес:
— Гран мерси! Приятно! Не ожидал…
Нетвердой походкой уходил в темноту мой близкий приятель, безропотный человек и озорной композитор. Возле соседнего коттеджа послышалось:
— Гран мерси! Приятно! Не ожидал…
Хочу напомнить, что помимо названных и не названных популярных песен с Кимом мы написали еще мюзиклы “Свадьба Кречинского” и “Дело”, “Труффальдино из Бергамо” и “Трое в лодке, не считая собаки”, спектакли Большого театра кукол “Ловите миг удачи”, “Неизвестный с хвостом”, “Сказка про Емелю”, зонги к спектаклю “Интервью в Буэнос-Айресе” в театре им. Ленсовета.
Я не собираюсь перечислять все, что мы написали. Я называю основные наши работы с единственной целью — не думайте, что Колкер и Рыжов только развлекались, гуляли, пили водку и сутками сражались в шахматы.
Это неправда! Это ложь! Мы еще играли в преферанс. Играли плохо, но азартно!
В нашей композиторской среде есть виртуозы этой самой умной и интеллектуальной карточной игры. Например, Виктор Лебедев. Профессор и зав. кафедрой эстрадной музыки Петербургской Академии культуры по прозвищу “Пизя”.
Много лет он раздевает догола своих состоятельных партнеров.
Раннее утро. Светает. Только что свели мосты. По улице идет импозантный высокий профессор. Он с трудом тащит какой-нибудь массивный предмет антиквариата: стул, тумбочку, книжную полку или просто картину. Естественно, подлинник. Когда у клиентов кончаются наличные, профессор берет натурой. Счастливчик!
Асом преферанса был и Ян Френкель, наш близкий друг и обаятельнейший человек.
В преферанс он играл не “промышленно”, как некоторые, но обязательно под интерес. А как же иначе? У него был свой московский круг преферансистов, людей известных и добропорядочных. Любимым партнером Яна был дирижер Кирилл Кондрашин.
…Рано утром в моей квартире настырно зазвонил телефон. Слышу, междугородняя. Снимаю трубку — родной голос Янчика.
Этот голос любила и знала вся страна. Звезды любой величины меркли, когда Ян Френкель выходил на сцену.
— Саня! Я звоню из Москвы. Дочь в Италии, а Наташа (жена. — А. К.) на даче. Извини за такую рань — пол восьмого утра. Но пойми меня, пожалуйста. Чего-то так грустно, а небо такое высокое… Короче. Возьми Кимушу. Садитесь в самолет. А я пока накрою стол и нарисую пулечку.
Фантастика! В этом предложении была какая-то авантюра! По нашим совдеповским понятиям, безусловный вызов обществу! Это по мне! Ну просто Ю-ЭС-ЭЙ!
Я прекрасно знаю, что Кимуха так же легок на подъем, как я. Но главное, жены. Им надо было наврать что-то немыслимое, экстраординарное, чтобы в восемь утра в субботу смыться в Москву. Банальная истина — чем невероятнее ложь, тем она правдивей.
— Кто там звонил? — спрашивает сонная Маша.
— Мосфильм. Просят срочно прилететь на студию, познакомиться со сценарием и режиссером. Иностранным. А с воскресенья предлагают начать с Кимом работу над новым потрясным киномюзиклом. Рабочее название “Карточная авантюра”.
Да, чуть не забыл, это совместное производство СССР, Америки, Франции и, кажется, Италии. Не знаю, лететь или нет…
— Идиот! — окончательно просыпается любимая жена. — Он еще сомневается! Ты забыл, что у нас дочь? Я устала от вечного безденежья! Беги к Киму, а я пока соберу тебе вещи.
— Не забудь положить в “дипломат” бритву и носовой платок. Главное, давай побольше денег. Вдруг придется сразу лететь за границу! Положи, пожалуйста, валидол. На всякий случай.
Взлетаю на восьмой этаж. Врываюсь в квартиру к спящим Рыжовым. Всю сцену повторяю перед Галей, женой Кима. Здесь я врал еще убедительнее. Вот оно! Внезапность нападения — залог победы!
Кимуха натягивал трусы, смотрел на меня круглыми встревоженными глазами, всячески подыгрывая мне. Надо же, какая удача! Уж кто-кто, а он с первого моего слова сориентировался на местности.
Спустя считанные минуты, оседлав рыжовскую “Волгу”, мы мчались в аэропорт Пулково. Машину поставили на платную стоянку. Билетов, естественно, не было. Самолет вылетал через двадцать минут. Пришлось применить особый прием.
Я пользовался им редко. Но жизненные обстоятельства иногда делали из меня напористого нахала. Скажем, если Маше нужна была парная вырезка, я входил в мясную лавку с черного хода:
— “Карелию” знаешь? — спрашивал незнакомого и всегда перепуганного в таких случаях директора.
— Не понял. Какую Карелию?
Сообразив, что бедолага мог принять мои слова за некий шифр, я начинал петь:
— “Долго будет Карелия сниться…”
— Понял, — расслаблялся директор, — очень даже понял!
— Это моя песня. Дай парной вырезки!
— Песня хорошая, душевная. Но вырезки не дам.
— Ты, вероятно, не понял кто есть кто? Я — Колкер, личный шофер Марии Пахоменко. Ясно?
— Теперь ясно. Сколько надо вырезки?
В аэропорту Пулково произошло нечто подобное, и командир корабля посадил в самолет Колкера и Рыжова без билетов.
Посадка в Шереметьево. Такси без очереди. Ровно в одиннадцать часов утра мы звонили в дверь Яна Абрамовича. Знаменитые усы, знаменитая улыбка, знаменитое гостеприимство. Карточный марафон прерывался лишь непродолжительным застольем.
К пяти часам утра я проиграл рублей четыреста, а Ким двести пятьдесят.
Нежное прощание. Такси без очереди. Аэропорт Шереметьево. Ленинград. В одиннадцать часов утра мы входили в свои квартиры.
Такое в нашей жизни было один-единственный раз. Но как красиво! Ю-ЭС-ЭЙ!
Совсем забыл. Маше и Гале мы сказали:
— Сценарий очень слабый…
Из Одессы мы с Кимом уезжали в дурном настроении. Безумно болела голова после вчерашнего банкета. Хотя наш “Журавль в небе” не достиг заоблачных высот, порядок есть порядок. После премьеры авторы должны поставить. И мы поставили.
Дурное настроение я решил выместить на дежурной по этажу. К этим созданиям у меня особая любовь. Вынеся из номера вещи, я подошел к ней и выпалил:
— Не стыдно брать за проживание такие деньги! Вы что, совсем обнаглели? У вас в ванной, в кроватях и даже в холодильнике огромные рыжие прусаки!
Отвернувшись от меня, дежурная смотрела в окно, залитое ласковым одесским солнцем. Она думала о чем-то сокровенном, глубоко личном. Она улыбалась…
— Любезная, в вашей гостинице тараканы! — прокричал я, желая вывести ее из состояния умиротворенности и покоя. — Понимаете, тараканы!
Не поворачивая головы, дежурная объяснила мне: “Весна…”.
Одесса провожала нас колоритно-загадочной надписью на часовой мастерской: “Ремонт часов всех систем и ПРОВЕРКА НА ЭЛЕКТРОННОМ АППАРАТЕ”.
Мы сели в такси. Как обычно опаздывали на самолет.
У нас с Кимом были любимые розыгрыши. Например, мы могли завести в городском транспорте громкий спор о том, как правильно и эффективно вести сельское хозяйство.
— Я продолжаю настаивать, что квадратно-гнездовой особенно хорош для яровых! — нападал на меня Рыжов.
— А я с этим в корне не согласен! Суперфосфат надо заводить под пары! — энергично возражал я новоиспеченному Терентию Мальцеву.
Даже те, кто имел об агротехнике знания на уровне дошкольника, начинали безудержно хохотать.
Здесь же, в такси, Кима черт попугал.
— Саня! Ты не знаешь, кто такой Водяной? — спросил он невинным тоном.
— Понятия не имею! Какой-то тип! — подыграл я ему.
И это мы говорили о нашем близком друге и собутыльнике Мише Водяном, настоящем опереточном гении, участие которого в спектакле гарантировало аншлаг и громкий успех. Одесситы утверждали, что популярность Водяного сравнима лишь с популярностью Ворошилова.
Когда одесская оперетта приезжала на гастроли, а рекламу не успевали расклеить (дело обычное), администраторы театра использовали такой прием. Один из них садился в автобус с передней двери, а другой с задней. Проехав одну остановку, они успевали произнести короткий диалог:
— Веня! Ты слышал, что приехала одесская оперетта?
— Ну!
— А Миша Водяной играет?
— А то!
Несколько таких налетов на городской транспорт, и без всяких афиш билеты были проданы на все спектакли.
…Шофер резко ударил по тормозам. Назвать в его машине Водяного типом! Извините, но это ша! И только наши искренние извинения и наличие у Рыжова костылей умерили пыл одесского патриота. Принцип материальной заинтересованности укрепил наши взаимные симпатии, и мы помчались с ветерком.
Уже видны были самолеты, когда наш мастер пролетел под красный свет. Из-за придорожного тополя, как молниеносный укол рапиры, вылетел жезл гаишника. Все! Полная лажа! Мы не улетим! До окончания посадки остаются минуты!
Если кто-то утверждает, что Одесса теперь не та, не верьте.
Наш водитель вежливо попросил нас не возникать.
Открыв беззаботно окно, он уставился в голубое небо. Инспектор ГАИ подошел к машине и облокотился на среднюю стойку, всем своим видом показывая, что вся эта история ему совершенно “до лампочки”. Мы не возникали.
Выждав долгую ферматную паузу, гаишник спросил:
— Что, это был зеленый?
— Это был желтый, — нагло ответил водитель.
— Червонец, — как-то бесстрастно и вяло произнес инспектор.
И тут произошел настоящий взрыв:
— А пять рублей это уже не деньги?!
В Ленинград мы улетели своим рейсом. А то!
Водить автомобиль меня учил Рыжов. Сначала теоретически.
Авторские гонорары позволили ГИНРЯРАМ приобрести новенькие двадцать первые “Волги” с оленем на капоте. Немногие деятели литературы и искусства могли себе позволить такую роскошь!
Сделав себе ручное управление, Ким довольно быстро освоил высоты шоферского мастерства. Меня он сажал рядом с собой и называл штурманом. В этом качестве я проездил с ним довольно долго. Теоретически я был готов к вождению, но практики не было никакой. Кимуха жалел свою новенькую “Волгу” и под любыми предлогами не пускал меня за руль.
После премьеры мюзикла “Свадьба Кречинского”, поставленного во многих театрах “у нас” и “у них”, я тоже стал счастливым владельцем автомобиля. ГАЗ-24 “Волга”. Черного правительственного цвета!
Очень хотелось ездить самому, но не было водительских прав. Что делать? Звоню Кимуше и слезно прошу его выступить в роли инструктора по вождению. Тогда водительские права мне не нужны. Я ученик. А то, что у моего наставника одна нога и костыли, это не их собачье дело!
Всю эту тираду я выпалил по телефону с пятого этажа на восьмой.
— Санечка! Зайчик мой! Ты же знаешь, что я никогда и ни в чем тебе не откажу, — отвечает Кимуха. — Но тут со мной приключилась маленькая неприятность. Вчера заскочил к Галине… Ты должен ее знать. Ну, такая гражданка с молодой спиной… А на улице мартовская кашица, скользко. Я упал и сломал руку. Правую. Она почему-то в гипсе.
— Ну и что?! — возмущаюсь я. — Эти несущественные подробности меня не интересуют! Умоляю, Кимушечка! Очень хочется прокатиться!
Спуск с восьмого этажа был трудным. Один костыль Ким держал здоровой рукой. Второй удалось подсунуть под загипсованную руку. Всю эту хлипкую конструкцию я поддерживал как только мог.
Спуск с Эвереста, вероятно, был не таким сложным! Главное было добраться до первого этажа, остальное дело техники.
И вот мой инструктор в машине. “Лыжи” — так Ким называл свои костыли — уложены на полу вдоль левого борта.
— Ехай! — скомандовал инструктор.
— Напоминаю тебе, дружочек, что у меня нет тормозной педали и вывески “Учебная”.
— Не влияет роли! — парирует Рыжов.
От Черной речки я доехал до Литейного проспекта. И туг последовала новая команда:
— Разворот в обратном направлении на сто восемьдесят градусов! Ты прекрасно водишь автомобиль, зайчик мой.
Все, кто учился ездить на автомобиле, поймут меня.
Конечно, я встал поперек трамвайных путей и, конечно, именно в этот момент мотор заглох.
Здесь к моей машине коршуном кинулся общественник с красной повязкой и жезлом гаишника. Нагло вскочив на заднее сиденье, он завопил:
— Вперед! Направо! В пункт ГАИ! Там разберемся!
Трезвонящие трамваи и орущий “хунвейбин” храбрости мне не прибавили. Кое-как, на стартере я дополз до пункта ГАИ. Просто счастье, что он находился за углом, на Пестеля. И вот тут-то и начался спектакль.
— Предъявите ваши водительские права! — потребовал общественник с красной нарукавной повязкой.
— У меня нет прав! Я ученик! — отвечаю ему с достоинством.
— А где же инструктор по вождению? — спрашивает этот тип.
— Он рядом со мной! Не видите, что ли?
— А вы не могли выбрать инструктора со здоровыми руками? (С заднего сиденья ему видна только загипсованная рука.)
— У моего инструктора большой опыт. Я ему доверяю!
— На заднем стекле у вас должна быть вывеска “Учебная”. Где она? — продолжает приставать общественник.
— Вероятно, она завалилась за заднее сиденье, — выручает меня Кимуха. И продолжает: — Ученик, помогите мне достать лыжи.
— Какие еще лыжи? — возмущается общественник.
— Сейчас увидите, милейший, — говорит Ким, — только позвольте вас немного потревожить…
Изловчившись, достаю костыли. Еще немного усилий, и хлипкая конструкция восстановлена. Рыжов, выбравшись из машины, принимает вертикальное положение. Я выполняю функцию опоры.
“Красная повязка” в глубоком трансе. И здесь появляется настоящий инспектор ГАИ. Старший лейтенант.
— Вот, товарищ старший лейтенант. Этот маленький в очках — ученик. А вот этот — без ноги и руки — инструктор… — докладывает ошалевший общественник.
Лейтенант озадачен.
— Вы что, действительно инструктор? — спрашивает он у Рыжова.
И вдруг Ким отвечает в предельно высоком теноровом регистре:
— Говорите громче! Я плохо слышу!
И в ГАИ встречаются люди с юмором. Узнав, что мы те самые Колкер и Рыжов, инспектор вынес приговор:
— Штраф! Один рубль.
Про Кима я могу рассказывать бесконечно. Память сохраняет мельчайшие подробности нашего содружества.
Я мог бы рассказать, как Иван Михайлович Рыжов, отец Кима, взял в плен фельдмаршала Паулюса. Да, да! Именно он, майор контрразведки Рыжов, въехал на видавшем виды армейском “виллисе” в окруженный Сталинград и доставил в распоряжение нашего командования фашистского генерала.
Я умышленно пишу про Кима так, как будто ему и сейчас двадцать пять, и преднамеренно опускаю трагические подробности тяжелейших недугов, которые преследуют его долгие годы. Я не описываю, с каким мужеством он несет свой тяжкий крест. Никто и никогда не видел его малодушным, жалующимся.
Но об одном я хочу сказать определенно и со знанием дела. Киму Ивановичу Рыжову наше общество крупно задолжало! Ему не воздано ни по таланту, ни по значимости написанного им.
Кто же виновен в этой несправедливости?
Один неписаный закон, убивающий даже самого стойкого, самого сильного духом. Этот порочный закон испокон века неотвратимо действует именно в нашей стране — НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ.
Договорился с Мариной Петровой, нашим добрым гением, и записал на петербургском радио большую передачу о творчестве Кима Ивановича. Первый раз эта передача была в эфире 5 апреля 1996 года. По огромному числу откликов благодарных радиослушателей передачу “Ким Рыжов” повторили 16 июня 1996 года.
Подлый мир
Чем больше были мои успехи, чем больше я высовывался, тем больше ощущал давление сверху, тем больше хлебал от чиновников всех сортов.
“Кадры решают все!”. Этот лозунг оставался руководством к действию. Поэтому Секретариат Союза композиторов насаждал во все государственные структуры, занимающиеся вопросами музыкального искусства, своих людей.
И тогда достаточно было выразительного взгляда, и мелкий чиновник безошибочно соображал, кого из композиторов надо придержать, “замолчать”, кому не заплатить, а если заплатить, то смехотворно мало.
Такие “надолбы”, беспрекословно проводящие в жизнь политику партии и правительства, сидели в своих маленьких, но руководящих креслах повсюду — в Министерствах культуры, на радио и телевидении, в концертных организациях и издательствах.
Одним словом, вся система сверху донизу была пронизана своими. Достаточно было легонько дернуть за ниточку (да что там дернуть, прикоснуться), и композитор снимался с эфира и предавался забвению.
Оружие проверенное.
На ум сразу приходят бессмертные афоризмы Александра Васильевича Сухово-Кобылина: “Взял — поделись! Как аукнется, так и откликнется!”.
Некоторые ломались. Во мне же, человеке далеко не могучем, сидело какое-то упрямство. Действие равно противодействию!
И если я чего-то добился в жизни, то с чистым сердцем могу утверждать: “Все сделано своей головой, своими руками, своим трудом. Меня никто и никогда не возносил на музыкальный Олимп, бережно и ласково поддерживая под попочку”.
Приезжаем с режиссером В. Воробьевым в Минкульт РСФСР для подписания договора на “Свадьбу Кречинского”. Показываю фрагменты мюзикла.
И еще ряд других наиболее ярких эпизодов.
Главный редактор министерства, некий Болдырев просит меня выйти из кабинета. Через несколько минут выходит красный как вареный рак Володя Воробьев. Кидаюсь к нему:
— Ну, что сказал Болдырев?
Воробьев выкатывает один глаз куда-то в сторону.
— Договор не заключил, — говорит Володя. — Эта бледная спирохета считает, что ты написал очень слабое сочинение. Тусклые, невыразительные мелодии… А потом стал орать: “Почему пускаете Колкера в театр? Привлекайте Андрея Павловича Петрова. Несите ему домой договора! Денежные авансы! Заинтересуйте его любыми средствами. Вот тогда мы вас поддержим! При чем здесь Колкер и русская классика?!”.
Идем на Центральное телевидение. Может быть, заинтересуются мюзиклом там?
Главный консультант по музыкальным вопросам, некий Золотов просит меня выйти из кабинета. Через несколько минут выходит красный как вареный рак Володя Воробьев. Кидаюсь к нему:
— Ну что? Что сказал Золотов?
Воробьев выкатывает другой глаз куда-то в сторону.
— Договор не заключил, — говорит Володя. — Эта бородатая гнида считает, что ты написал очень слабое сочинение… А потом стал топать ногами и орать: “Кто такой Колкер? У вас в городе есть Валерий Александрович Гаврилин! При чем здесь Колкер и русская классика?!”.
Справка: премьера мюзикла “Свадьба Кречинского” состоялась в 1973 году.
Мюзикл поставлен в Ленинграде, Москве, Киеве, Кемерово, Орджоникидзе, Калининграде, Оренбурге, Каунасе. А также в Берлине, Беренбурге, Братиславе, Брно, Оломоуце, Софии, Бургасе, Варшаве, Дебрецене, Хельсинки, Тампере, Лапеенранте, Стокгольме.
Последние премьеры состоялись в 1994 году в Кургане, Магадане, Одессе.
А сегодня позвонила Москва (сегодня — это 16 марта 1996 года):
— Александр Наумович! Это вас беспокоит Малый театр, Виталий Мефодьевич Соломин. Я ставлю ваш мюзикл “Свадьба Кречинского”. Мне нужно с вами посоветоваться по музыкальной части. Если не возражаете, я приеду в Петербург.
А чего возражать? Радость-то какая!
1978 год. Ленинградский театр музыкальной комедии отправляется на гастроли в Москву. В программе, наряду с другими названиями, четыре сочинения А. Колкера: мюзиклы “Свадьба Кречинского”, “Дело”, “Труффальдино из Бергамо” и сценическая поэма “Жар-птица”, посвященная блокадному городу.
Этого режим пережить не мог!
Несчастного Воробьева начали долбать в Ленинградском обкоме партии еще до отъезда: “Что везешь на гастроли в столицу нашей Родины?! При чем здесь Колкер?!”.
Но Воробьев сопротивлялся, защищая не столько меня, сколько себя.
Это были лучшие спектакли театра.
И тогда за две недели до начала гастролей в Москву был запущен слушок. Колкер сбежал в Израиль!
Сделано это было талантливо, по всем законам провокаторского искусства: радио, телевидение, Минкульт РСФСР, Минкульт СССР, Союз композиторов, отдел культуры ЦК КПСС. На Всесоюзном радио мгновенно были арестованы все мои записи.
Будьте вы все прокляты! Скопом и поименно!
Сейчас все это выглядит смешным и нелепым. Но тогда…
Тогда пост заместителя министра культуры занимал Александр Флярковский. Выпускник Ленинградской консерватории перебрался в Москву, где сделал блестящую карьеру. Но не композиторскую.
Он был одним из тех “надолбов”, которые с охотой променяли музыку на кресло функционера.
Так был проделан путь от секретаря партбюро Союза композиторов до замминистра.
В его приемной на стене висел неприметный листок. На нем перечислялись названия музыкальных комедий, рекомендованных к постановке в театрах страны. Из десяти названий пять принадлежали перу замминистра культуры. И пусть попробует какой-нибудь режиссер провинциальной оперетты — Зиновий Абрамович или Абрам Зиновьевич — не прислушаться к рекомендациям!
…И вот Флярковский вызывает “на ковер” руководство Ленинградского театра музкомедии:
— Кого привезли? Предателя Родины? Гастроли закрываю!
— Но, позвольте, такие расходы! — робко пытается возразить директор театра В. Копылов.
— А мне насрать на ваши расходы! Вон из Москвы!
И конечно, громоподобный мат, столь модный в правительственных кабинетах тех лет.
Со мной решили рассчитаться одним махом. Может быть, он просто повесится?
Действие равно противодействию!
Я откупил в кассах театра Станиславского и Немировича-Данченко, где должны были состояться гастроли, пятьдесят билетов на свои спектакли и понесся по Москве.
Преодолевая заслоны секретарш, я врывался в кабинеты “надолбов”, знакомых и незнакомых, высочайших и не очень.
Я побывал у С. Ждановой и В. Тернявского на ЦТ, у Г. Черкасова на Всесоюзном радио. В двух министерствах и в отделе культуры ЦК.
У Семена Кирсанова есть такие (приблизительно) строчки: “Вроде мастер на месте, вроде мастера нет…”
Вроде передо мной Колкер? Но поступил сигнал, что он предал Родину и смылся с еврейкой Пахоменко в Израиль!
Надо было видеть всю эту номенклатурную чиновничью карусель.
Я с любезной улыбкой вручал каждому из них приглашения на мои спектакли и мчался дальше. Я спасал себя, свою музыку, свою семью, наконец, гастроли театра.
Гастроли состоялись. Некоторые из моих “заклятых друзей” сидели в зрительном зале. Особое наслаждение я испытал, наблюдая за выражением их физиономий, когда со сцены звучала ария-проклятие Тарелкина из музыкальной драмы “Дело”:
Будьте вы все прокляты! Скопом и поименно!
“Клуб путешественников”
Мы с Машей любим путешествовать, совмещая приятное с полезным. Приятное — это впечатления. Полезное — деньги за концерты.
Многочисленные гастрольные поездки, песенные фестивали и творческие командировки позволили нам исколесить всю страну и еще полмира.
Телефонный звонок — и мы в самолете. Эта страсть к передвижению сохранилась по сей день.
Хотелось бы лаконично, в телеграфном стиле, рассказать о том, что сохранила память. Получится своеобразный “Клуб путешественников”. Только не с Юрием Сенкевичем, а с Александром Колкером.
Год 1964. Незабываемое путешествие, организованное радиостанцией “Юность”. В высокие полярные широты отправились поэтессы Инна Кашежева и Ольга Фокина, композитор Григорий Пономаренко со своей Катенькой Шавриной, композитор Александр Колкер со своей Машенькой Пахоменко, квартет “Аккорд”, музыканты, журналисты.
Маршрут: Архангельск, лесовоз “Туломалес”, Белое, Баренцево, Карское моря, остров Диксон, Норильск, Талнах, Дудинка, Игарка, Дивногорск, Красноярская ГЭС. Москва.
В Ледовитом океане я написал на стихи Инны Кашежевой песню “Опять плывут куда-то корабли”. Первая исполнительница — Маша. Пела она под мой аккомпанемент в салоне корабля. Первые слушатели — экипаж лесовоза.
Песня отзвучала. Тишина. Потом кто-то сказал: “Давай еще раз”. Потом еще, и еще…
“Опять несет по свету лесовоз дурман тайги и белый смех берез…”
Потом эту песню спела неповторимая Анна Герман. Спела по-своему, очень прозрачно и грустно.
Год 1965. Средняя полоса России, Гжатск, Фокино.
Огромный цементный завод неумолимо выбрасывает из труб продукт своего производства. Почему в воздух? Не знаю. Гигантские круглые печи, диаметром несколько метров, медленно вращают свои огнедышащие тела.
Пребывание в цехе этого монстра сравнимо разве что с изощренной пыткой.
Дома, деревья, земля, люди — взрослые и дети — покрыты устойчивым слоем цемента. Все живое болеет…
В концерте принимал участие композитор Евсей Веврик. Это наш земляк. Он был приличным пианистом и много лет аккомпанировал на международных соревнованиях нашим гимнасткам. Изредка Евсей писал песенки и фортепианные пьески для детей. Как он очутился в нашей компании, я не помню.
Зал переполнен. Артисты Фокино не жалуют. Объезжают стороной.
Выходит конферансье и, чтобы расшевелить мертвого зрителя, рассказывает какую-то похабель. Конферансье хохочет. Это самый ударный его номер. Зал молчит. Молчит как “рыба об лед”.
Смятение и растерянность заставляют ведущего объявить следующий номер подчеркнуто громко и празднично:
— А сейчас, дорогие фокинцы, перед вами выступит композитор… Еврей Веврик! Встречайте!!
Зал угрюмо молчит. Еврей так еврей.
Год 1967. Комсомольск-на-Амуре. Городу вручают орден Ленина. Да что там орден! На праздник везут самого Юрия Гагарина! Сверхчеловека! Идола!
Гагаринская улыбка, обнявшая весь мир, на этот раз выполняет более локальную функцию. Она обнимает целых два дня жителей легендарного города.
Медленно и величественно подходит к пристани белоснежный лайнер. На палубе, в самом центре Гагарин. Форма одежды парадная. Ослепительно сверкают золотые галуны. С двух сторон Юрия Алексеевича подпирают комсомольские вожди. Лучезарные улыбки не могут скрыть следов вчерашнего перегруза.
На нижней палубе группа пожилых людей. Одеты скромно. Седые головы и мешки под глазами красноречиво говорят “за их счастливую жизнь”. Это первостроители.
Они корчевали тайгу, они устанавливали на берегу Амура памятный огромный валун — “здесь будет город заложен”, они прокладывали первые улицы.
Потом их (полагаю, в знак благодарности) гноили в лагерях, неподалеку от этих мест. А кто остался в живых после вдохновенного ударного труда и лагерной баланды, сражался на фронтах Отечественной войны.
Первостроителей осталось совсем мало. Но это был их праздник, праздник их молодости, их звездный час.
Родина моей матери Могилев-Подольск, на Днестре. Могилев, потому что город окружен со всех сторон горами. Когда река разливается, город превращается в могилу. Жители, спасаясь от наводнения, лезут на крыши неказистых домишек. Взрослые поднимают над головой на вытянутых руках детей. Вода прибывает…
Если повезет, детей удается спасти.
Тогда в Комсомольске-на-Амуре наводнения не было, но крыши всех домов на набережной были заполнены горожанами. Высоко над головой, на вытянутых руках они держали детей. В их глазах навсегда должен был запечатлеться образ Гагарина. Божество!
В составе культурной делегации были и мы — Маша, Оскар Фельцман и я. Перед концертом нас вместе с Гагариным свезли за город. Подышать воздухом, показать окрестности.
Мы вылезли из лимузинов и поднялись на сопку. Ничего страшнее я потом в своей жизни не видел. Сиротливо торчали обуглившиеся невысокие палки. Сгоревшая мертвая тайга простиралась до горизонта. Нам объяснили, что главная беда в другом. Поскольку тайга здесь горит непрерывно в радиусе сотен километров, почва прогорела на большую глубину.
Пройдут столетия, а жизнь сюда не вернется. Здесь кладбище для всего живого.
Вечером был концерт. Потом банкет. Первостроители немножко приняли и запели… Пели Дунаевского, пели свои песни, с которыми умирали и выживали. Пели задорно, помолодев лет на тридцать, и пели грустно, затаенно.
Человечество не может ответить на два вопроса: куда деваются деньги и откуда приходят клопы. Есть еще один вопрос, на который я не знаю ответа, — как рождаются мелодии?
Песню “Зависть” я написал в том же году, после поездки в Комсомольск-на-Амуре. Впервые ее исполнил Анатолий Королев в Сочи на песенном конкурсе “Красная гвоздика”. Его свежий необычный тембр голоса, чуть-чуть с цыганским отливом, удивительно слился с мелодией, написанной в форме оперного монолога. Песня стала популярна после первого исполнения.
Волшебная сила телевидения!
Горечь оставило лишь одно — решение комсомольских вождей не приглашать на этот конкурс автора песни. Место Александра Наумовича было предоставлено другому композитору. Он, правда, не имел в своем портфеле столько популярных молодежных песен, зато обладал более звучным отчеством.
Весь этот фарс проходил у меня на глазах в московской гостинице “Юность”.
Мне не раз приходилось стискивать зубы в подобных ситуациях. А что было делать? Разве что крикнуть: “Я не еврей! Я — ленинградец!”.
Потом “Зависть” записали И. Кобзон, М. Магомаев, П. Кравецкий, Е. Нестеренко и даже тенор Большого театра В. Атлантов.
Год 1974. Поехать с концертами в группу наших войск, расположенную на территории Германии или Польши, Чехословакии или Венгрии, было не только престижно, но и очень выгодно. В те годы лишь единицы выезжали за кордон. Выступать перед нашими солдатиками было очень приятно. Самая благодарная аудитория. А когда на сцену выходила Маша, красивая блондинка с огромной косой (своей, натуральной), в зале раздавалось тихое подвывание. Я ревновал, но терпел.
Государство выплачивало огромные деньги странам, в которых временно располагались наши вооруженные силы.
Во-первых, за дорожно-транспортные происшествия, в которых наши лихачи, как правило, выходили победителями. Груды металла валялись вдоль роскошных автобанов.
Во-вторых — международные алименты.
Стоило нашему оголодавшему без баб солдатику зазеваться — и все! Ему крышка!
Через забор, окружающий нашу воинскую часть, молниеносно перелетают две девицы. Одна без штанов, другая свидетельница. В жалобе на имя командующего приводились подробности — где, когда, на чем и сколько минут “майн л ибер фройнд” насиловал свою жертву. Подпись свидетельницы удостоверяла сей постыдный факт. Государство выплачивало алименты, международные.
Каждый день нас перебрасывали в новую воинскую часть. После концерта командование непременно закатывало попойку. Новая часть — новая попойка!
— Наумыч! Обижаешь!
— Товарищ полковник! Не могу! Ваши соседи с левого фланга, у которых мы вчера выступали, не пожалели нас! Умоляю! Дай передохнуть!
— Наумыч! Обижаешь! Так то же был левый фланг! А мы правый!
В Германии, под Нойштрелицем располагалась наша танковая бригада. Командовал этой бригадой маленький, сухонький полковник, Герой Советского Союза. Вылитый Суворов. Говорил он тихо, почти ласково. Но подчиненные все его команды почему-то выполняли бегом.
Офицерские жены, накрутив с утра модные “халы”, разрывались на части. С одной стороны, безумно хотелось послушать любимую певицу, а с другой — сразу после концерта последует тихая, ласковая команда: “Наливай!”.
Где-то часа в два ночи после буйного застолья нас повезли на танкодром, показать, как молодые танкисты освоили приемы ночной стрельбы.
Первое, что мы увидели, выйдя из машины, был маленький походный столик. Все было готово к употреблению:
— Наумыч! Обижаешь! — И потом тихо и ласково: — По подвижным мишеням, трассирующими… огонь!
В четыре часа утра по приказу нашего полковника нас с Машей привезли в просторный одноэтажный дом. Выяснилось, что здесь всегда останавливался Геринг, приезжавший инспектировать войска.
Спальная кровать была сделана с учетом габаритов рейхсмаршала. Кастелянша постелила новенькое с вензелями накрахмаленное белье.
Сопровождавшие нас офицеры как по команде выхватили из карманов своих галифе нераспечатанные бутылки: “Сашок! Посошок!”.
Хорошо, что уснувшая Пахоменко не видела этого безумства.
Расставаясь, я потребовал, чтобы утром нас с женой непременно прокатили на танке Т-78.
Забравшись под воздушную перину, попытался найти Машу. Эта задача оказалась для меня непосильной. Спальный полигон напоминал по размерам танковый.
Ровно в восемь утра распахнулась дверь. Замполит, густо наодеколоненный и выбритый до синевы, громоподобно, как на плацу, прокричал:
— Танк подан!
В Вернсдорфе был наш прощальный концерт. Публика в зале была элитная — высший комсостав и даже сам Главком. Утром, в знак особого расположения, нам разрешили посетить генеральский секретный магазин.
Мы хотели подлататься и купить что-нибудь этакое. Хорошую обувь или оригинальное концертное платье для Маши. А дома с нетерпением ждала дочь!
Однако нам страшно не повезло. Накануне, после своего сольного концерта, в этом магазине побывала Людмила Зыкина. Извиняющиеся продавцы показали нам пустые полки…
Год 1975. Берлин. В Метрополь-театре праздник: премьера мюзикла ленинградского композитора А. Колкера “Свадьба Кречинского”.
Для настоящего театрала предвкушение премьеры, сплетни, просачивающиеся с генеральной репетиции или с прогона “для пап и мам” — это особый период жизни.
А если провал? Если гром оваций звучит только в твоей голове, а в зале три хлопка и снисходительные улыбки? Если артисты уходят со сцены “под топот собственных копыт”?
Нестрашно. Всегда можно найти оправдание. “Первый блин комом” или “спектакль, безусловно, дозреет”. Так рассуждает автор. А критика?
Театральные критики еще хуже музыковедов. Это у нас. А “у них”?
Если, скажем, американский критик, пользующийся доверием публики, пишет в рецензии, что спектакль не получился, зритель в театр не идет.
У нас — совсем другое дело.
Если критика, как взалкавшая волчья стая, набрасывается на добычу и, давясь от злобы, забрызгивает злорадной пеной газеты и журналы — беги в театр! Не ошибешься! Тебя ожидает яркий театральный праздник!
Мы бывали с женой во многих странах, где Кречинский “справлял свадьбы”. Но для рассказа я выбрал Берлин.
Нас поселили в маленькой затруханной гостиничке “Адлон”. Возле Бранденбургских ворот.
Завтра премьера, а сегодня в театре пресс-конференция. Я в центре внимания. Вопросы, как короткие пулеметные очереди:
— Вы впервые в Берлине?
— Нет.
— Хорошо устроились?
— Нет.
— Вы привередливы?
— Да.
— По национальности вы…
— Да.
— Эта красивая женщина — ваша жена?
— Да.
— Она русская?
— Да.
— Вы летели самолетом?
— Да.
— Вас укачивает?
— Не знаю, я спал.
— А что вам снилось?
И тут я дал волю своей фантазии:
— Мне приснилось, что главная площадь Берлина — Александерплац — названа в мою честь!.
Что здесь началось! Смех, оживление, гортанные немецкие возгласы. Перед ними сидел живой человек, так не похожий на официальный протокольный манекен совдеповского производства.
— Господин Кольке…, — наперебой кричали вокруг.
Я почувствовал себя “на коне” и уверенным жестом навел тишину.
Аудитория вопросительно замерла.
— Мое имя — Александр. А фамилия Колкер. Кольке — это не я.
Мои лингвистические нравоучения были напрасны.
В гостинице я включил телевизор…
Самые большие страдания я испытывал за границей. Композитор! Стыдуха! Может быть, по-английски? А по-французски? Ну уж, наверное, по-итальянски! Ведь это международный язык музыкантов! Что? Тоже ни бум-бум? Фантастика!
С немецким у меня было значительно лучше. Я учил немецкий в школе и “сдавал знаки” в институте. По крайней мере, в немецких магазинах меня понимали:
— Битте! — начинал я неуверенно. — Гиб мир дамен кофточку в рот полосочку! Только погутее! Пошонистей!
…С экрана неслась какая-то немецкая скороговорка, перемежаемая смехом. Из стремительного словесного потока мое ухо выловило три слова: Кречинский, Кольке и Александер-плац.
А вечером была премьера.
Вход в Метрополь-театр расположен в просторном овальном дворе. Когда я увидел мужчин в черных фраках, а женщин в дорогих мехах, мне почудилось, что сейчас подлетит лакированный лимузин и из него выйдет Адольф Гитлер с Евой Браун.
Перед самым входом аккуратные немецкие девочки в традиционных гольфах и приветливых улыбках вручали каждой даме алую гвоздичку. Одну.
Когда “увожаемый публикум” заняла в зале свои места, казалось, что одновременно зажгли тысячу красных лампочек! Вундербар! По-русски это значит — удивительно! Или восхитительно! Или лепота!
Пронзительно и трагично звучал оркестровый финал. Я видел на глазах слезы. У артистов, у музыкантов, у зрителей. Триумф!
Меня вызвали на сцену. Я долго раскланивался. Благодарил режиссера, актеров и дирижера. Зал притих и ожидал, что скажет советский композитор публике.
В моей голове отрывочно проносилось: Кольке, Александерплац, битте, дамен кофточку в рот полосочку… Не то, не то…
Набрал побольше воздуха и выкрикнул:
— Майне либер фройнде!
Овация. Занавес.
Год 1976. Сопот. Международный фестиваль эстрадной песни.
Композитор А. Колкер — член жюри от СССР;
Ирина Понаровская — певица, конкурсант;
Алла Пугачева — певица, показательные выступления — рецитал;
Станислав Горковенко — дирижер;
Геннадий Бойко — певец, представляет фирму “Мелодия”.
В Польше я бывал много раз. В первый раз ездили вместе с Машей “по комсомолу” в 1966 году. Запомнилось лишь одно — постоянное, как в блокаду, чувство голода. Кормили нашу делегацию в задрипанной студенческой столовке. Вместо супа давали луковую бурду. За столом четыре голодных комсомольца, на столе четыре ломтика серо-белого “пергамента”. Поляки уверяли нас, что это хлеб. По-польски “хляб”.
— Пани! Хляба! — неслось по столовой.
“Хляба” не давали.
На встречах с поляками Маша пела новую песню “Пан Ковальский”, которую я написал с Кимом специально для этой поездки.
…ведь пан Ковальский в Польше так же популярен, как в СССР товарищ Иванов!
Особенно нравилось полякам, как Маша произносила слово “гжетщность”.
…Чтобы добраться до Сопота, надо с варшавского аэродрома переехать на другой, маленький. Там погрузиться на допотопный самолетик. И, если количество взлетов будет равно количеству посадок, ты через час окажешься в столице международного песенного форума.
Стояла жара. Я был засупонен, как будто отправлялся в Гренландию. Строгий, застегнутый наглухо плащ. Строгий скучный галстук. Строгие черные полуботинки. Член международного жюри, представляющий великую державу, должен был выглядеть респектабельно. И я выглядел.
Вылет в Сопот задерживали. Член жюри от другой великой державы — США — закирял в каком-то варшавском кабаке. Найти его не удавалось. Я тихо плавился.
Но вот какой-то старомодный супер-“бьюик”, вспомнив молодость, с шиком подкатил к аэропорту. Прибыл американец!
Я приготовился к чопорному знакомству с коллегой.
Из авто вылез человек лет шестидесяти с плойками редких волос, босиком, в трусах и в ситцевой мятой бобочке. На американской груди топорщились седые заросли.
— Дай закурить, — обратился он ко мне, — жара, как на Дерибасовской! Слушай, — продолжал он фамильярно, — твой фейс мне явно знаком. По-моему, мы встречались на Привозе в Одессе…
Скудные злотые, выданные представителю великой державы, были истрачены в первый день. Я купил в “комиссе” дочери вельветовый костюмчик. Она просила.
Вечером ко мне в номер пришла вся наша гопа. Они приехали сюда днем раньше. Возглавлял компанию Костя Щербаков. Сейчас он первый заместитель министра культуры России, человек, пользующийся заслуженным авторитетом у артистов и музыкантов, художников и библиотекарей, а тогда пил здорово!
Страшной пожирающей силы смерч пронесся над моим столом. Коньяк, водка, икра двух цветов, обязательная в загранпоездках копченая колбаса. Короче. Утром я случайно обнаружил на полу пачку хрустящих хлебцев.
Смерть отступила.
По Сопоту ездил пикап. На его борту огромными буквами было выведено — “Алла Пугачева”. Поляки произносили Пугачева, делая акцент на втором слоге. Наша звезда капризничала. То горло, то мигрень. Ее выступление в рецитале с Кшиштофом Кравчиком было под вопросом.
Конкурсные концерты проходили в Зеленой опере, вмещающей тысяч пять поклонников этого вида искусства. Жюри располагалось в центре зала. Нас было много, больше двадцати человек. Все мужики. Перед нами стоял легкий элегантный стол, на котором заранее разложили программу выступлений — “кто за кем” и “кто есть кто”.
Я голосовал за наших изо всех сил. На концерте грамзаписей фирму “Мелодия” представлял Геннадий Бойко. Маленького роста, в смокинге с блестящими атласными лацканами, он смахивал на официанта.
За оркестровый пульт встал Стасик Горковенко, и на зал обрушился…
Театр в виде огромного амфитеатра расположен на морском берегу. В вечерние часы море щедро делится своим теплом. Музыка, роскошные дамы (все — “экстры” и “полуэкстры”), приближение ночи. Зал наэлектризован. В воздухе витает любовь…
…и на зал обрушился громоподобный, кондовый марш. Бойко пел, нет, Бойко орал про красное знамя, про комиссара, про кровь и смерть! Оркестр закончил фортиссимо — та-та-та-та!
Певец стоял с высоко поднятой рукой, как рабочий, оторванный от колхозницы из знаменитой мухинской скульптуры. Взгляд его был устремлен в космос!
В зале была тишина. Гробовая. Низко опустив голову, я незаметно проглотил большую таблетку валидола. По сцене, цокая каблуками, уходил за кулисы Бойко. Комиссар, рабочий, трибун.
Утром я не вставал. Я лежал в койке и неотрывно смотрел на авиабилет, который скоро унесет меня к моей Маше. Она накормит меня до отвала белорусскими драниками со сметаной…
А сейчас надо было лежать, чтобы экономить энергию. Один хрустящий сухарик утром и один вечером, перед сном. Тень голодного обморока повисла над моей кроватью.
Вечером был последний конкурсный концерт. “Гран-при” мы присудили нашей Ирине Понаровской. И по заслугам. А произошло это так.
На сцену вышло само очарование. Юная стройная красавица. Как бы в пику всем нашим “березонькам”, она была одета в легкое прозрачное шифоновое, или крепдешиновое, или крепжоржетовое платье. (Я в этом не разбираюсь.) Самое главное, что эта ткань была прозрачной. Мало того, она плотно обтягивала тело певицы. А тело было (О, Боже!) — голым!
На оркестровом вступлении Ира сделала непринужденный оборот вокруг своей оси, давая рассмотреть себя со всех сторон.
Стол жюри приподнялся…
Пение было явно лишним.
Вечером решили вмазать за нашу победу, сбросившись “на немецкий счет” по сто злотых. Сославшись на больную печень, я отказался и вышел на воздух.
Возле входа в отель стоял, держась двумя руками за стенку, бедолага Бойко.
— Какие суки! — пьяно твердил он. — Какие суки! Обидно, бля!
Год 1978. Байконур.
В космос запускали Джанибекова и Макарова. Перед запуском их привели на наш концерт. Космонавты сидели в отдельной ложе в белых марлевых намордниках. Чтобы избежать инфекции.
В Байконур, вернее в сверхсекретный город Ленинск, мы прилетели спецрейсом. При посадке в самолет московские спецслужбы устроили нам тщательную спецпроверку. Нас просвечивали, простукивали, фотографировали в фас и в профиль. Именно этот последний ракурс вызвал у спецслужб недоумение.
В нашу концертную группу, кроме нас с Машей, входили Павел Кравецкий (баритон) и инструментальное трио под руководством Марка Бека. В Ленконцерте его звали “племенной Бек”. В их паспортах гордо красовалось — “русский”.
Вокруг Ленинска — ковер тюльпанов. Количество тюльпанов могло соперничать лишь с количеством стратегических ракет, зарывшихся в пусковые шахты.
Я никогда не думал, что ракеты заправляют спиртом. Более того! Этот спирт можно пить! Но зрители, приходившие на наши концерты, ничего не замечали.
Стартовая площадка расположена в двадцати шести километрах от Ленинска. Это место и называется Байконур. Сейчас Ленинск переименован. Он теперь тоже Байконур.
Попасть на запуск было практически невозможно. Чтобы увидеть старт своими глазами из бункера командира космодрома, в редчайших случаях выдавался спецпропуск. Оформляли его заранее. Счастливчик становился на десять лет невыездным.
— Как же так? Быть в Ленинске и не увидеть своими глазами запуск?! — возмущался Колкер.
— К фигам! — возмущалась Пахоменко. — Десять лет не выпустят даже в группу войск, а из шубки дочка уже выросла!
Нас с Машей взял в свой личный автомобиль генерал-полковник, командир Байконура. Его машина с зашторенными окнами пролетала мимо охраны без остановки.
Мы увидели старт, и остались выездными.
В Ленинске наша концертная бригада жила в гостинице № 1. На первом этаже была едальня. Местные называли ее рестораном. После концертов всегда хочется есть. Все заказывали по два бифштекса. Натуральных. Один бифштекс помещался во рту сразу, целиком, без единого кусательного движения.
К нашему столу подошел пьяный рыжий майор.
В Ленинске “майор” был большой редкостью. По улицам сновали исключительно полковники.
Пьяный рыжий майор захотел пригласить жующую Машу на танец. Маша отказалась.
— Что, вы обожаете только евреев? — отрыгнул пьяный рыжий майор.
На следующий день нас пригласили в кабинет к командующему. Мы уезжали. Всем подарили памятные подарки. Передо мной и сейчас стоит макет ракеты из нержавеющей стали с дарственной надписью и фотография — Королев и Гагарин. Даже такие бесценные сувениры не могли погасить вчерашнюю обиду. Перед прощанием наш администратор, женщина решительная и опытная (про таких говорят — “баба с яйцами”), задержалась на минуту и рассказала начальству щ) выходку пьяного рыжего майора.
У трапа самолета к жене подошел наш обидчик. Он положил к Машиным ногам необъятный букет красных тюльпанов. На его плечах горели новенькие погоны старшего лейтенанта…
Год 1995. Круиз по Средиземному морю.
Евреи обожают русских певиц. Я это утверждаю со знанием дела!
В Израиле на гастролях были все и не по одному разу: Зыкина, Толкунова, Стрельченко, Шаврина. А Пахоменко не была. Ни разу. Я тоже не был ни разу и честно признаюсь, уже не рассчитывал побывать в местах обетованных. Почему-то стало совсем туго с деньгами.
Помните афоризм Рябкина — “ничего не известно!”?
Когда нет уверенности в завтрашнем дне, это прекрасно. Я вот совершенно не был уверен, что зазвонит телефон и наша любимая подружка Эра Куденко, передачи которой “С добрым утром” сорок лет слушает вся страна, скажет своим удивленным голосом:
— Саня! Ты хочешь с Маней и внучкой прокатиться по Средиземному морю? Моя приятельница работает в турфирме “Леотон-круиз”. Я все устрою. Ты хочешь, Саня?
Есть такой анекдот.
Одесский хор старых большевиков поет песню Соловьева-Седого “Где ж ты мой сад”. Солист задушевно выводит:
Хор отвечает синхронно, показывая большим пальцем назад, через плечо:
(Попробуйте повторить прочитанное с описанным жестом и еврейским акцентом, а лучше спеть — получится смешно.)
Он знает! Конечно, он знает! О таком круизе мы мечтали давно! Да еще с внучкой! Любимой Марией Пахоменко младшей! Фантастика!
Маршрут: Москва — Бургас (самолетом), Бургас — Варна (автобусом). В Варне загружаемся в белоснежный лайнер “Астра” и далее: Стамбул, Аланья, Родос, Кипр, Хайфа, Тель-Авив, Вифлеем, Иерусалим, Крит, Анталья, Москва!
За всю поездку один сольный концерт “Колкер-Пахоменко”. Остальное треп. То вечер знакомств “Под звездами”. То танцы на верхней палубе под жареного барана и оркестр. То “пиратский вечер”. То выборы “мисс круиз”. Главный заводила — обаятельный весельчак из Одессы. Александр Александрович, заслуженный артист. После круиза за мастерство и талаИт я ему присвоил народного!
Больше всего нам понравился “пиратский вечер”. Особенно внучке. На ужин в ресторан не пускали. Стоял кордон. Придирчиво следили, чтобы все были в пиратском прикиде. Фантазия не ограничивалась.
Кто экзотично одевался, кто экзотично раздевался — это ваше личное дело! Для строптивых отступников штраф. Пять “баксов”.
Я застебал всех.
У меня есть коронный номер (еще в школе научился у Сергея Беликова).
Делаю страшные вставные зубы. Рот деформируется. Лицо члена Союза композиторов Санкт-Петербурга превращается в рожу. Но какую!
Этого мне показалось мало. Я перевернул джинсы задом наперед. Спереди образовался пузырь, который минутой раньше обтягивал задницу. В этот пузырь я вставил банку кока-колы и обрел особую мужскую привлекательность. Аполлон Бельведерский! Нет, бери круче! Сам Зевс!
На корабле путешествовали два духовных лица. Высоченные, в сутанах и крестах, но с девушками. Я незаметно подсел в ресторане к их столику и нежно обнял одного из них. Раздался отчаянный крик. Батюшки стали истово креститься. Сгинь, сатана!
Кругом слышались женские возгласы:
— Нет! Вы посмотрите, что у него спереди! А потрогать можно?
— Очень даже! — отвечал я, оголяя при этом плечо, на котором красовался женский поцелуй алого цвета.
Когда корабль причаливал в очередном порту, многие устремлялись по лавкам, преследуя какие-то высшие стратегические цели.
Я же с двумя Машами действовал однообразно: на пляж, на море, откупать внучку и жену, а потом пешком на корабль.
Так было и в Хайфе.
Таксисты уткнулись носами своих “мерседесов” прямо в борт нашей “Астрочки”. Ждали клиентов. Выбираю самого приличного. Лет шестьдесят, очки в золотой оправе. Говорит по-русски тихо, доверительно. Видно, что не жлоб.
Спрашиваю:
— Можете довезти нас до пляжа?
— А то! — слышу родной оборот речи.
— Ехать далеко?
— Очень.
— Во что это нам обойдется?
— Я знаю? Он спрашивает, во что это им обойдется. А ни во что! Пятнадцать долларов…
Жара. Внучка. Решение принято. Заталкиваю своих Марусь на заднее сиденье. Сам сажусь с “водилой”.
— Кондиционер отдельно, — несмело пробует меня на зуб шофер.
— Тогда мы вылезаем! — решительно парирую я, открывая дверцу.
— Что вылезаю? Что вылезаю? Что, вы будете выпрыгивать на ходу? Я уже мчусь! Странный вы человек. Вы, наверное, новый русский?
Проехали мы метров пятьсот. Не больше.
— Все. Прибыли! — говорит мой интеллигент. — Когда за вами приехать?
Пятнадцать “баксов” как и не бывало!
Море в Хайфе сказочное. Температура воздуха — 30, воды — 32. Слышна исключительно русская речь. Мы разделись в тени под грибком и сразу же в море. Есть такая дурацкая фраза — народу больше, чем людей! Это про пляж в Хайфе. Куча детей, куча пап и мам, куча бабушек и дедушек и нас трое. И все в море!
Вдруг одна пожилая еврейка втыкает в Машино лицо пронзительный взгляд и, преодолев секундное сомнение, орет на весь пляж:
— Все сюда! Все сюда! Вы не поверите, но это наша Маша!
— Ой, и правда! — поддерживает ее что-то плывущее рядом.
Весь пляж в одно мгновенье окружает нашу троицу:
— Ой, и правда! Это наша Маша! Вы ведь Мария Пархоменко?
— Серость! Не Пархоменко, а Пахоменко! Пархоменко — это как раз герой гражданской войны, о котором ты плачешь по ночам! — слышу я откуда-то сверху.
— А вы, вероятно, Колькер?
— Нет, нет! Я не Колькер. Вы ошиблись! — говорю я, протискиваясь к берегу.
— Посмотрите на него! Он не Колькер!
— Слушайте, не морочьте всем голову! Конечно вы Колькер. Дайте я вас поцелую!
— Нет! Ни за что! — отталкиваю я какую-то пышногрудую даму, бюстгальтер которой напоминает чехол от танка. — Я серьезно болен!
— Ой! А как вы сюда попали?
— На такси, уважаемая, на такси! — отбрыкиваюсь я.
— А сколько он взял с вас от порта до пляжа?
Этот вопрос был главным, стержневым. Порыв злого любопытства и жажда расправы звучали в нем. Он застыл в едином возгласе всего пляжа. Так дружно задать такой вопрос мог только очень слаженный коллектив. Например, Академический хор ансамбля песни и пляски им. Б. Александрова!
Нас выдала внучка:
— Пятнадцать долларов.
Уверен, что даже Иуда не слышал таких проклятий. Но они раздались не сразу. Несколько секунд стояла тишина. Весь пляж молча и ошарашенно смотрел друг другу в глаза. А потом — взрыв! Справедливо возмущенные евреи кричали что-то непотребное в адрес моего “водилы”. Подытожила всю сцену дама в чехле от танка:
— Вы записали номер? Какая сволочь! Я его найду!
К нам подошла пара — муж и жена. Женя из Карелии и Лева из Белоруссии. С ними двое детей.
“Долго будет Карелия сниться…”. Это как пароль. До ночи мы были вместе.
Год 1995. Фестиваль “Золотой шлягер”. Могилев. Минск. Беларусь.
У них своя тусовка, а у нас своя.
Владимир Браиловский, директор могилевской филармонии, под своими знаменами собрал нашу тусовку. Неразлучные Нани Брегвадзе и Медея Гоглиашвили из Грузии; Нина Дорда, Галя Ненашева, Тамара Миансарова, Муслим Магомаев, Володя Трошин из Москвы; Мария Пахоменко, Эдуард Хиль, Саша Колкер из Петербурга; Юрий Богатиков с Украины; Игорь Лученок, Виктор Вуячич и Эдуард Ханок из Беларуси.
В залах, гле выступала наша компания, люди “рожали”. Так образно, одним словом, я передаю приветственные крики и гром оваций на наших концертах. Вот где было единение и объединение, родство судеб и родство душ.
Как будто людям надоели кислородные маски и они не могли надышаться!
Все объяснимо. Явно перекормили порнухой. Наступило удушье. Пришло время ретрухи.
Приведу остроумное суждение Миши Жванецкого по этому вопросу:
— Когда поют без штанишек, я не возражаю. Мне это даже нравится! Но где же мелодия?.
У нас с мелодиями был полный порядок.
На последнем концерте в Минске весь зал вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко пропел все мои шлягеры. Со словами.
Всего было восемь концертов и двенадцать банкетов.
Убийства бывают разные
Меня убивали трижды.
Может быть и больше, но три раза я помню совершенно отчетливо.
Первый раз, когда была запущена “утка” о моем побеге в Израиль. Об этом я рассказал.
Второй раз меня убивали физически. Меня убивал лось…
Свою оперу-фарс “Смерть Тарелкина” я разучивал с актером Большого драматического театра сам. Это мой принцип.
Некоторые композиторы являются в театр лишь на генеральную репетицию. Некоторые вовсе на премьеру. Ну и результаты соответствующие.
Георгий Александрович Товстоногов, приняв к постановке мою оперу, мурыжил меня еще два с лишним года, прежде чем разрешил приступить к музыкальным урокам.
Только потом мне объяснили, что мастер ожидал присвоения “Гертруды” — Героя социалистического труда. А такой острейший спектакль, как “Смерть Тарелкина” мог бросить гень на золотую звезду героя.
Мои уроки продолжались десять месяцев. За все это время Георгий Александрович ни одного раза не всунул свой необъятный нос в мой класс.
Товстоногов был не только выдающимся режиссером, но и умнейшим тактиком. Он просто мне не мешал.
Ему всё доносили. Доносили сами артисты. Материал им нравился. Им нравилось петь трудные арии и веселые музыкальные сцены, хоровые эпизоды и вокальные дуэты…
Премьера оперы состоялась 31 декабря 1983 года. В этот день завершился мой многолетний зруд над музыкальной трилогией.
Мама правду говорят!Эта фраза стала нарицательной после первого представления. Двенадцать лет спектакль в репертуаре Большого драматического театра им. Товстоногова.
…В июле 1983-го у меня образовалось”окно” — три свободных от репетиций дня. Маша посоветовала приехать к ней на дачу. Глотнуть свежего воздуха.
Я мчался по Таллинскому шоссе, предвкушая встречу с близкими. На всякий случай включил дальний свет. Скорость приличная. Километров сто-сто десять.
Возле поселка Куты, не доезжая Кингисеппа, на капот моей машины прыгнул лось. Бык весом пятьсот килограмм! Удар пришелся в передние стойки кузова, прямо в лобовое стекло. Крыша машины оказалась на багажнике.
Говорят, по ночам лосей гоняют волки. Лоси, спасаясь от волков, вылетают из придорожных кюветов на свет фар и убивают других ни в чем не повинных млекопитающих.
Я был весь в лосиной шерсти и в крови. Но судьба и низкий рост спасли мне жизнь. Надо признаться, что ростом я не вышел. Всего 162 сантиметра. Это утром, после сна. К вечеру — 161.
Когда по Каменноостровскому проспекту едет черная “Волга” без шофера, гаишники знают — это Колкер. Все в порядке!
Мне удалось удержать машину, больше напоминающую кусок искореженного железа, на шоссе. Никакого лося я не видел. Просто был сильнейший удар.
Мимо равнодушно проезжали легковые машины. Сочувственно качали головами водители. Испуганно таращили глаза пассажиры.
Подобрала меня одна семья из Ульяновска. Они путешествовали по Прибалтике. Границ тогда не было…
Все хлопоты по восстановлению автомобиля взял на себя Дмитрий Тимофеевич Воробьев — начальник станции техобслуживания. К нему в Кингисепп приехала Маша. Все было написано на ее лице.
— Мария Леонидовна, не думайте больше ни о чем, — сказал этот улыбчивый негромкий человек. — Езжайте к себе в Усть-Нарву и лечите мужа. Об остальном позабочусь я.
До сих пор убежден, что на периферии, подальше от столичного блеска, живут люди добрые и порядочные. Во всяком случае, их там значительно больше.
“Охотнадзор” прислал мне душевное письмо, где предписывал уплатить солидный штраф за погибшее животное. В письме содержалось также странное требование: перевести деньги почтовым переводом, то есть наличными. Безналичное перечисление “охотнадзор” не устраивал.
Чего же тут не понять. Пятьсот килограмм колбасы есть, а что налить в стаканы?
Слух о моей аварии взволновал многих. С удивительным единодушием звонившие задавали один и тот же вопрос:
— Что с лосем?!
В третий раз меня убивали по партийной линии.
На партсобраниях я спал. Но однажды проснулся. Это случилось в тот момент, когда секретарь партбюро Союза композиторов Ю. Зарицкий обозвал композитора Ивана Ивановича Дзержинского отребьем. За что? Да просто за то, что, будучи человеком пьющим, Иван Иванович платил партийные взносы нерегулярно.
По правде, это мало кого беспокоило. Страна не испытывала экономических трудностей и финансового недомогания от задержки столь мизерной суммы. Но партийный секретарь, бывший сотрудник совсем немузыкальной организации СМЕРШ (“Смерть шпионам“), а ныне член дружной композиторской семьи, негодовал.
Иван Дзержинский вошел в историю как автор многочисленных опер. Самая известная из них “Тихий Дон” со знаменитой песней “От края и до края…”.
Я попробовал за него заступиться и схлестнулся с самим секретарем партбюро! Пошел в Октябрьский райком партии и потребовал, чтобы Юрий Маркович публично извинился перед Иваном Ивановичем.
Вот тут-то и началось!
Мне ломали шейные позвонки несколько месяцев. Как посмел нарушить субординацию? Кто такой? Собрали экстренное партсобрание — “Персональное дело Колкера”. Создатели “маловысокохудожественных” произведений жаждали крови и требовали моего исключения из своих сомкнутых рядов. Вступился за меня Андрей Петров. Обошлось выговором.
Больше я на партсобраниях не просыпался.
В 1991 году Андрей Павлович напомнил мне, что я больше не желаю быть в первых рядах строителей коммунистического общества.
— Ты опоздал, — ответил я ему, — я уже…
Как бы не забыть, что…
…с Аркадием Исааковичем Райкиным я познакомился в 1970 году. Он пригласил меня написать музыку к спектаклю “Светофор”. От него я впервые услышал прекрасную формулу достижения успеха: “Надо утрудить себя!”.
Иногда он бывал у меня дома, на Черной речке. Здесь я показывал ему музыкальные эскизы к “Светофору”. Слушал он как-то рассеянно, но схватывал всю суть с первого раза.
Усталый немногословный артист преображался, когда в комнату входила Маша. Улыбка разливалась по его лицу, глаза молодели. Через минуту его было не узнать. Вялые междометия незаметно переходили в пространные сентенции. И вот перед нами уже не просто Райкин, а великий артист, неповторимый Аркадий Райкин! Когда он играл, он начинал излучать энергию притяжения. Даже в домашней обстановке.
Позже я подружился со всей его семьей. Костя Райкин блистательно сыграл главную роль в моем киномюзикле “Труффальдино из Бергамо”.
И хотя он пел голосом Миши Боярского, но актерская игра и пластика! Так владеть своим телом не может никто! Разве что Майкл Джексон!
Семидесятилетний юбилей Аркадия Исааковича отмечался в скромном маленьком зале Дворца культуры и техники им. Первой пятилетки. Большой зал “Октябрьский” был, конечно, не для него, всемирно известного и всенародно любимого артиста!
В свое время Райкин вынужден был переехать в Москву, потому что не вынес безмерного “обожания” ленинградской партийной номенклатуры.
Тогда, к его юбилею, я написал поздравление. Первая часть на мотив песни “Качает, качает…”, а вторая — на мотив “Стоят девчонки”. Вышел на сцену, сел к роялю и пропел:
…Актеры народ пьющий. Интересно, есть ли официальные данные, какой процент населения, а точнее, какая доля процента населения всей страны не пьет?
В 60-е годы пальма первенства в этом “жанре” бесспорно принадлежала театру им. В. Ф. Комиссаржевской.
В то время я писал музыку ко многим спектаклям этого театра и изучал “жанр” изнутри, активно участвуя в самом процессе.
Достаточно назвать фамилии таких бойцов, как Иван Дмитриев и Игорь Дмитриев, Сергей Боярский (отец Миши) и Николай Боярский, Илья Олыивангер и Иосиф Ционский. Последним в шеренге, где-то “на шкентеле”, стоял я. Начинающий алкаш — “юнга” Колкер.
Некоторые артисты позволяют себе допинг перед спектаклем. А чем они, собственно говоря, хуже спортсменов?
Спектакль начинался так: сад, ночь, луна, скамейка. На скамейке сидит артист (фамилию не называю, он жив и любим театральной публикой).
Артист должен произнести возвышенный, захватывающий зрительный зал монолог.
Артист пришел в театр загодя. Сделал грим и… успел накушаться. Однако за несколько минут до поднятия занавеса занял свое место на скамейке. Все готово к началу спектакля.
— Ваня на месте?! — кричит помреж. — Занавес!
Ваня храпит.
— Как играет! Как играет! — восторженно перешептывается публика.
Ваня храпит.
Раздаются сдержанные благодарные аплодисменты.
Ваня просыпается.
Оглядевшись, обнаруживает, что он в ночном саду. Ну что ж, дело обычное! Поежившись, подходит к дереву и расстегивает ширинку…
Помреж дал занавес. Занавес, как известно, закрывается медленно.
…Юрий Васильевич Силантьев сначала был скрипачом. Потом стал дирижером. Многие годы он руководил эстрадным оркестром Всесоюзного радио и телевидения. Целая песенная эпоха связана с именем этого музыканта.
Внешне он мало походил на дирижера. Грузный, немного сутулый, слегка косолапивший. Очки плохо сочетались с его круглым русопятистым лицом. Изъяснялся он односложно и приземленно, без высокого политеса.
Были у Юрия Васильевича две страсти — музыка и книги.
У его жены Ольги Васильевны была одна страсть — ее муж.
Ольга Силантьева была когда-то балериной. От этой профессии у нее осталось только красивое лицо. Остальная часть ее массивной фигуры плохо увязывалась с искусством Терпсихоры. Она везде и всюду сопровождала мужа. Репетиция, концерт, зарубежные гастроли — Оля рядом. Заботливая жена и телохранитель.
Она никогда не расставалась с большой дорожной сумкой, наполненной всякой вкуснятиной. Стоило Силантьеву бросить на пульт дирижерскую палочку и объявить перерыв, как перед его носом возникала тарелка горячих пельменей. Оля была всегда начеку!
Юрий Васильевич сумел объединить вокруг своего оркестра большинство композиторов и исполнителей. К нему тянулись. От него многое зависело.
Песенные концерты из Колонного зала Дома союзов ждала вся страна. Участие в таком концерте было престижно для любого музыканта и певца.
Репетиции были долгими и изнурительными. Да это и понятно, за вечер оркестр исполнял тридцать-сорок песен.
Силантьев не делил людей по рангам и званиям.
— Клава, подожди маленько, — говорил он в зал Клавдии Ивановне Шульженко, — я сейчас отрепетирую с Машей Пахоменко, она пришла раньше, а потом с тобой.
Если какой-либо композитор, утомленный собственным величием, начинал брюзжать, что ему некогда, Силантьев держал его до конца репетиции.
— Приходи завтра к девяти утра, — говорил он, — будешь первым.
Приговор был окончательным.
Меня с Машей Юрий Васильевич любил. Он записал в фонд радио все мои песни. Маша долгие годы работала с этим оркестром. Гастролировала “у нас” и “у них”.
После концерта Силантьевы шли домой пешком. Этому правилу они никогда не изменяли. Юрий Васильевич спереди, Ольга Васильевна на пару шагов сзади. Шли молча. Отдыхали.
Как-то Юрий Васильевич, глядя на жену и хитро улыбаясь, тихо шепнул мне: “Саня! Как бы я хотел, чтобы на мою Олю вечером, когда мы топаем домой, напали бандиты. Но не больше четырех! Вот я бы посмеялся!.”.
…У меня есть товарищ. Мы знакомы с незапамятных времен. То, что может Миша Баскин, не может никто.
Вы можете организовать фестиваль музыки ленинградских композиторов в Красноярске? Нет? А он может. Вы можете сделать уникальную реставрацию старинного петербургского особняка? Не можете? Ах, не пробовали? А он может. Вы могли бы тридцать лет заниматься самой черновой и неблагодарной работой в творческих союзах? И не дай вам бог!
Среди моих коллег есть такие, которые с молоком матери усвоили основной жизненный постулат: во что бы то ни стало надо влезть в ПРЕЗИДИУМ. Неважно в какой! Президиум собрания, президиум пленума, президиум съезда. Важно сидеть в Президиуме. И тогда машина работает безотказно.
Если твоя аккуратно подстриженная бородка еле выглядывает из третьего ряда, но третьего ряда Президиума — ты в порядке!
Тебя издают, тебя исполняют, у тебя покупают, тебя привечают на телевидении, тебе зазывно улыбаются редакторы радио. Тебе хорошо живется!
Пересесть из третьего ряда Президиума во второй для такого индивидуума становится смыслом жизни. Он точно знает, что это незатейливое физическое перемещение принесет ему новые и весьма ощутимые удовольствия.
Человек, о котором я рассказываю, никогда в Президиум не лезет. Он обладает здравым и цепким умом. Он сам признает: “Мое место за кулисами”.
Одно дело надувать щеки, а другое — делать дело.
Постепенно в нашем сознании начинают укореняться новые критерии, такие естественные для нормально мыслящих людей. Ты можешь хорошо делать свое дело? Низкий тебе поклон и всеобщее уважение!
А на что ты способен, кипучий бездельник? Пускаешь пыль в глаза и начальственно надуваешь щеки? Столько и получи от жизни.
На музыкальном жаргоне — “отсоссандо каприччиозо”.
…У меня есть соседи Лена Кислик и Павел Ватник. Муж и жена. Когда-то они вместе закончили наш “спортивно-музыкальный вуз” и, в отличие от меня, сохранили верность своим профессиям.
Павел — доктор наук, профессор Санкт-Петербургской инженерно-экономической академии, человек энциклопедических знаний, тонкий художник и незаурядный поэт. Он приходит мне на помощь в самых неожиданных ситуациях.
— Павел Абрамович! Испытываю затруднение. Разгадываю кроссворд и не могу ответить на вопрос: “Главный гистолог Новгородской области в период с 1980 по 1985 годы”.
— Ну, это довольно просто. Пиши. Чебышев.
Малая техническая оснащенность моей квартиры вынуждает меня постоянно тревожить соседа:
— Павел, у тебя есть…
— Конечно, — перебивает меня Ватник.
— Одолжишь?
— Заходи!
Когда я писал музыку к спектаклю Театра им. Ленсовета “Малыш и Карлссон”, я решил, что со стихами к песням лучше всего справится Паша Ватник. Он, в свою очередь, пригласил двух своих друзей-лэтишников А. Виролайнена и Ю. Ноткина. Эта троица написала трогательные и ироничные стихи. Я написал талантливую музыку. Режиссер Нора Райхштейн поставила талантливый спектакль.
Первый Малыш — Алиса Фрейндлих, первый Карлссон — Анатолий Равикович. Идут годы. Прилетают новые Карлссоны, рождаются новые Малыши. Спектакль живет. Двадцать восемь лет (!) спектакль в репертуаре театра.
…У директора Театра эстрады Людмилы Вальчук был юбилей.
В тот вечер в зале собрались свои. Эстрадные актеры, писатели-сатирики, певцы, танцоры, композиторы, жонглеры, иллюзионисты — все те, чья жизнь так или иначе связана с этим уютным и популярным у горожан театром.
Ведущий программу концерта Коля Поздеев объявил голосом циркового шпрехшталмейстера:
— К роялю приглашается заслуженный деятель искусств России, композитор, чьи песни мы любим и поем, чьи мюзиклы мы смотрим и слушаем, Александр Колкер! Встречайте!
Я прошел мимо распахнутого рояля, подошел к микрофону и прочел стихи собственного сочинения.
Людмиле Вальчук
…Я не знаю, как правильно произносится по-татарски: “перемечь” или “перемец”. Но я точно знаю, что эти вкуснейшие шаньги с мясной начинкой, обильно политые сметаной, вкуснее всех готовит Раиса Федорова, жена композитора и оркестровщика Владимира Федорова, мать известного кларнетиста, солиста Заслуженного коллектива республики Адиля Федорова.
Если к старости у меня образовался небольшой живот, так это от райкиных “перемечь” или “перемец”.
…когда настали тяжкие для нашего брата времена, я посмотрел на себя в зеркало и подумал: “Собственно, почему мне не заняться коммерцией? Неужто я хуже моего друга Кобзона?”.
Начинать на ровном месте свое дело было страшно. И не столько страшно, сколько непонятно — с чего начинать? Надо было к кому-то приткнуться, а потом уж, набравшись опыта…
Я решил приткнуться к Сергею Осинцеву.
Когда-то он работал в Ленконцерте администратором. Тогда мало кто мог предположить, что под скромным администраторским свитером бьется сердце талантливого бизнесмена. Однако новые времена рождают новых русских. Жизнь менялась на глазах. Все устои летели кувырком. Надо было быть изворотливым, чтобы какой-нибудь устой не придавил тебя. Чувство удивления стало главным чувством моего бытия.
Сергей Осинцев улетел в Париж всего на несколько дней. А вернулся в Россию графом!
Я полагал, что титул графа российского можно получить только на российской земле. Ан нет! В голову полезли шальные мысли. А может, мне слетать в Израиль и отхватить звание дворянина? Нет, лучше князя!
Рожденный ползать — летать не может. И я не полетел.
Я сел в метро и приехал в фирму “КЭТ” графа Сергея Осинцева. Фирма располагается в центре города в старинном трехэтажном особняке.
Если уж делать, так по-большому!
Граф был занят. Секретарша предложила мне перелистать альбом с фотографиями, чтобы скоротать время.
Мама родная! Анатолий Собчак и Эдита Пьеха, Владислав Стржельчик и Алиса Фрейндлих, Роман Виктюк и Елена Образцова, Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Наконец, сама Марина Капуро! Я перечислил лишь малую часть элиты. Все почитали за честь запечатлеть себя вместе с графом!
Мелькнула мысль: может, это фотомонтаж? Нет, это сущая правда!
И вот меня приглашают войти в кабинет к их сиятельству. Вхожу. Стараюсь не робеть. Перед глазами видение. То Собчак, то Капуро, то Собчак, то Капуро.
— Я, собственно, граф, к вам по делу…
— Слушаю вас, — говорит незлобиво Осинцев.
— Я сейчас видел альбом, где вы сфотографированы со своими близкими… Ну, это… Если вы будете затевать какое-нибудь новое дело, не возьмете ли вы меня, граф, компаньоном? Или акционером? Мне не принципиально название, лишь бы побольше были дивиденды. У меня в семье три женщины… А я один…
— У вас просто чутье, Александр Наумович! — отвечает Сергей. — Я как раз откупил в центре на Караванной улице большой подвал и собираюсь там открыть очень уютный, но очень презентабельный…
— Я согласен! — завопил я фальцетом. — Вот мой первый взнос! Нет, нет! Пересчитайте! Ровно одна тысяча долларов!
— Но я без расписки взять ваши деньги не могу! — скокетничал граф.
— Ваше сиятельство! Какие расписки? Чушь собачья! Мы живем с вами в одном городе. У нас с вами огромный круг общих знакомых! Берите! Говорю вам, берите! Я настаиваю!!
Осинцев взял “баксы”, взглянул на меня каким-то сумасшедшим взглядом и, понизив голос, спросил:
— Вы не могли бы найти еще человек двадцать, таких же как вы?
— Я постараюсь… Но зачем? Ведь так нам больше достанется прибыли, — перешел я на такой же конспиративный тон.
— Действительно! — подхватил Осинцев. — Как же я сам не усек такую простую мысль! Да вы, Александр, настоящий коммерческий гений. Перспективнейший компаньон! Я бы на вашем месте бросил сочинять музыку и целиком отдался бизнесу!
Услышав такой дифирамб в свой адрес, я выхватил из кейса монографию “Александр Колкер” и, в знак признательности за грядущее материальное благополучие, благодарно написал:
Их сиятельство взошло, а материальное благополучие моей семьи, увы, закатилось. Через неделю граф поставил мне ультиматум: “Или еще пять тысяч “баксов”, или вы туг же вылетаете из дела. Желающих на ваше место — море. Расходы на постройку ресторана космические. Вносите деньги. Все окупится сторицей! Чтобы получать, надо вкладывать! Через год вы запросто сможете полететь всей семьей в Южную Африку или в Гваделупу. Выбирайте сами!”.
Пришлось кое-что продать. Немного удалось подзаработать концертами. Ликвидировал сберкнижку. Дело есть дело! Ровно через неделю дрожащими руками вручил означенную сумму Сергею Викторовичу.
Спустя год меня пригласили на собрание акционеров ресторана “КЭТ”. За богато накрытым столом сидело человек тридцать незнакомых мне людей. Из знакомых была одна Капуро. Улучив момент, спросил ее мужа:
— Юра, вы акционеры?
— Что я, идиот! — огрызнулся Берендюков. — Я слишком хорошо знаю Осинцева!
Внутри что-то оборвалось…
Граф предложил сначала всем подкрепиться. Услужливые официанты не скупились. Наливали в фужеры. Когда акционеры стали смотреть осоловевшими глазами, над столом нависло что-то дородное с вульгарным красным ртом и копной черных волос.
— Мой заместитель по финансовой части, — произнес граф трезвым голосом. Раздались аплодисменты.
— Уважаемые акционеры! — начала мадам. — Ваш ресторан…
Здесь она сделала паузу, чтобы насладиться произведенным впечатлением.
— О чем это я? Ах, простите! Ваш ресторан не окупил еще расходы на строительство.
Дальше из красного рта забулькали цифры. Люди стали клевать носами. Я проснулся на последней фразе:
— Принимая во внимание все вышеизложенное, должна официально сообщить, что выплата дивидендов в соответствии с размером ваших взносов откладывается еще на полгода.
К этому времени меня окончательно развезло и я заорал через стол:
— Ваше сиятельство! Предлагаю вам за небольшое вознаграждение “крышу”!
— Не понял?! — изумился граф, измерив меня глазами.
— Чего же тут не понять? Рискую жизнью и иду на подвиг! Ради нашего общего дела!
— Не отдаст! — пилили меня домочадцы. — Такого идиота поискать надо!
Они ошиблись. На Руси графья всегда отличались благородством. Мой пай мне фирма “КЭТ” возвратила. Даже с мизерным наваром.
На этом я с коммерческой деятельностью завязал…
“Целуй меня, КЭТ!”.
“… если меня угнетают какие-то жизненные невзгоды и я не могу с ними справиться, я считаю, что они не существуют. Их просто нет.”
Зинаида Иванкович, редактор телевидения и большая умница
…Как-то Роман Карцев удачно заметил: “Если артиста не показывают по телевизору, значит, сидит!”.
Действительно. Такая нынче эпоха.
Можно с успехом выступать всю жизнь на эстраде, можно десятилетия работать на театральных подмостках, но если тебя не показывают в этом “волшебном ящике” — тебе крышка. Страна тебя не узнает. Примеров тому не счесть.
И наоборот. Одно яркое выступление в “Голубом огоньке” — и певец утром просыпается звездой. Так было с Муслимом Магомаевым.
А как же сегодня завоевать свою ступеньку в искусстве, как сохранить известность и не испытать горечь забвения?
Здесь я могу предложить на выбор три варианта.
Первое.
Надо быть богатым. Очень богатым!
Тогда ты можешь купить себе время в телевизионном эфире и периодически напоминать о себе. Жив, курилка! А главное — не сидит!
Второе.
Можно умереть.
Тогда голубой экран посвятит тебе (может быть посвятит) минут двадцать. Дескать, ушел преждевременно из жизни такой-то. А как мы его любили! Какой весомый вклад он внес в национальную копилку нашего российского искусства! Как правило, этим все и заканчивается. И никто никогда не признает, что преждевременный уход из жизни состоялся задолго до смерти физической. Сняли с эфира — и привет!
Я умышленно не привожу конкретные примеры, для этого надо было бы удвоить объем печатных листов издания.
Третье.
Надо покинуть свою страну. Свалить в дальнее зарубежье. Ближнее не считается. Уезжать желательно в ореоле великомученика. Мебель продана. Квартира пуста. Ты сидишь на соседской табуретке…
Как можно пропустить такое несчастье?!
Толпа телевизионных див с передвижной съемочной аппаратурой врывается в квартиру. Ты смотришь в телеобъектив отсутствующим, а лучше этаким скорбным взглядом. У зрителя должно быть ощущение, что ты присутствуешь на собственных похоронах. Телеоператоры передвигаются бесшумно, чтобы не потревожить “усопшего”. Страна в трауре…
Лучше уезжать не сразу, а постепенно. Тогда время пребывания на телеэкране можно растянуть на несколько дней! Тогда твой образ сохранится в памяти народной, пока…
…пока ты не вернешься назад! И вот здесь надо не промахнуться!
Ты не просто возвращаешься. Нет! Ты даришь себя России! Народу!
И вот те же телевизионные дивы встречают тебя в аэропорту (на вокзале). Опять ты в центре внимания! Все телеканалы дерутся между собой за право первыми показать этот счастливый для страны миг! Советую тебе виновато улыбнуться соотечественникам, смахнув скупую слезу. Волнение переполняет тебя! Слова застревают в горле!
Может быть, ты вернулся назад навсегда, к “первой жене”, отдавшей тебе всю жизнь? Нет! Ты периодически будешь смываться к “любовнице”, ибо там теперь твое постоянное место жительства. Как говорится, “пардон муа”. Дело сделано. Ты снова надолго становишься героем “волшебного ящика”.
И тут я задаю вам вопрос.
Вы много знаете женщин, которые так ласково и заботливо, так подобострастно и хлебосольно встречают своих сбежавших мужей?
Я не имею в виду тех истинных художников, писателей, музыкантов, которым в прошлые годы был перекрыт кислород по прихоти власть предержащих. Иосиф Бродский даже мертвый не простил своим палачам!
Я говорю о современных “челноках от искусства”.
Жить там. Делать деньги здесь.
Их много. Целая когорта. Речь сейчас не о них. О них чуть позже. Речь о “первой жене”!
Что же ты такая продажная? Такая неразборчивая? Что же ты тянешь в свои теплые объятья весь этот “маловысокохудожественный” хлам?
Воткни любую кнопку и в твой дом уверенно и нахально влезает эта публика.
Вот шестидесятилетний изрядно потасканный ловелас. Необъятное пузо. Под глазами мешки. Художественно выстриженная щетина на сальном подбородке. Все это придает ему особое очарование. Рядом две видавшие виды “поганки”, мол, их патрон еще ого-го!
Вот дама не первой свежести. Транспаранты с ее именем, как финишные ленточки, натянуты между домами, закрывая от горожан и без того скупое петербургское солнце. Чем же завлекает эта “суперзвезда”? Да все то же. Такая же блатная отрыжка.
Груди вынесены наружу до самых сосков. Это помогает раскрытию художественного образа исполняемых “шедевров”. А песни? Может, в них просматривается композиторский поиск? Может быть, в стихах есть хотя бы маленькое открытие? Может быть, они только твои, выстраданные твоим сердцем?
Ошибаетесь. Тот же кабак! Но кабак низкого пошиба. Хотя в этом жанре есть свои вершины.
— Почему же вы покинули страну? — сочувственно спрашивают эту диву молодые журналисты.
— Так я ж диссидентка! Братцы! — весело врет звезда.
В телестудии хохот. Действительно, не сдержаться!
Включаю телевизор. Идет популярнейшая передача. Объявляется музыкальная пауза. Ба! Знакомые все лица! Мой земляк! Прямо из Америки, из третьесортного кабака на молодежный ринг! Моложав, подтянут, густая черная шевелюра. Нет, кажется, ошибся. Это парик. А вот и новинка — нафабренные черные усы. Этого раньше не было. Ну, здравствуй, земляк! Чем порадуешь?
С трудом попадая в “фанеру” (так называют заранее записанную фонограмму песни с голосом и оркестром), земляк выдает на гора знаменитый “Чубчик”.
Вероятно, такое музыкальное блюдо продумано заранее. За столами идет сражение высочайших интеллектуалов, в студии собрано будущее страны, а на подиуме…
Вспоминается анекдот.
У жены короля парфюмерии Коти шкаф был забит всевозможными изысканными духами, пудрой и дорогим туалетным мылом. Стандартная ситуация: когда неожиданно явился муж, она затолкала своего любовника в этот самый шкаф. Несчастный держался, сколько мог. Но тонкий запах дорогой парфюмерии все же доконал его.
— Мадам! Умоляю! Кусочек говна! — жалобно попросил он, вылезая из укрытия…
Эх, “первая жена”! Горько!
…На петербургском радио есть маленькая комнатка. Там сидит хрупкая женщина. Перед ней большие часы с секундной стрелкой. Тусклое название “Техконтроль” не соответствует серьезности происходящего здесь действа. В обязанность хрупкой женщины входит непрерывное прослушивание всех передач, выходящих в эфир по ГТС (городской трансляционной сети).
Все оговорки, все ляпы фиксирует дотошный техконтроль, записывая точно до секунды время и автора радионакладки.
Музыка передается в записи на магнитную ленту. Неожиданности здесь практически исключены. А вот дикторы, работающие в живом эфире…
— На Дону начались весенние половые работы.
— В зоопарке на площадке молодняка появились: львята, медвежата, волчата, негритята… (Строгач с занесением в учетную карточку.)
— Дорогие радиослушатели! Сейчас артист Ростропович исполнит соло на артистке Вишневской!
— В овощные магазины нашего города поступили бананы и ананы… Простите. Ананасы и бананасы.
— Композитор Дюбюк. Птючки.
Шла прямая трансляция из аэропорта Пулково. Президента Югославии после долгих лет противостояния встречали ответственные работники Ленинградского обкома КПСС. Иосип Броз Тито и сопровождающие его лица спустились по трапу. Ковровая дорожка. К микрофону подходит партийная шишка:
— Мы приветствуем дорогого товарища Иосипа Броз Тито и всю его клику! (Такое не наказывалось.)
— Прослушайте русскую народную песню “Я на кумушке сижу”.
…В 1974 году мы купили избушку в Нарва-Йыэсуу, что значит Усть-Нарва. Этот эстонский курорт расположен при впадении реки Наровы в Финский залив. Божий рай! По-другому это место не назовешь. Напротив нас через лужайку небольшой одноэтажный дом, в котором до последних своих дней жил Евгений Александрович Мравинский. Он был великим дирижером и заядлым, “патологическим”, рыбаком. Часов в шесть утра с удочками на плече, в кепке с огромным козырьком он отправлялся на речку. В это же время мы с Машей — заядлые, “патологические”, грибники — отправлялись в сосновый бор за рыжиками и маслятами. Вечером все встречались за гостеприимным столом у местного хирурга с веселой фамилией Волченок.
Маэстро был уже не в лучшей своей форме. Обычно, пропустив рюмку, он пристально смотрел на сидящую рядом Машу и за весь вечер говорил одну фразу:
— Как печально зачесаны у вас, Машенька, волосы…
Когда-то в Усть-Нарве отдыхали Н. Лесков, П. Чайковский, И. Северянин, Саша Черный. Позже курорт стали осваивать “утесовцы” — В. Людвиковский, Н. Носов, Ш. Абрамидзе. Потом появились М. Пахоменко, И. Понаровская, А. Колкер.
Сейчас, когда пришли новые времена и наше материальное положение стало обратно пропорционально нашей популярности, на первый план среди жителей поселка городского типа вышли два замечательных армянина. Коля Карапетян и Ованес Цамоникян. Они богаты, хлебосольны, любят жизнь, любят своих детей, любят застолье, а главное, любят соседей по даче.
Вот уже несколько лет я гадаю, кому из них отдать пальму первенства в искусстве приготовления шашлыков и люля-кебаб.
Я люблю ездить с Ованесом на рынок (в качестве наблюдателя). Надо видеть, как он выбирает и покупает мясо:
— Скажи, дорогой, почему ты так дорого просишь за эти жилы и кости? Что, твой баран был дистрофиком? Да?
— Как фам не стытно! Я его, эгго, кормил таже слишком!
— Уважаемый! Не надо песен! Я в этих делах профессор! Беру у тебя весь этот бросовый товар, но за полцены! Да?
— Эгго неприлично! Как так мошно?!.
Но сумки наши уже набиты первосортной бараниной и мы отправляемся за овощами и зеленью.
Никакой ругани, никаких скандалов, полнейший консенсус!
И если между Эстонией и Россией пробежала черная кошка, то Коля и Ованес в этом совершенно неповинны. Они изо всех сил укрепляют экономическое благосостояние эстонских земледельцев и животноводов.
За столом собирается вся округа. Гвоздь программы — дымящийся мангал! Первый тост — за сказочный уголок эстонской земли. За Нарва-Йыэсуу.
Божий рай!
Виталию Соломину — постановщику и исполнителю главной роли в мюзикле “Свадьба Кречинского”. (на мотив песни “Зависть”)
…Не так давно я закончил работу над оперой “Гадюка” по рассказу Алексея Толстого (либретто А. Колкера и В. Панфилова).
Замысел этот я вынашивал лет пятнадцать. Записал оркестровую фонограмму в студии звукозаписи нашего Союза композиторов. В этом непростом деле мне помог Станислав Бажов, тонкий музыкант и сердечный человек.
Некоторые считают, что я переносил плод. Что эта тема в далеком прошлом. Подобные суждения высказывались и в адрес моей трилогии. Мы это уже проходили. Ким Рыжов в таких случаях говорит: “Не влияет роли!”.
Нынешние режиссеры как-то очень узко трактуют понятие “современность”. Даже в русской классике они норовят раздеть артистов догола, соревнуясь с “поп”-артом.
Идея моей оперы выражена двумя словами. Трагедия женщины.
Моя “Гадюка” не может вписаться в нэп — тот или нынешний. Она сама сводит с жизнью счеты.
Я показывал оперу в некоторых театрах.
— Александр Наумович! А нельзя ли вашу “гадюку” все-таки немножко раздеть? — спрашивал меня очередной театральный “новатор”.
Беру клавир и молча ухожу.
Но я верю в свою “Гадюку”. Я в нее влюблен. Все образуется.
Ким Рыжов в таких случаях говорит: “Продукт непортящийся!”.
Кода
Перечитал написанное и усмотрел в своем повествовании некоторую нескромность. А нас всю жизнь с детских лет учили совсем другому.
Опять высовываюсь! Как дурно!
Моя нескромность может быть выражена и по-иному: “Композитор тепло отозвался о своих сочинениях!”.
Но существует вечный, беспристрастный и единственный критик — его величество Время! (Чуть не написал — рабочий класс!)
Мои театральные работы — долгожители. Они не сходят со сцены по двадцать-двадцать пять лет. А когда я сегодня выступаю в концертных залах, будь то фестиваль “Золотой шлягер” или скромная встреча с учителями Ивангорода, происходит самое важное и дорогое для меня: зал вместе со мной увлеченно поет “Карелию”, “Качает, качает…”, “Опять плывут куда-то корабли”, “Стоят девчонки”.
Не хочется, чтобы обо мне сложилось ложное представление, мол, композитор Колкер просыпается часов в двенадцать дня и, выпив чашечку горячего шоколада, погружается в музыкальные грезы. Фигня!
Я — шофер, электрик, сантехник, доставала, кухарка, нянька, а уж потом…
Моей внучке исполнилось только восемь лет. Это совершенно очаровательная блондинка “с голубыми глазами озер”.
Надо поставить ее на крыло. Удачи вам, Александр Наумович!
Наши пути пересекались
Ш. Абрамидзе
Н. Брегвадзе
Р. Агамирзян
А. Броневицкий
Н. Акимов
Ф. Брук
Б. Александров
Я. Вайсбурд
Г. Алексеев
Л. Вальчук
В. Атлантов
П. Ватник
А. Ахундова
Е. Веврик
А. Бадхен
Р. Виктюк
М. Баскин
А. Виролайнен
В. Бегма
С. Витензон
М. Бек
Г. Вишневская
С. Беликов
И. Владимиров
А. Белинский
М. Водяной
Я. Бердичевский
Н. Вологжанин
В. Бесценный
К. Волченок
Н. Бирман
В. Воробьев
М. Блантер
Д. Воробьев
А. Боголюбов
В. Вуячич
Г. Бойко
В. Гаврилин
А. Болдырев
Ю. Гагарин
Г. Боровик
А. Галич
М. Боярский
Н. Ган
Н. Боярский
В. Геллер
С. Боярский
М. Гиндин
М. Гоглиашвили
С. Горковенко
Д. Гранин
A. Грибов
Ю. Гуляев
B. Джанибеков
И. Дзержинский
Ив. Дмитриев
Иг. Дмитриев
Н. Дорда
В. Драгунский
В. Дреер
И. Дунаевский
B. Евстигнеев
Г. Егоров
Ю. Ермаков
М. Жванецкий
C. Жданова
Ю. Зарицкий
А. Знаменский
A. Золотов
B. Зосимовский
Л. Зыкина
З. Иванкович
B. Игнатов
И. Ильф
Д. Кабалевский
A. Камчугов
М. Капуро
Н. Карапетян
Р. Карцев
Е. Каслов
И. Кашежева
C. Кирсанов
Е. Кислик
Л. Клемент
И. Кобзон
Г. Колкер (Герасимова)
О. Колкер
Э. Колмановский
К. Кондрашин
B. Константинов
B. Копылов
A. Королев
П. Кравецкий
К. Кравчик
М. Крайндель
М. Кристаллинская
C. Крупник
Э. Куденко
Л. Куклин
B. Кунин
Т. Курбангалеев
B. Лебедев
Ф. Лей
А. Линдгрен
А. Лукашенко
C. Лунгин
О. Лундстрем
П. Луспекаев
И. Лученок
В. Людвиковский
М. Магомаев
О. Макаров
Г. Мамлин
О. Мамонтов
И. Масленников
Г. Махов
B. Мережко
Т. Миансарова
C. Михалков
Е. Мравинский
Р. Мурадян
Ю. Надсон
A. Найденов
Г. Ненашева
Е. Нестеренко
B. Нечаев
Л. Норкин
Г. Носов
Н. Носов
Ю. Ноткин
Е. Образцова
И. Ольшвангер
C. Осинцев
Н. Охлопков
М. Ошеровский
В. Панова
В. Панфилов
А. Пахмутова
М. Пахоменко
М. Пахоменко (младшая)
Н. Пахоменко
А. Петров
Е. Петров
М. Петрова
А. Печников
А. Плотников
С. Пожлаков
Н. Поздеев
И. Понаровская
О. Попков
И. Попова
Д. Прицкер
С. Прокофьева
А. Прохорова
А. Пугачева
И. Пустыльник
Э. Пьеха
А. Равикович
A. Райкин
К. Райкин
Б. Рацер
С. Розенцвейг
М. Ростропович
П. Рудаков
К. Рыжов
Г. Рыжова
М. Рыжова
B. Рылов
М. Рябинин
Г. Рябкин
Т. Рябова
Л. Сатосова
Ю. Сенкевич
Ю. Силантьев
О. Силантьева
C. Слонимский
М. Смарышев
A. Собчак
B. Соловьев-Седой
В. Соломин
В. Сорокин
A. Стрельченко
B. Стржельчик
Б. Сударушкин
В. Сударушкин
М. Сулимов
Н. Суханова
A. Сухово-Кобылин
B. Тернявский
Г. Товстоногов
В. Толкунова
A. Толстой
И. Трегер
B. Трегубович
В. Трошин
Л. Утесов
Э. Утесова
A. Федоров
B. Федоров
Р. Федорова
О. Фельцман
М. Феркельман
Э. де Филиппо
Б. Фирсов
А. Флярковский
М. Фрадкин
А. Фрейндлих
Я. Френкель
Э. Ханок
Э. Хиль
В. Ходоров
Т. Хренников
О. Цамоникян
Г. Черкасов
Н. Черкасов
Е. Шаврина
П. Шакун
В. Шиков
Д. Шостакович
Г. Штиль
К. Шульженко
Г. Юхина
А. Яковлев
Остальным родственникам, друзьям, приятелям и знакомым — приношу свои извинения.
Моя биография и мои песни
Год
Название, жанр | Автор либретто, пьесы | Место премьеры, режиссер
1953
“Весна в ЛЭТИ” музыка к спектаклю | коллектив авторов | Выборгский Дворец культуры, Н. Бирман
1962
“Безупречная репутация” музыка к спектаклю | М. Смирнова М. Крайндель | театр им. Комиссаржевской, Н. Бирман
“Как поживаешь, парень?” музыка к спектаклю | B. Панова | театр им. Ленинского комсомола, П. Хомский
1963
“Памятник себе” музыка к спектаклю | C. Михалков | Ленинградская студия телевидения (ЛСТ), А. Белинский
“Сор из избы” музыка к спектаклю | М. Смирнова М. Крайндель | театр им. Комиссаржевской, Н. Бирман
“Горестная жизнь шуга” музыка к спектаклю | И. Ильф Е. Петров | театр им. Комиссаржевской, И. Ольшвангер
1964
“Иду на грозу” музыка к спектаклю | Д. Гранин | театр им. Комиссаржевской, М. Сулимов
“Снежная королева” музыка к спектаклю | Е. Шварц | Челябинский Драмтеатр, Д. Найденов
“Мятеж неизвестных” музыка к спектаклю | Г. Боровик | театр им. Комиссаржевской, Н. Вологжанин
1966
“Этим вечером случилось" музкомедия | коллектив авторов | Большой театр кукол (БТК), А. Белинский
1967
“Неизвестный с хвостом” мюзикл для детей | С. Прокофьева К. Рыжов | БТК, В. Сударушкин
“Что к чему” музыка к спектаклю | И. Ционский | театр им. Ленинского комсомола, Ю. Ермаков
1968
“Человек и джентльмен” музыка к спектаклю | Эдуардо де Филиппо | театр им. Ленсовета, И. Владимиров
“Личная жизнь Кузяева Валентина” музыка к к/ф | коллектив авторов | Ленфильм, И. Масленников
“Хроника пикирующего бомбардировщика” музыка к к/ф | В. Кунин | Ленфильм, Н. Бирман
1969
“Малыш и Карлссон” музыкальная история | С. Прокофьева П. Ватник Ю. Ноткин А. Виролайнен | театр им. Ленсовета, Н. Райхштейн
“Ловите миг удачи” мюзикл для взрослых | К. Рыжов | БТК, А. Белинский
1970
“Журавль в небе” оперетта | К. Рыжов | Одесский театр музкомедии, М. Ошеровский
“Светофор” музыка к спектаклю | коллектив авторов | Театр миниатюр А. Райкина
1971
“Сказка про Емелю” мюзикл для детей | Б. Сударушкин К. Рыжов | БТК, В. Сударушкин
“Волшебная сила искусства” музыка к к/ф | В. Драгунский | Ленфильм, Н. Бирман
1973
“Свадьба Кречинского” мюзикл | К. Рыжов либретто | Ленинградский театр музкомедии, В. Воробьев
1974
“Ой, да ты Садко” мюзикл для взрослых | М. Гиндин | БТК, В. Сударушкин
1975
“Труффальшно из Бергамо” киномюзикл | В. Воробьев К. Рыжов | Ленфильм, В. Воробьев
“Жар-птица" музыкально-драматическая позма | Г. Алексеев | Ленинградский театр музкомедии, В. Воробьев
1976
“Интервью в Буэнос-Айресе” восемь зонгов | Г. Боровик К. Рыжов | театр им. Ленсовета, И. Владимиров
1977
“Дело” мюзикл | К. Рыжов либретто | Ленинградский театр музкомедии, В. Воробьев
1978
“Уходя — уходи” музыки к к/ф | В. Мережко | Ленфильм, В. Трегубович
1979
“Трое в лодке, не считая собаки” музыкальный к/ф | С. Лунгин К. Рыжов | Ленфильм, Н. Бирман
“Мелодия на два голоса” музыка к к/ф | С. Лунгин К. Рыжов | ЦТ “Экран”, A. Боголюбов
“Путешествие в другой город” музыка к к/ф | А.Грибов | Ленфильм, B. Трегубович
“Дачный роман” оперетта | В. Константинов Б. Рацер | Свердловский театр музкомедии, П. Шакун
“Кто-то должен” музыка к спектаклю | Д. Гранин | ЛСТ, В. Геллер
1981
“Салют динозаврам” музыка к спектаклю | Г. Мамлин | театр им. Комиссаржевской, А. Белинский
“Три новеллы о любви” музыка к к/ф | коллектив авторов | ЛСТ, А. Белинский
1982
“Никто не заменит тебя” музыка к к/ф | Г. Рябкин | Свердловская киностудия, Р. Мурадян
1983
“Последняя любовь Насреддина” музкомедия | В. Константинов Б. Рацер | театр им. Комиссаржевской, Р. Агамирзян
“Смерть Тарелкина” опера-фарс | В. Вербин либретто | Большой драматический театр, Г. Товстоногов
1984
“Товарищи артисты” оперетта | В. Константинов Б. Рацер | Одесский театр музкомедии, В. Бегма
1985
“Овод” рок-мюзикл | А. Яковлев | театр им. Ленинского комсомола, Г. Егоров
1994
“Гадюка” опера | A. Колкер B. Панфилов либретто
Карелия
Опять плывут куда-то корабли
Качает, качает, качает…
Стоят девчонки
Семейный альбом