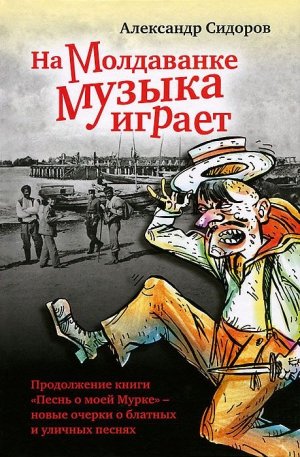
Продолжение книги
«Песнь о моей Мурке» -
новые очерки о блатных
и уличных песнях
«На Молдаванке музыка играет»,
«Плыви ты, наша лодочка блатная»,
«Перебиты, поломаны крылья»,
«Мамочка, мама, прости, дорогая»,
«Митрофановское кладбище»,
«Когда я был мальчишкой»,
«Аржак».
Москва / ПРОЗАиК
2012
Дизайн Петра Бема
Иллюстрации Александра Егорова
© Сидоров А. А., 2012
© Егоров А. Л., иллюстрации, 2012
© Оформление. ЗАО «ПРОЗАиК», 2012
Жизнь как песТня
Вместо предисловия
Эта книга продолжает тему моего первого исследования низового фольклора, которое называлось «Песнь о моей Мурке» и появилось в 2010 году. Истории известных уголовных и уличных песен «Мурка», «Гоп со смыком», «С одесского кичмана», «Купите бублички» и других оказались не просто востребованными читающей публикой, но даже вызвали широкий резонанс. По правде, я ожидал нападок суровых зоилов — и в связи с выбором темы, и в связи с её освещением. Однако, к моему удивлению, «обличителей» оказалось мало. По крайней мере, мне не встретилось ни одной серьёзной статьи или заметки с негативными отзывами. Более того — еженедельник «Книжное обозрение» назвал книгу событием 2010 года.
Правда, одна милая журналисточка заметила, что «Песнь о моей Мурке» «не тянет на серьёзную научную работу», что она чересчур «развлекательна» и т. п. Да, безусловно, одной из главных задач автор ставит занимательность и увлекательность повествования. Но в то же время он претендует на нечто большее. «На Молдаванке музыка играет» представляет собой сборник в некотором роде детективов — исторических, литературоведческих, фольклорных. Именно так. Как сказал когда-то сэр Уинстон Черчилль о нашей стране: «Россия — это тайна, хранящая в себе секрет, на дне которого находится загадка». Вот такая мистическая матрёшка. И блатные, низовые российские песни тоже хранят в себе множество тайн. К ним нужен особый ключ, на вопросы затаившихся в каждой строке сфинксов надо дать верный ответ. Или хотя бы высказать убедительную версию.
Моё исследование — не только о лагерных, хулиганских, уголовных, уличных песнях. Оно обо всём, что с ними связано, без чего проникнуть в их суть совершенно невозможно. Вы думаете, речь об уголовном жаргоне или блатных «понятиях»? Ну да, и о них тоже. Однако из этой книги можно почерпнуть много больше. Например, о дореволюционном русском кинематографе, об особенностях кинжалов и финских ножей, об истории русского рукопашного боя, о моде 20—30-х годов прошлого века… Узнать, за что именно казнил Иван Грозный купца Калашникова, зачем Пушкин занимался боксом, откуда в России появились хулиганы, как советские дипломаты торговали в Харбине кокаином, почему портреты эсерки Марии Спиридоновой в крестьянских домах висели рядом с ликом Богоматери, отчего у Остапа Бендера могучая шея несколько раз обёрнута старым шерстяным шарфом — и много других забавных, любопытных и полезных вещей.
Особый упор в этой книге сделан на песни, рождённые в хулиганской среде и на Беломорканале. Однако «музыкально-песенный фон» значительно более широк и охватывает не только низовые произведения разных периодов (песни разбойников, русской каторги, частушки «под драку» и т. д.), но и русские былины, баллады, романсы, песни городские и авторские… Книга изначально полифонична.
Меня интересуют песни не только как художественные произведения. Они, прежде всего, любопытны как документ эпохи, как исторические, литературные, этнографические, политические, социальные свидетельства нашей жизни. Их варианты, изменения, переделки, пародии на них могут рассказать порою больше любого учебного пособия или узкоспециальной монографии.
Предлагаемые очерки — попытка показать читателю, что же такое настоящая уголовная, арестантская, каторжанская, хулиганская, уличная песня. Как она живёт, меняется, как отражает нашу сложную, яркую, непредсказуемую жизнь. Многое покажется неожиданным, шокирующим, парадоксальным. Что-то вызовет улыбку, что-то заставит содрогнуться. Некоторые мысли, выводы, оценки покажутся спорными или даже циничными. Но равнодушными это исследование вас, надеюсь, вряд ли оставит.
Несмотря на то, что отдельным низовым песням посвящены работы целого ряда как профессиональных филологов и фольклористов Льва и Михаила Лурье, Владимира Бахтина, Сергея Неклюдова, так и просто энтузиастов, любителей жанра, всё же и первую, и вторую мои книги я смею назвать в некотором роде уникальными. Фактически приходится прокладывать дорогу тем, кто последует в том же направлении. То есть в направлении не только литературоведческом, но историко-филологическом и даже, я бы сказал, пропагандистском. Потому что русская уголовная и уличная песня пока ещё фактически является «терра инкогнита».
Конечно, она давно уже привлекает исследователей. Одним из первых в России на разбойничьи песни по-настоящему обратил внимание «житель города Москвы» Матвей Комаров, издавший трижды (1773, 1778, 1784) жизнеописание знаменитого разбойника и сыщика Ваньки Каина (русский прообраз Эжена Франсуа Видока, выросшего от каторжника до шефа французской полиции). В книге были собраны песни, которые распевал «Иван Осипов Каин». Именно Каину, по преданию, принадлежит знаменитая «Не шуми ты, мать зелёная дубравушка», которую позднее вставил в «Капитанскую дочку» Александр Пушкин.
Разбойничьи былины встречаются и в более поздних фольклорных сборниках уже XIX века. О каторжанских песнях повествует Фёдор Достоевский в «Записках из Мёртвого дома», известный этнограф Сергей Максимов в своём труде «Сибирь и каторга» отводит тюремным песням отдельную главу. На переломе XIX–XX веков тюремную песенную субкультуру отражали в своих очерках Дорошевич, Куприн, Свирский, другие литераторы и журналисты. Тогда же с распространением патефонных пластинок уличный и уголовный фольклор растекается по всей империи — «Погиб я, мальчишка», «Маруся отравилась» и другие образчики низового творчества.
В первые десятилетия Советской России эти песни не только широко звучали, но и множились в немыслимом количестве по сравнению с имперским периодом. Десятки баллад, романсов, куплетов отражали окружающую действительность, приметы быта, судебную хронику. Новую жизнь обрели дореволюционные «Цыплёнок жареный», «С одесского кичмана», «Алёша, ша», «Позабыт, позаброшен», «По приютам я с детства скитался». Этот феномен активно изучали собиратели, выходили сборники и статьи в научных журналах.
С 30-х годов, однако, на подобных публикациях фактически был поставлен крест (хотя изучение криминального фольклора некоторое время продолжалось). В период «позднего реабилитанса» 50-х интерес к уголовно-арестантскому песенному творчеству резко подскочил, «блат» зазвучал во всех дворах и подворотнях, затем — с магнитофонных кассет и гибких пластинок «на рёбрах» (высшее достижение отечественной рентгенографии). Появляется феномен Высоцкого с его стилизацией блатного фольклора, нечто подобное делает Аркадий Северный с командой текстовиков и музыкантов, криминальная русская классика в полный голос звучит за границей благодаря Алёше Димитриевичу, Михаилу Гулько, Дине Верни, Ивану Реброву и Борису Рубашкину… Однако до подлинного изучения и осмысления этого особого пласта русской песенной культуры дело не доходило.
Новый всплеск интереса к блатной песенной теме возник уже в постперестроечной России, когда криминальное мировосприятие стало буквально пожирать умы и души россиян. Увы, для этого времени (то есть для времени нынешнего) характерен не столько академический интерес к теме, сколько дикое, повальное увлечение блатной романтикой. Результатом стал феномен так называемого «русского шансона», где значительную часть репертуара составляют псевдоуголовные, убогие и пошлые поделки горе-сочинителей. Процесс повальной «шансонизации» общества неизбежно приводит к тому, что нынешний уродливый «блатняк» и классическая уголовно-арестантская, уличная песня в представлении обывателя ничем не отличаются и становятся однородной массой.
Интерес к блатному шансону превратился в моду. Вообще-то такая ситуация достаточно типична для переломных моментов в истории России, начиная с революционных лет, когда демократизация государства тесно переплетается с его криминализацией. Так было в 20-е годы XX века: пора романтическая и жестокая, пора чудовищного выплеска народной энергии и народного же зверства… Именно тогда появилось множество ярких уголовно-арестантских баллад и романсов, сохранивших известность до наших дней. Затем — хрущёвская «оттепель», возродившая всплеск интереса к блатному фольклору, — во многом этому процессу способствовала творческая интеллигенция, хлынувшая из лагерей на волю.
Но в то же время интеллигенция пыталась и предупредить о реальной опасности поэтизации криминального мира. Юлий Даниэль в повести «Искупление» (написана в 1963-м) писал с тревогой:
«Наступило время блатных песен. Медленно и постепенно они просачивались с Дальнего Востока и с Дальнего Севера, они вспыхивали в вокзальных буфетах узловых станций. Указ об амнистии напевал их сквозь зубы. Как пикеты наступающей армии, отдельные песни мотались вокруг больших городов, их такт отстукивали дачные электрички, и наконец, на плечах реабилитированной 58-й они вошли в города. Их запела интеллигенция; была какая-то особая пикантность в том, что уютная беседа о “Комеди Франсэз” прерывалась меланхолическим матом лагерного доходяги, в том, что бойкие мальчики с филфака толковали об аллитерациях и ассонансах окаянного жанра. Разрумянившиеся от ледяной водки дамы вкусно выговаривали:
А если какая-нибудь из них внезапно вздрагивала и пыталась проглотить словцо, до сей поры бесполезно лежавшее в её лексиконе, то всегда находился знаток, который говорил:
— Душа моя, это же ли-те-ра-ту-у-у-ра!
И всё становилось ясно. Это превратилось в литературу — безумный волчий вой, завшивевшие нательные рубахи, язвы, растёртые портянками, “пайка”, куском глины падавшая в тоскующие кишки…
Но бывало и так, что кто-то из этих чисто умытых, сытых людей вдруг ощущал некое волнение, некий суеверный страх: “Боже, что ж это я делаю?! Зачем я пою эти песни? Зачем накликиваю? Ведь вот оно, встающее из дальнего угла комнаты, опустившее, как несущественную деталь, традиционный ночной звонок, вот оно, холодным, промозглым туманом отделяющее меня от сотрапезников, влекущее “по тундре, по широкой дороге” под окрики конвойных, под собачий лай… Зачем, зачем я улыбаюсь наивности этих слов? Это же всерьёз, это же взаправду! Ах, прощай, Москва, прощайте, все!.. Возьмут винтовочки, взведут курки стальные и непременно убьют меня… Тьфу, напасть!”»
В этих словах чувствуется раздражение тем, что увлечение блатным фольклором становится модным поветрием, игрой сытых снобов. Песни, служившие знаком тревоги, беды, пропитанные лагерной пылью и кровью, становятся эстетским развлечением — а значит, мрачное бытие, которое они описывают, переходит на уровень экзотического антуража. Стало быть, отражённая в них действительность может повториться…
И ведь действительно — задуматься не грех. Разве классический «блат» является вершиной песенного русского творчества? Разве там нет образчиков, примитивных по форме и незатейливых по содержанию?
это что, шедевр? Перефразируя полковника Скалозуба, можно сказать: «По мне, чтоб зло пресечь, собрать все песни бы да сжечь!» И шансонные, и «исторические» блатные. Как нонеча говорят «по-олбански» — «фтопку».
Не стану спорить с тем, что многие образчики классического «блата» как минимум далеки от совершенства. Хотя есть среди них настоящие шедевры. Но вот вопрос: почему, в таком случае, так называемая русская блатная песня всегда притягивала к себе не только «отверженных», но и представителей интеллигенции, писателей, поэтов? Значит, есть в ней и народность, и поэзия?
Можно приводить огромное множество примеров. Даже самый идейно выдержанный советский писатель, автор «Молодой гвардии» Александр Фадеев — и тот попал под её обаяние. Один из молодогвардейцев, уцелевших после разгрома подпольной организации Краснодона, Ким Иванцов, в воспоминаниях «Гордость и боль моя — “Молодая гвардия”» пишет:
«От С. Преображенского я узнал об интересе Фадеева к блатным песням. Я тогда не придал этому особого значения. Подумал, ну услышал писатель на какой-то дружеской вечеринке неплохую, берущую за душу воровскую песню. Вполне возможно, она запала в его душу. Но чтобы привязаться к ней — такое я исключал.
Потом о доброжелательном отношении Фадеева к блатным песням рассказывал мне киноартист Владимир Иванов, с которым я дружил. Он несколько раз вместе с Фадеевым бывал в дружеских компаниях и там слышал песни преступного мира в исполнении некоторых лицедеев, наблюдал, как Фадеев с усладой подпевал им.
Могло и такое быть. Но при чем здесь любовь к тем песням? Любовь — это ведь совсем другое понятие. Ее, идущую из самой глубины сердца, невозможно ни с чем сравнить или спутать.
Впоследствии были свидетельства других людей, в их числе жены писателя Юрия Либединского — Лидии Либединской. Из её воспоминаний вырисовалась вот такая картина.
В 1924 году Александр Фадеев уезжает в Краснодар. Вначале он работает инструктором Кубано-Черноморского обкома РКП(б), затем секретарём одного из райкомов партии. Однако склонность к литературной работе одерживает верх, он получает назначение в краевую газету “Советский Юг” и переезжает в Ростов-на-Дону. Вечерами, после работы, Александр Александрович любил в одиночестве прогуливаться по городским улицам, обдумывать увиденное и услышанное во время частых командировок по Краснодарскому краю. В то время такие прогулки были небезопасны, однако Фадеев давно привык к подобному отдыху на открытом воздухе, а привычка — вторая натура.
Как-то, уйдя на далекую окраину, он встретил незнакомого человека. Тот также бродил по улицам. Разговорились. Свежими рассказами и рассуждениями Фадеев расположил к себе первого встречного, точнее, понравился ему. Договорились о новой прогулке на следующий день. Потом те встречи последовали одна за другой. От нового знакомого Фадеев узнал целую серию блатных песен, о которых никогда прежде не слышал и которые растроганно легли на душу. Незнакомец научил Фадеева их петь.
Неожиданно встречи прекратились. Писатель путался в догадках. Однако ни к какому определённому выводу так и не пришел. Но вот его пригласили в милицию, и все стало на свои места. Фадеев увидел любителя блатных песен в камере предварительного заключения. Оказалось, что тот попросил милицейское начальство организовать ему встречу с Александром Александровичем, чтобы попрощаться. И только тогда писатель узнал: его новый знакомый — известный бандит, который держал в страхе не только Краснодар. “Я много сделал такого, — сказал громила, — за что меня, конечно же, расстреляют. Кроме тебя у меня никого нет, с кем я хотел бы попрощаться. Ты необыкновенный человек…”
Блатные песни… За что же любил их писатель Фадеев? Видно, за то, что в них рассказывалось о некоторых сторонах нашей жизни, о которых не принято было ни писать, ни говорить и которые характеризовали советское общество не с лучшей стороны. Вполне возможно, что воровские песни поражали Александра Александровича отчаянным криком подчас несправедливо израненной, а то и загубленной души, последним “прости” родным и друзьям-товарищам».
В ряду интеллигентов, попавших под безоговорочное обаяние песенного русского блата, назовём и Андрея Синявского. Эта страсть у Андрея Донатовича проявилась ещё во время его учёбы в университете. Именно она сблизила Синявского с молодым актёром Владимиром Высоцким. И она же привела Синявского на скамью подсудимых — вместе с упоминавшимся уже Юлием Даниэлем. Оба они с 1956 по 1965 год тайно печатались за границей, причём под именами персонажей блатного песенного фольклора — Абрама Терца (Синявский) и Николая Аржака (Даниэль).
Процесс над Синявским и Даниэлем явился знаковым для истории СССР, он ознаменовал собой обострение дикой травли свободной мысли в стране и расцвет движения диссидентов. К нашей теме это имеет прямое отношение, так что есть смысл хотя бы в общих словах рассказать о позорном судилище. К тому же оно в рамках нашей темы обретает некий мистико-саркастический смысл. Ведь «врагами нации» оказались… блатные фольклорные персонажи! То есть Комитет госбезопасности СССР долгое время вёл поиск именно этих таинственных негодяев. Конечно, бдительным чекистам в конце концов удалось выяснить, что ни в Стране Советов, ни за её пределами таковых лиц не существует. Но на это понадобилось… почти десять лет! Увы, парни с холодной головой и горячим сердцем были плохо знакомы с родным уголовным фольклором. Иначе бы круг поисков быстро сузился. Не в тех бумажках рылись. А ведь говорила Баба Яга в сказке Леонида Филатова: «Я фольклорный элемент, у меня есть документ». Вот тут и надо было брать! С помощью Мурки, Васьки-Шмаровоза и Кольки-Ширмача…
Итак, «фольклорных элементов» арестовали. Процесс над Терцем и Аржаком начался 10 февраля 1966 года и закончился 14 февраля. Прошёл лишь год после смещения Никиты Хрущёва, с его политической «оттепелью». Ещё не развеялся дух свободы, «вольный ветер» надежды на значимость для верхов общественного мнения. За Синявского и Даниэля пытались вступиться Илья Эренбург, Константин Паустовский, Арсений Тарковский, Виктор Шкловский, Белла Ахмадулина, Юрий Нагибин, Булат Окуджава и многие другие. Был задержан и упрятан в психушку 24-летний Владимир Буковский, ставший впоследствии известным правозащитником. Именно его после переворота в Чили обменяли на главу чилийской компартии Луиса Корвалана, а народ по этому поводу сочинил частушку:
Демарш энтузиастов и волна протестов сделали своё дело: власти под напором общественности были вынуждены пойти на открытый процесс. Хотя открытым его можно назвать условно: вход в зал судебных заседаний осуществлялся по специальным «пригласительным билетам», действительным на одно представление. Наиболее оскорбительным для власти стало то, что оба писателя не признали своей вины и не покаялись. Это уже был открытый плевок в лицо системе. Соответственно Абрашка Терц получил семь лет лишения свободы, Николай Аржак — пять лет.
Далее следует опять-таки сплошной фарс — в лучших блатных традициях. Михаил Шолохов обрушивается на «отщепенцев» с трибуны XXIII съезда КПСС: «Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни!» И всё бы славно — но автор «Тихого Дона» произнёс пылкую обличительную речь… первого апреля, во Всемирный день дурака! Из других насмешек фортуны можно вспомнить и то, что в качестве эксперта произведений Аржака и Терца для суда была приглашена… детская писательница Агния Барто (сочинившая разгромный отзыв). Видимо, судья Смирнов, разбиравший дело двух диссидентов, к месту вспомнил знаменитый стишок Барто «Мы с Тамарой ходим парой».
Именно благодаря этой судебной расправе мифические персонажи Абрам Терц и Николай Аржак выросли до мировых масштабов. Более того: «блатная мистика» сыграла свою роль в судьбах Синявского и Даниэля. Андрей Синявский, «ожививший» Терца, после освобождения стал известнейшим литератором. До конца жизни он подписывал большинство своих работ именно так — Абрам Терц. И всегда подчёркивал, что в нём, в Синявском, живут два человека. Юлий Даниэль, напротив, сразу после суда «убил» Кольку Аржака, полностью отказавшись от этой литературной маски. И что? Выйдя на свободу, Даниэль отошёл от литературы, лишь время от времени занимаясь переводами. Тот, кто накрепко связал свою жизнь с уголовным псевдонимом, состоялся как самобытный, успешный писатель. Тот, кто отказался от хулиганского «я», фактически перестал существовать как творческая личность. Это, конечно, можно считать случайностью, совпадением…
И ещё об одном хочется сказать — о пресловутой «уникальности» русской уголовной, блатной песни. Само по себе это утверждение не вызывало бы отторжения, если бы только уникальность эта не связывалась многими с нашей «дикостью», «зверством», якобы врождённой, впитанной с молоком матери тягой ко всему преступному.
Позволю себе не согласиться с тем, что уголовная и арестантская песни — чисто русское изобретение, не имеющее аналогов в мире. Мне часто приходится слышать подобные измышления — в самых разных вариациях. Порою говорят, что уникален «русский шансон» в его блатном сегменте. Кто-то заявляет, что в других странах уголовная песня существует исключительно в пределах мест лишения свободы или уличных банд. Ни то, ни другое, ни третье не соответствует истине.
Журналист Андрей Мирошниченко пишет в статье «Шансонизация и сексизм»: «Историческое и нынешнее количество сидельцев, безусловно, влияет на распространение блатной субкультуры. Ещё одна страна, где уголовная среда создала свою субкультуру, вышедшую за пределы тюрем, — это США… США и Россия с заметным отрывом лидируют по числу заключённых (в процентном отношении к населению). В США наиболее яркое проявление уголовной субкультуры имеет заметный расовый окрас: рэп — песни чёрной криминальной среды. Негритянский блатняк.
И вот — злая насмешка истории над идеологическими баталиями Хомякова и Чаадаева. Современный “славянофил” слушает русский блатняк, а современный “западник” — блатняк негритянский. Но всё равно блатняк. И хотя они по-прежнему непримиримы, но не такая уж и большая идеологическая разница теперь между ними. В общем-то, только в ритме. Ну, ещё в штанах с провисшей мотнёй. А по сути, как ни собирай, всё равно пулемёт получается».
Вполне допускаю, что русский шансон можно сопоставлять с рэпом. Что же касается классической блатной песни, такое сравнение неуместно. Русская уголовно-арестантская, низовая песня — исторична по сути своей. То есть она отражает эпоху во всём её разнообразии. Скажем, один из оппонентов Андрея Мирошниченко, выступающий под ником Alz, пишет:
«Смысл рэп-песен абсолютно идентичен русскому блатняку. Вот текст рэпера 50сента Every Gangsta Every Hood:
А вот наша блатная песня:
Смысл — абсолютно идентичен».
Однако это — поверхностный взгляд. На самом деле «Гоп со смыком» при тщательном изучении вырастает в историческую балладу. Текст позволяет определить время и место её создания, а также множество фольклорных, литературных и иных источников, которые вдохновили неведомых сочинителей (от «Песни о бражнике» и «Гаргантюа и Пантагрюэля» до богохульной студенческой песенки «Там, где Крюков канал» и кинофильма «Аэлита»). Кроме того, «Гоп» в многочисленных вариациях отразил десятилетия советской действительности и конкретные события эпохи. Между тем песенка «Пятидесятицентовика» остаётся примитивным опусом чёрных «гопников», который перекликается с русской балладой только в одном из куплетов.
Антон Табах, указывая, что с русским «блатняком» можно сравнить не только рэп, но и кантри, рассказывает: «В Штатах блатная культура куда шире рэпа — вскоре после моего поселения в тех краях мы как-то с приятельницей из глухой миссурийской дыры слушали её нежно любимого певца кантри… я стал про себя переводить текст… и стал смеяться в голос… он был абсолютно идентичен песне “Постой, паровоз”… некий зэк прощался с мамой перед отправкой в тюрьму». Но опять-таки речь идёт о внешних, поверхностных перекличках, в то время как «Постой, паровоз» — переделка дореволюционного городского романса, причём песня известна в разных вариантах, отражающих особенности среды, в которой она культивировалась и изменялась: от кулацко-ссыльной до заводской с принудительно-рабским трудом.
Повторяю: за каждой русской уголовной песней — Великая История страны и её народа, история метаний, страданий, побед и поражений. Ни кантри, ни рэп — и рядом не стояли. Возможно, когда-нибудь, со временем уголовные песенки кантри тоже могут стать удивительным, интереснейшим свидетельством эпохи. Потому что сегодня «довлеет дневи злоба его», но назавтра этот день становится вчерашним, а через десятки лет — глубокой древностью. И если песня эту древность переживёт, значит, она станет фактом национальной культуры. Пусть даже с уголовным уклоном. Что ж с того?
Песни уголовного мира есть и у итальянцев (странно было бы их отсутствие на родине мафии!) — их нарыл тот же Alz: «Как пацану стать членом банды» (Pi fari u giuvanottu i malavita), «История одного калабрийского заключённого» (La storia di un carcerato calabrese), «Частушки арестантские» (Stortnelli di carceratu), «Песня про понятия» (Omertà), «Мафиози» (L’Omu d’onuri), «Прощай, банда» (Addio 'ndrangheta) и т. д.
Не миновала чаша сия и китайцев. В 1988–1989 годах здесь тоже приобрели популярность «тюремные песни». Начало течению положил Чи Чжицян, писавший на народные мелодии стихи о своём пребывании в тюрьме. «Тюремные песни» отличались медленным ритмом, «жалобным» исполнением. В них часто использовалась ненормативная лексика, песни были полны цинизмом и отчаянием. Китайское общество к тому времени устало от эстрадного официоза, насквозь пропитанного идеологическими догмами, поэтому «тюремные песни» подхватила городская молодёжь, а продвигали эту продукцию в массы частные антрепренёры, выходцы из маргиналов.
И всё же перечисленные явления, скорее, сопоставимы с русским шансоном, но не с российским классическим «блатом». В некоторой близости к нему находятся разве что мексиканские народные песни «корридос», снискавшие особую популярность во времена мексиканской революции 1910 года — первой социальной революции, предвестницы российской. Во главе ее стояли личности легендарные: пастух Франсиско Вилья, ставший генералом, и индеец Эмилиано Сапата в сомбреро с образком Пресвятой Девы Гваделупской, сражавшийся за землю и свободу во главе армии крестьян, вооружённых мачете. О них и о других героях революции — жестокой, кровавой, унесшей более миллиона жизней — сложены самые яркие исторические «корридос». А жанр возник ещё раньше как часть фольклора поселенцев Юго-Запада США — мексикано-американцев, называвших себя «чиканос», боровшихся за свои права против «проклятых гринго», то есть пришельцев из Североамериканских Соединённых Штатов. Для колонизаторов «чиканос» были уголовниками — бандитами, разбойниками, убийцами. Сами же они считали себя борцами за свободу. Да, «корридос» в определённой степени созвучны российской классической блатной песне. Именно своей историчностью, а не смакованием уголовного бытия и «романтики».
Мне неизвестно, насколько развито в Мексике изучение жанра «корридос». Могу предполагать, что в достаточной мере. Да и сам жанр живёт до сих пор как народная песня, отражающая реальные события. Например, в октябре 2001 года радиостанции в северной Мексике были заполнены песнями народных исполнителей, откликнувшихся на теракт 11 сентября в США: «Чёрное 11-е», «Трагедия в Манхэттене», «Баллада об Осаме бен Ладене» и т. д. Диск-жокей одной из станций, Пако Нунес, говорил, что эти «корридос» заказывают больше всего. По его словам, многие люди узнавали из песен больше, чем из новостей.
У нас в России, к сожалению, исторические блатные песни как часть отечественного культурного наследия долго не изучались. Пришло время этот пробел восполнить. Но работа требует огромных усилий, кропотливости, поисков: слишком много времени упущено…
Настоящая книга — попытка наверстать упущенное. Надеюсь, и эта моя работа будет встречена читателями благосклонно.
Александр Сидоров
Как Ширмач героической смертью увековечил великую стройку
«На Молдаванке музыка играет»
На Молдаванке музыка играет
Абрашка, Колька и другие
Баллада о Кольке-Ширмаче занимает особое место в уголовном фольклоре. Хотя блатной она, по сути, не является, поскольку авторы сочувствуют «предателям воровского мира», однако на сегодняшний день входит в «обязательную программу» классического «блата». Так в чём же особость песни? Прежде всего в том, что она отражает новый, важный этап развития Страны Советов, её уголовного мира и особенно — лагерной системы сталинизма. Поэтому баллада достойна того, чтобы комментировать её подробно, а то и построчно.
Первая же строка — «На Молдаванке музыка играет» — отсылает нас к песне 20-х годов «Абрашка Терц, карманщик из Одессы»:
Если принять на веру утверждение исследователей Майкла и Лидии Джекобсон («Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник. 1940–1991»), «Абрашка» написан в 40-е годы прошлого века «на мотив песни профессиональных преступников 30-х годов “На Молдаванке музыка играет”», то есть как раз баллады о расправе над «отступником» Колькой-Ширмачом на Беломорканале. Увы, отдавая должное Джекобсонам как собирателям фольклора, приходится признать, что историографы и толкователи они зачастую очень слабые. И в нашем случае их объяснение не выдерживает серьёзной критики. Конечно, сходство четвертого куплета из песни про Абрашку Терца с зачином песни о Кольке-Ширмаче бросается в глаза. Оно становится ещё более очевидным, если вспомнить другой куплет беломорканальской баллады:
Но эта похожесть не даёт ответа на то, какая из песен появилась раньше. Ведь с таким же успехом безвестные авторы баллады о Кольке-Ширмаче могли позаимствовать мотив и куплет из более ранней уголовной песенки. На мой взгляд, так и произошло. И не только на мой. Например, в интервью на радио «Свобода» в 2005 году Мария Розанова вспоминала о том, почему писатель Андрей Донатович Синявский в 50-е годы прошлого века взял себе для публикации за рубежом литературную маску Абрам Терц: «Терц возник из нашей любви к блатной песне. Из песни “Абрашка Терц, карманщик всем известный”. Это песня 20-х годов, одесская». Ещё раньше, в репортаже о первом дне судилища над Синявским и Даниэлем «Тут царит закон» («Известия», 11 февраля 1966 г.) журналист Юрий Феофанов писал: «Синявский скрывался под именем Абрама Терца… Фамилия Абрам Терц… не лишена интереса. В двадцатых годах ходила по Одессе блатная песенка, в которой персонажем был “Абрашка Терц, разбойник из Одессы”. Может быть, друзья-приятели не случайно подобрали себе псевдонимы, а может, это совпадение».
Впрочем, мнение — ещё не доказательство. Но есть и другие аргументы. Прежде всего, супруги Джекобсон явно поторопились, когда объявили беломорскую балладу «На Молдаванке музыка играет» песней профессиональных уголовников. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. В песне хотя и несколько иронически, но с явным сочувствием выписаны образы Кольки-Ширмача и Маруси, которые разрывают с блатным миром, впечатлённые великой всесоюзной стройкой. Воры убивают отступников, но (в отличие, скажем, от «Мурки») симпатии авторов явно на стороне погибших. Абсолютно невозможно, чтобы подобного рода баллада исполнялась в блатном кругу. Она же прославляет «порчей», «сук», «гадов»!
Песня, вполне возможно, и создана в уголовно-арестантской среде. Однако явно — не в среде арестантов, принадлежавших к воровскому сословию. У воров, блатных она как раз вызывала негативные эмоции. И вряд ли они бы стали на её основе создавать песню чисто блатную.
Вообще-то переделок и народных, и популярных авторских песен в блатном фольклоре более чем достаточно. Но — песен нейтрального содержания (популярных советских, народных, фронтовых, городских романсов), а уж никак не прославляющих «сучье племя» и развенчивающих преступную жизнь. Не случайно во многих вариантах в уста пахана вкладывается строка: «У нас, ворья, суровые законы». Вместо «ворьё» также поют «жульё». То есть те, кто исполнял балладу, заменяя «воров» на презрительное «ворьё», понимали, что песня — не блатная.
А вот обратный пример — совершенно естествен! То есть на основе уркаганской песенки создать шлягер, стилизованный под «блат», но направленный против блатной романтики, — это очень удачный метод контрпропаганды. Да и многочисленные переделки известных уголовных песен — явление чрезвычайно распространённое.
Правда, Джекобсоны ссылаются на то, что в конце 40-х и в 50-е годы пелся куплет, где прямо вводилась кличка Ширмача:
Но это неудивительно, учитывая указание на то, что такой вариант был популярен среди школьников и студентов. Спустя десятилетия, да ещё вне уголовной среды подобное смешение вполне объяснимо, ведь обе песни исполнялись на один мотив и с упоминанием Молдаванки, где играет музыка. Текст «Абрашки» вообще варьировался самым причудливым образом. Мы встречаем здесь и отголосок одесского шлягера «Сегодня Сонечка справляет аманины», и куплет о том, что «на Молдаванке играют и поют», «прохожих раздевают», который кочует по многим образчикам одесского песенного фольклора.
Кстати, имя Абрашки Терца — далеко не единственное в вариантах песни, которая так пришлась по душе Синявскому. Вот другая версия:
Колька-Свист — герой первого советского звукового художественного фильма «Путёвка в жизнь» режиссёра Николая Экка. Премьера состоялась 1 июня 1931 года, картина пользовалась бешеной популярностью не только в Стране Советов, но и за рубежом. «Путёвка в жизнь» получила приз зрительских симпатий на Первом международном кинофестивале в Венеции в 1932 году, а Экк тогда же был признан лучшим режиссёром по опросу зрителей. После фестиваля картину закупили 26 стран, всего же она была показана в 107 странах.
Так вот, Колька-Свист, Мустафа и Жиган — три самых ярких и известных персонажа «Путёвки», быстро вошедших в фольклор. Сразу же после фильма народ сочинил знаменитый куплет, пересказывающий драматические коллизии картины:
С огромной долей вероятности можно утверждать, что в повествование о Соньке-лярве, отдающейся всем подряд, Колька-Свист попал вскоре после выхода «Путёвки в жизнь» на экраны страны. А имя Соньки могло появиться чуть позже, после 1936 года, когда стал популярен и другой фильм о «перековке» уголовного мира — «Заключённые», где в центре внимания оказались такие персонажи, как уголовник Костя-Капитан и блатнячка Соня.
Вообще-то Сонька — не единственное имя героини. Известна версия той же песни, где действует Манька. Есть много различных вариантов, приведём текст из книги тех же Джекобсонов:
Любопытна явная перекличка с «Муркой»:
Возможно, Манька появилась раньше Соньки, в середине-конце 20-х годов. А уже в 30-е неизвестные авторы перелицевали песенку, включив в неё и Кольку-Свиста, и Соньку.
Немолдавская Молдаванка
А теперь поговорим о знаменитой одесской Молдаванке — исторической части города, занимающей ныне территорию Малиновского и Приморского районов.
Историки по-разному датируют возникновение Молдаванки. Одни относят её основание к 1793 году, другие — к периоду между 1797 и 1802 годами. Уже по названию ясно, что первоначально население Молдаванки состояло из жителей Молдавии. Когда в XVIII веке Молдавия превратилась в арену борьбы между несколькими державами, прежде всего Турцией и Россией, многие её жители покидали родные места, спасаясь от войн. Одной из «тихих заводей» и стала Одесса. Здесь давно уже поселились родственные молдаванам валахи (румыны) и болгары, бежавшие от турок. Первоначально Молдаванкой называли отдельное поселение из двух десятков домов, но уже во втором десятилетии XIX века она становится городской слободой. Постепенно основным населением Молдаванки стали евреи. Что неудивительно: ведь, в отличие от остальной России, Одессы не коснулись ограничения, согласно которым лицам иудейского вероисповедания запрещалось поселяться за пределами так называемой «черты оседлости» (часть Царства Польского, Литва, Белоруссия, Бессарабия, часть Украины) без особого на то разрешения. В Одессе иудеи пользовались теми же правами, что и остальные жители. В конце XIX века Молдаванка превратилась в предместье, где размещались промышленные предприятия и жили их работники.
Напомним, что к этому времени Одесса становится не только крупнейшим российским портом и торговым центром, но и одной из двух «столиц» (наряду с Ростовом-на-Дону) отечественного преступного мира. Причём значительная часть профессиональных уголовников как раз обитала на рабочих окраинах. «В предместьях — на Молдаванке, Бугаевке, в Слободке-Романовке, на дальних и Ближних Мельницах — жило, по скромным подсчётам, около двух тысяч бандитов, налётчиков, воров, наводчиков, фальшивомонетчиков, скупщиков краденого и прочего тёмного люда», — рассказывал Константин Паустовский. Сюда же можно добавить Сахалинчик, Чумку, Одессу-Товарную и ряд других районов. Но самой известной в советское время стала всё-таки Молдаванка — прежде всего благодаря «Одесским рассказам» Исаака Бабеля и его «шикарному» Бене Крику (в образе которого, по мнению ряда исследователей, запечатлены черты легендарного Мишки Япончика).
Правда, в начале 30-х годов, ко времени, о котором повествуется в балладе о Кольке-Ширмаче, Молдаванка давно уже была не той, какой её описал Бабель, но всё же оставалась традиционным центром одесской уголовщины.
«В пивной веселье пьяное шумит»
Весёлое пьянство в пивной — деталь, чрезвычайно характерная для начала 30-х годов. С 1929 года власти страны стали пожинать печальные плоды коллективизации, больно ударившей по деревне, и вынуждены были постепенно вводить в СССР карточную систему. Первым был нормирован хлеб, затем другие продукты — сахар, мясо, масло, чай и прочее. Казалось бы, какое тут «веселье»?
Однако этот песенный штрих очень точно передаёт атмосферу тех лет. Вообще советская власть в отношении пьянства занимала двойственную позицию. И это несмотря на то, что положение было крайне тревожным: потребление алкоголя рабочими после отмены сухого закона с 1924 по 1928 год увеличилось в 8 раз! Для большинства пролетариев основным местом проведения досуга стала именно пивная, где разрешалось торговать и водкой. Более того, под расширение сети пивных подводилась «идеологическая основа». Н. Лебина в книге «Повседневная жизнь советского города. 1920–1930 гг.» отмечает: «Какое-то время в прессе, особенно в многотиражных фабрично-заводских газетах, появлялись статьи, пытавшиеся облагородить дух советских пивных. Рабкоры и профессиональные журналисты с умилением писали, что за кружкой пива, часто сдобренного водкой, рабочие обсуждали положение братьев по классу в Англии, Китае, дискутировали по вопросам существования Бога и т. д. Это рассматривалось как своеобразное доказательство высокого уровня политической сознательности пролетариев… Недолгая эпоха восхваления питейных заведений фабричных окраин объяснялась необходимостью противопоставить их частным ресторанам, которые посещали в основном представители новой буржуазии, служащие, интеллигенция».
В пивнушках действительно находилось место «политической агитации». Помимо классических русских и цыганских романсов (что считалось «отрыжкой буржуазного прошлого») в исполнении хоров и отдельных певцов, публика с удовольствием внимала частушкам типа:
Но вряд ли это можно назвать «высоким уровнем политической сознательности».
К тому же вскоре выяснилось, что почему-то в первую очередь спиваются как раз «наиболее сознательные» партийцы и активисты! Среди рабочих выдвиженцев, то есть «передовой части пролетариата», пьяниц насчитывалось вдвое больше, чем среди рабочих от станка. Поначалу это подтолкнуло советские властные структуры на борьбу с пьянством и алкоголизмом. В июне 1926 года появляются тезисы ЦК ВКП(б) «О борьбе с пьянством», вскоре — специальное письмо ЦК ВЛКСМ на ту же тему, в сентябре — декрет СНК РСФСР «О ближайших мерах в области лечебно-предупредительной и культурно-просветительной борьбы с алкоголизмом». Развернулась борьба с питейными заведениями, проходили демонстрации детей под лозунгами «Пролетарские дети против пьющих отцов», «Отец, брось пить. Отдай деньги маме» и т. д. В 1928 году создаётся Общество по борьбе с алкоголизмом (ОБСА).
Однако к началу 30-х годов власть резко сворачивает борьбу с пьянством. Дело в том, что «пьяные деньги» составляли значительную часть бюджета Страны Советов, а в условиях индустриализации лишиться такого «вливания» в государственную копилку руководство страны не желало. Напротив, в планах было как раз увеличение доходов от продажи спиртного. В сентябре 1930 года Сталин направляет записку Молотову, где подчеркивает необходимость повысить производство водки, чтобы обеспечить увеличение военных расходов из-за угрозы нападения Польши. За несколько лет производство водки выросло настолько, что давало пятую часть всего госдохода; к середине десятилетия водка стала главным предметом торговли в государственных магазинах.
Правда, открыто объявить о подобной политике Советская власть не осмеливалась. Тем более что граждане требовали от неё совершенно противоположного. Так, в Ленинграде горожане постоянно обращались в Ленсовет с просьбами убрать пивные точки, считая их рассадниками преступности и хулиганства. В 1931–1932 годах количество городских пивных действительно было сокращено вдвое. Однако в сентябре 1933 года Леноблисполком принимает секретное решение «О работе Спиртотреста», согласно которому за месяц открывается… 200 новых лавок по торговле спиртным! В отличие от хлеба, сахара, мяса и других продовольственных товаров, водка, вино, пиво, коньяк продавались свободно, без всяких карточек.
Так что «пахан Одессы» мог поить Марусю розовым винцом в любых количествах — способствуя пополнению советского госбюджета и претворению в жизнь грандиозных планов партии.
Но почему в пивной — на ресторан денег не хватило? Не в деньгах дело. Виктор Файтельберг-Бланк, автор книги «Бандитская Одесса. Двойное дно», пишет об Одессе этого периода: «Небезопасно было гулять в ресторанах, тратить деньги на людях». То же самое подтверждает Шейла Фицпатрик в исследовании «Повседневный сталинизм», подчёркивая, что с 1930 по 1934 год «рестораны были открыты только для иностранцев, плата в них принималась в твёрдой валюте, а ОГПУ с глубоким подозрением относилось к любому советскому гражданину, вздумавшему туда пойти». Вот и выходит, что в пивной-то безопаснее…
Впрочем, после 1934 года началось возрождение ресторанов; особой любовью они пользовались среди театральной богемы и «новой элиты». Но это уже выходит за рамки нашей истории.
«Мы пропадём без Кольки-Ширмача»
Интересный вопрос: чего это вдруг Костя-Инвалид так взволновался из-за отдельно взятого «ширмача»? Напомним, что «ширмач», он же «щипач», в переводе с блатного — вор-карманник. Некоторые исследователи подчёркивают, что «ширмач» — одна из разновидностей «щипача». То есть «щипач», «кармаш» — общее определение карманника, а внутри «благородной профессии» имеется множество различных «специальностей». Например, «пинцетчик», который выуживает содержимое карманов и сумок с помощью пинцета; «мойщик», он же «писчик», «писарь», «писака», — этот «моет», «расписывает» (разрезает) одежду и сумки при помощи «мойки» — бритвенного лезвия или остро отточенной по краю монеты — «писки»; «верхушечник», то есть неопытный крадун, «работающий» исключительно по «верхам» — внешним карманам. Были ещё «марвихеры» (крадуны высшей категории, нечто вроде графского титула). Так вот, «ширмача» отдельные «знатоки» относят к категории карманников, которые совершают кражи, прикрываясь «ширмой» — каким-либо подходящим предметом (плащом, пиджаком, перекинутым через руку, газетой, папкой и т. п.).
Это не совсем верно. Не исключено, что порою именно так подобных крадунов и называют. Но обычно ширма-прикрытие на жаргоне называется «фортяк» — сокращённо от старого «фартицер» или «фортэцел». Прежнее название сохранилось в составе словосочетания «для фортэцела», то есть для отвода глаз. Что касается «ширмача», это, по сути, синоним «щипача» и означает любого карманного вора. Происходит этот термин от слова «ширма», что значит на арго «карман».
В уголовный жаргон «ширма» перекочевала из тайного наречия русских торговцев вразнос — офеней или коробейников. Оттуда, кстати, в блатную феню пришли многие слова, в том числе и само название «феня» (усечённое «офеня»). Свой тайный язык коробейники называли «офенским», или «афинским» — «греческим», «нерусским», «мудрёным». Было и другое название — «аламанский» (от «Аламания» — Германия), то есть «немецкий». Как известно, «немцами» на Руси первоначально называли всех иностранцев, независимо от национальности, — «немые», не умеющие говорить (подразумевается, по-русски).
У офеней существовал особый способ шифровки, когда в обычном слове заменялся один слог на слог «секретный», выбираемый по договорённости. Скажем, первый слог каждого слова менялся на «шу». Так в русском языке появилось словечко «шустрый», что на языке офеней значило «острый». А вот путём замены первого слога в слове «карман» на условный слог «ши» возник «ширман». Затем «ширман» по созвучию с «ширмой» утратил последнюю букву. Карман уркаганы стали называть «ширмой», а карманника — «ширмачом».
Однако этот этимологический экскурс хотя и проясняет происхождение слова «ширмач», но не отвечает на вопрос, почему отправка Кольки на Беломорканал так обеспокоила одесского пахана. Мы, конечно, можем догадаться, что Колька был большим мастером своего дела. И всё же с чего так убиваться: разве, кроме карманников, других специальностей в уголовном мире нет?
И вот здесь надо подчеркнуть особый статус карманника в преступном мире. В детективном романе братьев Вайнер «Эра милосердия» Володя Шарапов беседует с майором Мурашко, который борется с карманными кражами:
«— Тут штука тонкая, настоящий щипач — всегда воровской аристократ, специалист высшей квалификации…
— Забавно, — покачал я головой. — Я раньше думал, что карманники — это самые ничтожные воришки, низший сорт.
— Ошибочка! — Кондрат Филимонович вздёрнул острый птичий носик. — Вот подумайте сами, какая должна быть отточенная техника, ловкость пальцев, точность движений и нервная выдержка, — какая! — глазом дабы не моргнуть и у нормального человека, который не спит, не пьяный, не под наркозом, вытащить всё из карманов! А он при этом — ни сном, ни духом».
Действительно, элиту блатных составляли не «домушники» (квартирные жулики), не «майданники» (поездные воры), не «медвежатники» (специалисты по взлому сейфов), не мошенники-«фармазонщики» и прочая публика, а именно «щипачи».
Особый вес приобрела эта специальность в начале 30-х годов. Для того чтобы пояснить, почему так произошло, обращусь к своей беседе с ростовчанином Владимиром Ефимовичем Пилипко, который мальчишкой застал время первой пятилетки. «Эти годы запомнились мне прежде всего не ударными вахтами, а страшнейшим голодом, который свирепствовал в стране, — вспоминал Владимир Ефимович. — На моих глазах обессилевшие люди падали и умирали прямо на улицах. Хлеб получали по карточкам. На ребенка — 300 граммов в день, на взрослого работающего члена семьи — 500. Иждивенцы в расчёт вообще не принимались».
Мы уже вскользь говорили о постепенном введении карточной системы в стране, начиная уже с 1929 года. Но настоящие проблемы начались зимой 1930/31 года, когда украинскую деревню поразил голод. В январе 1931-го по решению Политбюро Наркомат снабжения СССР ввёл всесоюзную карточную систему на основные продукты питания и непродовольственные товары. В 1932 году голод охватил хлебородные районы Центральной России, Северного Кавказа и Казахстана, критическое положение с продовольствием усугубилось. По скудной карточной норме отпускались фактически все продовольственные товары, даже картофель. Эти события повлияли и на воровское сообщество.
В Ростове 30-х было два самых «босяцких» района — знаменитая Богатяновка и улицы, прилегающие к Старому (тогда — Новому) базару: Воронцовская, Рождественская, Старопочтовая, Тургеневская. Но между Богатяновкой и Новым базаром была существенная разница.
Богатяновский спуск — место «малин» (притонов), «майданов» (подпольных игорных домов), «ям» (обиталищ скупщиков краденого), тайных публичных домов. Здесь гужевалась разношёрстная уголовная братия: от «гоп-стопников» (уличных грабителей «на испуг») до опытных «шнифферов» (взломщиков). В общем, весь цвет ростовского — и не только ростовского — «дна». А вот район, примыкавший к рынку, был вотчиной людей «благородной» уголовной специальности — карманников. Они считались основными кормильцами воровского братства. «Конечно, “домушник” при удачном раскладе имел с одной квартиры больше, чем карманник мог “сработать” за неделю, а то и за месяц, — пояснял Пилипко. — Но квартирный вор “молотит” не каждый день. Опытный “домушник” “бомбит” по точной наводке, подолгу высматривает каждую “хату”, намечает пути отхода и прочее. Да и “скокари”, “работающие” без предварительной подготовки, всё равно должны вычислить объект наиболее безопасный — а для этого тоже надо “порысачить”. А у “щипача” каждый день — верный заработок. Такого не было, чтобы чего-нибудь не “напхнул” (украл): кто деньги, кто — “бимбер” (часы на цепочке), а в основном — хлебные карточки».
Володя Пилипко жил рядом с базаром и хорошо знал многих мастеров «карманной тяги». Они с приятелями были в те поры совсем малолетками, лет по восемь-десять, а «щипачи» — парни от восемнадцати до двадцати пяти годков: Володя Сильва, Володя Кузнец, Гомошка, братья Василий и Александр Шумаки… Дружба ребят с карманниками была не бескорыстной. «Щипачам» пацаны были нужны как воздух. В СССР существовала так называемая «пятидневка», то есть пять выходных в месяц: обычно 6, 12, 18, 24 и 30 числа. Эти дни были для карманников настоящим праздником: каждый умудрялся «напхнуть» в день от 10 до 20 хлебных карточек! Но украсть — полдела. А куда дальше девать? Сунешься с таким «букетом» — вмиг повяжут. Вот тут на помощь приходили мальчишки. Каждый из них мог отоварить хлеб по пяти-шести карточкам (как бы на всю семью, а семьи в ту пору часто были многодетные). За это пацан получал от уркагана так называемого «птенца», или «птюху», — ломоть от пайки, горбушку. А то и «довесок» — кусочек пайки, который докладывали на весы, если не хватало нескольких десятков граммов. Благодаря этим «птюхам» воронцовская, тургеневская, рождественская ребятня кормилась от пуза. А «отоваренный» ребятами хлеб сбывался через чёрный рынок и каждый день приносил хорошие деньги в воровскую кассу.
Разумеется, «ширмачи» «втыкали» не только в очередях за хлебом. Были ещё колхозные рынки, пришедшие на смену крестьянским, закрытым во время первой пятилетки. Уже в мае 1932 года (когда Колька вкалывал на Беломорканале) рынки и базары возрождаются правительственным указом: необходимо оживить поток продукции из деревни в город, который грозил совершенно иссякнуть. Поначалу вести торговлю разрешалось только крестьянам и сельским кустарям, но вскоре часть таких рынков превратилась и в «барахолки», где люди могли продать что-то из личных вещей. Государство смотрело на это сквозь пальцы. Борьба с «чуждыми элементами» породила огромную армию «лишенцев», то есть людей, лишённых всяких прав, в том числе права на работу, а те, кто не работали, не получали и продуктовых карточек и вынуждены были существовать, распродавая своё имущество.
Вне карточной системы действовали и торгсины — магазины Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами. Сеть специализированных торговых предприятий по обслуживанию иностранных граждан (Торгсин) открылась в СССР 5 июля 1931 года согласно постановлению, подписанному председателем Совнаркома В. М. Молотовым. Предполагалось, что здесь богатые дяди и тёти из стран «загнивающего капитализма» будут оставлять свою валюту, так нужную Республике Советов. В новых магазинах продавали всё, чего нельзя было купить в другом месте — от чёрной икры до костюма «в ёлочку» (причём достаточно дёшево). Иностранцев явно не хватало, и с осени 1931 года торгсины открыли двери для простого советского обывателя. Власть разрешила гражданам сдавать драгоценности и антиквариат, а взамен получать особые чеки, по которым можно купить на соответствующую сумму продовольствие или одежду в торгсиновских магазинах. Правда, все «безделушки» оплачивались как «драгоценный лом», то есть лишь по весу металла или камней, независимо от их художественной ценности. Золотой орден екатерининских времён определялся как «зубное золото», серебряная римская монета приравнивалась к советскому полтиннику.
Параллельно проводили кампании «за валюту» и «за золото», хватая «недорезанных буржуев» и тупо выбивая из них остатки былой роскоши. Когда же «лишенцев» выпотрошили до основания, им милостиво позволили торговать на барахолках всем, что осталось. И вот тут наступало раздолье для заботливых рук «щипачей», «мывших» как продавцов, так и покупателей…
Полученные деньги блатные могли тратить со вкусом. Для обывателя с тугим кошельком даже в голодную пору первых пятилеток было, где разгуляться. Во-первых, на тех же рынках и барахолках. Цены на продукты здесь, конечно, кусались: если в обычном магазине по карточкам мясо стоило 2 рубля за килограмм, то на московском рынке — 10–11 рублей; за килограмм картофеля надо было выложить 1 рубль, в то время как государственная цена на него составляла 18 копеек. Но «честный жулик» на такие мелочи внимания не обращал: не хватит «бабок» — ещё украдём! Во-вторых, в торгсинах, если удавалось «сработать» драгоценности или валюту. Также с конца 1929 года в стране действовали коммерческие магазины: государственные предприятия торговли, где товары продавались без карточек, но по очень высоким ценам, превышавшим государственные вдвое, втрое, а то и вчетверо. К примеру, в 1931 году туфли, стоившие в обычном магазине 11–12 рублей, в коммерческом продавались по 30–40 рублей. Так ведь в обычном магазине даже самую дрянную обувь можно было приобрести только если повезёт, да ещё с боем! А в коммерческом — без проблем, были бы деньги. Неудивительно, что к 1934 году доля коммерческих магазинов составила более четверти от общего государственного товарооборота.
Короче, именно карманники позволяли сытно жить всему воровскому обществу, не только обеспечивая себя, но и наполняя общую кассу. Поневоле запоёшь: «Мы пропадём без Кольки-Ширмача»!
«А фраера вдвойне богаче стали»
Казалось бы, утверждение о разбогатевших «фраерах» на фоне пустых полок магазинов и чудовищной нищеты звучит нелепо. Действительно, в начале 30-х обеспечение товарами и продовольствием становится катастрофическим. Шейла Фицпатрик в книге «Повседневный сталинизм» цитирует американского инженера, который вернулся в Москву в июне 1930 года после нескольких месяцев отсутствия: «Кажется, все магазины на улицах исчезли. Исчез открытый рынок. Исчезли нэпманы. В государственных магазинах в витринах красовались эффектные пустые коробки и прочее декоративное оформление. Но товары внутри отсутствовали».
Уровень жизни резко снизился. В 1933 году средний женатый рабочий в Москве потреблял менее половины количества хлеба и муки по сравнению со своим питерским коллегой начала XX века. В его рационе практически отсутствовали жиры, было очень мало молока и фруктов, а мяса и рыбы — лишь 20 % от рациона пролетария царской России на рубеже веков.
Продуктами дефицит не ограничивался. Катастрофически не хватало потребительских товаров — сказался курс на развитие крупного промышленного производства в ущерб мелкому. Из-за запретов со стороны власти исчезают кустари-ремесленники, на которых в 20-е годы держалось производство глиняной посуды, самоваров, тулупов, шапок и т. д. В 30-е годы даже в общественных столовых не хватало ложек, вилок, тарелок, за ними стояли в очередь, как и за едой. «В течение всего десятилетия совершенно невозможно было достать такие простые предметы первой необходимости, как корыта, керосиновые лампы и котелки, потому что использовать цветные металлы для производства товаров народного потребления отныне запрещалось». Нельзя было достать красок, гвоздей, досок, даже ниток, иголок и пуговиц. Запрещалось продавать лён, пеньку, холст, пряжу — они считались чуть ли не стратегическим сырьём.
С одеждой был вообще полный крах. Население погрузилось в эпоху нищенства и оборванства. Петербурженка С. Н. Цендровская вспоминала о школьном детстве: «Все мальчики и девочки ходили в синих сатиновых халатах… Одевались очень плохо, особенно в 1929–1933 гг. На ногах резиновые тапки или парусиновые баретки на резиновой подошве, руки вечно красные, мёрзли без варежек». В конце 1930 года немецкий рабочий сообщал в письме своему другу: «Теперь уже довольно холодно, а в Сталинграде есть тысячи людей, не имеющих даже сапог, не говоря уже о тёплом платье. Они одеты в лохмотья, да и те так обтрёпаны, как мне ещё не случалось видеть ни на одном “тряпичном карнавале”». Так продолжалось до конца 30-х годов, да и в ту пору жители Киева жаловались, что перед магазинами одежды всю ночь стоят в очереди тысячи человек.
Власть пыталась регулировать распределение благ. Е. Осокина в книге «За фасадом сталинского изобилия» пишет: «С начала 1931 года в стране существовало четыре списка снабжения (особый, первый, второй и третий). Преимущества в снабжении имели особый и первый списки, куда вошли ведущие индустриальные предприятия Москвы, Ленинграда, Баку, Донбасса, Караганды, Восточной Сибири, Дальнего Востока, Урала. Жители этих промышленных центров должны были получать из фондов централизованного снабжения хлеб, муку, крупу, мясо, рыбу, масло, сахар, чай, яйца в первую очередь и по более высоким нормам… Во второй и третий списки снабжения попали малые и неиндустриальные города, предприятия стеклофарфоровой, спичечной, писчебумажной промышленности, коммунального хозяйства, хлебные заводы, мелкие предприятия текстильной промышленности, артели, типографии и пр.»
Но эта система была способна гарантировать разве что скудный минимум существования. Рабочие получали в месяц 0,5–2 килограмма мяса или рыбы, 1 килограмм крупы, 400 граммов постного масла, 500 граммов сахара на всю семью. В столовой инженеру полагалось на обед 300 граммов хлеба, пролетарию — 200 граммов. И это — на крупнейших предприятиях! В Ивановской области рабочие неиндустриальных производств летом 1932 года вообще получали только сахар…
Даже иностранные рабочие — тысячи немцев, американцев, французов, англичан, бежавших от безработицы в «счастливую страну победившего пролетариата», — снабжались немногим лучше. Так, американцы, работавшие на карельских лесоразработках, получали в месяц по килограмму масла, сала, макарон, 2,5 килограмма сахара (зато три буханки хлеба в день). Правда, время от времени в их распределителе появлялись ветчина, сыр, копчёный лосось, орехи, ликер, сигареты, конфеты, фрукты. Советскому рабочему такое даже не снилось… По воспоминаниям американца Джэка Моррисея, который работал в Воронеже, его рацион состоял из омлета, чая и чёрного хлеба на завтрак, жареной в жиру конины, водянистого картофельного пюре, политого растительным маслом, и чая на ланч.
Не надо думать, что в Одессе дела обстояли лучше. Как раз она стала одной из первых, познавших на себе все «прелести» карточной системы наряду с другими украинскими городами. Горожане возмущались сложившейся ситуацией; на улицах Одессы в 1931 году даже появились листовки. В одной из них говорилось: «Всё существо поглощено лишь заботой что-либо достать, начиная от куска хлеба до одежды и от коробки папирос до сапог. На это тратишь всю силу: и свою, и семьи, а для души осталась лишь боязнь и трусость за будущий день».
Так значит, авторы песни про Кольку-Ширмача присочинили насчёт «фраеров», которых некому «щупать дерзкою рукой»? Не будем торопиться. Да, мы обрисовали положение подавляющего большинства граждан страны: рабоче-крестьянской массы, служащих, людей без определённых занятий («лишенцев»). Но определение «фраер» использовано в балладе о Беломорканале совершенно в ином значении!
Словечко «фраер» («фрайер») заимствовано уголовниками из немецкого языка через местечковый идиш в конце XIX — начале XX века. Мы помним, что именно тогда в криминальный мир России влилась мощная еврейская струя благодаря развитию Одессы как крупного торгового центра, где значительную часть составляли евреи. Немецкое «Freier» переводится как «жених». Первоначально проститутки и бандерши так называли своих клиентов, посетителей борделей. Позднее уркаганы стали звать «фраерами» потенциальных жертв — презентабельного вида, модно и стильно одетых людей. Отсюда и «прифраериться» — шикарно одеться.
Существовал также криминальный «промысел», где жертва тоже называлась «фраером». Мы говорим о так называемом «хипесе» («хипеш», «хипиш»). Родился этот промысел в Одессе и заключался в следующем: молодая симпатичная женщина-«хипесница» завлекала «фраера» на съёмную квартиру якобы для занятий любовью. В самый ответственный момент врывался разъярённый «муж». Дальше разыгрывался спектакль, целью которого было выпотрошить кошелёк простачка, будучи при этом уверенными, что он не обратится в полицию. Часто «хипесник» и «хипесница» действительно состояли в гражданском браке (на всякий случай)… «Хипес» происходит от еврейского «хипэ»: так на одесском идише назывался свадебный балдахин (на иврите — «хупа») или свадьба вообще. Во время еврейского обряда свадьбы под «хипэ» стояли жених с невестой.
Существовала даже забавная присказка: «Если фраер при цепочке, значит, фраер при “боках”». «Бока», «бочата» — так долгое время в уголовном мире России назывались часы. Присказка эта — переделка известной в своё время народной частушки про барина:
Смысл частушки, таким образом, противоположен уголовному, но связь присказок про барина и «фраера» очевидна. Можно вспомнить и другую уголовную поговорку, которая дожила до сего дня и перешла в разговорную речь: «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал» — то есть недолго длились счастливые деньки; всё хорошее быстро кончается.
Именно в этом смысле — «богатая жертва» — слово «фраер» употребляет неведомый автор блатной баллады. А потому нам и следует приглядеться: водились ли такие «богатенькие буратины» в Совдепии начала 30-х годов?
Согласно официальным постановлениям, тогда в стране самыми высокими считались нормы индустриальных рабочих и красноармейский паёк. Даже высшая партийно-советская номенклатура официально по нормам снабжения приравнивалась к «гегемону». Однако на деле всё обстояло совершенно иначе. Элита пользовалась такими привилегиями, которые были немыслимы для обыкновенного гражданина. Ей обеспечивалось лучшее в стране спецснабжение. Верховные лидеры (секретари ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ, председатели и их замы ЦИК СССР и России, СНК СССР и РСФСР, ВЦСПС, Центросоюза, Госплана СССР и РСФСР, Госбанка, наркомы и их замы союзных и российских наркоматов, советские дипломаты и ветераны революции, жившие в Москве) получали пайки литеры «А». Работники помельче из тех же учреждений получали пайки литеры «Б». Разумеется, подобного рода система привилегий существовала и на республиканском, и на областном уровне (хотя в несколько меньших масштабах).
Елена Боннэр в воспоминаниях «Дочки-матери» пишет о своих родителях-коммунистах, которые занимали высокие посты, но находились на разных ступенях иерархической лестницы (отчим — в Коминтерне, мать — Московском комитете партии): «Папин паёк — то ли два раза в месяц, то ли чаще — приносили домой. Я не знаю, платили ли за него. В нём было масло, сыр, конфеты, какие-то консервы. Кроме этого, постоянного пайка, были ещё большие предпраздничные. Там была икра, разные балычки, шоколад и тоже сыр и масло. За маминым пайком надо было ходить — недалеко, на Петровку… В нём тоже было масло и ещё что-то, но он был значительно проще папиного».
Мы можем уточнить содержимое «партийного» пайка на примере обитателей Дома правительства в Москве. В 1932 году он включал 4 кг мяса и 4 кг колбасы; 1,5 кг сливочного и 2 л растительного масла; 6 кг свежей рыбы и 2 кг сельди; по 3 кг сахара и муки (не считая печёного хлеба, которого полагалось 800 г в день); 3 кг различных круп; 8 банок консервов; 20 яиц; 2 кг сыра; 1 кг кетовой икры; 50 г чая; 1200 штук папирос; 2 куска мыла; а также 1 литр молока в день. В ассортимент входили также кондитерские изделия, овощи и фрукты.
Привилегии касались не только продуктов питания, но и всего остального. Номенклатура шила на заказ в специальных мастерских одежду и обувь; ордера и талоны на пошив выдавались тоже исходя из статуса «счастливца». По нормам и в порядке очереди можно было приобрести вещи в специальных распределителях или получить со склада в Кремле. В последнем случае одежда бывала конфискованной. Ничего, не брезговали и пиджаками с «вражьего плеча»…
С начала 30-х годов для элиты действовали магазины ГОРТ (Государственное объединение розничной торговли). Доступ туда имели специалисты, работавшие в центральных правительственных, партийных, комсомольских, профсоюзных и прочих учреждениях, крупные инженеры, экономисты и другие специалисты. ГОРТы торговали основными продуктами питания, деликатесами (куда входили колбасы, сухофрукты, сыры и т. д.), а также одеждой, обувью и другими дефицитными промтоварами вплоть до мыла. У ГПУ и армии были свои распределители. Московский спецмагазин ГПУ считался лучшим в Советском Союзе.
Разумеется, мерилом благополучия была и зарплата. В 20-е большевик не мог получать выше партмаксимума — средней зарплаты квалифицированного пролетария. С началом «новой эпохи» всё резко меняется. Денежное довольствие политической элиты растёт. Формально партмаксимум был отменён в 1934 году. Однако ещё в октябре 1933-го постановлением ЦИК и СНК установлены новые должностные оклады номенклатуры. Председатели и секретари ЦИК СССР и союзных республик, СНК СССР и союзных республик, их замы, наркомы СССР и РСФСР и их замы; председатели Верховного суда СССР, РСФСР, краевых и областных судов; прокуроры СССР, союзных республик, краев, областей; ректоры института Красной профессуры и прочие получали оклад 500 рублей в месяц. Особо ценным товарищам устанавливались персональные зарплаты — до 800 рублей в месяц. Для сравнения: средняя зарплата рабочих составляла 125 рублей. Школьный учитель получал 100–130, врач — 150–275 рублей в месяц. Были и оклады 40–50 рублей в месяц, например медсёстры.
Помимо официальной зарплаты, с 20-х годов существовали секретные денежные фонды для помощи руководящим работникам. Из этих фондов оплачивались питание в закрытых столовых, спецбуфетах, покупка квартир, мебели, книг, пособий на лечение, путевок, строительство закрытых домов отдыха и т. д. То есть номенклатура состояла на полном гособеспечении, и реальная зарплата элиты тем самым повышалась вдвое-втрое.
Помимо элиты партийной и советской, существовала военная: высшие чиновники Наркомата обороны, ОГПУ/НКВД и других военных организаций союзного значения, командующие округов, армий, корпусов. Их обеспечение было примерно на том же уровне, что у большевистско-управленческой номенклатуры.
Особое внимание в 30-е годы власть начинает проявлять к интеллектуалам — учёным, технической и творческой интеллигенции. Начало этому положило создание в конце 1921 года Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ) при СНК Республики Советов. Но тогда речь шла об элементарном выживании цвета нации. Так, преподаватели университетов сидели без куска хлеба, а некоторые питались картофельной шелухой. ЦЕКУБУ взяла под своё крыло наиболее ценных специалистов всех отраслей знания и искусства и давала им академический паёк, небольшое жалованье, премии за научные труды, а также дрова, бельё, обувь, одежду, бумагу, карандаши и прочее.
На смену ЦЕКУБУ в 1931 году пришла Комиссия содействия ученым (КСУ). Под ее патронажем находились научные кадры союзного и мирового значения — около двух тысяч человек. Они пользовались особым денежным обеспечением, ведомственными больницами, санаториями — и, разумеется, пайками. Для учёных строились элитные жилые дома. Писатели, композиторы, архитекторы и прочая творческая интеллигенция без внимания власти тоже не остались. Им предоставляли те же льготы, что учёным мужам.
Причём если о привилегиях партийцев и советских чиновников говорить было не принято, то особое положение творческой интеллигенции подчёркивалось постоянно. По слухам, которые смаковались среди обывателей, «красный граф» Алексей Толстой, «буревестник революции» Максим Горький, джазмен Леонид Утёсов и другие имели чуть ли не миллионные счета. Ну, миллионеры или нет, а некоторые известные писатели и драматурги даже в разгар кампании «сдавайте валюту» открыто получали валютные гонорары от издания своих произведений за рубежом. Можно назвать хотя бы Илью Ильфа и Евгения Петрова: их дилогия об Остапе Бендере пользовалась успехом у иностранных издателей, хотя в СССР с 30-х годов не издавалась. Валютные отчисления за постановку своих пьес в зарубежных театрах получал Михаил Булгаков (даже за те пьесы, которые были запрещены в Совдепии) — хотя «за бугром» его вечно дурачили и обсчитывали. Не остался в стороне и Михаил Шолохов: его «Тихий Дон» тоже охотно переводили на иностранные языки.
Так что «богатых фраеров» во времена строительства Беломорканала было вполне достаточно.
И вот тут мы переходим непосредственно к Одессе как курортному центру. В. Файтельберг-Бланк описывает это время так: «В 30-е годы в Одессе наступило временное затишье. Организованных вооруженных банд практически не было. Воры знали, что за бандитизм карают строго… Женщины стремились одеваться скромно, боясь навлечь на своих мужей подозрение в получении скрытых доходов от взяточничества, растрат, воровства или шпионажа… Время угара нэпа прошло. Большинство воров оказались в тюрьмах и лагерях. А тем, кто остался в Одессе, “работы” хронически недоставало. Грабить было некого и нечего. Народ обнищал. Исчезли богатые предприниматели — нэпманы. А что можно было украсть у скромного служащего или рабочего? Воровать стало неинтересно и невыгодно».
Ну, как мы могли убедиться выше, такие выводы слишком категоричны. Да, народ большей частью действительно обнищал. Но «фраера» остались! И какие «фраера» — «фаршированные»… Как признаёт сам автор «Бандитской Одессы»: «Греться “на юга”, в Одессу, начали приезжать “утомлённые работой” воры в законе и “гастролёры” со всего СССР. Тут по-прежнему можно было купить контрабандные товары, оружие, наркотики, проститутку… На Фонтан[6] приезжали отдыхать советские служащие при деньгах и, греясь у моря, теряли бдительность. Беспризорники шарили по пляжам, подбирая одежду купающихся, “бомбили” санатории, вырывали сумочки из рук прогуливающихся дам».
Вот именно здесь, на юге, предоставлялись замечательные возможности «помыть клиентов». Так уж устроена была Страна Советов, что для отдыха в её пределах существовало не слишком много мест — Кубань с сочинским побережьем да Крым плюс сказочная Одесса. Азовское море большей частью слишком мелководно. Так что советская элита обычно тянулась именно в Крым и Одессу (развитие Сочи как полноценного курорта началось лишь в 1934 году). А отдых за границей, в дебрях «загнивающего Запада», для идейного партийца категорически исключался. Как, впрочем, и для любого другого гражданина Советской республики.
Но уж на родной земле представители элиты умели развернуться. Правда, некоторые зарубежные наблюдатели саркастически замечали, что, дескать, даже самый большой комфорт, которым наслаждается советская верхушка, не удовлетворил бы представителя низших слоев среднего класса в Соединённых Штатах Америки. Как далеки эти пессимисты от передовой части советского народа! И в самые тяжёлые времена голода и дефицита товарищи, приближенные к государственной кормушке, не отличались аскетизмом и скромностью.
Например, руководители различных ведомств обожали изготовлять по индивидуальному заказу специальные салон-вагоны (за государственный счёт). При стоимости обычного мягкого вагона 70 тысяч рублей салон-вагон обходился в 300–400 тысяч, а то и более миллиона рублей. Вот описание одного из таких вагонов, предназначенного для наркома финансов Гринько: «Двери купе, спальни и ванной с внутренней стороны зеркальные, внутренняя отделка — из дуба под красное дерево с полировкой под лак, обивка потолка салона клеёнкой, стен — линкрустом по сукну, мебель особой конструкции под красное дерево, обитая шагреневой тканью». В разгар массового голода в стране (1933 год) ежемесячное потребление продуктов служебными вагонами ЦК составило: 200 кг сливочного масла, 250 кг швейцарского сыра, 500 кг колбасы, 500 кг дичи, 550 кг разного мяса, 300 кг рыбы (а также 350 кг рыбных консервов и 100 кг сельдей), 100 кг кетовой икры, 300 кг сахара, 160 кг шоколада и конфет, 100 ящиков фруктов и 60 тысяч штук экспортных папирос. Разумеется, из государственной казны.
Не менее широко расходовались средства на элитные санатории и дома отдыха, куда съезжались «бонзы», прикормленная творческая интеллигенция и учёные со всей страны. Свои дома отдыха имелись у Академии наук, у театров, у когорты советских писателей, не говоря уже о военных, ОГПУ, партийной и советской верхушке. Эта публика топтала летом и улицы Одессы, представляя собой прекрасные объекты для карманников. Денег такие «жертвы» не жалели: вспомним их оклады.
Конечно, при нэпе возможностей поживиться у крадуна было больше. В суровое время первой пятилетки количество «фраеров» поубавилось. Да и действительно ли эти люди «вдвойне богаче стали», чем прежние нэпманы? Кто ж считал… Но на фоне общей нищеты их сытые рожи особо бросались в глаза.
«Маруся едет в поезде почтовом»
Чрезвычайно любопытны указания на то, каким образом Маруся добирается до Беломорстроя и обратно. На это исследователи не обращают внимания, между тем такие детали могут рассказать о многом.
Итак, «Маруся едет в поезде почтовом…» Но позвольте! Почему именно в почтовом? Ведь почтовые поезда вовсе не предназначены для перевозки пассажиров. Почтовый поезд (или, как его стали именовать позже, почтово-багажный) перевозит исключительно почту и багаж, а также обслуживающий персонал. Значит, Маруся была вовсе не «стопроцентной» воровкой, а именно сотрудницей почтового ведомства?
Несмотря на всю неожиданность такого предположения, оно не лишено смысла. Вспомним, как героиня баллады возвращается в Одессу: «И вот уже Маруся на вокзале берёт обратный литерный билет». Прошу заметить — литерный! А литерный билет — это документ на право бесплатного и льготного проезда, предоставляемое определённым категориям работников. Стало быть, Маруся относится именно к такой категории.
А в воровском мире девушка была «марухой», то есть воровской подругой. Их использовали в самых разных целях, в том числе в качестве наводчиц, сбытчиц краденого. Помните Аню из «Эры милосердия»? Она ведь тоже работала на железной дороге — в вагоне-ресторане и помогала ворам сбывать награбленные продукты.
А теперь задумайтесь: почему именно Марусе Костя-Инвалид поручает обеспечить побег «фартовому щипачу»? Странный выбор… но только в том случае, если не принимать во внимание профессию девушки, связанную с железнодорожной почтово-багажной службой. Видимо, у Маруси имелась возможность благодаря своей должности скрытно перевезти Кольку в багажном или почтовом отделении. Таким образом, скорее всего, она была проводником почтового поезда. Не совсем ясно, правда, почему она вернулась не тем же поездом, а взяла льготный билет. Скорее всего, поезд должен был задержаться, а Маруся хотела побыстрее сообщить о своих новых впечатлениях пахану и под каким-то предлогом попросила заменить её на маршруте.
Но здесь мы уже вступаем в область домыслов, чего мне очень не хотелось бы. Оставим это романистам.
Тропою богомольцев
Но перейдём к рассказу непосредственно о Беломорканале. Он оставил в памяти советского народа богатый фольклорный отпечаток в виде новых слов (например, «зэк» — «заключённый каналоармеец»), поговорок («Без туфты и аммонала не построили б канала»), а также множества песен, из которых до нас, увы, дошли далеко не все. Участник краснодонского молодёжного подполья «Молодая гвардия» Ким Иванцов вспоминает о своём отрочестве, выпавшем на предвоенные 30-е годы: «Кстати, о блатных песнях. Их, как и официальных советских и народных, было множество. Разудалых и грустных, завлекательных и душевных, наполненных глубоким смыслом и откровенно никудышных. Казалось, до всего этого нам не было никакого дела, можно было пройти мимо. А вот услышишь распевающего шахтера, бывшего лагерника, даже пьяненького, и невольно замедляешь шаги, прислушиваешься к словам, стараешься уловить их смысл. Те песни — это ведь часть нашей жизни. В некоторых из них, особенно о Днепровской ГЭС (скажем, “Налей, подруженька, стаканчик русской водочки, помянем мы с тобой собачий Днепрострой…”) и Беломорско-Балтийском канале имени Сталина (“Нас сюда из разных мест пригнали, работать на задрипанном канале…”), на строительстве которых погибли сотни тысяч людей, было заложено куда больше правды о нашей жизни, чем во многих официальных, написанных с соблюдением всех правил и признанных обществом. Мы ждали те слова, и мы их услышали. А услышав, стали постепенно осознавать: в этих песнях — история нашего государства».
Ну что же, приобщимся к истории и мы.
Беломорканал (в просторечии — ББК) стал одним из важнейших звеньев сталинского плана реконструкции водного транспорта. Идея прокладки канала не была гениальным изобретением «отца народов». Водный путь из центра страны на север был хорошо известен уже в XVI–XVII веках новгородцам, москвичам, жителям далекого Киева. Через Повенец и Сумский Посад пролегала «тропа богомольцев» к святыням Соловецкого монастыря. О постройке канала говорилось с XIX века. Особо остро необходимость канала проявилась в Первой мировой войне, но высокая стоимость не позволила осуществить проект (хотя искусственный водный путь из 227 километров общей длины канала составляет лишь 48 километров).
Только в советское время Беломорканал, наконец, связал Повенец и Беломорск. Решение о строительстве Беломорско-Балтийского водного пути было принято постановлением Совета Труда и Обороны СССР 3 июня 1930 года, но работы начались лишь 18 февраля 1931 года (притом что эскизный проект канала утвердили только 1 июля 1931 года). А уже 2 августа 1933 года на 19-м шлюзе состоялся праздничный митинг по случаю открытия Беломорско-Балтийского водного пути. Руководству стройки удалось достичь невиданных темпов. Если Панамский канал длиной 80 километров строился 28 лет, Суэцкий канал длиной 160 километров — 10 лет, то значительно превышающий их по протяжённости Беломорканал со 100 сложнейшими гидротехническими объектами был проложен сквозь скальные породы за год и девять месяцев! Правда, канал проложили при минимальных затратах металла и цемента — основными материалами стали дерево, камень и песок. Основными орудиями труда считались тачка, кувалда, топор, лопата, лом. А основными строителями канала стали заключённые.
По официальным данным, в Беломорско-Балтийском лагере (подразделение ГУЛАГа, которое занималось строительством канала) погибло чуть более 12 тысяч человек (1931 год — 1438 заключённых, 1932-й — 2010 человек, 1933-й — 8870 каналоармейцев). Другие источники называют от 50 до 200 тысяч зэков (последнее совсем уж фантастично).
Если верить той же статистике, за весь период строительства на Беломорканале трудились не более 126 тысяч заключённых. Ежегодно их число не превышало 108 тысяч человек. После ввода канала в эксплуатацию на Беломорско-Балтийском комбинате была занята 71 тысяча заключённых. Правда, Иван Солоневич, в марте 1934 года работавший в плановом отделе Свирского лагеря (одного из сравнительно мелких лагерей Белбалтлага), свидетельствовал, что только здесь вкалывали 78 тысяч человек. Всего же, по сведениям Солоневича, приведенным в его книге «Россия в концлагере», на июнь 1934 года «лагерное население ББК исчислялось в 286 тысяч человек, хотя лагерь находился уже в состоянии некоторого упадка — работы по сооружению Беломорско-Балтийского канала были уже закончены и огромное число заключённых было отправлено на БАМ (Байкало-Амурская магистраль)». Солоневич саркастически замечал: в лагерной документации ББК царил такой чудовищный бардак, что ОГПУ не представляло себе истинного количества зэков даже с погрешностью в сотню тысяч. Правда, Солоневич был одним из непримиримых врагов советской власти и позднее даже сотрудничал с гитлеровской Германией. К тому же он не мог знать общего числа заключённых Белбалтлага, даже будучи плановиком в отдельно взятой Свири. И его замечание о «неосведомлённости» ОГПУ не выдерживает критики: невозможно обеспечить работу по строительству, не зная количества рабочих, занятых на объектах, количество выделяемых пайков, обмундирования и т. д. В то же время следует допустить возможность «корректировки» статистики смертей со стороны чекистов в меньшую сторону. Но даже если произвольно увеличить официальные данные вдвое или втрое, то они всё равно не достигают нижнего предела нелепых предположений Солженицына и его последователей.
«Торчит Ширмач на Беломорканале»
Однако для нас особый интерес представляет то, что связано с профессиональными уголовниками, присланными на ударную стройку. Ведь в песне идёт речь именно об их «перековке».
Нередко авторы, которые обращаются к теме уголовщины начала 30-х годов, пытаются убедить читателей, будто бы уровень преступности в это время снизился. Тот же Файтельберг-Бланк пишет: «Снижение преступности было налицо. Расстрелами и облавами памятны 1928–1930 годы. По Украине преступность за первые пять лет 30-х годов снизилась на 50 %, по Одессе же — только на 34 %. Но и такие показатели были крупной победой угро». Ему вторит Фёдор Раззаков в книге «Бандиты времён социализма»: «К началу 30-х годов преступность в стране пошла несколько на убыль. Перестали доминировать контрреволюционные преступления, бандитизм, значительно сократилось количество убийств и разбоев. Многие преступники-профессионалы ещё с дореволюционным стажем окончательно порвали со своим прошлым, как говорится, “завязали”… С вседозволенностью, вызванной к жизни нэпом, было покончено, и тяжёлая поступь НКВД слышалась даже в самых отдалённых закоулках необъятной страны».
Этот миф долгое время господствовал в отечественной исторической науке и родился как раз в первую пятилетку: «В последних “шалманах” и “малинах” с недоумением поговаривают о том, что профессии вора приходит конец. Воровская среда разбита. ГПУ производит небывалые по размерам аресты среди уголовных. Уже нет богатых “карасей” — такой удобной добычи во время нэпа… Все крупные ценности — теперь общественная собственность. Слово “социализм” приобрело грозный смысл в воровском мире… Взломщик Федюкин пишет в письме товарищу: тоска, коммунисты отняли жизнь… Куда истратить форс — всё по карточкам».
На самом деле о снижении преступности не могло быть и речи. Как раз в этот период миллионы людей подвергались травле, лишались гражданских прав, обрекались на медленное вымирание. Немало этих отверженных вливалось в ряды уголовного мира.
Прежде всего, речь идёт о крестьянах. 27 декабря 1930 года Сталин провозглашает политику «ликвидации кулачества как класса». В некоторых районах до 90 % середняков были репрессированы как «подкулачники». Согласно совсекретной справке о количестве выселенного кулачества, только в 1930–1931 годах подверглись репрессиям 1 679 528 крестьян. Всего же за период коллективизации было репрессировано около 5 миллионов жителей деревни.
Политика коллективизации встречала массовый отпор. Сталин с раздражением признавал, что колхозники целыми отрядами выступают против советской власти. Официальная пропаганда сообщает о разгромах «кулацких банд», рисует жуткие образы кулаков — злобных и жестоких мерзавцев, которые творят кровавые расправы над активистами и простыми колхозниками. Массовый характер принимает бегство селян из ссылок. ОГПУ вело тотальную охоту на беглецов, им оставалось одно: вливаться в ряды уголовников. «Крестьянская прослойка» в босяцкой среде в 30-е годы растёт невиданными темпами. Это отмечают многие исследователи — например, Варлам Шаламов в «Очерках преступного мира».
К концу 20-х годов уголовная статистика поползла вверх, особенно в крупных городах. В Ростове-на-Дону, например, по признанию начальника крайугро Орлеанского, возрастает количество вооружённых грабежей и краж. О какой «стабилизации» можно говорить, когда в апреле 1930 года проходит суд над бандой «Чёрные маски», во главе которой стоял некто С. Машилов? Банда насчитывала 22 человека. Помимо нападений на граждан, преступники грабили магазины единой потребительской кооперации (ЕПО). Среди других разбоев и грабежей 1932–1933 годов можно назвать дела банды грабителей Терентьева, Климченко и Сёмина, промышлявших в Краснодаре, Сталинграде и Ростове, или банды Литвинова по кличке «Нибелунг», несколько месяцев совершавшей ограбления и убийства под видом фининспекторов.
В Москве гулял знаменитый Хрыня — Михаил Ермилов, который легко пускал в ход оружие. Не остановился он и перед убийством милиционера Николая Лобанова. Уничтожили уголовника во время уличной перестрелки с муровцами. В Ленинграде осенью 1931 года почти ежедневно совершались налёты на булочные. Банда состояла из четырёх вооружённых мужчин. По материалам уголовных дел тех лет можно увидеть, что часто объектами нападений преступников становились люди, имевшие торгсиновские боны (за которые можно было купить любой дефицит) и валюту. Утверждать, что преступность сократилась в результате свёртывания нэпа, — смешно. Даже к концу 30-х наблюдается разгул уголовщины. Секретные милицейские сводки свидетельствуют о том, что уголовная преступность в то время доставляла жителям Ленинграда не меньше неприятностей, чем в годы нэпа. Почти ежедневно фиксировались факты убийств.
В начале 30-х годов возрождается массовая беспризорность. С ней, казалось бы, было покончено в 1925–1927 годах. Однако рост числа бездомных ребят возобновляется с началом коллективизации. В Ленинграде количество преступников в возрасте до 18 лет, задержанных с 1928 по 1935 год, увеличилось более чем в четыре раза! При этом в воровской квалификации подростки ничуть не уступали взрослым, применяя специальные инструменты для взлома, совершая кражи с проломом капитальных стен, подкопами и т. п. По данным ростовского угрозыска, беспризорники терроризировали население. Они совершали треть всех грабежей, 37 % квалифицированных и 43 % простых краж. Большая часть этих ребят подалась в города из гибнущих деревень. Здесь же можно было встретить и мальчишек из семей «лишенцев».
Это подтверждает докладная записка начальника Ленинградского управления НКВД Л. Заковского, представленная в обком ВКП(б). В ней отмечен рост числа беспризорников и их социальный состав: дети раскулаченных, репрессированных и высланных из города. Колхозы Ленинградской области, куда прибывали высланные, старались избавиться от лишних ртов. Ребятам беспрепятственно выдавали справки, позволявшие покидать колхоз в любое время. В докладной записке это было названо «выживанием сирот из колхозов».
Надо было что-то решать. В 20-е годы советская власть пошла по пути воспитательного воздействия, стремясь обогреть, накормить, одеть, обучить ребят. В 30-е нашёлся более «простой» способ. Уже с 1930 года ростовских беспризорников стали через Новочеркасский изолятор разбрасывать по местам лишения свободы. То же самое происходило и в масштабах всей страны. По воспоминаниям Ивана Солоневича, труд беспризорников активно использовался на Беломорканале.
Короче, страна могла захлебнуться в разгуле уголовщины. Но тут мрачный гений Сталина проявил себя во всей красе. Иосиф Виссарионович решил убить сразу двух зайцев: покончить с преступностью и осуществить индустриализацию всей страны. Дело в том, что к концу 1920-х годов резко увеличилось отставание СССР от ведущих капиталистических стран. В городах рост безработицы достиг 2 миллионов человек — 10 % городского населения. Ситуация с каждым днём усугублялась. «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», — заявил Сталин в феврале 1931 года. Но легко сказать…
В большевистской партии уже с середины 20-х годов велись острые дискуссии о путях преодоления кризиса. В мае 1929 года V съезд Советов утвердил пятилетний план (1 октября 1928 — 1 октября 1933). Задачи ставились фантастические. Предстояло переоборудовать старые заводы и фабрики; создать новые отрасли индустрии; построить металлургические, машиностроительные, станкостроительные, автомобильные, тракторные и химические заводы; создать современную военную промышленность; наладить производство сельскохозяйственных машин и т. д.
Но какими силами претворять в жизнь эти наполеоновские планы? Требовались десятки миллионов рабочих! И каждому нужно было платить. Откуда у нищей страны такие средства? Некоторые большевистские лидеры видели выход в создании «трудовых армий», куда насильно мобилизовались бы рабочие. На производстве установить режим жёсткой военной дисциплины, промышленные программы финансировать в ущерб населению… Главным идеологом казарменной индустриализации стал Лев Троцкий. Большинство его соратников, однако, выступило против подобных планов. Во-первых, партии победившего пролетариата не к лицу превращать «гегемона» в стадо рабов. Во-вторых, что скажет мировое рабочее движение?
И всё же, как ни крути, а миллионы пролетариев необходимы. Сначала вроде бы помогла коллективизация, разорившая деревню. Свыше 8,5 миллиона человек хлынули в города, на стройки. Но такой исход не входил в сталинские планы: кто же на селе останется?! Декретом «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов» 27 декабря 1932 года вводятся паспортная система и институт прописки. Колхозникам и раскулаченным паспорта не полагались. Из колхоза можно было отлучаться лишь по специальной справке, выданной председателем и действовавшей не более 30 дней. В то же время часть кулаков превратили в «спецпоселенцев», бросая их на самые тяжёлые работы в самых тяжких условиях.
Но и они не в состоянии были решить грандиозные задачи индустриализации. И тогда Сталин прикинул, что мысль его заклятого врага Троцкого о «трудовых армиях» не так глупа. Тем более такая армия уже давно сформирована в местах заключения! На 1 мая 1930 года в системе НКВД отбывали наказание 1 712 512 заключённых. Сюда же следует добавить около 100 000 в лагерях особого назначения ОГПУ. Почти два миллиона рабочих рук! Между тем производительным трудом было занято менее 40 % арестантов. И 17 марта 1930 года со статьёй «О некоторых “теориях” в области уголовного права и уголовной политики» в газете «Правда» выступает прокурор РСФСР Николай Крыленко. Он предлагает «в максимальной степени развить систему принудительных работ». Тактичный Николай Васильевич подобрал изящный эвфемизм. На самом деле речь шла о рабском труде. Конечно, дилетанты утверждают, что рабский труд непроизводителен. Но вполне достаточно интенсивности труда! Производительность необходима там, где нужно беречь рабочую силу. А какой смысл беречь раба? Пусть дохнет — наберём новых!
Именно в 1930 году происходит одно из самых значительных событий в советской лагерной истории: возникает ГУЛАГ — Главное управление лагерей ОГПУ СССР. Концентрационные лагеря ОГПУ СССР были переименованы в исправительно-трудовые, появилась идейная база для всемерного развития лагерного рабства — теория «исправления трудом». Формально ГУЛАГ был призван обслуживать только лагеря ОГПУ (Соловки, а также группу лагерей особого назначения с центром в Усть-Сысольске — нынешний Сыктывкар). Однако в условиях «великого скачка» именно на чекистов были возложены задачи руководства гигантскими стройками коммунизма, а это означало фактическое подчинение ОГПУ также лагерей НКВД и НКЮ (Народного комиссариата юстиции). Это ещё не тот Архипелаг ГУЛАГ, которому посвятил своё исследование Александр Солженицын (тот появился в 1934 году), но первый и важный шаг был сделан. Если чекистам требовалось пополнение на «великие стройки» (где люди вымирали тысячами), они брали его из любых мест лишения свободы, в чьём бы подчинении те ни находились.
Следует отметить также ужесточение наказаний. Уголовный кодекс 1926 года был построен по классовому признаку и вследствие этого достаточно либерален по отношению к «классово близким» и «социально близким» элементам. Срок определялся социальным происхождением преступника. В условиях, когда «социально близкими» советской власти объявлялись уголовники, такое положение фактически вело к росту преступности.
Однако изменение обстановки в стране требовало нового подхода. И руководство находит блестящее решение: пускай блатари тоже вносят свой вклад в строительство светлого будущего! С одной стороны, очистим города и веси от шпаны, с другой — пополним трудовую армию заключённых. Надо загнать их на лагерные стройки и сроки давать побольше, без учёта «социальной близости». То есть «близость» не то чтобы отрицается… но пусть урки проявляют её не на свободе, а в лагерях.
Чтобы подвести «научную базу» под увеличение сроков блатным, тот же Крыленко требует отменить «нелепую идею… отвешивать лишение свободы на основании тяжести содеянного и степени опасности преступления». Преступление нельзя измерить на весах, заявляет он и предлагает назначать срок, «исходя не из тяжести преступления, а прежде всего из характера личности преступника». То есть каждый получит столько, сколько ему захочет дать судья — исходя из «характера личности» (проще говоря, из потребности лагерей в рабочей силе). Понятно, что такая чудесная идея воплотилась в жизнь почти мгновенно.
Была изобретена гениальная статья 35 УК РСФСР, вступившая в действие 20 мая 1930 года. Она предусматривала «удаление из пределов отдельной местности с обязательным поселением в других местностях… в отношении тех осуждённых, оставление которых в данной местности признаётся судом общественно опасным». Такое «удаление» связывалось с исправительно-трудовыми работами и назначалось на срок от трёх до десяти лет.
Статья особенно больно била по профессиональным преступникам, для которых сроки наказания прежде были смехотворными. Статья 35 применялась вкупе со статьёй 7 УК РСФСР (или, как говорят в уголовном мире, «через 7-ю»). А в статье 7 говорилось, что меры социальной защиты судебно-исправительного характера применяются — внимание! — «в отношении лиц, совершивших общественно опасные действия или представляющих опасность по своей связи с преступной средой или по своей прошлой деятельности». То есть, чтобы оказаться за колючкой, вовсе не надо совершать преступление. Достаточно «представлять опасность по своей прошлой деятельности». Любому ранее судимому или даже не судимому, а только подозреваемому в преступлении (в «связях с преступной средой»), можно было влепить от трёх до десяти лет лагерей.
Профессиональных преступников, осуждённых по 35-й статье УК РСФСР, называли «тридцатипятниками». Как поясняет в статье «Строители Волжского узла гидросооружений» М. И. Буланов, «тридцатипятники» — «это выходцы из городской и деревенской бедноты, дети рабочих и крестьян, с малых лет выброшенные на улицу и никогда не знавшие ни любви, ни ласки. Искалеченные проклятым капиталистическим прошлым, толкнувшим их в омут, на воровство и пьянство, — эти дети трудящихся являются социально близкими нам людьми, и нельзя считать их окончательно погибшими и потерянными. В лагерях ОГПУ проводится огромная работа по перевоспитанию тридцатипятников, и на примере Белморстроя мы видим, какие изумительные результаты она дает. Едва ли не самые прекрасные страницы вписаны в историю Белморстроя именно тридцатипятниками…»
Одним из таких «тридцатипятников» был и Колька-Ширмач.
«Героем трассы в пламени труда»
Многие обличители советских мест лишения свободы пытаются навязать обывателю мысль, будто бы перевоспитание преступников — «нелепая выдумка» большевиков. Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» пишет: «В старой России существовал (а на Западе и существует) неверный взгляд на воров как на неисправимых, как на постоянных преступников (“костяк преступности”)». Слово «неверный», разумеется, использовано в смысле ироническом. И далее автор проводит мысль о том, что исправление «социально близких» уголовников является изобретением советских идеологов. Выдумана эта теория якобы для того, чтобы, опираясь на блатных, унижать, эксплуатировать и уничтожать политических заключённых.
Однако и на Западе, и в России идеи исправления закоренелых преступников имеют глубокие корни, основанные на христианском мировоззрении. Любой человек греховен по природе своей. За его душу идёт постоянная борьба между дьяволом и Богом. Божьи заповеди люди преступают по искушению сатаны. Мысль о невозможности исправить преступника, привести его к покаянию является признанием всесилия дьявола. А это — страшная ересь. Правда, долгое время на практике в отношении грабителей, воров, убийц предпочитали применять колесование, четвертование, костёр, отсечение головы и прочие прелести. Однако уже в XVIII–XIX веках европейская цивилизация стремится перевоспитать преступников на религиозной основе. В России такая организация — «Попечительное о тюрьмах общество» — возникла в 1819 году и ставила задачей наставление арестантов в правилах христианского благочестия и нравственности. Правда, толку было мало, поскольку попечители не касались режима содержания, устройства тюрем и законодательства. Профессор Михаил Гернет в книге «История царской тюрьмы» пишет: «Создавалось совершенно нелепое положение: нравственное воздействие должно было оказываться на людей, сидевших в тюрьмах на шейных цепях, вделанных в тюремные стены, с кандалами, колодками и рогатками». Как бы то ни было, но в 1877 году краеугольным камнем российской тюремной реформы становится именно принцип исправления преступников. Появилась градация исправительных наказаний: арестантские отделения, смирительные дома, рабочие дома, тюрьмы. Первые три вида предполагали обязательное использование заключённых на различного рода работах.
Кроме того, официально узаконенной политикой царского правительства являлось освоение новых земель руками преступников. Сначала предпочтение отдавалось ссылке. Она рассматривалась как средство колонизации огромных территорий России и возможность использовать дармовую силу. В 1761–1765 годах огромное количество ссыльных было брошено на заселение Барабинской степи и на строительство дороги между Тобольском и Иркутском. Здесь от непосильного труда и невыносимых условий жизни погибли тысячи людей. Произвол властей и бесправие ссыльных проявились и в начале XIX века при заселении Нижнеудинского округа. Людей держали на положении рабов. К середине XIX века таких поселенцев в Сибири насчитывалось более 200 тысяч, и к ним каждый год добавлялось по 18 тысяч человек. Правительство не оказывало им никакой помощи: самые выносливые и так выживут и освоят земли! Нужно будет больше — сошлём ещё!
Существовала также каторжная система наказаний с рабским трудом и бесправием «сидельцев». Это пятно дикого варварства (вкупе с опытом освоения новых земель ссыльными поселенцами) и послужило прообразом ГУЛАГа. Так что лагеря придумал не Френкель, не Берман и вообще не большевики. Лагеря есть творческое развитие опыта царской каторги, традиция, порождённая психологией деспотизма.
Заметим, что в царской России отдавалось предпочтение карательному уклону. В середине XIX века ссылка теряет свой приоритет. Михаил Детков в исследовании «Наказание в царской России» приводит цитату из отчёта чиновника тюремного ведомства, которая касается ссылки: «Она была наказанием весьма тяжким, когда ей предшествовали мучительные телесные казни, утомительное следование по этапу, в кандалах… и когда затем, по малой ещё населённости Сибири, водворённый в ней преступник должен был отыскивать пропитание почти в безлюдной местности. Но с отменою телесных казней, с введением усовершенствованного способа перевозки арестантов по железным дорогам, на пароходах и лошадях и с умножавшимся в последнее время населением Сибири, ссылка туда очень приблизилась к простому поселению». Какая тоска по кандалам, кнуту, голоду!
Итак, большевики не были первооткрывателями ни в деле перевоспитания преступников, ни в использовании их как рабочего скота. «Заслуга» Великого Вождя заключается лишь в том, что он сумел объединить исправительное и карательное начала дореволюционной уголовно-исполнительной системы. Блестящая мысль, будто бы каторжный труд способствует нравственному перерождению преступника — это шедевр, до которого не додумались старорежимные столпы тюрьмоведения.
Но перейдём к Стране Советов. Многие историки настаивают на том, что сталинская репрессивная машина обрушивалась в первую очередь на политических противников и безвинных граждан, попадавших под молотилки разоблачительных кампаний. Блатных же власть якобы рассматривала как «социально близкие элементы» и использовала для подавления общей массы арестантов. Это — очень примитивный взгляд.
Тоталитарное государство характеризуется полным контролем над всеми сферами жизни общества. Между тем организованная преступность (каковой следует признать институт «воров в законе») — это теневая структура, которая заменяет для уголовников государственную власть и даже противостоит ей. В демократическом государстве борьба против такой структуры затруднена соблюдением правовых норм. Тоталитаризм стремится устранить «очаг скрытой оппозиции» любыми средствами.
Правда, у фашистских тоталитарных систем было значительное преимущество перед сталинской. Их идеология строилась на принципе превосходства своей нации (гитлеровский национал-социализм, итальянский фашизм). Сталинская система подавления личности построена на классовом принципе — превосходстве пролетариата и крестьянства над «имущими» классами. Гитлер и Муссолини довольно быстро и эффективно расправились с внутренней преступностью под знаменем борьбы за «чистоту нации», объявив уголовников (а заодно проституток, бродяг, инвалидов и др.) «отбросами» и «недочеловеками», уничтожив физически, загнав в концлагеря или выдавив из страны. Так Муссолини нанёс мощный удар по сицилийской мафии, многие представители которой эмигрировали в США. Большевики же изначально причислили уголовников к «угнетённым» массам, вынужденным преступать «эксплуататорские законы». Отказаться от такой установки красные идеологи не могли. Преступность считалась пережитком прошлого, в СССР (по мысли революционных теоретиков) для её существования не было социальной базы. Бывшие преступники по мере победного шествия социализма должны понять, что, когда мир насилья разрушен, нет смысла грабить, разбойничать и воровать. Признать «социально близких» неисправимыми врагами общества значило нанести удар по большевистской идеологии. Совсем другое дело — сталинская теория «обострения классовой борьбы» по мере продвижения к победе социализма.
Классовая теория ограничила идеологов тоталитарного социализма в средствах борьбы с преступностью. Нельзя было единым махом расстрелять или утопить весь «социальный мусор». Наоборот, «близкие» нуждались в поблажках (отсюда — Уголовный кодекс 1926 года с его смешными сроками наказания для профессиональных преступников). Приходилось искать другие способы — «большевистские». Так появляется идея «перековки трудом». Решение гигантских задач индустриализации страны требовало привлечения огромного числа заключённых, так что вместе с уркаганами «перековывать» предлагалось и «вредителей», «кулаков», «контриков». Авторы сборника «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», выпущенного в 1934 году и прославлявшего великую стройку, описывают этапы заключённых: «Эшелоны прибывают и прибывают… Встречаются былые студенты, урядники, коммивояжёры, эсперантисты, антиквары… И квадратные тугие пальцы деревенского бытовика, и тонкие — тридцатипятника, и бледные руки интеллигента — всем одинаково трудно взять топор и подступиться к этому лесу».
Особенно потрясают эсперантисты. Этим просто на роду написано валить лес рядом с антикварами и коммивояжёрами. Да за одно только звучание подобных «буржуйских» специальностей не грех сразу к стенке ставить. Впрочем, власть жестока не ко всем. Гнусные «вредители»-инженеры живут в приличных условиях, поскольку без них «товарищи» никакого канала вырыть не смогут — разве что могилу…
Впрочем, нам важно, насколько политика «перековки трудом» касалась именно профессиональных уголовников. Приходилось ли им вкалывать на «великих стройках», мёрзнуть в бараках? Приносила ли результаты чекистская система «перевоспитания»?
Ответить на этот вопрос непросто. С одной стороны, загнав уголовников в лагеря, власть продолжала с ними игру в «социально близких». Отношение к ним было несколько иным, нежели к «вредителям» и «контрикам». Если кто и мог рассчитывать в первую очередь на доверие лагерной администрации, так это именно блатари.
Но существовал ряд нюансов, которые мешали сближению воров и чекистов. Первое: «воровской закон» запрещал блатарю работать. Этот «закон» выработался как раз в конце 20-х — начале 30-х годов. Работа считалась позорной, в том числе и на руководящих должностях. Нельзя было занимать и «хлебные» должности лагерной обслуги. Жить в местах лишения свободы полагалось исключительно за счёт «фраеров» — грабить, облагать данью, заставлять вкалывать на блатных…
Однако индустриализация внесла свои поправки. Органы ОГПУ становились теперь не только карателями, но и производственниками, на которых спускались гигантские планы. И эти планы приходилось выполнять любыми способами. В работу должны были включаться все арестанты — независимо от социального происхождения. Чекисты бросились сколачивать бригады не только из кулаков и буржуев, но и из «ширмачей», «скокарей», «штопорил», «майданников». Раз ты социально близкий — докажи ударным трудом! «Честные воры» отчаянно сопротивлялись. С отступников они спрашивали строго, вплоть до физической расправы. Но обстановка складывалась явно не в пользу блатных.
Нельзя в полной мере согласиться с выводами Солженицына о том, что урки занимались только тем, что «заряжали туфту» и нещадно эксплуатировали остальных зэков при попустительстве чекистов. То есть такая практика наверняка существовала. И быть иначе не могло, потому что многочисленные инструкции требовали оказывать доверие уголовникам-рецидивистам и призывали «использовать лучшие свойства блатных» — романтику, азарт, самолюбие, разжигать классовую ненависть к кулакам и контрреволюционерам. Однако, прежде чем опереться на «блатной актив», лагерная администрация должна была чётко указать уркаганам их место. Чекистам требовались не живущие по своим законам блатари, а жулики, принявшие правила игры в «перековку». Сначала ты обязан признать, что стал «новым человеком». Тогда и отношение к тебе будет особое. Пока же воровской мир упорствовал («я честный вор, тяжелее кошелька ничего в руках не держал!»), чекисты гнули его и ломали.
Причём зачастую лагерная администрация опиралась как раз не на «социально близких», а на «врагов». Именно они могли рассчитывать на серьёзные поблажки. Так, 12 апреля 1930 года Генрих Ягода, в то время заместитель председателя ОГПУ, даёт следующее указание своим подчинённым — Бокию, Шанину, Эйхмансу и прочим деятелям лагерной системы: «Заключённых перевести на поселковое положение до отбытия срока наказания. Надо сделать так: группе (1500 чел.) отборных заключённых в разных районах дать лес и предложить строить избы… Посёлок от 200 до 300 дворов. Управляется комендантом. В свободное время, когда лесозаготовки окончены, они (заключённые, особенно слабосильные) разводят огороды, свиней, косят траву, ловят рыбу, первое время живя на пайке, потом — за свой счёт».
Колонистами-поселенцами становились выходцы из рабочих и крестьян, осуждённые за бытовые преступления. Из осуждённых по уголовным статьям «вольную» получали лишь те, кто мог вызвать в район колонизации членов семьи. Таким образом, блатные лишались такой льготы: они не могли, согласно своим законам, обзаводиться семьёй и поддерживать родственные связи.
А вот по отношению к «социально близким» чекисты, напротив, повели себя круто — без особых церемоний создавали из блатарей так называемые РУРы (роты усиленного режима). РУРы были изолированы от основной массы заключённых и состояли исключительно из уголовников. Штрафной паёк, холодные шалаши и палатки. Хочешь — вкалывай. Не хочешь — подыхай. Работаешь — из РУРа переведут в обычную бригаду. Но даже и там уркам приходилось жить в тех же условиях, что и остальным зэкам. Грабили работяг? Да. Но и с тех взять можно было в основном часть пайка. А что тот паёк? На строительстве тракта Чибью-Крутая (тяжёлые работы) при выполнении нормы зэк получал в день 1 кг чёрного хлеба (вернее, должен был получать). На остальных работах — 600–800 г. При невыполнении норм — 300–400 г. В штрафном изоляторе — 200 г. В ежедневный рацион буровиков входило 75 г крупы и 11 г жира. Прочим рабочим — 60 г крупы и 8 г жира. Месячная норма мяса — 2 кг. Мясо — только солонина, которая чаще всего заменялась рыбой. Из овощей — турнепс, редко — кислая капуста. Ни сливочного, ни растительного масла, ни молочных продуктов заключённым не полагалось. О посылках и передачах тоже можно было не мечтать.
И уголовники не выдержали: пошли работать наравне с «мужиками», а нередко — опережая их! Впоследствии это повторится и в военном, и в послевоенном ГУЛАГе. По свидетельствам многих зэков, воры, оказавшись в условиях, когда приходится выбирать между работой и «доходиловкой», то есть медленной смертью, выбирали работу — и «пахали» так, что пар из ушей шёл.
Сборник «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» — книга откровенно заказная и пропагандистская, однако из неё можно почерпнуть немало интересного. Вот отрывок о слёте «тридцатипятников»:
«Высокий парень в бушлате подходит к столу:
— Мы — бурильщики Телекинских скал. Скалы у нас такие, что буры ломаются. Ничего — берём. Коллектив наш насквозь шпанский — ничего твёрже сахара не грызли…
Губатого сменяет пожилой человек в потрёпанном красноармейском шлеме:
— Привет ударному слёту от коллектива “Перерождение”! В нашем коллективе почти все — бывшие токаря по хлебу, слесаря по карману. Приехали в эту трущобу — панихиду запели: пропадём на камнях. Но потом взялись за ум. Дорог наделали. Бараков настроили. Трудновато приходится, но ведь мы никогда не работали…»
Это не выдумка. Изучение организации работ на Беломорканале подтверждает, что существовало много бригад исключительно из уголовников, и жуликам приходилось махать кайлом не меньше других. Вот только — «перековывались» ли? На этот счет есть большие сомнения. Появлялись они и среди участников «слёта ударников», описанного в беломорской «библии». Для сравнения приведём рассказ об этом «историческом форуме» бывшего каналоармейца Ивана Солоневича: «Корзун… торжественно пожимает руки “лучшим из лучших” и представляет их публике: вот Иванов, бывший вор… создал образцовую бригаду… перевыполнил норму на… процентов, вовлёк в перевоспитание столько-то своих товарищей… Публика аплодирует, в задних рядах весело посмеиваются… “Лучшие из лучших” горделиво кланяются публике, выходят на трибуну и повествуют о своей “перековке”. Какой-то парень цыганистого вида говорит на великолепном одесском жаргоне, как он воровал, убивал, нюхал кокаин, червонцы подделывал и как он теперь, на великой стройке социалистического отечества, понял, что… ну, и так далее. Хорошо поёт, собака, убедительно поёт. Уж на что я стреляный воробей, а и у меня возникает сомнение: чёрт его знает, может быть, и в самом деле перековался».
Однако сомневался Солоневич не зря. На следующий день выяснились подробности, которые не вошли в фолиант о Беломорканале. Иван Лукьянович зашёл в редакцию многотиражной газеты «Перековка» и застал там лёгкую панику:
«К редакторскому столу подошёл какой-то из редакционных лоботрясов и спросил Смирнова (редактора “Перековки”. — А.С.):
— Ну так что же мы с этими ударниками будем делать?
— Чёрт его знает… Придётся всё снять с номера и отложить.
— А в чём дело? — спросил я…
— Тут, понимаете, прямо хоть разорвись… Эти сволочные ударники, которых вчера в клубе чествовали, так они прямо со слёта, ночью, разграбили торгсин…
— Ага, понимаю, словом — перековались?
— Абсолютно. Часть перепилась, так их поймали. А кое-кто захватил валюту и — смылись… Теперь же такое дело: у нас ихние исповеди набраны, статьи, портреты и всё такое. Чёрт его знает — то ли пускать, то ли не пускать. А спросить некого…
Я посмотрел на “главного редактора” не без удивления…
— Не видно марксистского подхода. Ведь совершенно ясно, что всё нужно пускать: и портреты, и статьи, и исповеди… Давайте рассуждать так: речи этих ударников по радио передавались? (Смирнов кивнул головой.) О том, что эти люди перековались, знает, можно сказать, весь мир. О том, что они сегодня ночью проворовались, даже и в Медгоре знает только несколько человек. Для вселенной эти дяди должны остаться святыми, блудными сынами, вернувшимися в отчий дом трудящихся СССР. Если вы не пустите их портреты, вы сорвёте целую политическую кампанию».
Разумеется, кампания не была сорвана…
Вообще же влияние тотальной пропаганды сталинского социализма нельзя сбрасывать со счетов. Изо дня в день — на собраниях, в газетах, по радио, в кино, в общественных местах — везде шла речь об индустриализации, грандиозных успехах строительства, торжестве социализма и скором достижении всеобщего благоденствия — надо только немножечко подналечь, из последних сил, ну через «не могу»! Счастье-то вот оно, рукой подать…
Непрерывная обработка сознания приносила плоды. Трудовой энтузиазм и нечеловеческое напряжение сил, с которыми трудились люди Страны Советов, — вовсе не миф. Иностранные рабочие часто не выдерживали такого темпа. Один из строителей Кузнецка рассказывал: «Жили мы на Нижней колонии, в бараке № 14… В мае 1931-го нас перебросили на кладку коксовых печей. Кладка здесь сложная, — из наших каменщиков никто на такой не работал. Здесь работали французы, и они дали норму 0,5 тонны… Но когда я подсчитал, то понял, что какая бы ни была сложная работа, а тонну-то уж сделать можно. Мы выдвинули тонну. Французы косились на нас, считали чудаками и сердились, особенно когда мы ещё новый встречный выдвинули — 2,2 тонны. Потом мы и эту цифру перекрыли, давая 3,8 тонн… Французы несколько раз бросали работу и со злостью уходили, потому что не успевали за нами смотреть… В конце концов французы удрали, уехали насовсем, и цех мы построили без них».
А уж в лагерях массовой обработке сознания зэков уделялось огромное внимание. Здесь напряжённо работали так называемые КВЧ (культурно-воспитательные части) и КВО (культурно-воспитательные отделы). Вот хотя бы КВО Ухтпечлага. Эта лагерная структура ведала школами спецпосёлков, профтехникумом, соцсоревнованием и ударничеством среди лагерников, их культурным обслуживанием. В ведении КВО было 30 клубов, лагерный театр, 54 красных уголка, 11 радиоузлов, 1500 радиоточек, 30 радиоприёмников, 19 базовых библиотек, 62 библиотечки-передвижки (всего 36 117 книг), 74 музыкальных кружка. Выпускалось 270 стенных газет, распространялось 3877 экземпляров периодических изданий. 10 сентября 1931 года вышел первый номер общелагерной газеты «Северный горняк», 6 октября 1933-го — первый номер многотиражки «Вышка». На угольном Воркутинском отделении выходила многотиражка «Полярный шахтёр», на судоверфи (Покча) — газета «На верфи», на Водном промысле — «На вахте», в пятом лаготделении — «Тракт», в центральной авторемонтной мастерской — «За рулём». Первая школа с четырьмя начальными классами (23 учащихся) была организована в Чибью летом 1932 года. Профтехникум имел буровое, теплотехническое и другие отделения.
Конечно, не следует переоценивать эти цифры и факты. На Соловках тоже издавался журнал «Соловецкие острова», была художественная самодеятельность и т. д. Что не мешало ставить заключённых «на комарики», избивать, расстреливать, морить голодом. Человека формирует проза жизни: паршивое питание, завышенные нормы выработки, ручной труд, ветхая одежда, мат, произвол начальства… Так что трудно согласиться с выводами профессора Академии МВД РФ С. Кузьмина: «Необычность “тюремной” обстановки, предоставление возможности каждой личности проявить своё дарование — всё это давало о себе знать. Одних “засасывали” художественная самодеятельность, агитбригады, духовые оркестры, театральные труппы. У других появилась реальная возможность реализовать своё дарование в изобретательстве и рационализаторстве, художественном оформлении лагерных городков. Третьи увлекались опытнической работой в сфере сельского хозяйства. У четвёртых впервые появилась возможность овладеть грамотой или приобрести интересующую специальность. Пятых увлекал пафос соревнования и ударничества…» Просто царство утопического социализма! Понятно, что миллионы советских граждан сами рвались за колючку, чтобы их «засосала» самодеятельность или увлёк пафос ударничества… О «шестых» и «седьмых», которые дохли с голоду и замерзали, профессор не упоминает.
И всё же громкие похвалы, значки ударников, выдвижение на руководящие зэковские должности, система зачётов рабочих дней — всё это способствовало «искушению» жуликов.
Сказанное выше вовсе не свидетельствует о том, что работали все урки Беломорканала. Было и другое: отдельные кухни для бригадиров-блатарей с усиленным пайком; воровство и грабежи; издевательства «блатных начальничков» над зэками из кулаков и «контриков»… Но это — позже. После того, как блатное братство доказало своё «перевоспитание».
«Толкает тачку, стукает киркой»
В песне не случайно упомянуто, что бывший карманник «толкает тачку, стукает киркой» (часто поют — «стукает кайлой», что, в принципе, одно и то же). В ГУЛАГе, где господствовал ручной труд, кайление и перевозка тачек с тяжёлым грузом действительно были наиболее распространённым занятием для зэков. Варлам Шаламов признавался: «Я — тачечник высокой квалификации. На Колыме я обучен только катать тачку. И кайлить камень». Это — наследство царской каторги, которым с удовольствием воспользовались большевики. Разве что на Сахалине каторжан приковывали к тачке, а в ГУЛАГе обходились без этого. Именно на строительстве Беломорканала кайло и тачка стали использоваться в масштабах, перекрывших сахалинские. Ещё бы: «великие стройки социализма, великий скачок в эру технического прогресса»! Как оказалось, скачок этот можно осуществить в России лишь при помощи кирки и какой-то матери…
Беломорские тачки и кирки наводили ужас на советский маргинальный мир. Об этом свидетельствует и сборник «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина». В главе «Заключённые» авторы повествуют о проститутках и воровках, брошенных на рытьё канала: «Многие из женщин взяты, очевидно, прямо “на работе”, где-нибудь на улице или в пивной. На них шёлковые платья, пальто с обвислым клёшем, джемперы и лихие береты, надвинутые на один глаз… Привыкшие к городским тротуарам, они спотыкаются о каждый бугорок и проваливаются в каждую выемку. Они не умеют даже ходить по этой земле, а им предстоит на ней работать. Они впервые видят беломорскую тачку… Они видят только грубо сколоченные доски и небольшое толстое колесо, залепленное грязью. Так вот она, эта тачка, к которой они будут прикованы, словно “каторжные”. Вот оно то, что мерещилось им в часы “приводов” и в тяжёлых муровских снах. Их тонкие ловкие пальцы, привыкшие к деликатным воровским инструментам, должны будут взяться за кирку, за заступ… Недаром газета “Перековка” пишет: “Нужно иметь крепкие мускулы и привычные к заступу руки, чтобы прокладывать в земле русло для великого водного пути. Нужны огромный энтузиазм и упорная воля к победе, чтобы шаг за шагом, метр за метром, с заступом и киркой продвигаться вперёд, взрыхляя плотно слежавшийся песок со щебнем и глиной, дробя камень, вырывая попутно пни. В первые дни работа на земле даётся женской бригаде с величайшим трудом”». Заметим, что такая работа заступом и киркой нелегко давалась не только женщинам, но и представителям сильного пола, не привыкшим к ежедневным тяжёлым физическим нагрузкам.
Не легче кайла была и тачка. Варлам Шаламов посвятил ей отдельное повествование — «Тачка II». Он пишет о более позднем гулаговском периоде, о Колыме, однако всё приложимо и к Белбалтлагу:
«Тачку нельзя любить. Её можно только ненавидеть. Как всякая физическая работа, работа тачечника унизительна безмерно от своего рабского, колымского акцента. Но как всякая физическая работа, работа с тачкой требует кое-каких навыков, внимания, отдачи.
И когда это немногое твое тело поймёт, катать тачку становится легче, чем махать кайлом, бить ломом, шаркать подборной лопатой…
Колеса тачечник не видит, только чувствует его, и все повороты делаются наугад с начала до конца пути… Единство колеса и тела, направление, равновесие поддерживается и удерживается всем телом, шеей и спиной не меньше, чем бицепсом…
Приобретённые же навыки тело помнит всю жизнь, вечно».
Однако дело не только в тачке, но и в трапе, в том деревянном настиле, по которому заключённый с нею бегает. Такие передвижения тоже требуют особого навыка:
«Настланы толстые доски, и не просто, а соединены друг с другом намертво в особое инженерное сооружение — центральный трап. Ширина этого трапа полметра, не больше. Трап укреплён неподвижно, чтобы доски не провисали, чтобы колесо не вильнуло, чтобы тачечник мог прокатить свою тачку бегом.
Этот трап длиной метров триста… От трапа отходят отростки, много… К каждой бригаде тянутся доски, скрепленные не так основательно, как на центральном трапе, но тоже надёжно.
Уступи дорогу тем, кто бежит бегом, пропускай их, сними свою тачку с трапа — предупреждающий крик ты услышишь, — если не хочешь, чтобы тебя столкнули. Отдохни как-нибудь — чистя тачку или давая дорогу другим, ибо помни: когда ты возвратишься по холостому трапу в свой забой — ты не будешь отдыхать ни минуты, тебя ждёт на рабочем трапе новая тачка, которую насыпали твои товарищи, пока ты гнал тачку на эстакаду… Докатив тачку до своего забоя, ты просто бросаешь её. Тебе готова другая тачка на рабочем трапе».
Возможно, читатель заметит: зачем нам такие подробности, мы ведь тачку катать не собираемся… Не зарекайся, дорогой читатель. Жизнь, она непредсказуема. А тачки в прошлое ещё не канули. Конечно, нет смысла в рамках нашего очерка подробно пересказывать шаламовское повествование. Желающий может сам обратиться к рассказу старого лагерника о тонкостях рабского труда тачечника: и как манипулировали нормой выработки, давая одним бригадам маршрут в 300 метров, а другим — в 60, и как конвойные зорко следили, чтобы тачечник не «филонил», требуя от него даже после отправления большой нужды — «Где говно?!»… Но вот на разновидностях тачек хотелось бы остановиться особо.
Авторы знаменитого сборника о Беломорканале отмечали:
«Здешняя тачка, подобно киргизской лошади, низкоросла, невзрачна с виду, но необычайно вынослива. Она произошла от различных пород тачек: шахтёрских, железнодорожных, украинских, уральских и прочих. Приспосабливаясь и видоизменяясь, тачка приобрела здесь иной разворот ручек и “крыла”, т. е. низкие, широкие бока. И на этих своих выносливых боках она вынесла многие тяготы Беломорстроя. О ней, о “крылатой” тачке, толкуют в бараках, её обсуждают на собраниях, о ней поют частушки:
И теперь одна из женщин, проходя мимо тачки, плюёт на неё с таким страшным выражением злобы и ненависти, что поражённый конвойный неофициально говорит: “Ну, тётка… ну, тётка…” И больше ничего прибавить не может».
Когда читаешь Шаламова — лагерника более позднего призыва, понимаешь реакцию «тётки». Варлам Тихонович подчёркивал разницу между обычной «старательской» и «гулаговской» тачкой: «Старательская тачка, ёмкостью 0,03 кубометра, тридцать тачек на кубометр породы… На Колыме в золотых её забоях к сезону тридцать седьмого года были изгнаны старательские тачки, как маломерки чуть не вредительские… Гулаговские, или берзинские, тачки к сезону тридцать седьмого года и тридцать восьмого года были емкостью в 0,1–0,12 кубометра и назывались большими тачками… Сотни тысяч таких тачек были изготовлены для Колымы, завезены с материка как груз поважней витаминов».
Шаламов называет гулаговскую тачку «берзинской» — по фамилии директора Дальстроя Эдуарда Берзина, много сделавшего для освоения Колымы зэками и расстрелянного в конце концов летом 1938 года за «шпионскую деятельность в пользу Японии». Беломорскую тачку по аналогии можно назвать «фиринской» — в честь начальника строительства Беломорско-Балтийского канала Семёна Фирина (расстрелян в 1937 году). Она была переходной от «старательской» к «берзинской», и ёмкость её составляла 0,075 кубометра, против чего в ноябре 1936 года выступала газета «Советская Колыма» (статья «Проблема тачки»): «Мы вынуждены проблему откатки грунтов, торфов и песков на какой-то период тесно связать с проблемой тачки… От конструкции тачки в огромной степени зависят и производительные темпы, и себестоимость продукции. Дело в том, что эти тачки оказались ёмкостью всего 0,075 кубометра, тогда как емкость нужна не менее 0,12 кубометра… Для наших приисков на ближайшие годы требуется несколько десятков тысяч тачек. Если эти тачки не будут соответствовать всем требованиям, которые предъявляют сами рабочие и производственный темп, то мы, во-первых, будем замедлять производство, во-вторых, непроизводительно затрачивать мускульную силу рабочих и, в-третьих, растрачивать бесцельно огромные денежные средства».
Грешно умолчать также о замечательном эпизоде из фильма «Заключённые» 1936 года — экранизации пьесы Николая Погодина «Аристократы», посвящённой «перековке» уголовников и «соцвредителей» на Беломорканале (о пьесе и фильме мы подробнее поговорим в следующих очерках). Начальник лагеря Громов видит, как каналоармеец катит тачку, а она соскакивает с трапа-доски. И чекист с отеческой заботой объясняет зэку: «Ты нагружай к колесу больше тяжести, а к рукам — меньше. Тогда тяжесть пойдёт на баланс. Возить будет легче. Доски надо посыпать песком или опилками. Понятно?» И тут же, поворачиваясь к стоящему рядом «вредителю», сурово отчитывает его: «Инженер Садовский, почему не покажете им, как надо работать? Люди мучаются, а зря… Вы же производственник, практик. Вы должны уметь заботиться о людях». И зритель осознаёт, что именно инженер Садовский во всём и виноват. Правда, не совсем ясно, откуда Садовскому знать о тонкостях тачечного дела. Но логика проста: ты же инженер! Про пифагоровы штаны в курсе, должен сообразить и о нагрузке на колесо!
И наконец, вспомним о лагерной поговорке про тачку: «Машина ОСО — две ручки, одно колесо». ОСО — это Особое совещание сначала при ОГПУ СССР (с 28 марта 1924 года), затем при НКВД СССР (с 5 ноября 1934 года по 1 сентября 1953 года). Поговорка, скорее всего, родилась уже после окончания беломорского строительства. Особое совещание при ОГПУ могло приговорить обвиняемого лишь к трём годам лишения свободы — срок не слишком впечатляющий. Поэтому в годы первой пятилетки основная масса «человеческого материала» шла не через ОСО, а через суды. Но вот с 1934 года «колесо ОСО» закрутилось на полные обороты: обвиняемых швыряли в лагеря по «ускоренной программе», без судебных формальностей. Правда, к расстрелу Особое совещание приговорить не могло: максимальный срок — пять лет лагерей, а с апреля 1937 года — 8 лет. Но в памяти лагерников внесудебная машина НКВД и ненавистная зэковская тачка слились в единое целое…
«Канает Колька в кожаном реглане»
Теперь обратимся непосредственно к нашему герою — Кольке-Ширмачу. Вспомним, каким он предстаёт перед нами «зорькою бубновой» (то есть алой, по цвету карточной масти):
Прежде чем «пощупать» Колькину одежду, скажем несколько слов по поводу моды первых советских десятилетий. Отношение к одежде в 20—30-е годы прошлого столетия было выражением вкусов и пристрастий не личных, а классовых. Мода стала ареной политической борьбы. Особый размах бои на поле «модной» брани приобрели в конце 1924 — начале 1925 года, в момент стабилизации нэпа. Как знамя в этой битве советские властители подняли лозунг Ленина о том, что самый решительный бой за социализм — это бой «с мелкобуржуазной стихией у себя дома». Появился даже особый термин — «онэпивание». Оно выражалось и в подражании буржуазной моде. Член президиума Центральной контрольной комиссии ВКП(б) Арон Сольц, выступая в 1925 году перед слушателями Коммунистического университета имени Свердлова, говорил: «Если внешний облик члена партии говорит о полном отрыве от трудовой жизни, то это должно быть некрасивым, это должно вызвать такое отношение, после которого член партии не захочет так одеваться и иметь такой внешний облик, который осуждается всеми трудящимися».
И это были не пустые слова. Они активно претворялись в жизнь. Так, в пристрастии к хорошей одежде, то есть в «буржуазных замашках», пытались обвинить Григория Зиновьева его соратники в ходе партийной дискуссии 1925–1926 годов. Ленинградских рабочих раздражало и то, что сын Зиновьева ходил в приличном костюме. Поэтому вполне понятно, что Сергей Миронович Киров, направленный на решительный бой с Зиновьевым и «новой оппозицией» в Ленинград в конце 1925 года, постарался «замаскироваться» и выглядеть как можно скромнее. По воспоминаниям рабочих завода имени Егорова, представитель ЦК ВКП(б) «был в осеннем пальто, в тёплой чёрной кепке и выглядел настолько заурядно и просто, что егоровцы даже говорили, что многие рабочие представительнее его по внешности».
В 1928 году для комсомольцев была введена так называемая «юнгштурмовская форма» — копирование формы немецких пролетарских молодёжных организаций. Слово «юнгштурм» можно перевести примерно как «юные буревестники». Введение юнгштурмовок было попыткой активного наступления на нэпманскую моду — дорогие роскошные наряды новых буржуа. «Комсомольская правда» писала: «Образец формы предлагаем московский (гимнастерка с откладным широким воротником, с двумя карманами по бокам и с двумя карманами на груди, брюки полугалифе, чулки, ремень и портупея)». ЦК ВЛКСМ считал, что форма юнгштурма позволит «воспитать чувство ответственности у комсомольца за свое пребывание в комсомоле, примерность поведения у станка, на улице, дома».
Власть в обстановке повального дефицита пытается возродить моду на аскетизм. Пример подаёт сам «отец народов»: сапоги, «сталинка» — что-то среднее между гимнастеркой и френчем, скромный картуз… Такая полувоенная форма стала отличительной особенностью партийно-советской номенклатуры первой пятилетки.
То же самое мы видим и в одеянии Ширмача. «Лепня» на уголовном жаргоне означает костюм, «лепень» — пиджак, «лепешок» — жилет. Слово происходит от старославянского «лепый» — красивый, «лепота» — красота (ударение именно на первом слоге, а не на последнем, где ставил его Иван Грозный в исполнении Юрия Яковлева). То есть «военная лепня» — это костюм военного (или полувоенного) образца. Картину дополняет, конечно же, «кожаный реглан». Реглан — платье, пальто, плащ, куртка, скроенные так, что рукава составляют с плечом одно целое. Как описывал одного из персонажей Юрий Герман в повести «Дорогой мой человек»: «На нём был коричневый, великолепной кожи реглан, за плечами — рюкзак, на боку — “вальтер”». Кожаный плащ-реглан считался отличительной чертой военного человека, неким особым шиком. Правда, кожаные пальто и плащи в сухопутных войсках Страны Советов не выдавались как штатное обмундирование, но их ношение разрешалось — для старших офицеров. Поэтому военные кожаные регланы 30-х годов встречались самого разного покроя. Обязательным было лишь присутствие на них петлиц с соответствующими знаками различия. Штатские начальники, естественно, носили регланы без петлиц.
Так что Колька экипирован строго по моде тогдашних номенклатурных работников. А это значит, он действительно вырос «героем трассы в пламени труда», то есть стал каким-то начальником (пусть и небольшим).
У куплета про Колькину «амуницию» существует вариант:
Здесь «шкары» — брюки, «лопари» — сапоги, ботинки. Интересно сравнить этот вариант с другой популярной песней тех лет:
Жёлтый цвет обуви был очень моден в конце 20-х — начале 30-х годов. А «оксфорд» (узкие, укороченные по щиколотку «стильные» брюки) — «шкары» вполне «фартовые», т. е. модного покроя и из хорошей ткани. Но на ББК Колька носил, конечно, не «оксфорд», а, скорее всего, брюки-галифе.
«А на груди — ударника значок»
Разумеется, мы не оставим без внимания и замечательный значок ударника, украшавший грудь «перекованного» уголовника. На самом деле речь идёт не о значке, а о жетоне:
«ПРИКАЗ № 54 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ
ОГПУ гор. Москва 20 ноября 1932 г.
На основании приказа ОГПУ сего года за № 879 об установлении специального “Жетона строителя Беломорстроя” для награждения лучших, особо отличившихся ударников из заключённых — строителей Беломорско-Балтийского Водного Пути и создания для них льготного режима и лучших материально-бытовых и правовых условий за время их пребывания в исправительно-трудовых лагерях ОГПУ — объявляется для руководства и исполнения Положение о “Жетоне строителя Беломорстроя”.
Начальник Главного управления лагерями ОГПУ
(Берман)»
«ПОЛОЖЕНИЕ О “ЖЕТОНЕ СТРОИТЕЛЯ БЕЛОМОРСТРОЯ”
1) “Жетон строителя Беломорстроя” является почетной наградой заключённым — передовым участникам строительства Беломорско-Балтийского Водного Пути — активным борцам за его досрочное окончание.
2) Награждение жетоном производится по постановлению начальника Главного управления лагерями ОГПУ и начальника строительства ББВП.
3) Жетоном награждаются лишь те лагерники, которые являлись действительными ударниками за досрочное окончание строительства ББВП. Только те, кто своей высокой производительностью труда, наилучшими качественными показателями, примерной лагерной дисциплиной и активным участием в культурно-воспитательной работе доказали, что, осознав свои прежние преступления, перековываются в активных участников социалистического строительства и готовятся стать по освобождении членами социалистического общества.
4) Награждённому жетоном выдается за подписью начальника БЕЛБАЛТЛАГа ОГПУ грамота на право его ношения.
5) Награжденный жетоном носит его на левой стороне груди на красном (шелковом или сатиновом) кругу, диаметром в 4 сантиметра. Имеет право носить его на работе и в быту, независимо от того, в каком исправительно-трудовом лагере ОГПУ он находится.
6) Награждённый жетоном обязан по окончании строительства ББВП и в дальнейшем быть передовым борцом и застрельщиком на производстве и в быту за внедрение трудсоревнования — ударничества, в каком бы лагере он ни находился.
7) В случае нарушения награжденным п. 6 настоящего положения он может быть лишен права на жетон по представлению начальника исправительно-трудового лагеря и по распоряжению начальника Главного управления лагерями.
8) Награждение жетоном строителя Беломорстроя отмечается в личном деле заключённого и на обложке дела ставится большой штамп: “Строитель ББВП”.
9) По освобождении из лагерей жетон и грамота остаются у награждённого.
10) Награждённый жетоном, в каком бы исправительно-трудовом лагере он в дальнейшем ни содержался, имеет право на следующие льготы:
а) преимущественное помещение в лучших квартирных условиях;
б) длительное внеочередное свидание с родственниками;
в) право посылки писем в неограниченном количестве;
г) бесплатное фотографирование два раза в год;
д) льготные условия для перехода на колонизацию.
Начальник Главного управления лагерями ОГПУ
(Берман)»
Помимо грамоты на право ношения значка, отличившиеся каналоармейцы получали «Книжку ударника». Награждения жетоном ударника начались в конце 1932-го и продолжались до конца 1933 года, даже после сдачи канала в эксплуатацию. Точное количество заключённых, которые были признаны ударниками, установить невозможно. Скорее всего, оно исчисляется несколькими десятками тысяч. На страницах книги о Беломорканале мы не раз встречаем упоминание о «значке ударника»:
«Семён Фирин сказал простую напутственную речь, и коммунары со значками ударников на красных бантах сели в вагон».
«Семёнова — бывшая учительница и обучила свыше ста неграмотных тридцатипятников, за что, хотя и не соцблизкая, имеет значок».
«Много лет тому назад я носил на своей груди академический значок, увенчанный царским гербом. Сейчас видите у меня на груди красный значок ударника строительства Беломорстроя».
«Осенью 1933 года Роттенберг (бывший вор-рецидивист. — А.С.) был награжден почётным значком строителя Беломорстроя и свободным гражданином выехал на строительство канала Волга-Москва».
Разумеется, не обошлось без значка ударника и в фильме «Заключённые». В картине присутствует примечательный диалог двух антагонистов — авторитетного ростовского вора Кости-Капитана и Мити — бывшего уголовника, перевоспитанного на Беломорканале:
«Костя: Митя, откуда вы такой марксист? Вы же были знаменитый бандит. А теперь… А теперь вы навеки испорченный человек. Вы серьёзно думаете, что я буду колупать эту землю?
Митя: Врёшь, Костя, будешь!
Костя: Митя, вы утратили пару шариков. О, вы носите медаль! Вы паровоз?
Митя: Это — значок ударника.
Костя (берёт книжку, раскрывает). А что это значит для жизни?
Митя: Я имел 10 лет, а теперь имею 6. (Показывает книжку ударника.) Я построю канал и уеду.
Костя: А я плюну — и убегу!
Митя: Тебя поймают и приведут обратно. А я уеду свободным гражданином».
О значке ударника Беломорстроя упоминает и Виктор Астафьев в романе «Последний поклон»: «Папе, как вредителю, “выставили” пять лет в приговоре и отослали проявлять “настоящую трудовую энтузиазму” на Беломорканал… Вернулся папа через два с половиной года со значком “Ударнику строительства Беломорско-Балтийского канала им. Сталина”, ввинченным в красный бант. Значок этот папа выдавал за орден. Держался папа так, словно бы не из заключения, не с тяжелой стройки вернулся, а явился победителем с войны — весёлый, праздничный, гордый, с набором “красивых” городских изречений, среди которых чаще других он употреблял: “В натури”».
Кстати, Иван Солоневич, повествуя о слёте ударников, тоже называет жетон «орденом»: «На сцене выстраивается десятка три каких-то очень неплохо одетых людей. Это “ударники”, отличники, лучшие из лучших. Гремит музыка и аплодисменты. На грудь этим людям Корзун торжественно цепляет ордена Беломорстроя, что в лагере соответствует примерно ордену Ленина».
Точно так же «орденом» называет жетон ударника и бригадир женской ударной бригады, бывшая уголовница Анастасия Павлова. Однако на самом деле орденами за Беломорстрой было награждено всего восемь человек, из них — два инженера-«вредителя»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ
СОЮЗА ССР РАБОТНИКОВ, ИНЖЕНЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКОГО КАНАЛА
ИМ. ТОВ. СТАЛИНА
Центральный исполнительный комитет Союза ССР, рассмотрев представление Совета народных комиссаров Союза ССР о награждении орденами Союза ССР наиболее отличившихся работников, инженеров и руководителей Беломорстроя, постановляет:
Наградить орденом ЛЕНИНА:
1. ЯГОДУ Генриха Григорьевича — зам. председателя ОГПУ Союза ССР.
2. КОГАНА Лазаря Иосифовича — начальника Беломорстроя.
3. БЕРМАНА Матвея Давыдовича — начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.
4. ФИРИНА Семена Григорьевича — начальника Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря и зам. начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.
5. РАПОПОРТА Якова Давыдовича — зам. начальника Беломорстроя и зам. начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.
6. ЖУКА Сергея Яковлевича — зам. главного инженера Беломорстроя, одного из лучших и добросовестных инженеров, своим исключительным знанием дела и огромной трудоспособностью обеспечившего качественное выполнение проектных работ.
7. ФРЕНКЕЛЯ Нафталия Ароновича — пом. начальника Беломорстроя и начальника работ (совершившего в свое время преступление и амнистированного ЦИК СССР в 1932 году со снятием судимости. — А.С.), обеспечившего правильную организацию производства работ, высокое качество сооружений и проявившего большое знание дела.
8. ВЕРЖБИЦКОГО Константина Андреевича — зам. главного инженера строительства (был осужден за вредительство по статье 58-7 и освобожден досрочно в 1932 году. — АС.), одного из крупных инженеров, наиболее добросовестно относившегося к порученным ему работам.
Председатель Центрального исполнительного комитета
Союза ССР
М. КАЛИНИН
Секретарь Центрального исполнительного комитета
Союза ССР
А. ЕНУКИДЗЕ
Москва, Кремль, 4 августа 1933 г.
Некоторые путают жетон ударника Беломорстроя с нагрудным знаком ОГПУ «Лучшему ударнику ББК. ОГПУ» и «Лучшему ударнику ББК. НКВД». Однако это — совсем другие знаки отличия, и появились они уже по окончании строительства канала. М. А. Рогов в исследовании «История наград и знаков в МВД России (1802–2002)» поясняет: «Через две недели после окончания строительства собственно водного пути Постановлением правительства был образован Беломорско-Балтийский комбинат ОГПУ с широким кругом задач — от лесозаготовок и строительства промышленных предприятий до производства товаров ширпотреба, сельхозпродукции, организации промышленного рыболовства. Лучшие ударники ББК награждались одноименным нагрудным знаком ОГПУ. После воссоздания НКВД и передачи в его ведение Беломорско-Балтийского комбината аббревиатура “ОГПУ” на красной ленте знака была заменена на “НКВД”». Для справки: Народный комиссариат внутренних дел СССР был воссоздан в июле 1934 года, а Беломорско-Балтийский комбинат перешёл в ведение НКВД в октябре того же года.
Во всяком случае, теперь мы точно знаем, что история с Колькой-Ширмачом могла произойти не раньше весны 1933 года: вряд ли зимой 1932-го «перекованный» уголовник стал бы щеголять в кожаном плаще (холодно), а до ноября 1932-го жетона ударника не существовало.
«Блатную жизнь навеки завязал»
Мы достаточно подробно рассказали о «перековке» уголовников на Беломорканале, но не упомянули о том, как реагировал на неё блатной, воровской мир. А ведь именно об этом поётся в балладе о Кольке-Ширмаче.
Разумеется, когда мы говорим о тысячах уркаганов, которые под напором чекистов и тотальной пропаганды всё же взяли в руки кирки и ломы, нельзя забывать о том, что так поступали далеко не все. Солоневич отмечает, что в лагерях ББК было немало отказчиков от работы, прежде всего — из числа урок. В значительной части отказчики состояли из воров, прошедших обряд «коронации»: они до последнего пытались «держать стойку» и не поддаваться «перековке». Однако надо принять во внимание то обстоятельство, что перелом 20—30-х годов прошлого века — это процесс становления института воров в законе, его первые шаги, начало выработки «воровской идеи». Мир «законников» ещё не был достаточно скован жёсткими табу, уголовное сообщество находилось в состоянии раздрая и брожения… Песня «На Молдаванке музыка играет», судя по всему, создана несколько позже, в середине 30-х годов, когда кодекс вора в законе уже сцементировал ряды «блатного братства». А пока, в период первой пятилетки, наиболее непримиримыми были воры, которые находились на свободе. В лагерях же они попадали под такой жестокий пресс, что многие попросту не выдерживали. Да ведь и то сказать: в «старорежимном» уголовном мире особых запретов на работу для преступника не существовало. Это уж кто как устроится. Не было также и запрета на службу в армии, к бывшим солдатам не относились с пренебрежением и презрением. В царской каторге бродяги занимали «хлебные» места, где можно «перекантоваться» (новым «воровским законом», наоборот, запрещалось пристраиваться на должности «придурков» — хлеборезов, бригадиров, нарядчиков, санитаров и т. п.).
Другими словами, «воровская перестройка» только начиналась. Поэтому далеко не все уголовники считали работу чем-то позорным. Ну, так масть легла, ничего страшного. Главное — выжить.
«Благородные воры» стремились с такими отступниками бороться. На великих лагерных стройках это часто сводилось к тому, что блатные, прибывшие с воли свежим этапом, устраивали разборки «ссучившимся» собратьям. Случались и избиения, и резня. Впрочем, столкнувшись с тяжёлыми реалиями и железной чекистской рукой, которая без колебаний карала тех, кто покушался на ударников, новое маргинальное пополнение быстро подставляло голову под то же ярмо. Тем более что «перекованные» уголовники получали преимущество перед всеми остальными в продвижении на мелкие руководящие должности, позволявшие им давить и грабить общую массу зэков.
Конечно, воры на воле были крайне обеспокоены кампанией «ударничества», связанной с перевоспитанием тридцатипятников. Тем более официальные средства пропаганды преподносили её успехи в гиперболизированном виде, и казалось, что воровскому миру при таких темпах вскоре может прийти конец. В этом смысле расправа над уголовником-ударником по приказу воров с воли вполне могла иметь место. Особенно если «ссученный» урка занимал какую-то руководящую должность. Хотя подобные расправы вряд ли были сколько-нибудь массовыми или даже регулярными. На Беломорстрое не зашалишь…
Что касается гибели Маруси, заступившейся за Ширмача, этот эпизод явно перекликается со сценой знаменитой «Мурки» — не только именем героини (Мурка — дериват имени Маша, Маруся), но и расправой. Правда, в «Мурке» героиню убивают за уже совершённое предательство, а в «Молдаванке» — только за угрозу «заложить»:
…
Кстати, судя по контексту, Марусю убивают именно ножом (между тем в разных версиях «Мурки» варьируются и нож, и пуля). Маша в одном из вариантов (где она носит имя Сони) заявляет:
тем самым показывая, что не боится смерти. А Ширмача грозят «попробовать пером». По воровскому закону, «ссученный» вор, предатель должен был принимать смерть именно от ножа.
Но воровских расправ над «ссученными» было не так много. «Воспитание трудом» давало свои результаты. К слову сказать, прообраз Кольки-Ширмача и рассказ о его влиянии на «перековку» уголовниц мы встречаем на страницах того же сборника о ББК имени Сталина 1934 года. Бригадир женской ударной бригады Анастасия Павлова рассказывает о том, как долгое время отказывалась от работы:
«Но вот однажды приходит ко мне бетонщик Ковалёв. Я про него давно слышала, что он с начальством “ссучился” — стал не то бригадиром, не то десятником. Даже видела его портрет с надписью “перекованный”. Приходит этот Ковалёв и говорит:
— Таська… Ступай работать на трассу.
Я отвечаю:
— Сам ссучился, других тянешь. Всё равно, Колька, раньше срока не выйдешь.
Думала, этим его срежу. А он только засмеялся.
— Это, — говорит, — я уже сто сорок раз слышал. Думал, ты, Таська, умнее… Дело не в сроках. Вот я кончу канал — в техники пойду.
— С “медвежатами” играть?
— Брось, Таська. Ты меня знаешь.
— А ты меня не агитируй».
Однако Колька-Медвежатник (то есть взломщик сейфов) всё-таки «сагитировал» Таську — бывшую карманницу, проститутку и убийцу. Она собрала и возглавила ударную бригаду уголовниц. Как пишут авторы сборника, после завершения канала тридцатипятницу решили досрочно выпустить на свободу: «Вскоре пришло освобождение и Павловой за ударную работу. “Только я отмахнулась обеими руками, — говорила она. — Главное — хотелось самой на пароходе проехать там, где в первый раз с тачкой бежала… Теперь у меня орден. И планы совсем другие. Буду готовиться на хирургическое отделение. Тридцать лет, а охота учиться смертная”».
В сборнике цитируются также радостные уверения многих других воров (Поварский, Левитанус и др.), решивших покончить с позорным прошлым и начать новую, трудовую жизнь. Искренними были эти обещания или нет — на самом деле совершенно не важно, как ни цинично это звучит. Потому что всё равно для большинства уркаганов места в честной жизни попросту не было.
Правда, по окончании строительства канала казалось, что всё складывается как нельзя лучше:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ
УЧАСТНИКАМ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКОГО
КАНАЛА ИМЕНИ ТОВ. СТАЛИНА
В связи с успешным окончанием строительства Беломорско-Балтийского канала имени тов. СТАЛИНА, сооружения, имеющего огромное народнохозяйственное значение, и передачей канала в эксплоатацию, — Центральный исполнительный комитет Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению, что к моменту окончания строительства Беломорско-Балтийского канала имени тов. СТАЛИНА органами ОГПУ Союза ССР уже полностью освобождены от дальнейшего отбывания мер социальной защиты 12 484 человека, как вполне исправившиеся и ставшие полезными для социалистического строительства, и сокращены сроки отбывания мер социальной защиты в отношении 59 516 человек, осужденных на разные сроки и проявивших себя энергичными работниками на строительстве.
2. За самоотверженную работу на строительстве Беломорско-Балтийского канала имени тов. СТАЛИНА снять судимость и восстановить в гражданских правах 500 человек по представленному ОГПУ Союза ССР списку.
3. Поручить ОГПУ Союза ССР обеспечить дальнейшее поднятие квалификации в строительном деле наиболее талантливых работников из числа бывших уголовников-рецидивистов и при поступлении их в учебные заведения обеспечить стипендией.
Председатель Центрального исполнительного комитета
Союза ССР
М. КАЛИНИН
Секретарь Центрального исполнительного комитета
Союза ССР
А. ЕНУКИДЗЕ
Москва, Кремль, 4 августа 1933 г.
Однако на деле всё повернулось совершенно иначе. Ещё в лагерях многим каналоармейцам пришлось столкнуться с беспределом советской системы. Об этом не смогли умолчать даже авторы официозного сборника о ББК. Так, например, рассказывается, что домоуправление выселяет семьи заключённых из квартир на улицу. Правда, в сборнике повествование об одной из таких историй завершается «хеппи-эндом»: на судебное заседание приходит чекист и защищает жену и мать заключённого. Но ведь совершенно ясно, что к каждой семье чекиста не приставишь. А если человек — не ударник? А если не силён в грамоте и не писал просьб о помощи «гражданам начальникам»? Не говоря уже о том, что самим гэпэушникам некогда было разбираться с десятками тысяч таких жалоб! То есть понятно, что многие ударники Беломорстроя возвращались практически в никуда. Нетрудно представить, какова была их реакция…
Но это мы говорим о людях, у которых хотя бы были семьи. Что касается профессиональных уголовников, большинство из них давно потеряли все социальные связи. Даже те из них, кто готов был начать новую жизнь, чаще всего не могли этого сделать. Несмотря на громкие обещания со стороны властей, вышедшие на волю каналоармейцы столкнулись с негативным отношением к себе. Клеймо арестанта закрывало для них двери фабрик, заводов, учреждений, учебных заведений. И в середине 30-х возникает душещипательная песенная история:
Заметим, что песня эта родилась и исполнялась явно не в блатной среде. Тогдашние блатари были очень разборчивы в вопросах «благородной жульнической крови» и не очень жаловали в своей среде выходцев из пролетариата и крестьянства. То есть, например, после коллективизации в уголовный мир влилось множество крестьян — но все они были «на подхвате», использовались в качестве «пристяжи», «шестёрок», «гладиаторов» (чинили расправы по указке воров). Тот, кто хотел чего-то добиться, должен был скрывать своё рабоче-крестьянское происхождение и называться «потомственным босяком». Тем более недопустимым считалось родство с партийно-советской номенклатурой. Так сделал в своё время и будущий писатель Михаил Дёмин — действительно сын рабочего-партийца. Иначе он никогда бы не стал вором в законе и не написал бы замечательный автобиографический роман «Блатной».
«Я поняла значение канала»
Маруся, павшая от уголовного ножа, призналась перед смертью, что поняла значение канала. Ей вторил и Колька-Ширмач: «Я понял жизнь здесь новую, другую, которую дал Беломорканал». Увы, далеко не все куда более грамотные люди оказались столь же сообразительными. Общим местом у многих нынешних обличителей стали утверждения о том, что Беломорско-Балтийский канал якобы оказался совершенно бессмысленной стройкой, не имел и не имеет никакого практического значения и сейчас фактически заброшен.
Это далеко не так. Мы уже писали о том, что потребность в канале была осознана задолго до его создания. В советское время эта потребность стала ещё более острой. Снова процитируем сборник о ББК:
«Канал прорежет Карелию от Онежского озера до Белого моря. Глухой и дикий край заживёт культурно и богато… Ещё в 1931 году советские пароходы шли семнадцать суток из Архангельска в Ленинград. Не слишком ли это много для того, чтобы проехать расстояние в 600 километров?
Из Финского залива в Белое море нужно идти через зоны капиталистических государств. Но достаточно было бы рассечь каналом 240 километров камней и болот, чтобы открылся прямой путь. Канал свяжет Балтику с северными морями, станет головным участком Великого северного пути: Ленинград — Повенец — Сорока — мыс Челюскин, Берингов пролив — Владивосток.
Он откроет для Карелии, для советского Севера, для всего Советского Союза новые экономические перспективы. Хлеб, соль, нефть, металл, машины, лес, рыба, товары широкого потребления, апатиты, нефелин — пойдут по каналу».
То есть необходимость канала диктовалась самой жизнью. Другое дело, что в «индустриальном исполнении» ББК и впрямь подкачал. Не зря и среди зэков, и среди остального населения Страны Советов в 30-е годы бытовала поговорка — «Без туфты и аммонала не построили б канала».
Аммонал — взрывчатая смесь, в состав которой входят аммиачная селитра, алюминий, уголь, парафин и другие добавки. На Беломорканале она активно применялась для взрывных работ. Что же касается жаргонного «туфта», то и это словечко сейчас понятно каждому россиянину. Оно означает, попросту говоря, очковтирательство. Француз Жак Росси (лагерник более чем с 20-летним стажем) в своём двухтомном «Справочнике по ГУЛАГу» утверждал: «“Туфта” выводится из “ТФТ” (тяжелый физический труд), которое иногда произносится “тэфэты”». Соловецкие уголовники-рецидивисты, зачисленные в категорию ТФТ, якобы рассуждали так: «Спрашиваете с нас ТФТ? Так мы вам покажем тэфэту!» Позже «туфту» стали расшифровывать: «Техника Учета Фиктивного Труда». Но это не так. Слово появилось значительно раньше — в среде профессиональных уголовников. Оно отмечено, например, в словаре С. Потапова «Блатная музыка», в 1927 году переизданном наркоматом внутренних дел. Там «туфта» трактуется следующим образом: «Поддельный кусок мануфактуры», «Туфту всунул — подменил хорошее плохим». Слово приводится и в форме «тухта»: «худая вещь, которую бросают» (возможно, по ассоциации со словом «тухлый»).
Итак, поговорка утверждает, что знаменитый канал в короткий срок не был бы построен без взрывчатки и очковтирательства. И это правда. Однако под «туфтой» подразумевается не только приписывание объёмов работ во время строительства и имитация бурной деятельности при отсутствии реальных результатов. Имелось в виду и другое. Канал длиною 227 километров, в систему которого входят 19 шлюзов, 15 плотин, 51 дамба, 12 водоспусков и другие гидротехнические сооружения, менее чем за два года в нормальном виде вырыть было невозможно, тем более без соответствующей механизации. А рапортовать надо! И тогда чекисты, ответственные за строительство, «зарядили туфту»: велели рыть канал значительно мельче, чем было предусмотрено в проекте. Средняя глубина канала была около 5 метров.
«В мае 1933 года по нему прошёл первый корабль “Чекист” с членами карельского правительства, которые принимали работу. Прямо за ним двигался земснаряд и доделывал огрехи. А в июле того же года на канале появился и первый пассажирский пароход — старенький “Анохин”, специально пригнанный сюда из Вознесенья.
Захватив с собой Кирова, Ворошилова и Ягоду, по Беломорканалу отправился в путешествие Сталин. Говорят, стройкой вождь остался недоволен. “Канал получился мелкий и узкий”, — якобы заявил он. А в Сороке Сталин даже отказался принимать парад моряков, завершивших проводку по каналу в Белое море эскадры военных кораблей, ставших основой Северного флота. Прав был Сталин: канал действительно получился узким — на нем с трудом разойдутся два больших теплохода. А развернуться, так вообще не получится».
Однако Беломорканал всё же сыграл свою роль: в первую навигацию по нему перевезли 1 143 000 тонн грузов и 27 000 пассажиров. В 1940 году объём перевозок составил около миллиона тонн, что составляло 44 % пропускной способности. Сталин строил канал, готовясь к войне. По нему до последнего перебрасывали военные суда и грузы, а перед самым подходом врага в декабре 1941 года были взорваны шлюзы — с первого по седьмой. В июне 1946 года канал восстановили и перебросили через него 400 судов, полученных по репарациям с Германии. А затем долгие годы шла реконструкция.
Пик грузоперевозок по Беломорканалу пришёлся на 1985 год — 7 300 000 тонн грузов. Такие объёмы перевозок сохранялись на протяжении последующих пяти лет, после чего интенсивность судоходства по каналу резко снизилась. В начале XXI века объёмы грузоперевозок по каналу начали постепенно расти, но они остаются намного ниже прежних. В навигационный период 2007 года по каналу было перевезено 400 000 тонн, по нему путешествовали 2500 пассажиров. На канале также действует Выгский каскад гидроэлектростанций, построенный позже — с 1949 по 1967 год.
И всё же надо признать: знаменитый Беломорско-Балтийский водный путь необходимо серьёзно расширять и углублять. Он явно не соответствует современному речному и морскому судоходству.
Но это уже — не вина Кольки-Ширмача. Он сделал всё, что мог…
Как воровка не стала прачкой, но зато вошла в поговорку
«Плыви ты, наша лодочка блатная»
Нет смысла говорить о двух шедеврах блатного фольклора — «Плыви ты, наша лодочка блатная» и «Перебиты, поломаны крылья», которым посвящены этот и следующий очерки, если хотя бы вкратце не рассказать об удивительной, драматической судьбе их создателя — Сергея Яковлевича Алымова. Сегодня о нем знают немногие, но в сталинское время его имя было на слуху.
Сергей Алымов родился 5 апреля 1892 года в селе Славгород Харьковской губернии Ахтырского уезда в дворянской семье. Родители уготовили сыну предпринимательское поприще и после гимназии отдали в Харьковское коммерческое училище. Однако учёбы Сергей не завершил, поскольку был исключён в 1908 году «за руководство забастовкой учащихся», как он пояснил позднее при вступлении в Союз писателей СССР, — и присовокупил, что в юношестве активно занимался революционной борьбой, изучал марксизм, составлял прокламации, распространял нелегальную литературу. За это его несколько раз арестовывали и даже водворяли в тюрьмы.
На самом деле Алымов к марксизму имел отдалённое отношение, гораздо ближе ему были идеи анархистов. Увлечения юноши из старинного дворянского рода в конце концов завершились печально: за участие в «Летучей боевой железнодорожной харьковской группе анархистов-коммунистов» его снова арестовали в феврале 1910-го, продержали год в одиночной камере и в марте 1911-го по приговору Харьковской судебной палаты отправили на каторгу. Вернее, как несовершеннолетнему ему заменили каторгу поселением в Канском уезде Енисейской губернии, откуда Алымов, недолго думая, сбежал.
Причём революционер так резво взял разгон, что остановился только на краю света — в Австралии. Жизнь на этом континенте изрядно его потрепала: Сергей работал грузчиком, землекопом, лесорубом, мясником на скотобойнях, чистильщиком сапог, на рыбных промыслах, на рубке тростника — сменил почти два десятка профессий. В стране кенгуру, коалы и птицы кукабарры он впервые стал писать стихи и сотрудничать с русской и местной прессой.
Харбинский кумир, скандалист и оборвыш
После февральской революции 1917 года молодой человек вместе с другими политэмигрантами выехал по направлению к родине, однако до России не доехал и осел в Маньчжурии (нынешняя территория северо-восточного Китая и Внутренней Монголии), в городе Харбин.
Харбин возник ещё в царское время, после прокладки Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), которая строилась с 1897 по 1903 год и соединила Читу с Владивостоком и Порт-Артуром. Поскольку Маньчжурия вклинивалась в территорию России, экономически выгодным было провести дорогу не в обход Китая, а по его землям, что и было сделано по договорённости с китайской стороной. Так на месте небольшого маньчжурского села Альцзинь вырос удивительный русский город — с тенистыми аллеями, яркими клумбами, фонтанами, декоративными прудами и горбатыми ажурными мостиками через них, скверами, наполненными ароматами сирени, жасмина, черёмухи… В первые десятилетия XX века Харбин называли «маленьким Петербургом», «маньчжурским Сан-Франциско» и даже «восточным Парижем». Здесь действовали 13 вузов, три консерватории, две студии балета, симфонический оркестр в составе 60 музыкантов, оперный и драматический театры, сеть русских школ и даже киностудия, выпускавшая собственные фильмы!
После Октябрьского большевистского переворота 1917 года население Харбина стало пополняться эмигрантами из России. В китайский регион КВЖД с 1917 по 1922 год прибыли от 145 до 250 тысяч русских беженцев. Значительная их часть осела именно в Харбине. Как пел незабвенный Остап Бендер Кисе Воробьянинову в дворницком подвале: «Белой акации, цветы эмиграции…».
Сергей Алымов с головой окунулся в творческую жизнь города. Он пробыл здесь почти десять лет — с 1917 по 1926 год. Алымов ведёт бурную деятельность: входит в состав дальневосточной футуристической группы «Творчество», публикуется в газетах «Шанхайская жизнь», «Вестник Маньчжурии» и других, в ноябре-декабре 1920 года редактирует литературно-художественный ежемесячник «Окно», с октября 1921 года — редактор ежедневной вечерней газеты «Рупор»… За это время он также успел побывать в Корее и Японии.
Среди эмигрантов в Китай нахлынуло множество творческой интеллигенции — артистов, художников, поэтов. В 1919 году они организовали студию «Кольцо». Эталоном для литературно-художественного Харбина служил русский Серебряный век. Алымов, поклонник эгофутуризма, становится кумиром части харбинской молодёжи. В период эмиграции он издал три книги стихов: «Киоск нежности» (1920), «Оклик мира» (1921), «Арфа без молний» (1922). Впрочем, многие определяли эстетско-вычурную поэзию Алымова как «парфюмерную». Большинство его стихов выглядели как дурная, манерная пародия на Игоря Северянина. Вот, например, молодой поэт в своём «Лимузине-саркофаге» описывает гибель светской львицы, случайно попавшей в водоворот революционной смуты:
Вся эта безвкусная муть отдаёт осетриной третьей свежести, являясь не только дурным подражательством Северянину («Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил её паж») или Николаю Гумилёву («И летят шрапнели, словно пчёлы, собирая ярко-красный мёд»), но и доходя до несуразной пошлятины с «будуарным грузином».
Но Алымов не довольствовался сочинительством стишков, он выступал со статьями, лекциями, в начале 1921 года возглавил Харбинское Литературно-художественное общество, где изучали русскую, немецкую, французскую и английскую литературу. В то же время известный поэт-эгофутурист проявлял склонность к пьянству, эпатажу, скандалам. Как вспоминала знавшая его Юстина Владимировна Крузенштерн-Петерец: «Ему не везло. Стихи не кормили, пришлось пойти работать в газету репортёром. Стал пьянствовать, буянить. На балу в “Модерне” разбил кому-то физиономию. Иногда допивался до того, что знакомые отшатывались от него на улице. В последний раз я видела Алымова в 1926 году, в кабаре “Фантазия”. Он явился туда грязным, небритым, в опорках на босу ногу, в пальто, под которым, вероятно, ничего не было. Присел на перила одной из ложи, болтая голыми ногами, заговорил со знаменитой тогда в городе красавицей. Красавица, вся в золотых кружевах, — смутилась, муж её вызвал метрдотеля. Публика заволновалась — будет скандал! Но скандала не было. Метрдотель прибежал, пошептал что-то на ухо Алымову: тот встал, грустно обвёл всех своими чудесными глазами: — Разве я кого-нибудь обижаю… — и тихо вышел, придерживая у горла воротник пальто».
Это был период, когда солнце «восточного Парижа» уже клонилось к закату. В 1924 году после восстановления дипломатических отношений между СССР и Китаем советское правительство отказалось от специальных прав и привилегий, приобретённых царской Россией, в том числе от экстерриториальности полосы отчуждения. Было установлено совместное советско-китайское управление КВЖД. На магистрали могли работать только советские и китайские граждане. Вместе с этим китайцы стали проводить политику искоренения русской культуры в Харбине, закрывать русские школы, библиотеки. 30 марта 1926 года главнокомандующий китайскими войсками в Харбине упразднил все выборные органы общественного самоуправления, а взамен был создан Временный комитет, куда вошли только китайцы.
Сергей Яковлевич дошёл к тому времени до состояния критического, опустившись почти на дно жизни. К тому же надо было определяться с гражданством — либо советское, либо китайское, либо катиться куда-то дальше в эмиграцию. Алымов, вспомнив своё революционно-каторжанское прошлое, выбирает первый путь: с 1925 года становится постоянным сотрудником просоветской газеты «Копейка», пишет статьи и стихи, посвящённые прославлению большевистской России и её вождя — Владимира Ленина.
А в 1926 году знатный эгофутурист и вовсе возвращается в Россию. Алымов сотрудничает с московскими журналами и газетами, пишет сценарий фильма «из корейской жизни» — «Клеймо креста», роман «Нанкин-Род» (уже «из китайской жизни»), рассказы и очерки, стихи и поэмы. Отправляется в Тулу, знакомится с местными мастерами, с историей города, начинает работу над поэмой «Оружейники». А в 1928 году возникает Краснознамённый ансамбль песни и пляски Красной армии, и Сергей Яковлевич вдруг открывает в себе необыкновенные способности поэта-песенника. Он начинает плодить бравурные тексты, которые с лёту кладутся на музыку, в том числе лично руководителем ансамбля Александром Васильевичем Александровым.
Однако развернуться во всю ширь плодовитому «песняру» не удаётся. В конце 1929-го или в начале 1930 года он оказывается в Бутырской тюрьме. Арест Алымова наверняка связан с событиями на КВЖД, где 10 июля 1929 года китайцы захватили магистраль, арестовали 200 советских служащих и 35 из них депортировали в СССР. Уже 17 июля правительство СССР объявило о разрыве дипотношений с Китаем, а в ноябре Особая Краснознамённая Дальневосточная армия стремительным броском освободила Китайско-Восточную железную дорогу.
Видимо, бдительные чекисты не в добрый час припомнили Сергею Алымову его харбинское прошлое, и «китайский шпион» летом 1930 года получил свой «положняковый червонец» по печально знаменитой 58-й «политической» статье (скорее всего, пункт 6, карающий за шпионаж).
В июле 1930 года Сергея Яковлевича этапом отправляют в Кемь, где располагался Карело-Мурманский исправительно-трудовой лагерь ОГПУ. По дороге он ведёт дневник, в котором находит место для мрачных эстетско-упаднических образов: «скелеты елей», «уже брёвна не золотятся, а лежат в воде как распухшие утопленники», «дёрнулись вагоны последней судорогой»… То есть у Алымова ещё не пропало желание рисовать готические картины утончённого ужаса. Вскоре этот ужас станет обыденностью, и подобная потребность отомрёт. С приближением к пункту назначения образы становятся всё более жуткими, близкими к кафкианским: «Сидел у стены — решётки загипнотизировали мозг. Временами кажется, что ты попал в звериную клетку и тебя считают за обезьяну или ещё кого-нибудь в этом роде. Становится странно, особенно когда подходит конвоир, открывает форточку в решётке и подаёт воду. Он — человек, это ясно. А ты? Мозги перепутаны…» Позднее отголоски «будуарной готики» мы находим в описании кемского барака: «На простенке медленное движение сомлевших от крови клопов. Они круглы, как вставки из кольца рубина».
Впрочем, в Кеми Алымов устроился достаточно сносно — сказалась его известность (и, возможно, секретные указания насчёт популярного песенника). Скорее всего, в отношении поэта у власти уже тогда сформировались свои планы.
Как перековали «китайского шпиона»
В конце сентября Сергея Яковлевича отправили на «повышение» в Белбалтлаг, где шло строительство Беломорканала. Его ждал посёлок Медвежья Гора — «лагерная столица». Поэт-песенник попал в КВО — культурно-воспитательный отдел Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР. Карельский литератор К. Гнетнев, написавший одну из самых интересных биографий Алымова «Соловей Беломорканала», рассказывает: «Сергей Яковлевич много ездил, многих на стройке знал и сам был привечаем. Начальству, вероятно, льстило знакомство с довольно известным в стране литератором, а заключённых привлекал неподдельный интерес писателя к их судьбам. В фонде Алымова множество разнокалиберных листков, исписанных непривычной к перу и не обременённой грамотой рукой. Это автобиографии, характеристики и письма заключённых».
На Беломорстрое Алымов становится первым редактором лагерной газеты «Перековка», пишет заметки и стихи, посвящённые строительству ББК, перекладывая в рифмованные строфы ударные сводки с разных участков. Набрасывает поэму «Беломорстрой», составляет словарь блатного жаргона, собирает статьи инженеров, инструкции по зачёту рабочих дней, сведения о выработке бригад… Есть свидетельства того, что Сергей Яковлевич собирался писать повесть о лагере.
А 14 ноября 1932 года Алымов подал рапорт начальнику Белбалтлага Лазарю Когану и предложил создать сборник литературных произведений о строительстве канала — тем более в лагере имелась своя типография. Сборник «Моря соединим! Стихи и песни на Беломорстрое» (издание КВО Беломорско-Балтийского лагеря ОГПУ) с милостивого согласия Когана появился в том же году, то есть двумя годами ранее знаменитого сборника о Беломорканале, в создании которого приняли участие лучшие литераторы СССР. Пока же вместо маститых «акул пера» славили великую стройку заключённые: «На Беломорстрое… привечали всякого, у кого обнаруживался хотя бы мало-мальский литературный талант… Для работы в культурно-воспитательном отделе и его подразделениях на местах (КВЧ) были привлечены десятки самодеятельных поэтов-заключённых. За два неполных года строительства наиболее известными стали бывший театральный режиссер Игорь Терентьев, бывшая проститутка Леля Фураева, уголовник-“бытовик” Лаврушин, Сергей Кремков, а также другие з/к з/к — Карелин, Карюкин, Смиренский, Дмитриев, Дорофеев…»
К сожалению, автор биографии Алымова причислил к «самодеятельным поэтам» фигуру куда более крупную и значимую для Серебряного века, нежели сам Сергей Яковлевич. Я имею в виду Владимира Смиренского, завсегдатая дореволюционных петербургских салонов, друга Александра Грина, знакомого Николая Гумилёва, Алексея Ремизова и многих других известных литераторов, личного секретаря Фёдора Сологуба (Сологуб считал его одним из самых талантливых молодых поэтов). Алымов и Смиренский были близки по своим художественным пристрастиям: в 1920-е годы Смиренский пытался возродить в Питере эгофутуризм вместе с братом Борисом и стихотворцем Константином Олимповым (стоявшим у истоков эгофутуризма рядом с Игорем Северяниным). Так появилось «Кольцо поэтов имени Константина Фофанова». Группу в 1922 году прикрыла петроградская ЧК. Однако новоявленные эгофутуристы не угомонились, и в 1930 году ОГПУ возбудило уголовное дело против «части богемствующих артистов города Ленинграда». Владимир Смиренский получил пять лет лишения свободы и был отправлен на Беломорканал, затем уже на ББК в феврале 1931-го схлопотал ещё десять лет… Что неудивительно, поскольку поэт оказался инженером, а столь ценные кадры советское руководство из лагерей просто так не выпускало.
Знакомство Алымова и Смиренского — даже не предположение, а реальный факт, учитывая совместный сборник 1932 года. Но далее знакомства дело, видимо, не пошло. Сергей Яковлевич ничем не мог помочь собрату, за исключением разве что включения его стихов в поэтическую книжку. Освободившись с Беломорканала, Смиренский затем после войны попал опять же в качестве зэка на Волго-Дон («надолго вон», как горько шутили зэки), где и остался. Позже Владимир Викторович осел в Волгодонске, вёл поэтическую студию и умер в 1977 году. Его ученики пронесли гроб по центральной улице города, несмотря на запрет властей.
Судьба Алымова сложилась иначе. Он продолжал строчить жизнерадостные стишки типа:
Сергей Яковлевич быстро становится фигурой номер один в культурно-воспитательном отделе Беломорстроя. Его имя пользовалось известностью и у начальства, и среди простых лагерников. Вновь обратимся к Гнетневу, который пишет: «Я видел его фотографию, вероятно, лета 1932 года. Ничего в нем нет от заключённого: длинное кожаное пальто, хромовые сапоги, стальной взгляд под козырьком кепки… Замени кепку на фуражку со звездой, и вот он перед тобой — настоящий чекист».
Ничего не напоминает?
Новый этап в творчестве Сергея Алымова начался в 1933 году. Заключённого включают в многочисленную группу советских писателей, которые должны написать книгу о строительстве Беломорско-Балтийского канала. Поручение о создании такой монографии дал Центральный исполнительный комитет Союза ССР в постановлении от 4 августа 1933 года. Ответственность за работу была возложена на ОГПУ СССР.
Вообще-то первоначально имелся в виду сборник инженерных статей, призванный показать передовые конструктивные решения, доселе неизвестные мировой гидротехнической практике. Статьи для сборника уже написали инженеры Плавинский, Творогов, Садиков и другие. Но по ходу дела ОГПУ поменяло инженеров-технарей на «инженеров человеческих душ», решив, что публицистика важнее винтиков и шпунтиков. Для создания литературно-идеологической саги было отобрано 120 лучших писателей страны, затем 22–23 августа 1933 года их привезли в Медвежью Гору, прокатили по трассе канала, где литераторы могли осмотреться, пообщаться с людьми, в том числе заключёнными каналоармейцами, расспросить их о работе и быте.
Затем были отобраны произведения 36 писателей и из них уже скроен знаменитый сборник «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства 1931–1934 гг.». Фамилия Алымова стоит в перечне третьей после Леопольда Авербаха и Бориса Агапова (авторы располагались по алфавиту). Харбинский эгофутурист, он же краснознамённый песенник соседствует с Евгением Габриловичем, Максимом Горьким, Михаилом Зощенко, Всеволодом Ивановым, Верой Инбер, Львом Славиным, Алексеем Толстым, Виктором Шкловским и другими известными литераторами.
Конечно, это был успех, это была популярность, это было формальное «прощение» Алымова властью (хотя неизвестно за что). И надо же — как раз в это время несчастного, сломленного поэта прорывает! Немецкий исследователь Иоахим Клейн в работе «Беломорканал: литература и пропаганда в сталинское время» приводит рассказ молодого писателя из рабочей среды — Александра Авдеенко, побывавшего на Беломорстрое, но не допущенного к созданию книги. Во время одной из бесед летописцы ББК неожиданно узнали среди каналоармейцев своего собрата — поэта Сергея Алымова: «Посреди разговора с бывшими коллегами он чувствует себя не в состоянии выдержать свою роль и разражается рыданиями. Вездесущий начальник лагеря Фирин и тут оказывается рядом. Один из присутствующих литераторов просит его походатайствовать о сокращении срока заключения Алымова. Ответ звучит так: “Уже скостили. Скоро Алымов вернётся в Москву”. Алымова действительно освободили и даже предоставили ему возможность участвовать в создании истории строительства канала».
Из «Аристократов» в «Заключённые»
Алымова действительно освободили. Но к теме канала ему ещё пришлось вернуться — правда, уже в качестве «вольного» человека.
Дело в том, что в 1934 году известный драматург Николай Погодин создаёт комедию «Аристократы», посвящённую «перековке» профессиональных уголовников на Беломорканале. Премьера «Аристократов» состоялась 30 декабря 1934 года в Московском Реалистическом театре, режиссёром был руководитель театра Николай Охлопков. Поначалу комедия встречает настороженное и даже недоброжелательное отношение со стороны официальной власти. Во время диспута после спектакля печально знаменитый Андрей Януарьевич Вышинский, в то время — прокурор РСФСР, упрекнул театр в романтизации преступного мира и усомнился в воспитательном значении пьесы. Развернулась острая дискуссия, перешедшая в перепалку. Возмущённый Охлопков демонстративно покинул зал, и защищать спектакль пришлось одному Погодину. К счастью, многие спорщики приняли его сторону. А в 1935 году в поддержку Погодина высказался официальный орган партии — газета «Правда», и всё «устаканилось».
При этом ради справедливости надо заметить, что инсценировка Охлопкова, которую сам режиссёр называл «спектаклем-карнавалом», в некоторых моментах была достаточно спорной: так, по воспоминаниям современников, режиссёр зачем-то вывел на сцену «дзанни» — персонажей итальянской комедии масок, что совсем уж не характерно для реалистического театра. И всё же Охлопков мог с полным основанием оценить свою постановку как «великолепный, блестящий спектакль, завоевавший шумный и заслуженный успех, единодушно признанный наиболее интересным и ярким спектаклем сезона».
«Аристократы» с триумфом шествуют по театральным сценам Республики Советов. Эстафету Реалистического театра 24 мая 1935 года подхватывает Вахтанговский театр. На спектакле присутствует Елена Сергеевна Булгакова, жена автора «Мастера и Маргариты», которая в дневнике охарактеризовала комедию как «гимн ГПУ» (подобный «гимн» власти пытались заказать самому Булгакову, но тот категорически отказался и даже не принял участия в экскурсии на Беломорканал).
Особо понравились зрителю уголовные типажи — Костя-Капитан, воровка Соня, Лимон и другие, их манеры и сочный язык. Всё это Погодин знал не понаслышке: в начале 20-х он репортёрствовал в Ростове-на-Дону — одном из центров уголовного мира России, изучал повадки и жаргон уркаганов. Любопытно, что уголовный жаргон в определённой степени повлиял и на мировоззрение драматурга. Настоящая фамилия Погодина была Стукалов. В конце 40-х годов прошлого века в советской литературной среде развернулась дискуссия по поводу псевдонимов. Известный в то время писатель Михаил Бубённов считал, что псевдоним — это «хамелеонство, с которым настало время навсегда покончить». Против такой точки зрения выступали многие, в том числе Константин Симонов и Николай Погодин. Автор «Аристократов» объяснил причину смены своей настоящей фамилии: «Стукалов ассоциируется со “стукачеством”. А я этим никогда не занимался. Вот на меня “стучали”, и не раз».
Николай Погодин был среди участников знаменитой поездки литераторов, однако в создании книги не участвовал. Ему доверили особо ответственное задание. К тому времени Погодин уже прославился пьесами об индустриальных стройках первой пятилетки. Особенно популярна была его комедия «Темп» (премьера состоялась в 1930 году) о Сталинградском тракторном заводе. Ещё до поездки на ББК драматург пишет жене: «Мне поручено написать кинопьесу или литературный сценарий на материале Беломорского канала… Дали мне день на раздумье. Подумал. А почему не поработать».
Итак, уже изначально речь шла именно о киносценарии, который был первичен по отношению к театральной комедии. Но Погодину рамки сценария показались довольно тесными, и он параллельно с «Заключёнными» создаёт в 1934 году «Аристократов». Понятно, что театральный спектакль вышел раньше, хотя съёмки фильма тоже начались в 1934 году: всё-таки кинопроизводство — процесс более длительный. Хотя режиссёр Евгений Червяков снял картину «Заключённые» по сценарию Погодина предельно оперативно — уже в 1935 году. Съёмки проходили непосредственно на Беломорканале, в них наряду с актёрами участвовали реальные заключённые. Приказом по Беломорско-Балтийскому комбинату НКВД от 23 января 1935 года начальник управления Беломорско-Балтийского лагеря НКВД Дмитрий Успенский приказал выдать денежные премии в сумме от 15 до 75 рублей 21 заключенному и еще 11 заключенным объявить благодарности. Правда, в конце уточнил: премирование осуществить из средств, отпущенных Государственным трестом по производству художественных фильмов национальных республик «Востокфильм».
Поначалу картина задумывалась тоже как комедия, причём музыкальная (вроде «Весёлых ребят»). Тем паче известный песенник Алымов оказался буквально под рукой и с лёту «наваял» семь текстов. Из них четыре — «Духовая», «Игровая», «Песня урок» и «Песня Соньки» — были стилизацией под блатной песенный фольклор. Из семи в картину вошли четыре песни, но «уголовным» особо повезло.
Почему же фильм не стал музыкальным? Видимо, власть решила не превращать серьёзное дело в балаган. На экраны вышло драматическое произведение, в котором зрителю показывали, как в нелёгких условиях суровые, но справедливые и мудрые чекисты терпеливо перевоспитывают закоренелых преступников. Суровые зимние пейзажи, метели, бараки — на первый план выходила именно «перековка трудом».
К тому же Алымов слишком увлёкся блатным колоритом, что казалось серьёзным перебором. Четыре уркаганские песни для одного фильма — это слишком! Пример подобной «заразы» уже показала вышедшая чуть ранее «Путёвка в жизнь» Николая Экка. В ней прозвучали две криминальные песни — не авторские, а уголовная классика: «Нас на свете два громилы» и «Щи горячие» («Ты не стой на льду — лёд провалится»), и вскоре их уже горланила вся страна от мала до велика! Наступать на те же грабли чекистам не хотелось. Ведь даже в бодрой «Песне победы», прославляющей канал, всё равно проскакивает воровской антураж:
Поэтому удивительно уже то, что в «Заключённых» вообще появились песенки о грязной тачке и о перебитых-поломанных крыльях. Единственный бравурный марш — «Победная песня» (не путать с «Песней победы», не вошедшей в картину!) — звучит в финале фильма, завершая «музыкальную “триаду”» «Заключённых» наряду с двумя уголовными песнями:
Правда, судьба у этих произведений разная. «Победная песня» прочно забыта — как и большинство алымовских поделок «на злобу дня». А вот уголовные стилизации стали воровской классикой, хотя никто с именем Алымова их не связывал. К тому же его оригиналы за десятки лет подверглись серьёзной переработке. И всё же нельзя не отметить иронию судьбы. Блатным классиком стал поэт, который в своих кемских дневниках писал: «Урка — ужаснейшая карикатура на человека, ужасная сущность, способная только на гадость, — без дома, без ответственности, ленивые, порочные, низкие, тупые, невежественные, вспоминающие мать только в ругани».
От детских паровозиков до взрослого пароходика
После освобождения Алымова власть распахивает бывшему опальному поэту свои объятия. Он обласкан, пользуется всевозможными привилегиями, ему прощают «милые шалости». А надо сказать, после освобождения Сергей Яковлевич «отрывается по полной», любит выпить, славится на всю Москву пьяными дебошами. Поэт Сергей Поделков вспоминал, как Алымов в середине 30-х выкинул с балкона пуделя Фельку — любимую собаку артиста Алексея Дикого (тоже большого любителя «заложить за воротник»). Того самого Дикого, который позже станет пятикратным лауреатом Сталинской премии — не в последнюю очередь за то, что не раз воплощал образ вождя на экране…
Замечательна и запись в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой от 11 июля 1939 года: «Вчера с Борисом Эрдманом пошли поужинать в Жургаз… Кончилось всё это удивительно неприятно. Пьяный Олеша подозвал вдребезги пьяного некоего писателя Сергея Алымова знакомиться с Булгаковым. Тот, произнеся невозможную ахинею, набросился на Мишу с поцелуями. Миша его отталкивал. Потом мы сразу поднялись и ушли, не прощаясь. Олеша догнал, просил прощения. Дома Миша мыл одеколоном губы, всё время выворачивал губы, смотрел в зеркало и говорил — теперь будет сифилис!»
Так что не сложилась дружба Алымова с Булгаковым…
Вскоре поэт попадает в эпицентр нового скандала. Когда-то, ещё в июне 1929 года, руководитель ансамбля песни и пляски Красной армии Александров получил под Киевом от командира роты 134-го полка Украинского военного округа Ильи Атурова текст песни «По долинам и по взгорьям». Текст оказался довольно неуклюжим, «непричёсанным», и Сергей Яковлевич отредактировал его, а затем в том же году включил в литературно-музыкальный монтаж «Особая Дальневосточная армия» под названием «Партизанская». С тех пор Алымова числили автором песни.
Однако осенью 1934 года 23 бывших красных партизана-дальневосточника опубликовали в газете «Известия» письмо, в котором заявили, что создал песню «По долинам и по взгорьям» не Сергей Алымов, а поэт Пётр Парфёнов, воевавший в Сибири и на Дальнем Востоке. Их поддержали писатели Евгений Пермитин, Михаил Алексеев и другие. Вскоре подал голос и сам Парфёнов. Сначала в № 21 журнала «Красноармеец — Краснофлотец», а затем в № 10 журнала «Музыкальная самодеятельность» он поведал о том, что «По долинам и по взгорьям» — действительно его сочинение, написанное на мелодию его же ранней песни «На Сучане» от 10 июля 1914 года:
Позднее уже военную песню «Наше знамя» на слова Парфёнова подхватили не только сибирские и амурские партизаны, но также солдаты, которые сражались против Красной армии в колчаковских и мамонтовских отрядах.
Однако Пётр Семёнович покривил душой. Песню он положил на мелодию широко известного марша времён Первой мировой войны. Текст «Марша Сибирского полка» опубликовал в «Новейшем военном песеннике “Прапорщик”» ещё в 1915 году известный литератор Владимир Гиляровский:
Более того, не исключено, что Парфёнов позаимствовал и переделал один из куплетов более позднего «Марша Дроздовского полка» на слова полковника Петра Баторина (дроздовцы воевали рядом с сибиряками на Румынском фронте):
Легко заметить, что именно в этом куплете песни «По долинам и по взгорьям» почему-то не рифмуются первая и третья строки (совершенно инородно смотрятся тут «партизанские отряды»), а в дроздовском варианте рифма вполне естественная.
Выступление Парфёнова действия не возымело. К тому времени он уже попал в немилость властей. В 1933 году Парфёнова исключают из партии, в 1935-м — арестовывают, а 29 июля 1937 года расстреливают по обвинению в организации антисоветской группы литераторов и создании антисоветских произведений.
Сам Алымов до последнего числил именно себя автором «Партизанской», считая свой текст наиболее совершенным. После его смерти бывшая супруга поэта Мария Корнилова-Гус пыталась доказать то же самое в суде. Однако в 1962 году суд признал автором всё-таки Петра Парфёнова…
Зато с авторством остальных алымовских творений проблем не было. Поэт оказался в обойме самых знаменитых и признанных песенников сталинской эпохи. На его слова писали песни известные композиторы того времени — Михаил Блантер, Исаак Дунаевский, Александр Новиков, исполняли их популярные певцы — Павел Лисициан, Сергей Лемешев, Георгий Виноградов, Владимир Бунчиков, Надежда Обухова. Часть из этих произведений на слуху и сегодня как «экзотическое ретро»:
Множество других «шедевров», которые Алымов пёк, как пирожки, давно канули в Лету: «Баллада про казачку» («Поднимался народ атаманов кончать»), «Думка», «Под луной золотой», «Пути-дороги», «Размечтался солдат молодой», «У криницы», «Хороша ты, Москва»…
«Беломорский соловей», выпорхнув из клетки, чирикает обо всём, что попадётся под крыло. Как знатный каналоармеец он создаёт гимн «Звезда морей» новому каналу Москва — Волга:
Соревнуется с Сергеем Михалковым в увековечении памяти Павлика Морозова:
Не забывает почтить гибель Валерия Чкалова:
Сталинская тема — вообще одна из любимых в творчестве поэта:
Разумеется, апофигеем этой «сталиниады» становится песня «Любимый Сталин»:
(Даже близкие харбинскому сердцу фанзы умудрился втиснуть!)
Не брезговал Сергей Яковлевич и фигурами помельче, в его творческой копилке есть оды Лазарю Кагановичу, Василию Блюхеру и вообще юным железнодорожникам:
Можно было бы сказать, что вот такой тихой сапой, на советском песенном паровозике Алымов весело допыхтел до конца своих дней. Однако это не совсем справедливо. Кто знает, что на самом деле творилось в душе этого человека? Ведь его благосостояние ровным счётом ничего не значило, оно не могло спасти ни близких ему людей, ни его самого. Как вспоминал сын поэта Феликс Сергеевич Алымов, в 1937 году был расстрелян родной брат Сергея Яковлевича Михаил, тогда же посадили родную сестру его жены Марии Фёдоровны, а мужа сестры как врага народа уничтожили ещё более страшным способом: заморозили живьём (позднее фашисты так поступят с генералом Карбышевым).
С началом Великой Отечественной войны Алымов, по возрасту освобождённый от воинской службы, пишет письмо лично маршалу Ворошилову с просьбой об отправке на фронт. Климент Ефремович идёт навстречу поэту. Может, вспомнил строки песни об озере Хасан:
А возможно, Алымов и в других песнях помянул добрым словом легендарного маршала. В любом случае, уже в феврале 1942 года Алымов отправляется на Черноморский флот. Он пишет много фронтовых песен, стихов, репортажей. Поэт награждён орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Севастополя», а от наркома обороны получил именные часы.
Жизнь Сергея Алымова прервалась неожиданно и печально — в результате дорожно-транспортного происшествия. Он скончался в одной из московских больниц 29 апреля 1948 года. Похоронили Сергея Яковлевича на Новодевичьем кладбище. По распоряжению Совета Министров СССР, подписанному Сталиным, память поэта была увековечена по высшему разряду: государство установило ему памятник и мемориальную доску, вышел посмертный сборник «Избранное», семье назначили персональную пенсию, а именем Сергея Алымова назвали пароход, построенный, правда, уже в 1955 году в Венгрии. Пароход «Сергей Алымов» отработал 25 навигаций и был списан в 1981 году. Сейчас он находится на территории базы отдыха «Сергей Алымов» в посёлке Елшанка Ленинского района Саратова. Каюты его переоборудованы под номера для отдыхающих.
Вот, собственно, и весь рассказ о человеке, который мечтал стать поэтом, а совдеповская действительность, переломав через колено, превратила его в сытого придворного холуя. Что осталось от него? Имя на борту старого парохода, переделанного в дом отдыха? «Хороши весной в саду цветочки»? Кто знает, может, Алымов был способен на большее… Но — не случилось. Пусть же о нём останется память хотя бы как о классике блатной песни. Это куда лучше, чем память о пламенном халтурщике эпохи сталинизма.
Плыви ты, наша лодочка блатная
Заяц против харбинца
Рассказывая о судьбе Сергея Алымова, мы уже заявили, что этот поэт является автором известной уголовной песни «Плыви ты, наша лодочка блатная». Теперь настала пора подтвердить утверждение, что называется, аргументами и фактами.
Вообще долгое время лихая песенка о блатной лодочке не выходила за пределы «благородного воровского мира». Как и многие другие произведения уголовного фольклора, она по-настоящему «всплыла» в эпоху «раннего реабилитанса», после XX съезда КПСС 1956 года, когда Никита Хрущёв обрушился с обличительным докладом на культ личности Сталина. И проводником блатных песен в жизнь стали, как уже отмечалось, не столько сами уркаганы, сколько интеллигенция, которая возвращалась из лагерей. Конечно, и прежде, уже с начала 50-х годов, часть интеллигентов стала приобщаться к русской низовой песенной культуре уголовного мира. Блатной фольклор собирал Андрей Синявский, будучи ещё студентом, германист Ахилл Левинтон, вернувшись из ссылки, даже создал знаменитый «Марсель», ставший блатной классикой… И всё же именно со второй половины 50-х начинается культивирование блатных романсов, баллад, разухабистых куплетов в рафинированной среде интеллектуалов. В 60-е мода на «блат» охватывает буквально всю страну. Не случайно Владимир Высоцкий начинал с «классических» уголовно-арестантских произведений, затем перешёл на собственные стилизации и даже в зрелом творчестве обращался к темам преступного промысла и лагерей. Появилось множество «подпольных» исполнителей, певцов-эмигрантов, подхвативших популярную тему, особенно в 70-е годы (Дина Верни, Борис Рубашкин, Михаил Гулько и проч.).
Возрождение «Лодочки» можно отнести к числу заслуг исполнителя блатных, арестантских, уличных песен Аркадия Звездина, более известного как Аркадий Северный. Разумеется, пели её и до Северного, и после, в самых разных вариантах, — но так случилось, что именно Аркадий Дмитриевич прочно занял место на самой вершине Олимпа классической блатной песни. Именно он заставил её звучать по-новому, фактически сделав её народной. В годы моего детства и юности (60—70-е) Высоцкий и Северный были самыми популярными певцами. Исполнение практически любой песни Аркадием Северным придавало ей особый статус — статус «уголовной классики».
Обрела (а вернее, подтвердила) этот статус и блатная «Лодочка». Северный исполнял её, можно сказать, в несколько «адаптированном» виде:
В этой версии отсутствует куплет о денежках, лежащих в кармане, хотя к тому времени он был достаточно популярен и даже вошёл в роман братьев Вайнер «Эра милосердия», выпущенный в 1976 году:
«Убийца Тягунов взял с дивана гитару, перебрал струны, пропел вполголоса:
…Внизу убийца Тягунов напился, видимо, и пел песни, здесь отчётливо слышался его высокий, злой голос, пьяный и бесшабашный. Он голосил:
В более поздних редакциях романа эти песенные эпизоды вырезаны: видимо, по тем же «эстетическим» соображениям, по которым из фильма «Заключённые» цензура вымарала часть блатных песен.
Кстати, пора обратиться непосредственно к упомянутому фильму, где прозвучала изначальная версия «Лодочки». Она возникает в начале картины, во время появления ростовского вора Кости-Капитана в бараке «филонов», то есть отказчиков от работы. Сначала, ещё до Кости, урки поют первый куплет песни, которая в рукописях Алымова названа «Духовая»:
Этот куплет не вошёл в «каноническую» версию. Когда в дверях возникает фигура вора, блатные переходят ко второму куплету, который позднее был включён в «фольклорную традицию»:
Костя приветствует обитателей барака: «Здорово, урки!» И получает ответ от Сашки-фармазона (уголовника, который занимался подделкой документов): «Пошёл к чёртовой матери!» Костя молча подходит, берёт Сашку за шею и швыряет под кровать-«шконку». Затем урки разражаются третьим куплетом:
И наконец, в завершении сцены урки провожают из барака воровку Соню припевкой:
Однако это далеко не весь текст. В книге Константина Гнетнева «Беломорканал: времена и судьбы» приводятся ещё два куплета из «Песни урок» Алымова:
Таким образом, два катрена от Алымова, несколько переработанных, вошли в версию песни, которая стала сегодня классической. Под классической версией я подразумеваю четыре первые строфы (о куплетах с колокольчиками есть смысл поговорить особо).
Не исключено, впрочем, что и два других куплета — «Плыви ты, наша лодочка блатная» и «Денежки лежат в любом кармане» — тоже принадлежат Алымову. Во-первых, в них сохранена внутренняя рифма, которая проходит через все куплеты алымовской стилизации («Воровская / Жизнь такая», «Деньги ваши — / Будут наши»). Между тем в куплете о домике у речки неведомые интерпретаторы сломали внутреннюю рифму «Где работка, / Там и водка». Возможно, это сделал Северный, достаточно далёкий от уголовного мира и не знавший, что слово «работа», «работка» на арго означает уголовное преступление. Впрочем, Аркадий Дмитриевич и без того обращался с текстами более чем вольно. Напомню, что в одном из фольклорных вариантов «Лодочки» поётся: «А жулик не подставит финке грудь» (эту версию в романе цитируют братья Вайнер). Северный же, по ходу исполнения забыв слова, сымпровизировал: «А урка не подставит нож к груди», то есть уничтожил не только рифму, но заодно и смысл.
Во-вторых, песня наверняка исполнялась зэками на Беломорстрое ещё прежде фильма «Заключённые». Посудите сами: если «Лодочка» была неизвестна до выхода картины на экраны, как же в фольклорный вариант вошли строки о воровке? Ведь в фильме они не звучали! Значит, либо зэки знали песенку ещё в бытность Алымова каналоармейцем, либо (что более вероятно) куплет исполнялся во время съёмок полностью, а потом был «обрублен» до двух последних строк, но каналоармейцы, которые участвовали в съёмках, хорошо его запомнили и разнесли затем по всей стране. Это же могло случиться и с теми двумя куплетами, которые в фильм не вошли, но в фольклорном исполнении стали классикой.
В любом случае, авторство Алымова подтверждено документально и не вызывает сомнений. Хотя, безусловно, следует признать и то, что текст подвергался за десятки лет исполнения многочисленным переработкам.
Что касается музыки, на которую положен текст Алымова, она принадлежит Юрию Александровичу Шапорину — известному композитору, впоследствии лауреату трёх Сталинских премий, автору многочисленных произведений, в том числе романсов на стихи Пушкина.
Однако сегодня на роль авторов блатной «Лодочки», оказывается, есть и другие претенденты! Что, в общем-то, неудивительно; это случается время от времени и с другими низовыми песнями, начиная с «Мурки» и «Гопа» и кончая знаменитым «Постой, паровоз». Не обошла чаша сия и алымовско-шапоринское творение. Неожиданно «открыл» сочинителя песни о блатной лодочке автор двухтомного исследования «Бандитская Одесса» Виктор Файтельберг-Бланк. Причём он объединил в одном лице и поэта, и композитора. В главе «Композитор — бандитский король Одессы» исследователь пишет:
«В 30-х и начале 40-х годов нашего века одесский бандит и вор Борис Зайко был сочинителем наиболее “хитовых” блатных песен. Послевоенная шпана будет распевать его песни “Тарлафудра”, “Васька Рыжий”, “Плыви ты, лодочка моя блатная”, не зная, что их автор расстрелян румынскими оккупантами. Многим старым одесситам помнится эта песня:
Откуда у него такие удивительные сведения, автор «Бандитской Одессы» не сообщает. Впрочем, как и о том, что это за странная песня такая — «Тарлафудра». Видимо, Файтельберг образовал это название из старого популярного припева уголовников «дралафу-дралая» или «дралаху-дралая». Чаще всего он звучит в песне «Два громилы»:
Однако песня эта была известна ещё в 20-е годы, и сведений о причастности к её созданию Бориса Зайко или кого-либо другого нет. По крайней мере, у меня. А любопытно было бы узнать о таинственной «Тарлафудре». Хотя к «Лодочке» это не имеет отношения.
Кто же таков этот Борис Зайко? Файтельберг рассказывает о нём следующее:
«Атаман одесской банды “зайцев” — Борис Зайко, блатные клички — Заяц или Композитор, родился в 1908 году в центре одесского блатного мира, на Молдаванке. Ему не пришлось участвовать ни в революции, ни в Гражданской войне. Но уже в весёлые времена нэпа он погулял, участвуя в бандах Пухлого и Казана. Ходили слухи, что в страшные годы голодомора (1933–1934) он и его мамаша, профессиональная воровка, убивали людей, расчленяли трупы и торговали человечиной. Так это было или всё придумано врагами Зайца, мы, скорее всего, не узнаем. Но известно, что Заяц до войны три раза привлекался к уголовной ответственности, сидел в зоне и тюрьмах, а выйдя на свободу в 1939 году, стал артистом лёгкого жанра, аккомпаниатором на гитаре и гармони. Это была его дневная жизнь. Ночью он “ходил на дело”, собрав десяток отчаянных воров-беспредельщиков.
Вообще Заяц был довольно обаятельным кавалером, был высок и строен, умел нравиться женщинам, был весел, слыл остроумным собеседником, любил петь и играть на гитаре, танцевать. Его интеллигентное вытянутое лицо, умные глаза никак не сочетались с представлением о бандите и громиле или воровском атамане, каким был Борис Михайлович Зайко. Заяц был очень популярен в блатном мире Одессы и слыл одним из главных авторитетов, призывавшим воров “жить по понятиям”. Сам вершил воровской суд. За нарушение воровской этики он мог убить провинившегося или “покачать права” — заставить вора стать перед ним с поднятыми руками и бить дубинкой по бокам вора, пока нарушитель “законов” не свалится. Свою банду он держал жёстокой дисциплиной, установив в ней иерархию — воровские ранги. Заяц бредил славой Мишки Япончика и Чёрного Ворона — королей одесских бандитов. Считал, что титул короля Молдаванки у него наследственный, а его отцом был легендарный атаман анархистов-бандитов, который погиб в 1907 году, за несколько месяцев до рождения сына».
Дальше историк блатной Одессы повествует о том, как Зайко вместе с 23-летней любовницей Лидкой Шереметьевой во время оккупации Одессы с октября 1941 года немецко-румынскими войсками продолжил заниматься грабежами и налётами. Автор сообщает имена членов шайки — Алик Сумасшедший (А. Кипард, 19 лет), Матус (А. Матюшенко, 23 года), Каштуль (В. Галкин, 21 год), Москвич (В. Лихозирский, 22 года), Клаус (А. Олекорс, 19 лет), Кабан (И. Иванов, 20 лет). Он подробно рассказывает о крупных грабежах, о борьбе за территорию между несколькими бандитскими группировками — Попика, Мадьяра, Лысого, о захвате Зайко и его подельников… Жаль только, что по поводу авторства песни Файтельберг ничего не проясняет. Впрочем, он и не ставил перед собой такой цели. Правда, рассказывая о крахе Бориса Зайко, исследователь пишет:
«Арестованные бандиты из окружения Шереметьевой “засыпали” друг друга, надеясь избежать расстрела. Сама “начальница штаба” под пытками выдала Зайца.
Утром на улицу Южную, что на Молдаванке, к дому, где жил Заяц с женой и дочкой, подъехали два автомобиля. Пять сыскарей и полицейских оцепили дом, трое ворвались в квартиру. Заяц как ни в чём не бывало сидел за шикарно для военных лет накрытым столом и развлекался игрой на любимой гитаре. Он пригласил вошедших к столу и очень удивился, что его хотят арестовать. Заяц даже принялся иронизировать и убеждать, что он — известный в Одессе музыкант и поэт. Да, песни Зайца в Одессе были очень хорошо известны, но от ареста это не спасло. В тюрьме его долго допрашивали относительно связей с одесскими партизанами, скрывавшимися в катакомбах.
В конце 1943 года в одесской прессе было сообщение, что Заяц расстрелян. Но возможно и другое — вербовка в фашистский диверсионный отряд для террористической деятельности на советской территории».
Итак, Зайко вновь именуется известным поэтом и музыкантом, но на сей раз о его конкретных произведениях речи не идёт. Что он написал, покрыто мраком. Во всяком случае, одно мы можем точно утверждать: никоим образом не песню о том, что воровка никогда не станет прачкой. Это совершенно исключено. Вместе с тем вовсе не исключено, что Боря Заяц мог приписать себе авторство. Тут вопросов нет — не он первый, не он последний. Кто знает, может быть, он успел за свою бурную жизнь побывать и в числе строителей Беломорканала. Или даже среди зэков — «киноартистов». Пока ничего об этом не известно. Что же, значит, ещё есть куда копать…
Домик для «деловых»
В песне особенно заметна насыщенность текста реальным блатным фольклором, прежде всего пословицами и поговорками уголовников. При этом явно не воры заимствовали присказки из «Лодочки», а создатель песни включил народное уркаганское творчество в своё произведение. О том, что Алымов был неплохо знаком с блатным фольклором (в том числе песенным), свидетельствует хотя бы глава седьмая «Каналоармейцы» сборника о Беломорско-Балтийском канале, который мы уже не раз цитировали. В ней есть любопытный эпизод:
«В шалаше — бригада сплавщиков Громова. Бригада из одной молодёжи. Все бывшие воры.
— Раньше мы плотов и в кино не видели. Не знали, как к бревну подступиться. Научились. Сортируем. Сплачиваем. Ведем кошели лучше карелов. Норма была тысяча двести бревен — подняли до двух с половиной тысяч.
Большая чёрная лодка быстро идёт к шалашу. Чёткие взмахи весел. Голые торсы. Удалая, залихватская песня:
— Песня блатная, — как бы извиняется скуластый Громов. — От блатного ремесла легче отвыкнуть, чем от блатной песни».
Сравните этот куплет с начальной версией алымовской «Лодочки»:
Песня, которую исполняли ребята Громова, целиком до нас не дошла (по крайней мере, мне обнаружить полный текст не удалось). Но лексика схожая. Заметим особо, что одним из авторов указанной главы сборника является Сергей Алымов.
Вспомним и второй куплет песни уркаганов из кинофильма:
Это — очень точная деталь из жизни босяков и уголовников. Действительно, любимым местом блатарей, воров на начальном этапе «воровского движения» были речные берега. Здесь проходили их встречи, совместные пьянки, делёж добычи; многие босяки ночевали под лодками. По воровскому закону, истинный блатной не должен был иметь постоянного жилья. Конечно, на деле бывали исключения, но в основном закон соблюдался. Бывший вор, а позднее известный писатель Михаил Дёмин так описывал сборище ростовских блатарей 30-х годов:
«Я разыскал блатных довольно быстро; они размещались за бугром, на пляже — на песчаной косе, омываемой мутной, радужной от мазута водою. Кодла была в сборе!.. Развалясь на песке, урки выпивали, закусывали, некоторые из них загорали, подставляя солнцу расписные, татуированные спины и животы. Иные сидели, собравшись в кружок; там шла игра, трещали карты… Внезапно — из-за днища опрокинутой барки — выглянула белёсая, с растрёпанной чёлочкой голова…»
«Воровка никогда не станет прачкой»
Следует отметить насыщенность «Лодочки» пословицами, поговорками, присказками блатного фольклора. Некоторые из них наверняка были перенесены непосредственно из уголовной среды. Хотя и сами блатари нередко использовали уже существовавший прежде уличный фольклор. Скажем, присказка «Деньги ваши — будут наши» заимствована из быта дореволюционной Москвы. Собиратель народного творчества Евгений Иванов в книге «Меткое московское слово» рассказывал, что так в начале XX века дразнили официантов: «Деньги ваши — будут наши, и с почтением!»
Да и позднее, когда песня о лодочке из фильма «Заключённые» перекочевала в блатной фольклор, урки подвергли оригинальный текст серьёзной творческой обработке. Вспомним хотя бы не слишком удачную сентенцию Сергея Яковлевича: «Шпана не подкачает — дырка в грудь!» Уголовный мир быстро отринул эту «самодеятельность» и вместо неё предложил целый букет вариаций — «А вор не будет спину гнуть», «А урка не возьмёт бревно на грудь», «А урка не подставит тачке грудь», «А урка не подставит финке грудь»… Все они явно удачнее алымовского изобретения.
Однако можно предположить, что некоторые афоризмы принадлежат непосредственно перу Алымова. С определенной долей вероятности мы можем отнести к таким оригинальным поговоркам фразу «Воровка никогда не станет прачкой».
Это — буквальное наблюдение из жизни. На Беломорканале прачки были в большом дефиците; об этом можно узнать из сборника «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина». К примеру, в рассказе о буднях учётно-распределительной части (УРЧ) встречаем:
«Жизнь полна беспокойства, суматохи, торопливости, суеты…
— Какого черта, — ругаются в телефонную трубку, — вы мне присылаете плотников вместо бурильщиков… Пришлите шесть прачек!»
Работа прачки издавна считалась одной из самых трудоёмких. А на Беломорканале условия труда и нагрузка были особенно тяжёлыми. Вот мимолётная зарисовка из того же источника: «Меж высоких карельских сосен, на сорокаградусном морозе сушилось множество выстиранного белья. Три женщины в ватных стёганых мужских кацавейках и белоснежных платках проворно сдирали с верёвок залубеневшие рубахи и бросали в снег. Рубахи не падали. Они стояли, расставив рукава, как гипсовые. Из саней выгружали обмундирование — кацавейки, штаны, варежки, боты, валенки. Связки одежды летели в хлористый снег».
Короче, работёнка ещё та… Воровайки от неё отказывались напрочь. И не только из-за нагрузки. Под влиянием длительного контакта то с горячей, то с холодной водой руки женщин, которые постоянно занимаются стиркой, подвергаются мацерации — процессу, пагубно влияющему на кожу: размягчению или даже распаду тканей в результате растворения межклеточного вещества. В медицине существует специальный термин «руки прачки» — по аналогии с симптомами у женщин, постоянно стирающих одежду вручную. Кожа набухает, белеет, становится рыхлой, сморщивается, даже может отслаиваться. Как пишет женский журнал «Best-Woman.ru», отмечая нынешний прогресс отечественной косметологии, в былые времена зарубежные гости Страны Советов нередко обращали внимание на неухоженность рук социалистических гражданок: «Обидное замечание иностранцев из советских еще времен, что, мол, “руки ваших женщин похожи на руки прачек”, кануло в Лету».
Воровки, блатнячки не желали иметь такие руки. Кроме того, они видели, что к женщинам на Беломорканале отношение куда более пренебрежительное, нежели к зэкам-мужчинам. Грубая мужская сила, рабочие навыки были востребованы, приносили реальную пользу. А женщины — что с них взять? Нагнали много, а проку мало. Кайлом здорово не помашут, деревья не выкорчуют, валуны из земли не будут выворачивать. Как признают авторы сборника о Беломорканале, «женщинам не давали настоящей работы. В лучшем случае им поручали посмотреть, какое место отведено под кавальер, измерять кубики. В худшем — смотрели на них, как на судомоек, постирушек, которым ничего нельзя доверить, кроме уборки барака».
Такое положение фактически сохранялось на протяжении всего строительства. В 1933 году это вынужден был документально зафиксировать лично помощник начальника ГУЛАГа Семён Фирин, издавший 8 февраля приказ № 54 Главного управления лагерей ОГПУ по Белбалтлагу «О недостатках культурно-воспитательной работы среди женщин и необходимых мероприятиях по поднятию этой работы». Текст приказа говорит сам за себя: в некоторых отделениях женские общежития плохо отапливаются, содержатся в антисанитарном состоянии; большинство женских трудколлективов не имеет своих кухонь и питается сухим пайком; медобеспечение недостаточно и т. д.
Но главное, пожалуй, не это. Примечателен пункт 7: «Со стороны лагерной администрации и заключённых мужчин нет чуткости и уважения к женщине; в обращениях встречаются грубость, цинизм, и иногда не щадится женская стыдливость». Вот что крайне важно иметь в виду! Фраза о том, что воровка никогда не станет прачкой, означает не только категорический отказ от тяжёлого труда, но и то, что профессиональная преступница не позволит себя унижать, не опустится до состояния рабыни. Она не допустит, чтобы с ней обращались, как с прачкой.
Однако возникает вопрос: а разве в уголовном мире отношение к женщине было лучше? Разве там меньше цинизма и грубости? Воровские «шмары», проститутки — они что, могли похвалиться нежным и тактичным отношением к себе со стороны «коллег по цеху»?
Спору нет: уркаганы не отличались аристократическими манерами. В среде криминалитета женщина нередко рассматривалась как товар, её могли передавать из рук в руки. Как поётся в известной воровской песне «Луной озарились зеркальные воды»:
И всё же воровке, проститутке жилось вольнее, нежели советской работнице. В ней хотя бы видели женщину, а не рабочий скот. Да, воровской мир циничен и груб — но это касается и возможности воровайки отстаивать свои права столь же цинично и грубо. Разгульная, вольная, преступная жизнь не шла ни в какое сравнение с каторжной повинностью других зэчек. И в этом тоже заключается глубинный смысл сентенции «Воровка никогда не станет прачкой».
А что, у воровок на Беломорканале существовал выбор? Ведь мы столько слышали о чудовищных условиях Белбалтлага, зверствах чекистов и прочем… Но обратимся к пункту 8 уже цитированного выше фиринского приказа: «В результате чрезвычайно слабой культурно-общественной работы и недостаточного внимания к нуждам заключённых женщин в быту имеются даже такие ненормальности, как кражи, пьянство, картёжная игра и проституция». Заметим: речь идёт о «ненормальностях», которые совершаются именно женщинами! И, понятно, не прачками. Это на третьем-то году «великой стройки»!
Так всё же: является ли поговорка о воровке сочинением Сергея Алымова или она возникла на Беломорканале непосредственно в зэковской среде и лишь затем поэт перенёс её в песню? Однозначно ответить я не возьмусь. Конечно, то, что эта фраза стоит рядом с несомненно алымовской (и явно неудачной) — о шпане, которая не подкачает, вроде бы свидетельствует о том, что афоризм принадлежит именно Сергею Яковлевичу, равно как и другой — о грязной тачке. Этих поговорок к тому же мы не встретим в фольклорных источниках, относящихся к периоду, предшествующему строительству Беломорканала. Та же «Воровка никогда не станет прачкой»: наиболее раннее упоминание о ней (не считая алымовской рукописи) я встретил лишь в поэме бывшего лагерника Игоря Михайлова (Таганрог), которая написана в Печорлаге в 1942–1943 годах. Герой влюблён в блатнячку, а знакомые арестанты отговаривают его:
Но вряд ли отсутствие упоминаний является весомым аргументом в пользу того, что афоризм о воровке принадлежит Алымову. Об этом, повторю, можно говорить лишь с известной долей вероятности.
В завершение, пожалуй, есть смысл указать на то, что блатная поговорка о воровке была позднее переработана в фривольную уличную песенку, которая начинается куплетом:
Заимствование очевидно, причём заимствование не слишком удачное: вряд ли прачку можно обвинить в том, что она, стирая бельё, пачкает руки. Другое дело — грязная тачка. Вот о ней есть смысл поговорить подробнее.
«Грязной тачкой рук не пачкай»
Не исключено, что и эта присказка вошла в песню из уголовного фольклора Беломорканала. Правда, в том виде, в каком её поют блатари из кинокартины о заключённых, отыскать её не удалось. Зато есть указания на похожую поговорку в автобиографической повести Василия Ажаева «Вагон». Ажаев, известный писатель, автор популярного некогда романа «Далеко от Москвы», с 1935 года около 15 лет работал на Дальнем Востоке сначала как заключённый, потом как вольнонаёмный. Вот что он пишет: «Блатные действительно фордыбачили[9]. Они быстренько нашли в лагпункте своих, и Кулаков от всей бражки заявил отказ от работы. Было разыграно красочное представление: “Мы работать не могим, пусть работает Ибрагим”. “Тачка, тачка, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся”… Словом, урки устраивали “парад ретур с понтом”».
Поговорка о тачке представляет собой переработку припева известной казачьей песни «Шамиль»:
Скорее всего, под «Ойся» подразумевается имя «Ося» (Осип, Иосиф), которое в данном случае ассоциируется с евреем (дериват «Ося» был особенно распространён в еврейской среде). Возможно, призыв к Осе «не бояться» был связан с тем, что в песне основным объектом осмеяния являются чеченцы, и юдофобия, в определённом роде свойственная казакам (особенно кубанским), отступает на второй или даже на третий план.
Возможно, в лагеря песня попала после расказачивания, припев поправился блатному народу и после лёгкой трансформации перешёл в уголовный фольклор. Конечно, в приведённом виде поговорка отличается от «Грязной тачкой рук не пачкай». То есть не исключён вариант, согласно которому Алымов мог на основе блатного изречения создать своё, оригинальное. Но тут есть одно любопытное обстоятельство: в приведённых выше отрывках поговорка употребляется вместе с присказкой про Ибрагима, который «не могёт» работать. А вот она могла появиться почти стопроцентно именно на Беломорканале, куда власть перебрасывала вагонами «нацменов» (представителей национальных меньшинств) из Средней Азии. Вот как они описаны в очерке «Дальний этап» главы четвёртой сборника «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина»:
«Длинный почтовый состав отходит от Ташкентского вокзала… В хвосте поезда идёт товарный пульман с заключёнными. В вагоне люди, вредившие рабочему государству на дальних окраинах Союза. Они едут из красноводских лагерей, из Сталинабада, Самарканда, Ката-Кургана, Ташкента. Перечень их преступлений пёстр: басмачество, контрреволюционная агитация, связь с врагами республики за рубежом, воровство и спекуляция».
В другом месте авторы подчёркивают состояние этих людей, попавших в чужие северные края:
«Поймите же, здесь для них было всё чужое и дикое: природа, язык, пища, одежда. Солнце, как сказал один из них, “светило, будто через кошму” (войлок). Он не чувствует этого чужого солнца… Он промёрз… Вспомните, как травит этого растерянного человека толпа “урканов”. “Ряшка, — кричат ему, — лохань, помойница!” Он не понимает слов, но он понимает презрение. Он хватает полено и бежит за обидчиком…»
В суровых северных широтах азиаты действительно работать не могли, да и не хотели — нередко и потому, что плохо переносили мороз. Неудивительно, что вскоре именно за ними закрепилась нелестная слава отказчиков и бездельников. Об этом отношении к «нацменам» не раз упоминают авторы сборника о Беломорканале — например, в главе девятой «Добить классового врага»:
«Помнач ГУЛАГа отыскивал бараки, где жило много нацменов, и вёл странные разговоры:
— Здорово!
— Здорово!
— Ты из Ферганы?
— Из Ферганы.
— Я вижу. Я был в ваших местах. Как ты работаешь?
— Работаем, начальник.
— Хорошо работаешь?
— Хорошо работаем, начальник.
— Нет, ты плохо работаешь.
— Плохо работаем, начальник.
— А ты откуда?
— По-русски не понимаем.
В бараках у нацменов было грязно и темно. На парах сидели узбеки, башкиры, таджики, якуты, самые отсталые люди на стройке, заклеймённые в “Перековке” как лодыри».
Тогда-то и появляется издевательская присказка:
В главе шестой («Люди меняют профессию») и других цитируется та же лагерная поговорка:
«Старнад[10] соседней бригады, бывший белопогонник, пролезший в лагерное начальство, подошёл к нацменам.
— Черномазое бандитьё! — сказал он шутовским голосом. — Ибрагим, работать не могим…»
Двустишие про Ибрагима охотно использовали и блатари. Эту присказку мы встречаем в том числе у Николая Погодина в «Аристократах», где в роте усиленного режима уркаган по кличке Берет рисует свою программу жизни на ББК:
«Берет: Что вы голову повесили, соколики? Сели — значит, будем сидеть. Всё равно буду играть в карты на что захочу, буду воровать, колоть, ломать. Но… (Поёт.)
Присловье про Ибрагима использует и Сергей Алымов в песне «Игровая», которая была предназначена для «Заключённых», но не вошла в фильм:
«Забутано» — лексика так называемой «старой фени», довоенного жаргона. Слово происходит от блатного «бутор» — барахло, вещи (венгерское butor — мебель, багаж). Вообще-то «бутор» издавна был распространён в русских говорах в значении «имущество, пожитки, утварь, скарб» (см. «Этимологический словарь…» Макса Фасмера); на Украине ещё с XVII века в форме «бутора» — дорожный скарб. То есть «забутано» — вещи на кону, «замётано» — правила определены, можно начинать игру. «Майданщик» — арестант, который держит место для игры, называемое «майдан» (сейчас — «катран»). Часто такими хозяевами майданов были татары или выходцы из Средней Азии.
Интересно, что присказка про Ибрагима использовалась и позднее в связке с другими поговорками — с той же «грязной тачкой», к примеру. У Роберта Белова в автобиографической повести «Я бросаю оружие» есть эпизод со школьниками, который относится к зиме 1942/43 года:
«Это было, когда тимуровцы школы вызвались выкалывать дрова изо льда, из Камы…
— Шестёрки ещё! Не пойду. Грязной тачкой руки пачкать? — по-обезьяньи изогнулся Мамай. — Кранты! Ибрагим работать не могим».
Наконец, в «Лодочке» встречается ещё одно откровенно воровское выражение, которое не так явно бросается в глаза, — «Мы это дело перекурим как-нибудь». Как поясняет старый лагерник француз Жак Росси (отбывший в ГУЛАГе 21 год) в своём двухтомном «Справочнике по ГУЛАГу»: «Закуривай! — говорится, когда стряслась беда и просвета нет… Когда по ходу работы волжским бурлакам предстояла тяжёлая переправа с залезанием глубоко в воду, старший останавливал артель командой “закуривай!”, т. к. подвешенные на шее кисеты намокнут и долго не придётся курить». А вот предложение «перекурим» означало — обдумаем сложную ситуацию, попробуем найти выход. В этом смысле оно, например, встречается в повести «Таёжный бродяга» Михаила Дёмина, когда герой рассказывает своим знакомым — карманнику и бывшему уголовнику — о проблемах, которые на него свалились:
«Ребята слушали меня молча, изумленно. Затем Иван сказал, крякнув и поджимая губы:
— Вот, значит, как! Ай-яй. Что ж, перекурим это дело — обдумаем… Ты — погоди!»
«Колокольчики-бубенчики ду-ду…»
Обратим внимание на то, что «Лодочка блатная» распадается на две части. Первая опирается на алымовский оригинал, хотя и с очень широким спектром вариаций. Вторая — ряд куплетов, которые объединены одним зачином — «Колокольчики-бубенчики…». И с этого места авторство Сергея Яковлевича Алымова заканчивается, а начинается чистый фольклор блатного мира.
Впрочем, не только блатного. Начнём с того, что «колокольчиковый» зачин, скорее всего, поначалу появился в песне на стихи Степана Гавриловича Петрова, больше известного по литературному псевдониму Скиталец. Песня увидела свет в 1901 году и начиналась словами:
Романс про «бубенчики под кованой дугой» быстро стал популярен. Его исполняли многие известные певцы и певицы, в том числе Надежда Плевицкая и Нина Дулькевич. Однако существует ещё несколько песен с подобным зачином. Можно предположить, что он перекочевал в них из романса Скитальца, но всё же определённо утверждать мы остережёмся.
Одна из упомянутых песен в нашей стране стала довольно известна благодаря Аркадию Северному. Причём во время ленинградского концерта, датированного концом 1975-го — началом 1976 года, певец пояснял: «Я-таки сейчас вам исполню забытую старую песню “Колокольчики-бубенчики звенят”, которую исполнял ещё давно-давно, до Румынии, Пётр Лещенко».
На самом деле нет никаких свидетельств того, что «Колокольчики-бубенчики» присутствовали в репертуаре Петра Лещенко: он пел классический романс «Однозвучно гремит колокольчик». А песенку о бубенчиках исполнял другой эмигрант — Леонид Шулаковский:
Эта же песня в адаптированном варианте прозвучала в сериале «Тени исчезают в полдень» (1971) режиссёров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова по роману Анатолия Иванова.
Неведомых сочинителей «колокольчики-бубенчики» вдохновили на создание знаменитого застольного куплета, который до сих пор очень популярен в нашем Отечестве:
Видимо, эти строки и подвигли блатных авторов на куплет с просьбой к «товарищу Сталину»:
Куплет также известен в варианте, близком к застольному:
Последняя строка практически повторяет «сталинскую», только вместо «отца народов» упомянут «хозяин». С одной стороны, «Хозяином» называли того же Иосифа Виссарионовича, с другой — на жаргоне арестантов «хозяин» значит — начальник лагеря, колонии, тюрьмы.
Вообще вариаций с «колокольчиками-бубенчиками» в уголовном песенном фольклоре чрезвычайно много, их нередко включают и в песню о «блатной лодочке», однако мне представляется целесообразным ограничиться всё-таки лишь теми куплетами, которые имеют непосредственное отношение к Беломорско-Балтийскому каналу. В то же время как подтверждение вариативности «колокольчиковых» куплетов приведём несколько образчиков из сборника Якова Вайскопфа «Блатная лира»:
Если добавить, что в подобного рода куплетах встречается также пожелание — «Пускай работает тот серенький медведь, и не хуй ему по лесу реветь», можно сделать вполне определённый вывод: эти припевки строятся на включении в них известных блатных поговорок, связанных с неприятием физического труда. Что, как мы убедились, было характерно и для алымовской «Лодочки».
«Урку не заставишь спину гнуть»
Впрочем, тема песенного прославления отказчиков от работы достойна особого очерка. Мы остановимся пока на поговорке о том, что «урку не заставишь спину гнуть», увековеченной в «Лодочке». Для того чтобы понять всю глубину этого уголовно-философского афоризма, снова обратимся к фильму «Заключённые» и комедии «Аристократы». Вернее, к одному из героев этого воспитательного эпоса — Константину Дорохову по прозвищу Костя-Капитан (роль которого блестяще сыграл замечательный актёр Михаил Астангов). Как отмечают исследователи, погодинские «Аристократы», а особенно «Заключённые», производили на публику и зрителей довольно сильное впечатление — и не только в Советской России. Иоахим Клейн в исследовании о литературе и пропаганде сталинского периода пишет:
«Комедия Погодина имела успех также у зарубежной аудитории. На международных театральных фестивалях 1935, 1936 и 1937 годов, проходивших в Москве, она вызывала аплодисменты иностранных зрителей. Известны переводы пьесы на английский и итальянский языки; упоминаются переводы на китайский, чешский и норвежский. Пьеса шла в Париже, Лондоне и Осло. После войны она появляется также на немецком языке…
Особенно красочно изображение уголовного мира. Именно ему пьеса обязана большой частью своей занимательности. Публика может вволю повеселиться над экзотическим блатным языком персонажей, поразиться виртуозностью карманного мошенничества, почувствовать озноб от жестокости. На сцене учат мастерству смертельного удара; истекая кровью, главный герой увечит себя. Когда “начальник” спрашивает уголовницу Соню, убивала ли она, звучит её “открытый и ясный” ответ: “Конечно, да”. Писатель не скупится и на эротические мотивы: за картёжным столом уголовники ставят на карту женщину; позже Косте-Капитану удаётся под покровом ночи пробраться в женский барак. При всём том пьеса в высшей степени сентиментальна; можно было бы назвать её социалистической мелодрамой… В пьесе проливается много слёз — в закоснелых врагах советского общества таким образом выявляется здоровое ядро… Заключительная сцена особенно чувствительна. Убийца Соня борется с обуревающими её чувствами и не может говорить. Костя-Капитан прерывает свою речь, чтоб утереть слёзы. Преступник Алёша читает собственные стихи».
В определённой степени влияние «Аристократов» и «Заключённых» испытали на себе и профессиональные преступники. 16 марта 1937 года газета «Известия» публикует очерк Льва Шейнина «Явка с повинной», который позже вошёл в знаменитую книгу «Записки следователя». Герой очерка, вор Костя Граф, очень напоминает погодинского Костю-Капитана — и замашками, и даже «родословной». Но в то же время Граф — фигура не выдуманная.
Родился Константин Цингери в Ростове-на-Дону, в семье коммерсанта-грека. Воровскую жизнь начал ещё до революции. Был поездным вором («майданником») высшего класса, «работал» со своей напарницей Вандой «на малинку», то есть усыпляя жертву снотворным и обирая её. Графом Костю прозвали за то, что он любил шикарно одеваться (одежду носил только от лучших портных) и «бомбил» преимущественно в экспрессах международного класса.
Однако обстановка в стране менялась, наличных денег и драгоценностей становилось всё меньше, а размениваться на пустяки Граф не желал. Тем более у него была «фраерская» профессия — топограф. И тогда, ободрённый призывами и посулами официальной пропаганды, не в последнюю очередь и под влиянием «Заключённых», он решает «перековаться» и является с повинной в Прокуратуру СССР. Да не один, а приводит с собой целую компанию жуликов! Было в это время Графу тридцать восемь лет — самый расцвет для мужчины.
Костя встречается лично с прокурором Союза, перед которым от имени всех рецидивистов держит пламенную речь: «Хоть это и странно слышать, но если жулик даёт честное слово, так это действительно честное слово. Это металл, это нержавеющая сталь, это платина». И «завязавшие» воры Граф, Турман, Таракан, Волчок, Король, Цыганка пишут воззвание ко всем «советским ворам». После этого в Москве, Ленинграде, Киеве, Свердловске, Харькове, Ярославле и других городах люди начали являться с повинной в органы милиции.
Это — не выдумка Шейнина, не очередная святочная история. Пропаганда делала своё дело. Но ни советская действительность того времени, ни психология блатарей не были рассчитаны на доведение идеи «воровской перековки» до логического конца. Жулик был способен на широкий жест, красивую фразу, минутный героизм. Но проза существования, трудности быта, отсутствие привычной «шикарной» жизни быстро остужают пыл «новорожденного». К тому же и отношение к «бывшему» со стороны обывателей остаётся настороженно-подозрительным…
Вернёмся к Косте Графу. «Отрешившись от старого мира», Цингери уезжает на зимовку Отто Юльевича Шмидта. На Чукотке его арестовывают «за язык» — за письмо о произволе, который творился в тех краях. Признали троцкистом, руководителем антисоветской организации. Вот когда блатарь понял, кто такие «политики»: под пытками признал всё, что ему «вешали» славные чекисты! Однако Графу удалось вновь связаться с Шейниным, и через год Костю освободили. Он вновь попал к Шмидту, в годы войны ушёл в армию. Попал в десантную группу, которую высадили в Норвегии. Здесь оказался в плену у немцев. После войны из немецких лагерей прямым ходом попал в советские…
И вновь Костя выходит на Льва Шейнина. Писатель вытаскивает его из-за «колючки» в очередной раз и устраивает в московский ресторан. Полярные зимовки, страдания за правду, боевой десант, немецкий плен, несправедливые репрессии — всё это было существование на высокой ноте, яркие испытания, близкие блатной душе. Их Костя Граф выдержал. Но — споткнулся на простом искушении уголовной натуры. Он вскоре попадается на хищениях и получает свою «десятку». Получает справедливо. И «отматывает» её от звонка до звонка. Но сразу же после освобождения вновь попадается — на грабеже. Ещё семь лет. Выйдя из зоны, Цингери вновь — в который раз! — пытается «завязать» с прошлым. Он направляет письмо в газету для осуждённых, которая издаётся в Ярославле: «Обращается к вам бывший вор Костя Граф…»
На помощь жулику приходит ярославский сыщик Виктор Волнухин. Он устраивает Цингери администратором в железнодорожный ресторан. Но и там Граф повёл себя далеко не по-графски: его ловят, когда он «проверяет» карманы посетителей, и увольняют. Закончилась трудовая карьера Кости Графа на Ярославском заводе железобетонных конструкций. Откуда его опять-таки выгнали с позором, уличив в карманных кражах…
В истории Кости Графа, как в капле воды, отразилась вся история сталинской «перековки» «воровского ордена» с её красивыми жестами и фразами, показательными демонстрациями — и реальным пшиком. Настоящему вору, закоренелому рецидивисту, даже если бы он решил начать жизнь с чистого листа, тяжко пришлось бы в советском обществе. Его вольная, «жиганская» натура внутренне восставала против тоталитарного давления государства (не случайно же Граф сразу отправляется не на фабрику, а на край света, изолируя себя от общества). Он привык к своей — пусть ограниченной, пусть преступной, разнузданной — но свободе. К вольнице притонов, к «воровскому братству». К «красивой» жизни.
А что ему предлагалось взамен? Стать винтиком, безликой единицей, частью серой толпы. Это не общие слова. Это — констатация факта. Сами идеологи Страны Советов без всякой иронии, наоборот, с гордостью сообщают: «В Москве изменилась в 1931 году уличная толпа, окончательно исчезли раскормленные богачи и их расфранченные женщины, заметные при взгляде на улице всякой другой страны. В толпе почти невозможно разобраться. Здесь не существует понятий — рабочее лицо, лицо чиновника, крутой лоб учёного, энергичный подбородок инженера, о которых любят писать за границей… Толпа в 1931 году мало различима. Опытные советские люди различают в её гуще людей по особенным, временным признакам. “Наш человек”, говорят они, глядя внимательно. Или — “не наш”». Известный французский писатель Андре Жид, летом 1936 года побывавший в Советском Союзе, отмечал то же самое: «Летом почти все ходят в белом. Все друг на друга похожи. Нигде результаты социального нивелирования не заметны до такой степени, как на московских улицах, — словно в бесклассовом обществе у всех одинаковые нужды… В одежде исключительное однообразие. Несомненно, то же самое обнаружилось бы и в умах, если бы это можно было увидеть… На первый взгляд кажется, что человек настолько сливается с толпой, так мало в нём личного, что можно было бы вообще не употреблять слово “люди”, а обойтись одним понятием “масса”».
И в эту толпу — вживить блатаря? В это стадо «ушастых фраеров»? Абсурд… Вор остаётся свободным даже в лагере. Даже в бараке усиленного режима. На этом построена «воровская романтика», «воровская идея», «воровской закон». Быть может, свобода эта — грязная, пьяная, жестокая, кровавая, построенная на чужих слезах и горе. Но, привыкнув к ней, отвыкнуть почти невозможно.
Воровка никогда не станет прачкой…
Как сталинская кинопропаганда подарила России «кокаиновый романс»
«Перебиты, поломаны крылья»
Перебиты, поломаны крылья
«Кто бабе крылья перебил?!»
Знаменитая фраза революционного матроса Сергея Никитина из советского кинофильма «Посланники вечности» (1970) как нельзя лучше подходит к теме этой главы. Правда, герой, сыгранный Николаем Трофимовым, возмущённый варварством по отношению к Венере Милосской, интересовался, кто бабе руки обломал, но суть вопроса от этого не меняется.
Дело в том, что за многие десятилетия существования, исполнения и многочисленных переделок вокруг песни о несчастной кокаинистке с переломанными крыльями появилось немало мифов, домыслов и догадок. Например, Евгений Зимородок в статье «“Перебиты, поломаны крылья”: “жестокий романс”» утверждает: «Песне этой, которую называют тюремным жестоким романсом, более ста лет, и, конечно, она обросла массой вариаций. Широкая общественность узнала об этой песне из повести Н. Ф. Погодина “Аристократы” (1934 г.) и по снятому по её мотивам фильму “Заключённые” (1936 г.)… Её автора, по всей видимости, установить не удастся уже никогда. Никаких документальных данных об авторстве не существует. Даже каких-то намёков. И даже претензий на авторство, как это часто бывает с блатняком. Так что песня воистину народная».
Простим автору наивное невежество, хотя при подготовке материала несложно было узнать, что «Аристократы» — не повесть, а комедийная пьеса. К тому же фильм «Заключённые» не снят по мотивам комедии Погодина: сценарий картины создавался драматургом одновременно с «Аристократами». Но что касается безапелляционного утверждения о столетнем возрасте песни и о невозможности установить её автора — тут Зимородок явно погорячился.
И если бы только он один… Так, Валерий Мальгинов в статье «Белая смерть» приводит первый куплет «кокаинового романса» с пояснением: «Из жалостной песни времён российской смуты 1917—22 гг.»
На сайте «Проповедник.ру» в лекции «Психология социального отчуждения» также приводится первый куплет песни, но уже с утверждением, что так «писали декадентствующие поэты незадолго до начала мировых войн и судьбоносных революций».
В эссе «Русская классика против наркомании» Г. Юрина относит рождение песни к несколько более позднему периоду: «“Перебиты, поломаны крылья, / Страшной болью всю душу свело. / Кокаином — серебряной пылью / Всю дорогу мою замело” — такие, в частности, слова можно встретить в весьма популярной в годы Гражданской войны песне…»
А на сайте крымского Кинологического союза «Империя» указан даже автор текста: «Вспышка кокаиновой наркомании была у нас во времена нэпа. Вспоминаются грустные стихи Вертинского:
Все эти предположения беспочвенны. Авторство Алымова бесспорно и документально подтверждено как прямым указанием в титрах фильма «Заключённые», так и рукописным текстом. С другой стороны, по-человечески можно понять и добросовестное заблуждение не слишком добросовестных исследователей. Стилистически «кокаиновый романс» действительно связан с предреволюционной Россией. Не случайно также указание на Александра Вертинского. С него, пожалуй, и начнём.
«Занюханный» Пьеро
Выдвижение кандидатуры Александра Николаевича Вертинского на роль сочинителя текста о перебитых крыльях молодой «марафетчицы» («марафетом» в дореволюционной России и Стране Советов называли кокаин) хотя и ошибочно, но вполне объяснимо. Романс Алымова прямо перекликается с не менее знаменитой песенкой Вертинского «Кокаинетка», написанной в 1916 году:
«Кокаинетка» пользовалась бешеной популярностью в кругах богемы. Вертинский очень точно и пронзительно сумел выразить отчаяние слабой, безвольной девушки, жизнь которой превратилась в чудовищный кошмар из-за непреодолимой наркотической зависимости.
Романс «русского Пьеро» не потерял своей актуальности и в Стране Советов вплоть до 30-х годов прошлого века. Он звучит, например, в комедии «Зойкина квартира» (1926) Михаила Булгакова:
«Обольянинов у рояля. Играет печальное. Открывается освещённая эстрада, и на ней появляется Лизанька в зелёном туалете. Изображает замерзающую девушку. Херувим сыплет на неё снег.
Аметистов (монотонно). Что вы плачете так, одинокая бедная девочка. (Пауза.) Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы.
Лизанька умирает возле уличной урны.
Ваш сиреневый трупик закутает саваном мгла.
Лизанька оживает, танцует бурно».
Вертинский очень точно отразил тревожную ситуацию в России периода Серебряного века, когда кокаиновая лихорадка буквально разъедала столичную богему. В мемуарах «Дорогой длинною…» (1957) поэт подробно описывает это чудовищное поветрие:
«В нашем мире богемы… каждый что-то таил в себе, какие-то надежды, честолюбивые замыслы, невыполнимые желания… Все мечтали обратить на себя внимание любой ценой — дулись и пыжились, как лягушки из крыловской басни…
Молодые актёры и актрисы томились годами на выходах и увядали. Одни разочаровывались, бросали сцену, выходили замуж, иные кончали жизнь самоубийством. Надо было иметь меценатов-покровителей, или богатых любовников, или влиятельных мужей и родителей, а иначе… В поэзии и литературе господствовали декадентские влияния…
Появился журнал “Перевал”, в котором на дорогой ватмановской бумаге печатались “парфюмерно-изысканные” опусы Ауслендера из жизни маркиз и принцесс.
Продраться сквозь этот лес благополучно устроившихся бездарностей было невозможно.
Всё это рождало протест. Мы, богема того времени, были напичканы до краёв динамитом “искусства”, мы могли сказать новое. Но нас никуда не пускали и не давали высказаться.
Вот тут-то и появился кокаин. Кто первый начал его употреблять? Откуда занесли его в нашу среду? Не знаю. Но зла он наделал много.
Продавался он сперва открыто в аптеках, в запечатанных коричневых баночках, по одному грамму. Самый лучший, немецкой фирмы “Марк”, стоил полтинник грамм. Потом его запретили продавать без рецепта, и доставать его становилось всё труднее и труднее. Его уже продавали “с рук” — нечистый, пополам с зубным порошком, и стоил он в десять раз дороже. На гусиное пёрышко зубочистки набирали щепотку его и засовывали глубоко в ноздрю, втягивая весь порошок, как нюхательный табак. После первой понюшки на короткое время ваши мозги как бы прояснялись, вы чувствовали необычайный подъём, ясность мысли, бодрость, смелость, дерзание. Вы говорили остроумно и ярко, тысячи оригинальных мыслей роились у вас в голове. Перед вами как бы открывался какой-то новый мир — высоких и прекрасных чувств. Точно огромные крылья вырастали у вашей души… Жизнь со своей прозой, мелочами, неудачами как бы отодвигалась куда-то, исчезала и уже больше не интересовала вас. Вы улыбались самому себе, своим мыслям, новым и неожиданным, глубочайшим по содержанию.
Продолжалось это десять минут. Через четверть часа кокаин ослабевал, переставал действовать. Вы бросались к бумаге, пробовали записать эти мысли…
Утром, прочитав написанное, вы убеждались, что всё это бред! Передать свои ощущения вам не удалось. Вы брали вторую понюшку. Она опять подбадривала вас на несколько минут, но уже меньше… Дальше, все учащая понюшки, вы доходили до степени полного отупения. Тогда вы умолкали. И так и сидели, белый как смерть, с кроваво-красными губами, кусая их до боли… Но зато вы чувствовали себя гением. Всё это был, конечно, жестокий обман наркоза. Говорили вы чепуху, и нормальные люди буквально шарахались от вас.
Постепенно яд всё меньше и меньше возбуждал вас и под конец совсем переставал действовать, превращая вас в какого-то кретина.
Вы ничего не могли есть, и организм истощался до предела… Потом, приблизительно через год, появлялись тяжёлые последствия в виде мании преследования, боязни пространства и прочее.
Короче говоря, кокаин был проклятием нашей молодости. Им увлекались многие. Актёры носили в жилетном кармане пузырьки и “заряжались” перед каждым выходом на сцену. Актрисы носили кокаин в пудреницах. Поэты, художники перебивались случайными понюшками, одолженными у других, ибо на свой кокаин чаще всего не было денег».
К сожалению, период губительного увлечения белым порошком пережил и молодой Вертинский:
«Не помню уже, кто дал мне первый раз понюхать кокаин, но пристрастился я к нему довольно быстро. Сперва нюхал понемножечку, потом всё больше и чаще…
Вернулась из поездки моя сестра. Мы поселились вместе, сняв большую комнату где-то на Кисловке. К моему великому огорчению, она тоже не избежала ужасного поветрия и тоже “кокаинилась”.
Куда только мы не попадали. В три-четыре часа ночи, когда кабаки закрывались, мы шли в “Комаровку” — извозчичью чайную у Петровских ворот, где в сыром подвале пили водку с проститутками, извозчиками и всякими подозрительными личностями и нюхали, нюхали это дьявольское зелье.
Конечно, ни к чему хорошему это привести не могло. Во-первых, кокаин разъедал слизистую оболочку носа, и у многих из нас носы уже обмякли и выглядели ужасно, а во-вторых, наркоз почти не действовал и не давал ничего, кроме удручающего, безнадёжного отчаяния…
Помню, однажды я выглянул из окна мансарды, где мы жили (окно выходило на крышу), и увидел, что весь скат крыши под моим окном усеян коричневыми пустыми баночками из-под марковского кокаина. Сколько их было? Я начал в ужасе считать. Сколько же я внюхал за этот год!
И первый раз в жизни я испугался. Мне стало страшно! Что же будет дальше? Сумасшедший дом? Смерть? Паралич сердца? А тут ещё галлюцинации… Я жил в мире призраков!»
Александру Николаевичу удалось излечиться от кокаиновой зависимости с помощью профессора-психиатра Баженова. Но судьбы многих других людей были сломаны, нередко кокаиновое сумасшествие завершалось самоубийствами. От «кокса» погибла и сестра Вертинского — Надежда. Та самая, вместе с которой он начинал «кокаиниться»…
Подарок сына Солнца
Вертинский не знал, откуда появился в России кокаин. Однако ответ на этот вопрос найти несложно.
Первым листья коки в Европу доставил в 1505 году мореплаватель Америго Веспуччи, но на растение тогда никто не обратил внимания. Ближе с кокой познакомились во время завоевания Южной Америки испанские конкистадоры. Перуанские индейцы рассказали одному из францисканских монахов легенду о Манко, божественном сыне Солнца, который подарил земным царям лист коки. Поначалу испанцы отнеслись к растению пренебрежительно, однако через некоторое время стали называть коку «эликсиром жизни». Об использовании растения для лечения переломов и гноящихся ран сообщал в 1609 году иезуит Блас Валера. Однако, попав в Европу, кока еще двести с лишним лет хранилась лишь в университетах и монастырских гербариях.
Только в 1859 году химик Альберт Ниманн из Гёттингенского университета в Германии выделил из листьев коки алкалоид кокаина. И наркотик начал своё победное шествие по Старому Свету. Кокаин стали применять для анестезии, в офтальмологии; итальянский доктор Паоло Мантегацца предложил использовать порошок в «борьбе против налёта на языке и газов, а также для отбеливания зубов».
В 1863 году химик Анжело Мариани начал производство вина, получившего названием Mariani Wine, — алкогольную настойку на листьях коки. Она пользовалась огромным успехом, в числе потребителей были политики, актёры и практически «все врачи, обслуживавшие королевские семьи Европы». Папа Римский Лев XIII даже наградил создателя напитка золотой медалью.
Отец психоанализа Зигмунд Фрейд считал кокаин чудесным антидепрессантом, настоятельно рекомендовал как лекарство от сифилиса, алкоголизма, сексуальных расстройств, применял в психотерапевтической практике, предлагал коллегам, друзьям, даже своей невесте. Под влиянием работ венского доктора образованные европейцы потянулись к «волшебному порошку». В Европе, США, России кокаин свободно продавался в аптеках. В 1885 году американская фирма «Парк-Дэвис» начала продажу кокаина в виде раствора для внутривенных инъекций, к которому прилагалась игла. Реклама обещала: инъекция заменит пищу, «сделает труса храбрым, безмолвного — красноречивым… страждущего — бесчувственным к боли».
В 1883 году баварец Теодор Ашенбрандт рекомендовал кокаин к употреблению военнослужащим: это, мол, повышает выносливость солдат. В начале XX века кокаин (вместе с морфином) уже превозносят как панацею для солдат будущих войн. Армейские госпитали всей Европы огромными партиями закупали «полезный» наркотик. Во время Первой мировой войны полевые и гарнизонные врачи активно использовали в качестве сильного обезболивающего при ранениях морфин. Позже, вслед за ломкой, приходило состояние болезненной апатии, с которым боролись при помощи кокаина.
Из госпиталей и с химических фабрик белый порошок широкой струёй потёк в города. Тогда-то и начался настоящий кокаиновый ужас…
«Марафет» белый и красный
Именно Первая мировая война способствовала тому, что кокаин (наряду с морфием) стал в России «культовым» наркотиком. В империи на время войны ввели сухой закон, под запрет попали не только водка, вино и самогон, но даже пиво. В этих условиях горожане (особенно питерцы и москвичи) нашли замену алкоголю в доступном поначалу белом порошке.
Февральская, а затем Октябрьская революции 1917 года способствовали распространению самых грязных и отвратительных форм кокаинизма. В довоенное время кокаин всё же был популярен в среде богемы, его называли «наркотиком для богатых». Революционные потрясения способствовали «демократизации» «кокса». Собственно, уже в ходе Первой мировой из-за слабой охраны границ шла усиленная контрабанда в Россию германского кокаина из оккупированных немцами местностей через прифронтовую полосу — Псков, Ригу, Оршу и из Финляндии через Кронштадт. А после Февральского переворота волна «марафета» буквально накрыла Питер и Москву. В мае 1917 года была арестована крупная шайка, которая промышляла торговлей кокаином. Её главарь А. Вольман получал товар из Германии через Швецию и продавал его в Петрограде и Москве. Люди Вольмана в Петрограде торговали кокаином в лавке дома № 10 по Щербакову переулку, устраивали «вечеринки секты Сатаны» в нескольких конспиративных квартирах. Через год в том же Питере была пресечена деятельность похожей шайки из восьми человек во главе с неким Смирновым: преступники снимали несколько меблированных комнат на углу Невского и Пушкинской. При обыске у них обнаружили кокаин в таблетках, а также драгоценности и меха. Кокаин обменивался на краденые вещи.
Законченными кокаинистами были многие балтийские матросы — опора большевиков. Среди «нюхачей» нередко встречались и питерские рабочие-пролетарии, готовые на любое преступление за полосу «кошки» (жаргонное название кокаина), проститутки, мальчишки, которые торговали порошком у Николаевского вокзала… Революционные матросы ввели в обиход выражение «балтийский чай»: раствор кокаина в этиловом спирте или другом крепком алкоголе. Такая смесь продлевает и усиливает эффект от приема кокаина.
От «братишек» в тельняшках не отставали «отцы-командиры» — балтийские офицеры. В Кронштадте они даже создали «Коке-Клуб», члены которого не только сами употребляли наркотики, но и распространяли «марафет» среди сослуживцев, скупая порошок у медсестёр и врачей (за медиками закрепилась нелестная слава самых ярых морфинистов и кокаинистов). Между офицерами и матросами часто вспыхивали жестокие драки из-за наркотиков, аптеки Кронштадта и Петрограда постоянно подвергались вооруженным налетам «занюханных» военных. Справиться с этим чудовищным безобразием не могли ни Временное правительство Керенского, ни даже пришедшие ему на смену большевики.
Собственно, поначалу большевики особого значения борьбе с кокаинизмом и не придавали. Напротив, к «марафету» для поднятия боевого духа обращались и красные командиры, и бойцы, вымотанные постоянными тяжёлыми боями. Да и в верхах советской бюрократии к «нюхачеству» порою относились как к экзотической забаве. Так, брат чекиста Моисея Урицкого Борис Каплун даже создал салон, куда приглашал представителей богемы побаловаться конфискованным «коксом».
Впрочем, активно прибегало к этой «забаве» и белое офицерство. В. Ревзин и П. Черноморский, авторы исследования по истории кокаинизма, пишут: «Уже после октября 17-го часть офицеров русской службы предложила свои услуги германскому рейхсверу в борьбе против большевиков на Украине. Несколько месяцев спустя тревогу били уже в Берлине. Немецкие наркологи утверждали, что именно эти господа заразили кокаинизмом части германской армии на Украине и в Прибалтике. После того как люди эти оказались в европейских городах, некоторые из них занялись планомерной торговлей кокаином. Прежде неизвестное слово “кокс” нашептывалось на перекрестках улиц, в кафе, в притонах и на вокзалах». Таким образом немецкий кокаин вернулся в родные края…
Михаил Булгаков, посвятивший периоду немецкой оккупации Украины роман «Белая гвардия», не раз упоминал в своём произведении губительный наркотик: «…в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток»; «Излечи меня, о Господи, забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия, пьяный, под кокаином… Укрепи мои силы, избавь меня от кокаина»; «Кокаин нюхали? — В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был и этот»…
Ярым кокаинистом был генерал Яков Александрович Слащёв — один из организаторов обороны Крыма, прототип генерала Хлудова из булгаковского «Бега». Ревзин и Черноморский считают, что в образе Хлудова любой современный психиатр угадает законченного кокаинового наркомана: «Зрительные и слуховые галлюцинации, нервозность и глубочайшая депрессия, кипучая, но безрезультатная деятельность и припадки ярости, всё то, что читатель приписывает лишь неким “душевным метаниям” белого генерала, на самом деле есть типичные признаки тяжелого кокаинового психоза».
Да разве речь только о Слащёве? Когда Красная армия форсировала Сиваш и рвалась в Крым, на улицах Ялты и Севастополя толпы оборванных, грязных людей с офицерскими погонами рыскали в поисках заветной «дозы»! Им было не до сражений…
Кокаиновые будни Республики
Нас, однако, интересует положение с кокаиновой зависимостью среди граждан Республики Советов, поскольку песня о перебитых крыльях появилась именно здесь.
Достать кокаин в первое десятилетие советской власти не составляло особого труда. Наркотик продавали на рынках, им торговали на улицах и в притонах беспризорники и проститутки… Представители «дна» являлись и наиболее активными потребителями зловредного порошка.
Как отмечают исследователи, в новой России наркомания перестала быть «столичной болезнью», охватив губернские, уездные города и даже сёла. Лидером по распространению являлся именно кокаин. Врач Л. М. Василевский в брошюре «Дурманы» (1924) писал: «В последние годы у нас кокаинизм в крупных городах принимает грозные размеры, чему способствует контрабандный ввоз яда, особенно из Эстонии и Латвии. “Белый порошок”, “марафет” всё более распространяется… не только среди подонков столиц и особенно среди проституток и их “котов”, но и среди советских служащих, врачей и особенно актёров».
Москва и Питер считались признанными кокаиновыми лидерами. Одним из самых популярных мест, облюбованных «занюханными» в Белокаменной, были Сухаревские подземные уборные, где кокаинисты резались в карты и тут же, просадив всё, бежали на «дело». В Головине переулке, между Трубной и Сретенкой, находился так называемый «кокаиновый домик», держали его мать и сын Новиковы. Немало кокаиновых притонов было на Цветном бульваре и Домниковке. Популярным считался и «волчатник» в Проточном переулке. Хозяйка его, грубая одноглазая баба, скупала краденые вещи или обменивала их на порошок. «Королём кокаина» в Москве считался некто Батинин-Батулин. В январе 1925 года его арестовали агенты угрозыска и обнаружили при обыске небольшую «наркоразвесочную фабрику» с тремя работницами.
Борис Пильняк в повести «Иван Москва» писал: «В притонах Цветного бульвара, Страстной площади, Тверских-Ямских, Смоленского рынка, Серпуховской, Таганки, Сокольников, Петровского парка — или просто в притонах на тайных квартирах, в китайских прачечных, в цыганских чайных — собирались люди, чтобы пить алкоголь, курить анашу и опий, нюхать эфир и кокаин, коллективно впрыскивать себе морфий и совокупляться… Мужчины в обществах “Чёрта в ступе” или “Чёртовой дюжины” членские взносы вносили — женщинами, где в коврах, вине и скверных цветчишках женщины должны быть голыми. И за морфием, анашой, водкой, кокаином, в этажах, на бульварах и в подвалах — было одно и то же: люди расплескивали человеческую — драгоценнейшую! — энергию, мозг, здоровье и волю — в тупиках российской горькой, анаши и кокаина».
Не отставал и Питер. Здесь тоже социальной базой наркомании были преимущественно маргиналы: сутенёры, наводчики, мелкие грабители и второстепенные бандиты. Особо прогремело в 1925 году дело Григория Кутькова по прозвищу «Комендант чумного треста». Он контролировал уличную торговлю наркотиками между улицей Марата и Лиговкой — в самом криминальном районе Ленинграда. На него работали десятки беспризорных ребят, уличных проституток и содержательниц притонов. «Этот тип вращался среди ночных “фей” и распространял запасы отравы через знакомых ему передатчиц», — писал журнал «На посту». Когда «Коменданта» задержали, при нём обнаружили кокаин и шприцы для морфия. Репортёр справедливо отметил: «С десяток активных торговцев привлечены, но это только маленький отряд в армии “зачумлённых”, которыми кишат по вечерам и ночам наши улицы».
Временем расцвета кокаинизма стал нэп. В «Словаре жаргона преступников» того времени этот наркотик имел восемь синонимов: антрацит, кикер, кокс, марафет, мел, мура, нюхара, нюхта. Сюда можно добавить уже упоминавшуюся «кошку», «белую фею» и «бешеный порошок». Причина такой популярности очевидна: кокаин не требовал специальных притонов для курения, как опиум и гашиш, или шприца, как морфий. «Кокс» втягивали в нос с гусиного пера, ладони, ногтя, бумажки и т. д. Правда, торговцы разбавляли кокаин аспирином, мелом, хинином. В комедии Булгакова «Зойкина квартира» Аметистов спрашивает: «Кокаину принёс?.. Отвечай по совести: аспирину подсыпал?» Чистый кокаин («кошка») был большой редкостью. Поэтому многие кокаинисты в двадцатые годы прошлого века принимали дозы по 30–40 граммов в день без особых последствий.
Профессор-криминолог Михаил Гернет в исследовании 1924 года выяснил, что кокаин употребляли 82 % опрошенных им бездомных ребят. А. Р. Зиман в работе «О кокаинизме у детей» (1926) привел результаты опроса 150 беспризорных, из которых 106 (70,7 %) достаточно долго употребляли кокаин. Современный исследователь Станислав Панин пишет: «Опросы беспризорных детей об их состоянии во время “занюханности”, проведённые в 1920-е гг., выявили следующую картину. Дети были нечувствительны к холоду, голоду и иным житейским невзгодам. Имея достаточно кокаина, они могли по несколько дней не есть и не спать и были мало чувствительны к побоям. “Тепло”, “есть совсем не хочется”, “тебя бьют, а не больно совсем, только потом, как пройдёт понюшка, тело от побоев болит”. Выход из кокаинового опьянения, как правило, был связан с резкими головными болями, чувствами усталости, сонливости, разбитости и резкой тягой к новой “понюшке”. А при отсутствии последней у ребят очень часто наблюдался психоз, сопровождавшийся галлюцинациями. В конечном итоге употребление кокаина детьми приводило к целому букету душевных недугов, физическому, психическому и моральному вырождению личности».
Британский дипломат Роберт Ходжсон в 1926 году приводил в своем докладе статью из советской газеты, согласно которой от 50 до 80 % бездомных детей нюхали кокаин. Дети-кокаинисты зарабатывали попрошайничеством, пением в вагонах, но в основном — кражами, были среди них и убийцы. Беспризорники нюхали кокаин перед тем, как идти «на дело»: он придавал им смелость.
Что касается вырождения личности, лучше всего обратиться к свидетельству сэра Бертрана Джеррама, который примерно в это время посетил клинику для детей-наркоманов: «Все были искусными карманными воришками и представителями других антисоциальных профессий. Принимались только мальчики, старшему было четырнадцать лет. Врачи и медперсонал рассказали… об отвратительных патологических и сексуальных отклонениях отдельных девяти- или десятилетних беспризорников… Врач мог лишь констатировать, что большинство из них пролетарского происхождения и что русский пролетариат страшно беден. Он признался, что до революции не было ничего подобного».
В 20-е годы наркотики стали активно проникать и в среду молодых рабочих. Так, М. Белоусова, исследуя проблему кокаинизма в 1926 году, выяснила, что среди «занюханных» рабочие составляли 10,7 %. Она же сообщала, что употребление кокаина распространено даже… в среде работников правоохранительных органов! Причина примерно та же, что и в период мировой войны: в первой половине 20-х годов в Республике Советов действовал запрет на производство водки, традиционного элемента рабочего досуга. Поэтому в качестве «заменителя» рабочие нередко использовали «белую фею».
Как «зелёный змий» развеял «серебряную пыль»
Нельзя сказать, чтобы руководство первого в мире пролетарского государства закрывало глаза на критическую ситуацию с наркотиками. С 1919 года за распространение «дури» стали приговаривать к лишению свободы на 10 и более лет. Правда, из Уголовного кодекса 1922 года этот состав преступления исчез. Появился он только в УК 1924 года и закрепился в УК РСФСР 1926 года. Однако статья 104 этого УК была более мягкой и предусматривала до трёх лет лишения свободы. Употребление наркотиков преступлением не считалось и не преследовалось.
Все эти меры, впрочем, не дали особых результатов. Не помог даже декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 6 ноября 1924 года «О мерах регулирования торговли наркотическими веществами», которым воспрещалось свободное обращение опия, кокаина и их производных, а ввоз и производство наркотиков попали под контроль государства.
Главный удар по наркотикам советская власть нанесла… водкой! Той самой водкой, которую до этого запрещала выпускать, что, как мы уже отмечали, стало одной из причин чудовищного роста наркомании.
Вообще-то большевистское правительство в отмене запрета на водку вряд ли руководствовалось благими целями борьбы с кокаином, морфием, опием, гашишем и прочей гадостью. Во всяком случае, уж точно эти идеи не были у него на первом месте. Просто стало ясно, что государство теряет огромные деньги, которые идут в карманы самогонщиков.
Сначала в августе 1924 года на прилавках появляется государственная «полуводка» — «Русская горькая» крепостью 20 градусов по цене полтора рубля за бутылку. Только за сентябрь было продано около 200 тысяч бутылок этого «живительного напитка»! При этом резко упал уровень самогоноварения. Но вскоре интерес к 20-градусной пародии на водку у населения охладел, народ снова потянулся к самогонщикам. Тогда в декабре крепость «Русской горькой» пришлось поднять уже до 30 градусов; за неполный месяц народ раскупил уже полмиллиона бутылок! Ободрённые успехом, партия и правительство сделали очередной шаг навстречу трудящимся: в стране вводится государственная водочная монополия, и «Русская горькая» наконец-то становится 40-градусной, как положено всякой честной водке. Воодушевлённый народ тут же окрестил её «рыковкой» по имени председателя Совета Народных Комиссаров, который подписал судьбоносный декрет от 28 августа 1925 года о порядке производства водки и торговли ею (ходили слухи, что сам Рыков крепко «закладывает за воротник» и лечится за границей от запоев).
С этого времени начинается закат наркопотребления в СССР. Крепкие напитки стали легко доступны, а каналы доступа к наркотикам постепенно, но неотвратимо перекрывали: укреплялись границы («железный занавес» сыграл свою положительную роль), ужесточался контроль продажи и использования обезболивающих препаратов в больницах и аптеках.
Радость советских граждан оказалась безмерной; они с таким рвением бросились утолять жажду, что в стране резко подскочило количество жертв «зелёного змия». В 1923 году на 100 тысяч жителей Питера приходилось 1,7 случая смерти от алкоголя, в 1925-м — 6,4, в 1926-м — уже 10,9, в 1927-м — 18,8, в 1928-м — аж 44! Но это — совсем другая история.
Непосредственно в борьбе с наркоманией советская власть не лютовала. Употребление «дури» воспринималось как «наследие проклятого царского режима», поэтому меры предлагались не карательные, а преимущественно лечебные. Так, в начале 1925 года конференция Наркосекции Мосздравотдела решительно отвергла идею НКВД — создать спецлагеря, чтобы изолировать в них наркоманов. Принудительное лечение считалось допустимым лишь для «социально опасных» потребителей «дури». Как утверждает С. Панин, «властные инициативы 1920-х гг. по отношению к наркоманам предвосхитили самое гуманное отношение к этим больным людям, характерное сегодня для многих западных стран». Например, в Свердловске вплоть до 1929 года наркоманы имели возможность получить наркотики без особых затруднений в любой аптеке. А в 1929 году распоряжением Горздравотдела наркозависимых прикрепили к одной аптеке, где наркотики им отпускались по рецептам наркопункта.
В стране действовали учреждения для лечения детей-наркоманов, больным наркоманией оказывали амбулаторную и стационарную психиатрическую помощь. Однако, повторимся, не эти мероприятия делали погоду в борьбе со страшным социальным злом. Уже к 1929 году наркомания в СССР резко сократилась, а к началу 30-х годов почти сошла на нет именно в результате победного шествия водки по стране. Употребление «наркоты» ушло в уголовную среду, при этом резко изменилась «структура потребления»: кокаин исчез, его заменили более «лёгкие» производные каннабиса — анаша и гашиш, которые тонким ручейком текли из Средней Азии.
Миазмы харбинского дурмана
Но вернёмся к Сергею Алымову — автору романса «Перебиты, поломаны крылья». Как мы убедились, к моменту создания этого образчика блатной песенной классики (то есть 1935–1936 годы) кокаиновая тема в СССР уже была неактуальна. Её, можно сказать, сняли с повестки дня. Вопрос: почему же, в таком случае, блатнячка исполняет в фильме «Заключённые» именно романс «марафетчицы»?
Причин несколько. Одна из них (хотя и далеко не главная) кроется, на наш взгляд, в эмигрантском прошлом Алымова. Как мы помним, Сергей Яковлевич с 1917 по 1926 год жил в Харбине — столице маньчжурской провинции Хейлунцзян и стратегическом пункте Китайско-Восточной железной дороги. В предыдущем очерке мы рассказали о Харбине «алымовского» периода, но — не коснулись темы наркотиков. А в связи с «кокаиновым романсом» она приобретает особое звучание.
До Октябрьского переворота ситуация с кокаином в Харбине не была тревожной. В Харбине, как и во всём Китае, публика предпочитала опиум — даже несмотря на то, что официально употребление этого дурманного зелья находилось под запретом. Например, 27 декабря 1912 года президент Китайской Республики издал указ (и уже не первый), которым с 1 января 1913 года курение опиума категорически запрещалось под страхом тяжких наказаний. Однако никакие угрозы и запреты реально не действовали, особенно учитывая то, что в малых дозах употребление опиума возбуждает половое чувство и стимулирует эрекцию. При этом извержение семени наступает лишь после продолжительного полового акта. Так что в каждом борделе у посетителя под рукой имелась трубка для курения опиума. Как пишет в книге «Последний император Китая Пу И» Виктор Усов: «Во всём Северо-Востоке Китая на каждые сто человек приходилось пять курильщиков опиума». Впрочем, если говорить о Харбине, русское население города было мало затронуто этой заразой; опиумный бич хлестал в основном по китайцам и другим азиатам — корейцам, японцам…
Положение стало меняться с 1917 года, когда в город хлынули потоки беженцев из бурлящей революционной России. В Харбине сходились пять железнодорожных веток, и новоприбывший пёстрый люд скоро понял, что город представляет собой идеальный перевалочный пункт для торговли наркотиками. Гражданская война придала этому бизнесу чудовищные масштабы. Причём изменилась структура наркобизнеса: в Харбине опиум довольно скоро потеснили более «модные», «богемные» наркотики. Это отмечает тот же В. Усов: «В Мукдене, Харбине, Гирине буквально на каждой улице, в каждом крохотном переулке можно найти опиокурильню либо лавку, торгующую наркотиками: продают морфий, героин, кокаин. Было довольно много опиокурилен с “девочками”… Тем, кто не может заплатить за посещение заведения и “красивых официанток”, достаточно постучать условленным образом в дверь — тотчас открывается глазок, куда гость просовывает руку с зажатыми в ней 20 центами; взамен выдаётся кулёк с порошком морфия, кокаина или героина».
Новую подпитку наркобизнес получил в 1924 году, после восстановления дипломатических отношений между СССР и Китаем. К армии наркоторговцев активно присоединились большевистские представители. В 1927 году британский консул в Харбине сообщал, что советские официальные лица и чиновники Китайско-Восточной железнодорожной компании, которые путешествовали в служебных вагонах, возили с собой крупные партии наркотиков. Их прятали за обшивкой вагонов, в дровах, которыми вагоны отапливались зимой: «Для перевозки грузов широко используются русские женщины, особенно еврейки. Им хорошо платят, в том числе комиссионные, в зависимости от веса груза… Солдаты-белогвардейцы, которых нанимает генерал Чан Цунчан, путешествуют по военным паспортам и тем самым не подлежат таможенному досмотру. Хотя им месяцами не платят мизерного жалованья, они сорят деньгами в ночных клубах Харбина… Розничную торговлю ведут, как правило, японские аптеки. Центральный отель Даляня является логовищем контрабандистов. Он принадлежит русскому еврею по фамилии Лернер, который служит посредником между продавцами и покупателями грузов и получает комиссионные от каждой сделки. Его агентом в Харбине является другой еврей по фамилии Ставиский, бывший владелец отеля, которого японцы депортировали в 1921 году после нескольких обвинений в контрабанде наркотиков. Богатые торговцы снимают комнаты в отеле “Ямато”, откуда руководят движением грузов. Существует также несколько небольших гостиниц, которыми управляют русские евреи, в городе Чанчунь, в зоне Южно-Маньчжурской железной дороги. Эти гостиницы используются наркоторговцами для передачи грузов проводникам, чтобы безопасно доставлять их в Харбин».
К этому времени кокаин в Харбине, как и в СССР, становится практически «наркотиком № 1». Простой пример: владелец обувного магазина, параллельно занявшись наркобизнесом, сколотил себе неплохое состояние на продаже опиума. Однако со временем коммерсант посчитал, что куда выгоднее заниматься продажей морфина и кокаина. Доходы «наркобарона» резко подскочили, что привело к печальным последствиям: в 1926 году его похитили, и за своё освобождение обувщик заплатил крупный выкуп.
Действительно, кокаин и Харбин отлично рифмовались. В то время как корейские коммунисты-«традиционалисты» привычно пополняли партийный бюджет за счёт торговли в Китае контрабандным опиумом, выращивая его близ Владивостока, значительная часть харбинских наркодилеров предпочитала иметь дело с «коксом», который поставлялся из Германии. А после того, как немецкие таможенники стали тщательнее проверять грузы, следующие на Дальний Восток, основным поставщиком кокаина стала Франция.
Сергей Алымов, вращавшийся в кругах харбинской богемы, конечно же, сталкивался с кокаинистами и воочию мог наблюдать разрушительное действие наркотика. Среди талантливых людей, чью жизнь перечеркнул белый порошок, назовём хотя бы харбинского поэта Леонида Ещина — белогвардейца, участника Ледяного похода. Его судьба перекликается с судьбой Алымова. Леонид Евсеевич попал в Харбин в 1923 году, семь лет прожил в нужде, хотя и публиковал в местной периодике рассказы, статьи, рецензии. Затем, как и Алымов, стал печататься в советской харбинской газете. Однако на родину Ещин не решился вернуться. Он покончил жизнь самоубийством 14 июня 1930 года: застрелился в китайском городе Фуцзядян в возрасте 33 лет. Писали, что к трагедии привело злоупотребление алкоголем и кокаином.
Рискнём предположить, что, создавая романс для «Заключённых», Сергей Яковлевич позволил себе ностальгические нотки: воспоминания о «серебряном веке» Харбина, о богемной среде далёкого города и о горькой судьбе людей, оказавшихся в этой жизни лишними. Сам Алымов, однако, сумел и в харбинский период, и позднее избежать пагубного влияния «белой феи», предпочтя кокаину «родную» русскую водку. Его примеру последовала Республика Советов — и небезуспешно.
«Я совсем ведь ещё молодая…»
И всё же основная причина выбора «кокаиновой темы» для алымовского романса иная, более очевидная. Эту тему наметил уже автор комедии «Аристократы» Николай Погодин. В одной из сцен комедии уголовница Соня вспоминает: «А я в Москве котиковое манто имела… на кокаин променяла… Мне осталось жить два лета. А потом отравлюсь кокаином от громадного порошка».
Погодин отражал реальную ситуацию 20-х годов, когда в Советской республике свирепствовал повальный кокаинизм среди маргинальных слоёв населения. Законченными «марафетчиками» были многие беспризорные, за ними следовали проститутки: среди московских «жриц любви» свыше 70 % являлись наркоманками (в значительной части кокаинистками), в Харькове — свыше 76 %. А вот в профессиональном преступном мире кокаин не приветствовался. В 1923 году среди опрошенных заключённых арестных домов Москвы всего 11,5 % оказались кокаинистами. Уголовные авторитеты считали, что кокаин превращает крадуна-профессионала в никчёмную развалину, к тому же болезненная зависимость от наркотиков даёт «ментам» возможность за дозу порошка «раскалывать» уркаганов, делать их осведомителями, стукачами.
Таким образом, среди проституток и воровских подруг, попавших в начале 30-х годов на строительство Беломорканала, процент бывших кокаинисток был более чем впечатляющим. В этом контексте романс «марафетчицы» воспринимался вполне естественно. Да, «кокаиновая тема» легла на харбинские воспоминания и впечатления Алымова — но в первую очередь она диктовалась пьесой.
Всё вместе это дало потрясающий результат. Ни в одном из своих стихотворений Сергей Алымов больше никогда не поднимался до такой степени пронзительности, горечи и искренности. Если трагический романс «Кокаинетка» Александр Вертинский посвятил когда-то памяти своей сестры Нади, погибшей от употребления «бешеного порошка», то романс Алымова посвящался таким же несчастным «деточкам», но уже послереволюционной поры. Например, юной питерской барышне Воробьевой-Лебеденко, которая жила тихой, размеренной жизнью, пока не «подсела» на кокаин. Вскоре девушка уволилась с работы, деньги быстро растаяли. Тогда она, как сообщал журнал «На посту», «променяла последнее верхнее платье на “заряды” кокаина и осталась совершенно раздетой. Наконец, она пропала из дома, и агенты нашли её в бессознательном состоянии на Пушкинской улице в одной из “хаз” кокаинистов-сбытчиков… Предаваясь пороку, продавая тело, молодая девушка нашла здесь приют с подобным ей клиентом, юношей 15 лет».
Средний возраст потребителей кокаина в то время не превышал 21 года. Кокаин действовал на них разрушительно, за короткое время превращая цветущих ребят в старцев, немощных и душой, и телом. Врач-нарколог А. С. Шоломович описал в журнале «Вопросы наркологии» (1926) следующий случай: «У одной матери сын-подросток, которого все звали “толстячок”, три дня пропадал в каком-то притоне, где его выучили нюхать кокаин. Когда мать нашла его в притоне, она едва узнала своего толстячка: перед ней был оборванный, худой, истощённый человек, весь синий, с провалившимися щеками и глазами, весь разбитый настолько, что у него не хватало сил выйти из притона».
Генофонд страны был в значительной мере подорван.
Роза и «спотыкач»
Но пора перейти непосредственно к содержанию знаменитого романса.
Итак, мы выяснили, что автором текста трёх песенных катренов, которые прозвучали в фильме «Заключённые», является Сергей Алымов. Но опыт исследования других образчиков блатного песенного фольклора подсказывает нам, что нередко их создатели берут за основу известные народные или авторские произведения, переделывая их в новый, вполне оригинальный текст. Не произошло ли то же самое и в случае с Алымовым? В очерке о песне про «блатную лодочку» мы, например, отметили, что, работая над её текстом, Сергей Яковлевич с большой долей вероятности мог использовать поговорки уголовно-арестантского народа. В тексте «марафетного романса» подобных идиом нет — но, возможно, существовала какая-то фольклорная первооснова? Скажем, для песни «Постой, паровоз» таким прообразом стал городской романс «Вот тронулся поезд в далёкую сторонку»…
Некоторые основания для подобной версии имеются. Интересный момент: даже значительная часть тех людей, которым известно, что романс «Перебиты, поломаны крылья» звучал в фильме «Заключённые», почему-то убеждены, что его исполняла воровка Соня. Так, Вячеслав Кондратьев в военном рассказе «На станции Свободный» передаёт мысли своего героя: «О лагерях он, как и все другие, знал только из фильма “Заключённые”, где лагерные бараки выглядели чуть ли не живописно, где перековавшиеся инженеры-вредители были хорошо одеты, при галстуках и с серебряными портсигарами, где неотразимый урка Костя-Капитан распивал водку, а романтичная воровка Сонька пела под гитару сердцещипательную песенку “Перебиты-поломаны крылья, тихой болью всю душу свело, кокаина серебряной пылью все дороги мои замело…”».
А вот Аркадий Северный, исполняя романс 14 ноября 1972 года в Ленинграде, представлял его как «песню Соньки из пьесы “Аристократы” Погодина 1934 года». Некие исследователи русской уголовной наколки и вовсе утверждают: «Современной татуировкой становится вариант первого куплета популярной с 1930-х гг. в среде уголовников песни Соньки из кинофильма “Аристократы” (поставленного по пьесе Н. Ф. Погодина)». Логическим завершением этих метаморфоз мог бы стать кино-спектакль «Заключённые аристократы»… Хотя насчёт татуировки — справедливо подмечено. Первый куплет алымовского романса действительно «бьют» себе на разные места уголовники-наркоманы. На одном из интернет-форумов пользователь приводит искажённый текст четверостишия:
Далее следует комментарий: «Это у друга на брюхе набито…»
Между тем в картине режиссёра Евгения Червякова прекрасная актриса Вера Янукова, исполнявшая роль Сони, этой песни не поёт! «Кокаиновый романс» звучит в бараке из уст ярко раскрашенной безымянной «шмары» (не то воровки, не то проститутки). Номер замечательный, сыгран с удивительным изяществом и лёгким гротеском! Обидно, что в титры не попало имя актрисы, сыгравшей эту маленькую, но колоритную роль.
Однако речь не об этом. Надо заметить, что люди, которые приписывают романс воровке Соне, по-своему правы. И сам Алымов не случайно называл его «Песня Соньки». Да, в фильме песня отдана другой исполнительнице; возможно, режиссёр посчитал, что не стоит делать кокаинисткой заключённую, которая становится на путь исправления. Ни к чему «перекованной» каналоармейке лишние пятна на и без того тёмном прошлом. Но вот в погодинских «Аристократах» Соня после монолога о своих кокаиновых страданиях в самом деле исполняет куплет:
Бросается в глаза абсолютное совпадение размера романса «Перебиты, поломаны крылья» и песни из комедии Погодина! Интересно и другое: явные аллюзии на «Кокаинетку» Вертинского: «её на бульваре нашли» — «кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы»; «в пять часов, на снегу, на скамейке» — «и когда Вы умрете на этой скамейке». Добавим сюда котиковое манто, о котором упоминает Соня перед исполнением куплета: оно напоминает нам о «горжеточке» из романса Вертинского. Вопрос: написал Погодин этот куплет с аллюзиями на «Кокаинетку» специально для своей пьесы или же использовал неведомый фольклорный уличный романс о морфинистке, авторы которого тоже могли испытывать влияние песни «русского Пьеро»? Однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным — хотя я склоняюсь к версии с погодинской авторской стилизацией.
И всё-таки песня не избежала влияния русского песенного фольклора. Однако на сей раз мы имеем в виду не классический текст Сергея Яковлевича Алымова, а позднейшие уголовно-уличные переработки — которые, собственно, и дошли до наших дней.
Мы не случайно останавливались на харбинском периоде жизни и творчества Алымова, на эстетско-богемном характере его произведений той поры, на теме «Харбин и кокаин». Хотя вроде бы можно бы и отмахнуться: поэт вернулся на родину в 1926 году, посадили его в 1928-м — за два года он и в Москве мог насмотреться на кокаинистов, этого «добра» в красной столице хватало! Однако сама стилистика романса «Перебиты, поломаны крылья» подчёркивает его обособленность, резкое отличие от уголовно-воровского фольклора. Другие стилизации Сергея Яковлевича стараются как раз приблизиться к преступной среде, воссоздать элементы блатного антуража. Но «романс кокаинистки» нарочито, подчёркнуто эстетизирован, он создан по канонам поэзии Серебряного века. Его никак невозможно причислить к образчикам низового фольклора. Просто язык не поворачивается…
Явную чужеродность эстетской стилистики почувствовали и сами маргиналы. Песня им, безусловно, пришлась по нраву. Но… явно она какая-то недопетая! Недоговорённая. Уголовному миру (да во многом и русскому фольклору) куда ближе не романсовые, а балладные мотивы. И уже вскоре самодеятельные авторы значительно расширяют текст, раскрывая слушателям то, что осталось «за кадром» эпизода из фильма.
Сейчас сложно сколько-нибудь подробно восстановить процесс постепенного обрастания киношного варианта «Крыльев» фольклорными куплетами. Можно лишь предполагать (с достаточной степенью очевидности), что процесс этот был достаточно длительным и каждый новый этап добавлял очередные подробности жизни лирической героини песни. Об этом свидетельствуют разнообразные варианты «кокаинового романса». Один из самых коротких сохранил алымовские начало и конец, а между ними втиснулась краткая печальная биография несчастной воровки:
Вот в таком виде песенка вполне подходит для уголовной среды. И воры есть, и водка, и грехопадение — всё чин по чину. И роза, цветущая в саду, к месту. Во-первых, сравнение обесчещенной девушки с сорванной розой в русском уличном фольклоре достаточно традиционно. Во-вторых, роза как символ популярна в уголовно-арестантском мире. Например, татуировка, изображающая розу в ладонях, означает, что носителю такой наколки 18 лет исполнилось в местах лишения свободы.
Однако «конспективного» жизнеописания несчастной девицы уркаганам показалось недостаточно. Песня обрастает массой деталей, превращаясь даже не в «жестокий», а в душераздирающий романс:
Особо отметим строчку, где упоминается «спотыкач». Кто-то из неведомых сочинителей «для колориту» даже дал её в редакции — «Спотыкач я жандармский пила». Честно говоря, упоминание этого напитка в негативном контексте даже без «жандармского» эпитета лишний раз доказывает, что «редакторы» — уголовники советского времени и наверняка городские жители. В дореволюционной России никому не пришло бы в голову каяться в том, что он употребляет «спотыкач». В этом не было ничего позорного. Напротив! «Спотыкач» — крепкий домашний десертный напиток на основе натуральных продуктов (чаще всего — ягод), подаваемый к чаю или сладостям. У хорошей хозяйки имелось до десяти видов этого напитка: гостей было принято угощать не покупной, а своей водкой. «Спотыкач» считается женским напитком. Крепость его не превышает 28–30 градусов. Пьется легко, как компот, не вызывает похмелья. Так что в любви к нему нет никакого компромата. Возможно, конечно, что «жандармский спотыкач» — какая-то особая разновидность спиртного. Однако сведений о нём у меня нет.
Но и это не всё. Куплеты плодились, множились, перемешивались… Вот ещё образчики стенаний:
Сейчас вряд ли можно определить, какие из куплетов появились раньше, какие позже. Очевидно одно: все они шли как добавление к каноническому алымовскому тексту, три замечательных катрена которого затерялись в чудовищном нагромождении образчиков «народного творчества». То, что мы имеем сегодня, — увы, низкосортная, унылая и бестолковая поделка.
«Крылатый романс» в боях за Родину
Да, так вышло, что во время Великой Отечественной войны уголовная песня о наркоманке стала фронтовой. Правда, сам автор к этому никаких усилий не прилагал — хотя, как мы уже писали, Алымов в январе 1942 года был зачислен в кадры ГПУ ВМФ и вскоре направлен на Черноморский флот, в самое пекло боёв. Сергей Яковлевич писал стихи, газетные материалы. Любопытно, что в его поэтических произведениях порою находят отзвук эстетские мотивы Серебряного века:
Но всё же основная тема Алымова — героизм моряков:
Алымовские строки помогали бойцам сохранять и укреплять силу духа, за что поэту — земной поклон. А вскоре происходит событие, которое непосредственно возвращает нас к теме Беломорканала. 19 июля 1942 года Сергея Яковлевича отзывают в Москву, а в конце апреля 1943-го он получает от Главпура ВМФ назначение — уже на Северный флот. Дорога к Мурманску пролегает недалеко от тех мест, где поэт когда-то отбывал срок по «шпионской» статье. Вот он проезжает станцию Вирма, что под Беломорском, бывшей Сорокой: «От Вирмы дорога идет коридором, прорубленным в монолитном граните — серо-розовом, так знакомом по Белморстрою. Вообще эти места и природа вызывают целый поток полузабытых воспоминаний — годы 30—32-й вновь ожили во всей свежести… Сорока—Беломорск, где на шлюзе состоялась историческая встреча североморцев с т. Сталиным, Кировым, Ворошиловым. Слева голубая лента канала и шлюз. Справа синева Белого моря. Здравствуй, Б.Б. канал, здравствуй, Белое море!.. Трогаемся, переезжаем ББВП! Как много в слове этом для сердца беломорского слилось!.. Стоим. Полночь, в 5.30 трогаемся. Темнеет. Беломорский персиковый закат над темной землей (сколько их было видено мной в Карелии!!!)».
Потрясающее настроение у бывшего гулаговского узника, который оказался в местах своего заключения!
Но вернемся к романсу. Как же помогали советским бойцам «марафетные страдания»? Ну, то, что пели их и в лагерях военной поры, и на воле в соответствующих компаниях, — сомнений нет. Например, в автобиографической повести А. Морозова «Девять ступеней в небытие» есть эпизод, который относится к 1942 году. Автор пишет:
«Всё хорошее — по лагерным меркам, разумеется, хорошее — когда-то должно кончаться. Я стал суеверным. Какой-то тип надрывался вверху, чуть не над моей головой:
И я втискивался лицом в набитый опилками матрас, впивался ногтями в его грязную пыльную ткань, пытаясь сдержать неудержимые приступы рыданий».
Как мы видим, романс продолжил своё шествие и в мужском варианте. Но неужели то же самое пели и бойцы на фронте?! Какой кокаин, какие крылья? Впрочем, блатное пополнение, которое после Сталинградской битвы стало понемногу вливаться в ряды штрафных подразделений, в самом деле принесло на фронт свой фольклор. Есть свидетельства того, что «кокаиновый романс» исполнялся и на передовой. Можно назвать хотя бы повесть Владимира Санина «Когда я был мальчишкой», где автор вспоминает: «Я встречал на фронте ребят, бывших когда-то уголовниками: они частично сохранили свой жаргон, блатные ухватки, любили петь “перебиты, поломаны крылья, тихой болью всю душу свело”… но в большинстве своем снова стали людьми».
Однако куда замечательнее другое. Песня о перебитых крыльях пришлась по душе и «сталинским соколам» — военным лётчикам! Конечно, они творчески переработали первоисточник и создали оригинальный текст. О том, что песня была в авиации популярна, свидетельствует то, что ветераны войны упоминают о ней не единожды.
Обратимся к воспоминаниям Николая Бондаренко — бывшего лётчика-фронтовика, совершившего в годы Великой Отечественной 179 боевых вылетов, из них 129 в тыл врага с разведывательной целью. Вот отрывок из его книги «В воздухе — испытатели»:
«Светила луна. В небе послышался рокот пролетающих У-2. Один за другим они шли на боевое задание. Тяжело было сознавать, что ты не в воздухе, а на земле, что твоя машина разбита. Невольно вспомнилась старая песенка, переделанная нашими летчиками:
— Брось, Николай, не тереби душу! — поморщился Шурик, когда я вполголоса пропел эту песню».
А бывший фронтовой лётчик Николай Шмелёв в мемуарах «С малых высот» рассказывает об «идеологических баталиях» вокруг авиационной версии уголовного романса:
«Пётр Михайлович Хрипков закурил и тихо, с серьезным видом запел первый куплет одной нашей фронтовой песенки:
— Ты вот скажи, зачем поёшь ерундовые песни, — проговорил Пьецух.
— Какие-такие “ерундовые песни”?
— Не идейные.
— Ничего подобного! У нас, на фронте, все песни были идейные. Это начало такое… А вот послушай третий куплет:
продекламировал Хрипков с жаром и спросил:
— Ну, как?
— Ничего. Ничего хорошего… — сказал Пьецух.
— Ну, это ты мне брось. Значит, ты на фронте не был…»
Вот так причудливо сложилась судьба «кокаинового романса» Сергея Алымова. Его автор фронтовую судьбу связал с морем, а «Крылья», как им и положено, взметнулись в небеса…
Как террористка из великомученицы переквалифицировалась в блатнячку
«Мамочка, мама, прости, дорогая»
Мамочка, мама, прости, дорогая
Девица не промах
Текст песни о несчастной воровке мы привели в самом популярном на сегодняшний день варианте. Это — расшифровка фонограммы известной певицы Любови Успенской. В таком виде «Мамочка…» разошлась ещё в 80-е годы прошлого века по всему Советскому Союзу и поётся до сих пор. Она представляет собой слегка смягчённую версию исполнения той же песни Аркадием Северным в 1978 году. Различия не очень существенные. Северный, например, поёт:
Между тем оба варианта — и Северного, и Успенской — усечённые, выхолощенные. На самом деле жалоба воровки в исполнении многих поколений уголовных бардов значительно отличалась от современной версии. Так, в сборнике Н. Хандзинского «Блатная поэзия» (1926) приводится следующий текст:
Но к началу 30-х годов ряд куплетов исчезает, и песня о встрече в тюремной больнице уже мало отличается от нынешней. Вот запись, сделанная студенткой Вечернего рабочего литературного университета (ВРЛУ) Н. Холиной в 1932 году:
Мы не случайно столь подробно останавливаемся на записях Хандзинского и Холиной. Они уже по первым строкам позволяют определить источник, вдохновивший неведомых авторов на создание «Мамочки». Это — романс Якова Пригожего на стихи Великого князя Константина Константиновича Романова (широко известного в поэтических кругах под инициалами К. Р.) «Умер бедняга в больнице военной». Стихотворение К. Р. называлось просто — «Умер» и было написано в 1895 году, а широкую популярность во всех слоях русского общества получило благодаря романсу, впервые записанному в Москве на фирме «Патэ» в 1908 году, но известному значительно раньше. На пластинке исполняла его несравненная Надежда Васильевна Плевицкая — любимая певица последнего русского императора. Вот слова романса (стихотворение князя более объёмное):
Романс про беднягу в тюремной больнице настолько полюбился публике, что последовало множество его переделок. Известны фольклорные варианты, исполнявшиеся в Русско-японскую войну 1904–1905 годов, в Первую мировую и даже в Великую Отечественную. Например, переработка Николая Клюева, которая относится к 1914 году:
Правда, в воровской песне размер второй и четвёртой строк меняется, они становятся длиннее. Но это не редкость, когда речь идёт о фольклорных переделках. Кроме того, в записи Холиной второй куплет по размеру абсолютно идентичен стиху Константина Романова, и это является ещё одним аргументом в пользу стихотворения К.Р. как первоисточника воровского романса.
Но возникает ещё одно возражение: если даже закрыть глаза на то, что в романсе речь идёт не о тюремной больнице, а о военной, совершенно очевидно, что герой — мужчина, а не женщина!
И здесь придётся обратиться к политической истории России. Мы не случайно упомянули о многочисленных переделках романса. Одна из анонимных фольклорных вариаций была посвящена эсерке-террористке Марии Александровне Спиридоновой. Поскольку эта переделка имеет непосредственное отношение к нашей теме, о её героине есть смысл рассказать подробнее.
Будущая революционерка родилась 16 октября 1884 года в семье тамбовского коллежского секретаря Александра Спиридонова. Родители её были состоятельными, имели собственный дом, дачу и паркетную фабрику. Маша с детских лет отличалась прекрасными способностями, но сложным характером. С пяти лет научилась самостоятельно читать и писать, в гимназии из класса в класс переходила первой ученицей, однако постоянно конфликтовала с преподавательницами и подбивала на это подруг, считая учительниц (и вообще начальство) исконными врагами. Когда новая директриса предложила гимназисткам дружбу и общение на равных, юная Спиридонова ответила: «С палкой не дружат». Завершилось это исключением Марии из 8-го класса.
В молодые годы Спиридонова примкнула к эсеровскому движению, фанатично поддерживала политику революционного террора. Она добилась своего включения в боевую организацию социалистов-революционеров и рвалась в бой. Долго ждать не пришлось.
В 1905 году боевая организация приговорила к смерти тамбовского губернского советника Гавриила Николаевича Луженовского, который с особой жестокостью подавил крестьянские волнения в Тамбовской губернии. Луженовский представлял собой личность неординарную и противоречивую. Крупнейшая газета России «Новое время» писала о нём: «Он вечно возился с крестьянами, защищая их в процессах и кляузах, начинаемых против них тамбовскими ленд-лордами… кричал повсюду, что крестьян обкрадывают, что повсюду идёт воровство и взяточничество… часто благотворительствовал, защищал бесплатно бедных, давал деньги мужикам». Но на государственной службе Луженовский изменился. При подавлении крестьянской смуты губернский советник показал себя с самой неприглядной стороны. Для карательной экспедиции он специально привёз донских казаков, которые зачастую с пренебрежением и даже с презрением относились к «иногородним», «кацапам». Казаки подвергали крестьян жестоким пыткам и убивали. По образному выражению юной Марии Спиридоновой, тамбовские сёла представляли собой после экспедиций Луженовского «картину такого же опустошения, как болгарские деревни после нашествия турок».
Под горячую казачью руку попадали не только хлебопашцы. Каратели также схватили социал-демократа Александра Дубровина, который ехал в деревню, чтобы уговорить крестьян не жечь помещичьи усадьбы, потому что в них можно открыть школы и больницы. Юношу изуверски мучили четыре дня. Когда тело выдали родным, труп Дубровина «представлял из себя кучу лохматого мяса, костей и крови». В селе Павлодар казаки убили десять мужиков и сорока нанесли увечья. В деревне Берёзовка крестьянин Карп Клеманов потерял рассудок от пыток… Спиридонова позднее говорила: «В полном сознании своего поступка я взялась за исполнение приговора. Когда мне пришлось встретиться с мужиками, сошедшими с ума от истязаний, когда я увидела безумную старуху-мать, у которой 15-летняя красавица-дочь бросилась в прорубь после казацких ласк, то никакие силы ада не могли бы меня остановить». Луженовский, по убеждению эсерки, являлся «воплощением зла, произвола, насилия».
Мария вызвалась лично исполнить решение боевой организации, которая приговорила Луженовского к смерти. Советник направлялся на юг за новой партией карателей. По пути он решил заехать к своему приятелю, борисоглебскому приставу, поэтому Спиридонова решила убить чиновника на станции Борисоглебск 16 января 1906 года. Позднее она рассказывала:
«Утром, при встрече поезда, по присутствию казаков решила, что едет Луженовский. Взяла билет 2 класса, рядом с его вагоном; одетая гимназисткой, розовая, весёлая и спокойная, я не вызывала никакого подозрения. Но на станции он не выходил. По приходе поезда в Борисоглебск, с платформы жандармы и казаки сгоняли всё живое. Я вошла в вагон и на расстоянии 12–13 шагов, с площадки вагона, сделала выстрел в Луженовского, проходившего в густой цепи казаков. Так как я была очень спокойна, то я не боялась не попасть, хотя пришлось метиться через плечо казака; стреляла до тех пор, пока было возможно. После первого выстрела Луженовский присел на корточки, схватился за живот и начал метаться по направлению от меня, по платформе. Я в это время сбежала с площадки вагона на платформу и быстро, раз за разом, меняя ежесекундно цель, выпустила ещё три пули».
Террористка выстрелила пять раз и не допустила ни единого промаха. Две пули попали в живот, две в грудь и одна в руку. Меткость стрельбы просто поразительная, особенно если учесть, что стреляла юная девушка в крайне напряжённой, нервной обстановке по движущейся мишени, окружённой казаками-телохранителями, — и никого при этом не задела. Луженовского перевезли в Тамбов, где он прожил ещё двадцать шесть дней и скончался в жутких мучениях, успев прошептать: «Действительно, я хватил через край». Выездная сессия Московского окружного военного суда в Тамбове 11 марта 1906 года приговорила Спиридонову к смертной казни через повешение. Девушке исполнился на тот момент 21 год и 4 месяца. В камере смертников она 16 дней ждала утверждения приговора, затем казнь заменили бессрочной каторгой.
Моление о святой Марии
Но главное в этой истории — то, что последовало сразу же вслед за убийством Луженовского. Охрана губернского советника так растерялась, что не могла определить, кто и откуда стрелял. Спиридонова вспоминала в «Письме об истязаниях», опубликованном кадетской газетой «Русь» 12 февраля 1906 года: «Обалделая охрана в это время опомнилась; вся платформа наполнилась казаками, раздались крики: “бей”, “руби”, “стреляй”. Обнажились шашки. Когда я увидела сверкающие шашки, я решила не даваться им живой в руки. В этих целях я поднесла револьвер к виску, но на полдороге рука опустилась, и я, оглушённая ударами, лежала на платформе. “Где ваш револьвер?” — слышу голос наскоро меня обыскивавшего казачьего офицера. И стук прикладом по телу и голове отозвался сильной болью во всем теле… Удары продолжали сыпаться. Руками я закрывала лицо; прикладами руки снимались с него. Потом казачий офицер, высоко подняв меня за закрученную на руку косу, сильным взмахом бросил на платформу. Я лишилась чувств, руки разжались, и удары посыпались по лицу и голове. Потом за ногу потащили вниз по лестнице. Голова билась о ступеньки, за косу я была взнесена на извозчика».
По некоторым источникам, казачий есаул Аврамов позднее признал: если бы Маша сама не закричала «Расстреливайте меня!» и не приставила к виску револьвер, она легко могла бы скрыться. Девушке не дал застрелиться казак, который вышиб у неё револьвер ударом приклада.
Но это было только начало. Есаул Аврамов и помощник пристава Жданов, отвечавший лично за безопасность губернского советника, доставили юную девушку в полицейское управление, раздели донага и в течение 12 часов подвергали её жестоким, циничным издевательствам (о них речь впереди). Именно издевательства над Марией Спиридоновой всколыхнули всё русское общество. Адвокат Николай Тесленко, один из самых известных членов ЦК партии кадетов, взывал к суду: «Перед вами не только униженная, поруганная, больная Спиридонова. Перед вами больная и поруганная Россия».
По всей России разошлись стихи из вышедшей в 1906 году брошюры репортёра «Руси» В. Е. Владимирова «Мария Спиридонова», подписанные М. Волошиным:
Многие нынешние исследователи, ничтоже сумняшеся, приписали эти строки Максимилиану Волошину, хотя на самом деле они принадлежат менее известному стихотворцу Михаилу Волошину и позже были воспроизведены в его киевском сборнике 1909 года «Саломея».
Советский учёный-экономист Константин Островитянов, который в 1906 году учился в Тамбове, вспоминал, что на гимназистов и студентов процесс Спиридоновой произвёл огромное впечатление: «По рукам ходили в большом количестве её портреты, с них смотрела девушка с пышными волосами, расчёсанными на прямой пробор, и с упрямым взглядом серых глаз, в которых светились воля и убежденность, доходящая до фанатизма».
Маруся Спиридонова действительно обращала на себя внимание удивительной красотой. Одна из её гимназических подруг описывала юную боевую эсерку следующим образом: «Хорошенькая, совсем крошечная, стройная, с светло-каштановыми волосами, которые, распущенные, закрывают всю её фигуру ниже колен, с тонкими чертами небольшого лица, с нежной прозрачной кожей, с синеватыми, широко открытыми глазами — вот внешность Маруси. Много свежести, мягких светлых красок на этом прелестном лице. Верхняя губа её немного короче нижней и придает ее смелому открытому лицу что-то детское и вместе с тем твердое и решительное».
Не одни студенты попали под очарование Машиной внешности и характера. Писатель Михаил Пришвин после встречи с героической боевичкой отметил в дневнике: «Маруся, страдающая душа, как в святцах, мученица нетленная». На Тамбовщине возникает культ Спиридоновой в образе «новомученицы Марии». Об этом, в частности, мы узнаём из статьи «В чёрные дни (Из письма крестьянина)» поэта Николая Клюева, опубликованной на страницах «Нашего журнала» в 1908 году: «Портреты Марии Спиридоновой, самодельные копии с них, переведённые на бумажку детской рукой какого-нибудь школяра-грамотея, вставленные в киот с лампадками перед ними, — не есть ли великая любовь, нерукотворный памятник в сердце народном тем, кто, кровно почувствовав образ будущего царства, поняв его таким, как понимает народ, в величавой простоте и искренности идёт на распятие». После покушения на Луженовского жители села Пески послали в Борисоглебск своего ходока, чтобы узнать, кто стрелял, и отблагодарить его. Узнав, что их палач умер, а его убийца находится на грани жизни и смерти, крестьяне Тамбовской губернии ставили свечи во всех церквах за здравие «новомученицы Марии».
Но благородную террористку боготворили не только православные. Член еврейской партии «Бунд» София Дубнова-Эрлих вспоминала о нелегальном собрании у «старого Шлеймы»: «На комоде, покрытом вязаной скатёркой, стоит старинный семисвечник. На стене ряд снимков, по-видимому, семейных; с изумлением нахожу среди них лицо лейтенанта Шмидта с плотно сжатыми губами и почти иконописный лик Марии Спиридоновой с широко открытыми глазами мученицы. Эти глаза смотрели на меня со стен разных студенческих комнат, но между мезузой и семисвечником они — полная неожиданность».
Не остался в стороне от происходящего и Владимир Ульянов-Ленин. В марте 1906 года (когда публиковались репортажи Владимирова в газете «Русь») лидер большевиков пишет статью «Победа кадетов и задачи рабочей партии», где посвящает героической террористке отдельную главу — «Об истязании Спиридоновой и диктатуре революционного народа». На примере расправы над эсеркой великий вождь показывает, что такое диктатура народа: «Представьте себе, что Аврамов увечит и истязает Спиридонову. На стороне Спиридоновой, допустим, есть десятки и сотни невооружённых людей. На стороне Аврамова горстка казаков. Что сделал бы народ, если бы истязания Спиридоновой происходили не в застенке? Он применил бы насилие по отношению к Аврамову и его свите. Он пожертвовал бы, может быть, несколькими бойцами, застреленными Аврамовым, но силой всё-таки обезоружил бы Аврамова и казаков, причём, очень вероятно, убил бы на месте некоторых из этих, с позволения сказать, людей…»
Слова Владимира Ильича насчёт убийства «с позволения сказать, людей» воплотились в жизнь неожиданно скоро. Уроженца Старогригорьевской станицы, есаула 3-го Сводного Донского казачьего полка Петра Аврамова эсеры застрелили уже 21 марта (3 апреля по новому стилю) 1906 года (по другим сведениям, это случилось 11 апреля). А 6 мая несколько пуль настигли и помощника жандармского пристава Жданова. На этот раз социалистов-революционеров опередили двое неизвестных молодых людей. Убийцы приблизились к Жданову сзади и разрядили в его спину две пистолетные обоймы.
«…что дочку-эсерку на свет родила»
Примерно в это время, вскоре после суда над эсеркой, и появляется песня, посвящённая Марии Спиридоновой, которая исполнялась на мотив, схожий с мелодией романса «Умер бедняга в больнице военной». К сожалению, полного текста «спиридоновского» романса до нас не дошло, остаётся довольствоваться несколькими куплетами:
Но почему песня о Спиридоновой описывает не её отважную расправу над притеснителем крестьянства, не её героизм, а именно сцену прощания с матерью в тюремной больнице? Думается, причин тут несколько. С одной стороны, это — фольклорная русская традиция прощания умирающего героя с матерью. Вспомним хотя бы ямщицкую «Степь да степь кругом»:
Или знаменитый «Чёрный ворон»:
Да ведь и в исходном романсе «Умер бродяга в больнице военной» речь тоже идёт о прощании с матерью. То же самое встречаем в городском романсе «Вот тронулся поезд в далёкую сторонку», который послужил основой для блатной песни «Летит паровоз по зелёным просторам» (или в более популярном нынче варианте — «Постой, паровоз, не стучите, колёса»):
Заметим, что в «Паровозе» так же, как в песне о дочке-воровке, появляется мотив тюремной больницы и прощания с матерью — хотя и несостоявшегося:
С большой долей вероятности можно предположить, что этот эпизод обязан своим появлением романсу о героической эсерке. Ведь в романсе, послужившем основой для блатного «Паровоза», сцены с тюремной больницей нет (что вполне понятно, поскольку песня принадлежит к числу «рекрутских», «солдатских»). Помимо фольклорной традиции, свою роль сыграло и причисление Марии Спиридоновой к лику «новомученицы»: в христианской, тем более в Русской православной церкви именно муки и страдания святых являются предметом преклонения и воспевания.
Но прежде, чем воспевать муки, они должны были иметь место в реальной жизни. Ведь христианские великомученики не возникли из ниоткуда: в Древнем Риме на самом деле власть преследовала и уничтожала последователей учения Христа. То же самое и с Марией Спиридоновой: её история предоставляла замечательный материал для создания «жития страстотерпицы».
В случае прощания матери и дочери можно прямо указать «исходник» — уже цитированные статьи Владимирова из газеты «Русь». В духе времени репортёр описал встречу Маши и мамаши с предельной патетикой, мелодраматизмом и трагически-обличительными нотами. Для того чтобы читатель мог сопоставить текст романса с рассказом журналиста, мы приведём (с некоторыми сокращениями) эпизод из репортажа:
«4-го февраля было впервые разрешено свидание Марьи Александровны с матерью… Так как дочь была очень больна и не могла вставать, старушку мать повели в камеру к заключённой… Когда отперли железную дверь камеры и железный засов повернули на ржавых петлях с холодным лязганьем металла, глазам матери представилась страшная картина: на полу, в углу комнаты, лежит её дочь Маруся!.. Голова без движения покоится на подушке, обложенная компрессами. На глазу тоже компресс. Мать неподвижно оставалась стоять на пороге, не смея нарушить гробового покоя могильного склепа. В душе её воцарился ужас…
Маруся открыла глаза, легким наклоном головы попросила мать приблизиться к ней. Старушка села на пол около своей любимицы, долго разглядывала её, не знала, с чего начать разговор, а слёзы ручьем текли по щекам… С полным сознанием, ясным пониманием вещей больная стала успокаивать мать; убеждала её не отчаиваться, не убиваться при мысли, что за совершённый ею поступок её повесят.
— Мамочка! — говорила она. — Я умру с радостью! Ты не беспокойся, не убивайся за меня; у тебя остается ещё четверо детей, заботься о них!..
Старушка поцеловала личико своей ненаглядной Маруси, укрыла её потеплее одеялом и поднялась с пола. Маруся же только слегка кивнула головкой, до того она была слаба. И мать исчезла в дверь».
Бросается в глаза совпадение описаний и общей атмосферы не только с цитированными выше куплетами романса о Спиридоновой, но и с ранним вариантом «Мамочки» в записи Н. Хандзинского:
Правда, в приведённом отрывке из статьи Владимирского не говорится о пробитой груди, проломленном черепе и прочих ужасах («места живого на теле не видно»). Но этих подробностей хватает в других его репортажах! Автор сообщает, что, когда Спиридонову доставили в тюрьму, девушка совершенно не могла двигаться, находилась в бессознательном состоянии и затем в течение полутора месяцев не поднималась с тюремной постели. А вот описания травм и ран, полученных «эсерской Богородицей»: «Допущенный в тюремную камеру доктор засвидетельствовал: “У Спиридоновой развился туберкулёз лёгких в жестокой форме, горлом идёт сильно кровь”… Левая часть лица у Спиридоновой была забинтована и также забинтована левая рука… Левый глаз отличает только контуры предметов и различает два цвета: белый и чёрный. Кисти рук были синие, отёчные, сильно вспухшие, потому что особенно сильно были избиты и носили следы ударов нагайки… На левом предплечье несколько сильных кровоподтёков и красных полос от нагаек». И совсем уже добивает эпизод опознания личности Марии Спиридоновой: «Когда административные власти в Тамбове пожелали удостоверить личность доставленной казаками из Борисоглебска девушки и пригласили для опознания её одного из служащих в дворянском тамбовском собрании, Вл. А. Апушкина, у которого Спиридонова полтора года работала в качестве конторщицы, тот, осмотрев её, сказал, что Спиридонову он хорошо знает, так как действительно она давно работает у него, но признать в этой бессознательно лежавшей девушке Спиридонову с синими, красными подтёками, без глаза, со вздутым, опухшим лицом, наполовину забинтованным, он не может, он не узнаёт её. “Это не она, не Маруся Спиридонова, а другая какая-то!”»
Правда, в романсе поётся о том, как «сумрачно в женской тюремной больнице», между тем в тамбовской тюремной больнице, куда позднее перевели Спиридонову, было не столь мрачно: «Находится она до сих пор в отдельной камере женской больницы. Эта камера просторная, светлая, окрашена светло-серой клеевой краской по гладкой штукатурке. Там находится деревянная кровать, один табурет и больше ничего… Содержится камера довольно чисто».
Зато нельзя умолчать о другом: в жизни сюжет оказался ещё драматичнее, чем в песне. Александра Спиридонова могла попрощаться не с одной дочерью, а сразу с несколькими. После того как подробности о содержании и состоянии Марии Спиридоновой попали на страницы газет и стали достоянием общественности, власти не нашли ничего более умного, как… бросить за решётку двух младших сестёр Марии — Юлию и Евгению! Полиция заподозрила, что именно они сообщали журналистам информацию, получаемую из писем сестры. Ясно, что эти действия на грани идиотизма ещё более накалили обстановку и склонили симпатии публики в пользу юной террористки.
В общем, совершенно очевидно, что песня о Марии Спиридоновой создана в первую очередь именно по мотивам очерка журналиста Владимирова. А уже фабула подсказала идею перелицовки для этой цели романса Константина Романова и Якова Пригожего.
«Пытал меня мусор, крыса позорная…», или Забавы «сладострастных орангутангов»
Но в песне о Марии Спиридоновой, по мнению исследователей, существовал как минимум один куплет, посвящённый избиению и пыткам «новомученицы Марии». Фольклористы считают: в строке воровского романса «Били легавые, били наганом» из варианта 1932 года, записанного Н. Холиной, наган появился вместо устаревшей и неактуальной в советское время нагайки («Били казаки, били нагайкой»). Стало быть, подобного рода куплет имелся и в «спиридоновском» варианте. Наблюдение вполне резонное; заметим, однако, что казаки избивали юную девушку столь разнообразно и изощрённо, что уличным сочинителям можно было не утруждать себя заменой одного орудия пытки на другое. Например, Спиридонова рассказывала своему адвокату Тесленко, что Аврамов упирался ногой ей в живот и «бил нагайкой по лицу, бил по нему револьвером».
Как бы то ни было, наверняка описание издевательств над эсеркой в романсе о Спиридоновой присутствовало и позднее перешло в уголовную версию (где либо нагайку заменили на наган, либо просто уточняется, что револьвер был системы Нагана). Во-первых, именно пытки и физическое насилие над «эсеровской Богородицей» создали ей славу великомученицы и заступницы за простой народ. Во-вторых, такой куплет присутствует в блатной переделке и вряд ли он просто присочинён уркаганами, тем более что в дошедшем до нас отрывке «спиридоновского» романса есть описание тяжёлых последствий физического насилия над героиней.
В сцене пыток неведомые сочинители руководствовались уже не столько публикациями Владимирского, сколько подробным эмоциональным рассказом самой Марии Спиридоновой, опубликованным 12 февраля 1906 года на страницах «Руси». Приведём несколько наиболее ярких отрывков: «В камеру в 12 или 1 час дня пришёл помощник пристава Жданов и казачий офицер Аврамов; я пробыла в их компании, с небольшими перерывами, до 11 часов вечера. Они допрашивали и были так виртуозны в своих пытках, что Иван Грозный мог бы им позавидовать. Ударом ноги Жданов перебрасывал меня в угол камеры, где ждал меня казачий офицер, наступал мне на спину и опять перебрасывал Жданову, который становился на шею… Раздетую, страшно ругаясь, они били нагайками (Жданов)… Один глаз ничего не видел, и правая часть лица была страшно разбита. Они нажимали на неё и лукаво спрашивали: “Больно, дорогая? Ну, скажи, кто твои товарищи?”… Выдёргивали по одному волосу из головы и спрашивали, где другие революционеры». В петербургской газете «Молва» 21 марта 1906 года Спиридонова снова вспоминает, как её пытали, чтобы узнать имена других эсеров: «Меня заставляли вставать ударами сапога… тянули за сорванную плёткой кожицу и кричали: “Кто твои товарищи?”».
А теперь сравните с вариантом «воровского романса», записанного студенткой Холиной:
Не правда ли, похоже? Вплоть до «мокрухи», как именуется на арго убийство. Отсюда можно сделать совершенно естественное предположение, что сцена допроса и выпытывания имён товарищей имелась и в романсе об «эсеровской Богородице».
Кстати, в письме Спиридоновой, опубликованном газетой «Молва», можно найти и намётки более поздней «любовной» линии воровского жестокого романса. Спиридонова вспоминала, как Аврамов с Ждановым били её по лицу и спрашивали, сколько у неё любовников. Когда же Маша назвала неких Каменева и Семёнова, которые могут удостоверить её личность, оба садиста завопили: «А! Это всё твои любовники?» — и обрушились на девушку с грязной бранью.
И опять-таки заметим: в жизни история Марии Спиридоновой складывалась намного драматичнее, нежели в песне. Потому что юную Машу мучители не только избивали, но и пытались изнасиловать! Репортёр «Руси» не оставлял у читателей ни малейшего сомнения в том, что изнасилование было на самом деле. Ему вторила газета «Наша жизнь»: «Представьте существо чистое, девственное, цвет одухотворённой красоты, какую только выработала высшая культура России, представьте эту юную, беззащитную девушку в косматых лапах скотски отвратительных, скотски злобных и скотски сладострастных орангутангов. Такова была участь Спиридоновой».
Сама Спиридонова факт изнасилования отрицала и даже была возмущена тем репортажем Владимирова, где журналист рассуждал об этом. Однако в «Письме об истязаниях» Мария столь красочно описывает домогательства Аврамова, что поневоле закрадываются сомнения:
«Тушили горящую папиросу о тело и говорили: “Кричи же, сволочь!.. Нет, ты закричишь, мы насладимся твоими мучениями, мы на ночь отдадим тебя казакам…”
“Нет, — говорил Аврамов, — сначала мы, а потом казакам…”
…Офицер ушёл со мной во II класс. Он пьян и ласков, руки обнимают меня, расстёгивают, пьяные губы шепчут гадко: “Какая атласная грудь, какое изящное тело”… Нет сил бороться, нет сил оттолкнуть. Голоса не хватает, да и бесполезно. Разбила бы голову, да не обо что. Да и не даёт озверелый негодяй. Сильным размахом сапога он ударяет мне на сжатые ноги, чтобы обессилить их, зову пристава, который спит. Офицер, склонившись ко мне и лаская мой подбородок, нежно шепчет мне: “Почему вы так скрежещете зубами — вы сломаете ваши маленькие зубки”.
Не спала всю ночь, опасаясь окончательно насилия. Днём предлагает водки, шоколаду; когда все уходят, ласкает. Пред Тамбовом заснула на час. Проснулась, потому что рука офицера была уже на мне. Вёз в тюрьму и говорил: “Вот я вас обнимаю”. В Тамбове бред и сильно больна».
А в последних числах февраля, уже будучи в тамбовской тюрьме, эсерка обращается за особой медицинской помощью. Тюремный врач Финк 28 марта 1906 года, отвечая на вопросы, предложенные ему старшим советником губернского правления Беляевым, признал, что Мария Спиридонова обратилась с жалобой на сыпь, которая появилась у неё на плече. Девушка подозревала заболевание сифилисом. Осмотрев плечо, Франк успокоил Спиридонову: сыпь оказалась простым раздражением кожи. Именно из этого случая репортёр Владимиров сделал заключение, что насилие всё же было совершено. Он также ссылался на беседу с врачом, который якобы рассказал о признании эсерки в том, что Аврамов её изнасиловал. В ответ врач сказал, что жаловаться надо было сразу, а не по истечении времени; теперь ничего доказать невозможно. Прочитав эти строки, Спиридонова назвала Владимирова лжецом.
Между тем публикации в прессе сделали своё дело. У Аврамова и Жданова начались неприятности. Брат Жданова (тоже помощник пристава) заявил, что не желает служить с ним в одном ведомстве. Аврамов, живший на широкую ногу, снимавший номер в гостинице, посещавший театр и рестораны, прекратил появляться на людях и переехал на частную квартиру. Его сослуживцы подали рапорт начальству и просили провести дознание: на самом ли деле Аврамов насиловал арестованную? На суде в защиту Спиридоновой вызвался выступать казачий есаул Филимонов. Он заявил: «Господа судьи! Я так же, как и вы, вырос в военной среде, посвящающей всю свою жизнь военному делу. Мы все воспитаны в сознании необходимости прямо и смело смотреть в глаза смерти, а в случае необходимости причинять её другим. Но я так же, как и вы, твёрдо знаю, что рука честного воина даже в пылу брани, в самом горячем бою не опускается на голову женщины. Мы знаем, что военные люди женщин не убивают».
«Белая чайка» и «чёрный ворон»
Путь «эсеровской Богородицы» из пересыльной тюрьмы в Нерчинск можно назвать триумфальным. На остановках поезд окружали толпы рабочих, и Мария выступала перед ними с зажигательными речами — в присутствии охраны! Спиридонова отбывала срок в Акатуйской и Мальцевской тюрьмах Забайкалья. Соратники по партии трижды пытались организовать знаменитой террористке побег, но безуспешно. На свободу Мария Спиридонова вышла после Февральской революции 1917 года согласно амнистии, объявленной Временным правительством и подписанной министром юстиции Александром Керенским. В мае видная эсерка уже выступает на московских митингах, в воинских частях, среди рабочих, призывает к прекращению войны, передаче земли крестьянам, а власти — Советам. Спиридонова сотрудничала с газетой «Земля и воля», была редактором журнала «Наш путь», входила в состав редколлегии газеты «Знамя труда».
Популярность Марии Спиридоновой в первые послереволюционные годы огромна. Джон Рид называл бывшую политкаторжанку «самой популярной и влиятельной женщиной в России». Атташе французской миссии капитан Жак Садуль писал военному министру Франции Альберу Тома о Спиридоновой, что её «революционное прошлое, террористические акты, долгие тюрьмы, чудовищные издевательства жестокой царской полиции обеспечили ей в народе престиж, почти равный тому, каким обладает Ленин».
Поначалу Спиридонова выступала за сотрудничество с большевиками. На I съезде партии левых социалистов-революционеров она заявляла: «Как нам ни чужды их грубые шаги, но мы с ними в тесном контакте, потому что за ними идёт масса, выведенная из состояния застоя». При поддержке большевиков Спиридонова занимала пост председателя II и III съездов Советов крестьянских депутатов, была членом ВЦИК Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. По многим важным политическим вопросам она поддерживала большевистские позиции. При этом Спиридонова не обольщалась насчёт того, что представляют собой союзники эсеров. Она считала, что влияние большевиков на массы временно, у них «всё дышит ненавистью», поэтому большевизм ожидает банкротство на второй стадии революции.
Левые эсеры активно способствовали большевикам в уничтожении всех остальных политических партий. В короткое время (1917–1918 гг.) были раздавлены сначала конституционные демократы — кадеты. Затем настала очередь анархистов. За ними последовали меньшевики и правые эсеры. На пути большевиков к однопартийной диктатуре стояли только левые эсеры. С ними тоже долго не церемонились, тем более что эти союзники с каждым днём представляли всё большую опасность. На V Всероссийском съезде Советов (4—10 июля 1918 года) большевиков представляли 66,5 % делегатов, левых эсеров — 30,4 %. Но накануне съезда стало ясно, что происходит отход крестьянства, недовольного продразверсткой, от большевиков, что увеличивало представительство эсеров в местных Советах. Среди делегатов от ряда губерний Центральной России преобладали левые эсеры: Курская — 64,7 %, Тульская — 63,1 %, Рязанская — 58,8 %, Орловская — 57 %, Костромская — 54,5 %. Из 157 центральных российских уездов 17 послали на съезд делегатами только левых эсеров. Поровну большевиков и эсеров направили 52 уезда (33,1 %). Таким образом, в 44 % уездов центра страны эсеры пользовались значительным доверием крестьян. Серьёзную конкуренцию большевикам они представляли также на северо-западе России и на Урале.
Именно на V Всероссийском съезде Советов социалисты-революционеры решили дать бой большевикам. С эмоциональным докладом на них обрушилась лично Мария Спиридонова, которая объявила, что выступает «как яростная противница партии большевиков». Она обвинила ленинскую партию в насилиях над крестьянством и назвала такую политику гибельной, отталкивающей крестьян от советской власти. Большевики стремятся установить диктатуру пролетариата над трудовым крестьянством через так называемые «комитеты бедноты», утверждала Спиридонова. Эсеры обещали силой разогнать комбеды и вышвырнуть из деревень продотряды рабочих.
Надо заметить, что левые эсеры долгое время вполне разделяли большевистскую политику в деревне: монополию хлебной торговли, борьбу деревенской бедноты против деревенской буржуазии. Они даже готовы были поддержать декрет СНК «О продовольствии» от 13 мая 1918 года, позволявший городу грабить деревню. Эсеров не устраивали только диктаторские полномочия, предоставленные наркому продовольствия большевику Цюрупе. А декрет о прокоммунистических комбедах вовсе ослаблял власть сельских Советов, где большинство было за левыми эсерами.
Однако, несмотря на демарши и протесты эсеров, 6 июля 1918 года съезд принял резолюцию, одобрявшую политику советского правительства. В тот же день произошло восстание левых эсеров, во главе которого стояла Мария Спиридонова.
Формальным поводом послужило их желание способствовать разрыву Брестского мира, заключённого большевиками 3 марта 1918 года с Германией. По договору Россия потеряла более миллиона квадратных километров территории. Тогда в знак протеста эсеры вышли из состава советского правительства — однако сохранили места в коллегиях наркоматов, военном ведомстве, разных комитетах, комиссиях, советах. Впрочем, уже в апреле Спиридонова выступила на II съезде своей партии с прямым оправданием договора. «Мир подписан не нами и не большевиками: он был подписан нуждой, голодом, нежеланием народа воевать. И кто из нас скажет, что партия левых эсеров, представляй она одна власть, поступила бы иначе, чем партия большевиков?» — заявила она соратникам.
Но в июле во время съезда эсеры осознали, что их ждёт судьба других политических оппонентов большевиков, и решили перейти от слов к делу, вспомнив о «позорном договоре». Сотрудники ВЧК левые эсеры Яков Блюмкин и Николай Андреев, предъявив мандаты, прошли на территорию германского посольства в Москве. Во время беседы с немецким послом Вильгельмом фон Мирбахом Блюмкин несколько раз выстрелил в него, а Андреев, убегая, кинул две гранаты. Убийцы скрылись в штабе отряда ВЧК, которым командовал эсер Дмитрий Попов.
Некоторые историки утверждают, что в заговоре участвовал также ряд «левых коммунистов», в том числе члены ЦК партии большевиков — Дзержинский и, возможно, Бухарин с Пятаковым. То есть имела место провокация большевиков с целью «подставить» и затем уничтожить своих союзников. Несколько сотен левых эсеров были арестованы, а некоторые расстреляны. Сам же приговорённый к расстрелу Блюмкин благодаря Троцкому был помилован и затем возглавил личную охрану Льва Давидовича. Со стороны большевиков — странное милосердие. Заметим: именно Блюмкин позднее дал показания о том, что об акции против германского посла знал не только Дзержинский, но и Ленин.
Как бы то ни было, случилось то, что случилось. Потерпев поражение на съезде, эсеры убили Мирбаха, взяли телеграф, арестовали Дзержинского, прибывшего в отряд Попова с требованием выдать убийц, а также заместителя «железного Феликса» Лациса, председателя Моссовета Смидовича и некоторых других большевиков. Впрочем, 7 июля мятеж был подавлен — не в последнюю очередь потому, что отряд Попова не оказал большевикам реального сопротивления.
Сразу после убийства Мирбаха Мария Спиридонова приехала в Большой театр, где заседал съезд Советов, с объяснением действий своей партии. Левые эсеры посчитали, что Спиридонову большевики тронуть побоятся. Однако коммунистическое руководство отдало распоряжение арестовать всю эсеровскую фракцию, в том числе и Спиридонову: её отправили на гауптвахту в Кремль. Через три недели, 27 ноября 1918 года, её приговорили к году тюрьмы, но, приняв во внимание «особые заслуги перед революцией», амнистировали.
Но «эсеровская Богородица» не отказалась от антибольшевистских взглядов и с убийственной откровенностью высказала их в послании «Центральному комитету партии большевиков», написанном в кремлёвских застенках (куда она снова угодила в ноябре 1918 года): «Никогда ещё в самом разложившемся парламенте, в продажной бульварной прессе и прочих махровых учреждениях буржуазного строя не доходила травля противника до такой непринуждённости, до какой дошла ваша травля… по отношению к вашим близким товарищам и соратникам». Она обвиняла большевиков в многочисленных издевательствах, пытках, убийствах, которые осуществлялись «чрезвычайками».
Боевая эсерка, расстрелявшая Луженовского за карательные экспедиции против тамбовских крестьян, с ужасом убедилась, что новые хозяева России оказались намного безжалостнее и кровожаднее «царского сатрапа». Спиридонова приводит отрывки из крестьянских писем, где рассказано о зверствах большевистских продотрядов. Крестьян грабили, избивали, пороли, пытали, убивали: «Взяли у нас всё дочиста, у баб всю одежду и холсты, у мужиков — пиджаки, часы и обувь, а про хлеб нечего и говорить… У нас зарегистрирована порка крестьян в нескольких губерниях, а количество расстрелов, убийств на свету, на сходах и в ночной тиши, без суда, в застенках… учесть невозможно. Приблизительные цифры перешли давно суммы жертв усмирений 1905-6 гг.»
С отвращением рассказывает революционерка о чудовищной атмосфере садизма, которая царит в ЧК и которой просто не выдерживали служившие там левые эсеры: «Убегал мертвенно бледный Александрович, умоляя взять его из чрезвычайки сегодня, сейчас. Пил запоем матрос Емельянов, говоря: “Убейте меня, начал пить, не могу, там убийства, увольте меня из чрезвычайки”…» И за этим следует пророческий вывод: «Вы скоро окажетесь в руках вашей чрезвычайки, вы, пожалуй, уже в её руках. Туда вам и дорога».
Выйдя на свободу, Мария Спиридонова продолжает обличения большевизма: советское правительство сравнивает с жандармами, «молодчиков комиссаров» называет душащими народ мерзавцами. В феврале 1919 года её в очередной раз судят за клевету на советскую власть и дискредитацию вождей рабоче-крестьянской революции и 24 февраля «ввиду болезненно-истерического состояния» приговаривают на один год к «изолированию от политической и общественной жизни посредством заключения её в санаторий, с предоставлением ей возможности здорового физического и умственного труда». Однако 2 апреля эсерке удалось совершить побег из Кремля.
Некоторое время Спиридонова скрывалась в Москве под фамилией Онуфриева. 20 октября 1920 года она была задержана органами ВЧК и помещена на излечение в лазарет ВЧК, а 5 июня 1921 года согласно заключению врачей переведена в Пречистенскую психиатрическую больницу. В сентябре того же года Спиридонову освобождают из больницы под поручительство нескольких левых эсеров, лояльных большевикам. По мнению ряда исследователей, принудительное водворение Марии Спиридоновой в «санатории» и психиатрические больницы ЧК (куда её помещали под именем Марии Онуфриевой) стало одним из первых опытов применения советской карательной медицины.
Да, «белая чайка», как её назвал когда-то Волошин, была опасным врагом советской власти. Но власть эта не осмеливалась расправиться с видной революционеркой, которая жестоко пострадала от царизма. После июльского разгрома левых эсеров к «новомученице Марии» приходили письма поддержки от крестьян: «Максим В… приехал, сказывал, что ты всё в тюрьме. А ты, родименькая, духом не падай, знамя наше крестьянское держи крепче, замаливай за нас, голубушка, сиди твёрдо». Борис Пастернак в прологе к поэме «Девятьсот пятый год» достаточно ясно прославляет Спиридонову — хотя и не называя её напрямую (всё-таки это был уже 1925 год):
В первой половине 1918 года Борис Леонидович входил в число постоянных сотрудников центрального органа левых эсеров газеты «Знамя труда» и, видимо, ещё долгое время хранил память об этом. Даже позднее, в 1928 году, образ Спиридоновой возникает на страницах романа в стихах «Спекторский»:
За видную революционерку не однажды хлопотали известные деятели рабочего движения, в том числе сама Клара Цеткин, предлагая выпустить Марию Александровну за границу, однако большевики в ужасе отмахивались. Троцкий заявил, что Спиридонова «представляет опасность для советской власти».
В мае 1923 года Спиридонову отправили в ссылку. Сначала она жила и работала в Самарканде, даже написала книгу о Нерчинской каторге, которая вышла отдельным изданием. Затем, после многочисленных доносов, знаменитую террористку обвиняют в связях с заграничными левоэсеровскими группировками и ссылают в Уфу. Наконец, здесь в 1937 году следует уже последний арест — по обвинению в руководстве несуществующей «Всесоюзной контрреволюционной организацией», разработке терактов против руководителей государства, включая Сталина и Ворошилова. По «делу» проходил 31 человек. Многие не выдерживали пыток и давали ложные показания — в том числе муж Спиридоновой Илья Майоров.
В ноябре 1937 года Мария Александровна после девятимесячного заключения пишет в 4-й отдел Главного управления госбезопасности (ГУГБ) подробное письмо (более 100 машинописных страниц), часть которого посвящена методам обращения сталинской охранки с подследственными. «Проявите гуманность и убейте сразу» — вот главная мысль послания. В нем подчёркивается характерная особенность методов следствия «нового времени»: они более подлые, циничные, мерзкие и жестокие, нежели методы царской охранки и советских правоохранительных органов начала 20-х годов. Зная болезненное отношение Спиридоновой к личному обыску, сталинские надзиратели обыскивали ее по десять раз в день: «Чтобы избавиться от щупанья, которое практиковалось одной надзирательницей и приводило меня в бешенство, я орала во все горло, вырывалась и сопротивлялась, а надзиратель зажимал мне потной рукой рот, другой рукой притискивал к надзирательнице, которая щупала меня и мои трусы…»
Следователь Михайлов, который вёл дело, поносил старую каторжанку — «гадина, говнюха, мерзавка, сволочь». Вряд ли Мария Александровна знала уже существовавшую к тому времени песню об умирающей воровке. Но как её описание напоминает строку: «Рассказывай, сука, с кем в деле была!» Впрочем, мы уже говорили, что наверняка сцена допроса существовала и в раннем романсе о Спиридоновой, отражавшем пытки, которым подвергали юную девушку-террористку есаул Аврамов и помощник пристава Жданов. Обращение сталинских «следаков» заставило её вспомнить прошлое: «Меня стало кошмарить по ночам, как кошмарило первый десяток лет после 1906 года, и я иногда в следственной камере, усталая от вечного бессония… задрёмывая и очнувшись путала, что передо мной Авраамов или Михайлов, казачий ли офицер или теперешний следователь, и горечь от одной возможности такой ошибки была для меня куда больнее ожога нагайкой».
И ещё одна странная перекличка — на этот раз со строкой «Пытал меня мусор, крыса позорная…» В письме Спиридоновой встречаем похожую характеристику: «Михайлов маленький человек. Это хорёк. Смесь унтера Пришибеева с Хлестаковым». Маленький хорёк — чем же не крыса?
Любопытно и другое. Коллега Михайлова, следователь Хахаев, «оскорблял» Спиридонову иначе: всю ночь орал на неё — «великомученица, монашка, богородица, памятник себе зарабатываете». Вторил ему и следователь Карпович: «Бандитка, бандитка, богородица, великомученица». Видимо, для них Богородица и Великомученица были чем-то вроде самой грязной матерщины…
А Мария Спиридонова, начав свой путь мученицей, так его и завершила. Приговорённая к 25 годам тюремного заключения, она отбывала срок в Орловской тюрьме, и 11 сентября 1941 года, когда фашистские войска приближались к Орлу, «эсеровская Богородица», её муж и ещё 155 узников были расстреляны в Медведевском лесу недалеко от города.
Песня же о ней ушла в лагеря. Сначала — в Соловки, куда отправляли левых эсеров с 1923 года, а затем расплескалась по всему ГУЛАГу и за его пределами. Да, боевая эсерка превратилась в уголовницу, воровку. Да, блатной мир заставил героиню перейти на арго:
Да, героиня принимает муки не за отмщение народных страданий, а за своего любовника-вора. И всё же песня — сохранилась. Сохранилась и история, связанная с нею.
Разве этого мало?
Как питерский судебный процесс превратился в душераздирающую городскую балладу
«Митрофановское кладбище»
Митрофановское кладбище
Фольклорный страх, переходящий в ужас
Городской романс о жуткой расправе на Митрофановском кладбище (правильно — Митрофаньевском, совсем уж точно — Митрофаниевском) давно уже стал классикой жанра. История о коварном отце, погубившем невинную дочь, неизменно входит в «обойму» популярных фольклорных песен наряду с классическими образцами народного музыкального творчества. Так, Сергей Гандлевский в очерке «Трепанация черепа» отмечал: «В фольклорной экспедиции от филфака меня озадачивало, как деревенские бабки могут с одинаковым чувством петь стародавнюю величальную и без перехода: “Как на кладбище Митрофаньевском отец дочку зарезал свою”».
Между тем ничего удивительного здесь нет. Культуролог Михаил Лурье отмечал, что для отечественных фольклористов второй половины XX века «было характерно восприятие поздних по времени появления песен как своего рода фольклорного мусора крестьянской традиции, испорченной влиянием мещанской культуры (то есть примерно так же, как на рубеже XIX–XX вв. воспринимали частушки)… во многих собирательских группах, особенно этномузыковедческих, было принято при записи в деревнях народных песен попросту не фиксировать этот материал, получивший ласково-пренебрежительное обозначение “поздняк”, — отчасти в целях экономии экспедиционного времени и звукозаписывающих носителей, отчасти из презрительного к нему отношения».
Прекрасно это показано у Василия Шукшина в рассказе «В воскресенье мать-старушка…»:
«С интересом разглядывали городских, которые разложили на крыльце какие-то кружочки, навострились с блокнотами — приготовились слушать Ганю.
— Сперва жалобные или тюремные? — спросил Ганя.
— Любые… пойте, какие хотите.
— Как на кладбище Митрофановском отец дочку родную убил, — запел Ганя. И славно так запел, с душой.
— Это мы знаем, слышали, — остановили его.
Ганя растерялся.
— А чего же тогда?
Тут эти трое негромко заспорили: один говорил, что надо писать всё, двое ему возражали: зачем?»
Вот и авторы учебника «Русский фольклор» Т. Зуева и Б. Кирдан пишут о жестоком романсе с явным пренебрежением: «Сюжет делается мелодраматичным, лиризм заменяется дешевой пасторальностью, допускается убогий натурализм (“Как на кладбище Митрофановском отец дочку зарезал свою…”)».
Между тем «убогий натурализм и дешёвая пасторальность» всегда присутствовали не только в мещанском, но и в классическом русском фольклоре (впрочем, я считаю и городской мещанский романс классикой отечественного народного творчества). Например, в сборнике Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) приводится несколько песенных сюжетов времён Ивана Грозного:
Дети выспрашивают у отца — куда он девал их матушку. А он её убил беспричинно, а тело закопал («Как князь Роман жену терял»).
Мать даёт дочери ядовитое зелье. Но сестрица делится им с любимым братцем. Оба умирают, а на их могилах вырастают кусты, которые сплетаются ветвями («Василий и Софья»).
Девушка посмеялась над молодым человеком, он пригласил её на пир, нежно поцеловал, а затем забил насмерть. После чего покончил с собой («Дмитрий и Домна»).
Братья нападают на семью, убивают мужа и сына, насилуют жену — но позднее младший брат узнаёт в ней свою родную сестру; впрочем, есть варианты только с убийством мужа и узнаванием сестры — без инцеста («Братья-разбойники и сестра»).
Сюда же можно добавить знаменитую песню «Ванька-ключник» — о том, как жена князя Волконского изменила мужу с ключником. Разъярённый муж повесил ключника на воротах, а жена покончила с собой: «Ванька-ключник на ветру качается, молода жена на ноже кончается, а князь Волконский стоит улыбается» (между тем авторы учебника «Русский фольклор» почему-то категорично заявляют, что в отечественном народном творчестве отсутствовали «мотивы ревности»).
Итак, зверство, садизм, кровавая расправа над близким или любимым человеком — тема в классической русской фольклорной традиции не новая и достаточно популярная. Но, конечно же, особое звучание она приобрела с появлением жанра жестокого романса.
Жестокий романс приобретает популярность в мещанской и крестьянской среде со второй половины XIX века. В произведениях этого жанра преобладают мелодраматические сюжеты: «Постоянные мотивы несчастной любви, измены, тяжело переживаемой обманутой девушкой (“Что же ты топчешь ногами безвинную душу мою?”), загубленной молодой жизни, самоубийства (“Девица, девица, кто тебя бросил в шумные волны реки?”), похорон (“Наденьте вы жёлтое платье, положьте меня вы во гроб”). В песнях семейно-бытового содержания домашние конфликты оказываются непримиримыми, подчёркнуто острыми (“сёстры-соперницы”, мотивы клеветы, преследования, кровосмесительной связи), завершаются кровавыми развязками (муж убивает жену, жена сжигает или топит мужа; популярная песня: “Как на кладбище Митрофаньевском отец дочку зарезал свою”). Поэтический язык Ж. Р. окрашен повыш. эмоциональностью, манерностью, изобилует стереотипами, заимствованиями из сентиментальной, душещипательной поэзии (“оковы любви”, “огонь, пылающий в крови”; стихи типа: “Шутя тобою наслаждался, шутя и жизнь твою сгубил”)» — так пишет о жестоком романсе «Википедия».
В последнее время отношение многих фольклористов к этому жанру изменилось. Как замечает Михаил Лурье, такая перемена связана не в последнюю очередь с «обаянием поэтики этих песен (на уровне лексики, поэтики, мелодики, интонации и т. д.), рассказывающих о серьёзных чувствах, событиях и отношениях особенным наивным языком, не похожим ни на язык классического фольклора, ни на язык профессиональной поэзии и музыки. Эти песни приятно петь хором в компании, на них хорошо сочиняются смешные пародии-стилизации, с каждой из них интересно подробно “повозиться” как с объектом изучения».
Впрочем, анализ стилевых особенностей жестокого романса не является главной задачей нашего очерка. Нас интересует мотив родственного убийства, который, как мы уже упоминали, уходит корнями в древнерусскую балладу. И в первую очередь — тема безвинно пострадавших сирот. Ведь именно об этом повествует песня о Митрофановском кладбище. Действительно, доле девочки-сиротки, девушки-сиротинушки посвящено немало русских сказок, баллад, песен. И не только русских, те же мотивы традиционны для фольклора многих народов мира. Мачеха в этих произведениях неизменно рассматривается как чужая, злобная, коварная женщина, мучительница. Если она не сама изводит падчерицу, то подталкивает к этому родного отца девушки. Мачеха осуждается всегда, «доброй мачехи» в фольклоре не существует. А вот к отцу отношение двойственное: иногда он показывается как безвольный, слабый человек, которого использует для чёрного дела его новая жена, но часто, особенно в народных балладах, папаша прямо осуждается и обвиняется в жестоком обращении с дочерью: даже если он поначалу и колеблется, всё равно в конце концов творит злодеяние. То есть мы видим, что в «Митрофановском кладбище» присутствуют отчётливые аллюзии на славянское народное песенное творчество. В некоторых вариантах есть и прямые параллели. Хотя, как мы убедимся далее, сюжет песни заимствован вовсе не из фольклора.
Кладбище: биография и география
Песня про Митрофановское кладбище в 20—50-е годы прошлого века имела огромный успех и исполнялась по всему СССР. Причём любопытно: хотя речь идёт о городском романсе, мемуарная и художественная литература связывают «Митрофановское кладбище» большей частью с сельскими, деревенскими исполнителями. Вот, к примеру, воспоминания замечательного советского актёра Евгения Матвеева о детстве (1931 год, когда Жене исполнилось девять лет):
«В степном селе не было ни театра, ни радио, ни кино… невыносимо хотелось петь жалобные песни. А песен я знал много и почему-то все с грустинкой… Работать я начал с девяти мальчишеских лет… На заработанные деньги купил себе балалайку. Собирались возле нашего двора женщины, усаживались на бревно у плетня и просили: “Женько, спивай!”
Как же было им не петь? Сидели они торжественно, “як у церкви”, в белых хусточках, с только что помытыми босыми ногами.
Я пел:
Воспоминания У. Поляковой «Мамины записки» относятся к тому же периоду — времени первой пятилетки: «Помню, как домработница новых жильцов — семьи Черняк, которая сменила Прожогиных — деревенская девушка Наташа пела на кухне страшную песню: “Как на кладбище Митрофановском отец дочку зарезал свою”. Я боялась этой песни, но ходила слушать». Примерно о том же пишет Р. Устинова из Шенкурска, но её рассказ относится уже к первым годам после Великой Отечественной войны: «Мне не было ещё и шести лет, как я начала работать в колхозе. Запрягут лошадь, посадят верхом, и целый день, в дождь и ветер, боронишь со старушками колхозное поле. Вот одна из них, высокая, сутуловатая, своим глуховатым голосом заводила, например, “Как на кладбище Митрофановском отец дочку зарезал свою…”. Жутковато это слышать шестилетнему ребёнку, но интересно, ведь каждая песня — как занимательный рассказ…» Мемуары Т. Ивановой «Мой Новосибирск», где автор, городская девочка, вспоминает, как её взяли в цирковое турне: «И я поехала на гастроли по районам области. Меня учили акробатике, верховой езде, вольтижировке, жонглированию, упражнениям на трапециях. А на представлениях я выступала с жалостливыми песнями: “Как на кладбище Митрофановском отец дочку зарезал свою”…»
Так город нёс в посёлки, деревни и хутора свою субкультуру, а там её бережно сохраняли. Эту особенность отмечают многие филологи. Тот же Михаил Лурье подчёркивает, обращаясь к городским фольклорным песням XIX–XX веков: «Следует сразу оговориться: городским — по происхождению, но преимущественно сельским по среде бытования, особенно с начала прошедшего столетия». Но, разумеется, с конца 20-х и как минимум до начала 60-х годов XX века многие городские жестокие романсы так же активно исполняли и в городах. Лурье сам записывает беседы с городскими жителями послевоенной поры, которые вспоминали, что «Митрофановское кладбище» и «В одном городе близ Саратова» входили в репертуар безногих инвалидов и попрошаек на улицах и в электричках.
Вот, например, рассказ 69-летней Р. Тишковой из города Бологое Тверской области: «У нас на рынке как-то калеки сидели безногие и пели эти песни. Мы любили пошляться по рынкам… там шапка была брошена, на катках на таких, на колесиках, катился инвалид. И пел эти песни… “Близ Саратова” он пел, ещё какие-то народные вот такие песни. И в шапку ему кидали — кто денежку какую, кто кусочек сахара, кто ещё что-то подавал… И вот этим зарабатывали».
Или отрывок беседы с 65-летней Г. Филатовой из Мурома Владимирской области:
«— Раньше по вагонам ходили, всё такие песни пели…
— Калеки?
— И калеки, и под калек кто-то.
— А что они пели?
— Ну, и о войне, и вот такие жалостливые… чтобы, так сказать, слезу выбить и подаяние получить».
Мой покойный тесть Алексей Васильевич Макаров любил исполнять «митрофановскую трагедию» под баян ещё в 70-е годы. Сегодня можно услышать этот «жутик» и со сцены: «ретро-романсы» снова входят в моду. Так что не стоит недооценивать ареал распространения знаменитых баллад.
Хотя фольклорист прав: сельские жители особо охотно подхватывали именно песни подобного рода — в отличие, скажем, от сиюминутных баллад-откликов на изнасилование комсомолки в Чубаровском переулке Питера. Лурье объясняет популярность в деревне песен о жестоком убийстве сиротки отцом: «…во-первых, гораздо более обыденная, бытовая, менее экзотичная по характеру и обстоятельствам происшествия (убийство одним членом семьи другого для жителей села и провинции всё же значительно “ближе к жизни”, чем групповое изнасилование в большом городе); во-вторых, близкая по содержанию довольно обширному корпусу старых баллад и так называемых семейно-бытовых песен с мотивом убийства родственника, в частности кровного, в частности — ребёнка; в-третьих, содержащая один из основных для жестоких романсов мотив убийства на почве любви; в-четвёртых, неизбежно ассоциирующаяся с распространенным сказочным сюжетом “Мачеха и падчерица”, в котором новая жена пытается извести детей мужа от первого брака — и, как результат, история гораздо более естественная, в некотором смысле “архетипичная” для сознания носителей крестьянской фольклорной традиции, среди которых и стала столь популярной эта песня».
Нынче этот жанр стал постепенно угасать. В результате сведения о произведениях «жестокого фольклора» становятся всё более путаными и туманными. Например, Наталья Якимова в своей статье «Родственники современного шансона» пишет: «Часто тексты жестоких романсов — наивные нескладушки с множеством возвышенных эпитетов. Постоянно встречаются словесные бытовые обороты, причем их “уталкивают” в строки так, как удобно самим исполнителям, не особенно оглядываясь на правильность и красоту слога: “отомстить её она решилася”. Тем не менее, в них нетрудно отыскать практически всю уголовную хронику того времени — как говорят сейчас, “убийства на бытовой почве”. В наличии весь набор: ревность, пьянство мужей и измены жён, желание жить лучше, избавившись от “мешающих” родных, любовниц и даже собственных детей. Пример последнего — известная песня “На кладбище, на Митрофаньевском”. Описываются московские события, очень вероятно, что происходившие на самом деле, но этот романс сразу же полюбили в провинции. Герой — вдовец с маленькой дочкой, который женился вторично. Женщина приказывает ему избавиться от ребенка… Отец зовет дочь посетить могилу матери и там закалывает её ножом. Вот такой вариант истории о злой мачехе…»
В принципе, общая характеристика жанра не вызывает особых возражений. Но что точно не лезет ни в какие ворота, так это «московская» география песни. Разумеется, ни о какой Москве не может быть и речи. Любой житель Питера прекрасно знает, что Митрофаниевское кладбище находилось именно в Северной Пальмире. Возникновение его связано с холерной эпидемией, которая вспыхнула в 1831 году и жестоко прошлась по столице Российской империи. Хоронить на общих кладбищах умерших от холеры опасались. И тогда было принято решение выделить для этой цели отдельный участок на пустыре между городской свалкой («Горячим полем») и деревней Тентелевкой. Сначала кладбище так и назвали — Тентелевским, но со строительством тут в 1835 году церкви во имя чудотворца Митрофания, епископа Воронежского оно было переименовано в Митрофаниевское, хотя в просторечии так и оставалось «Холерным».
Митрофаниевское кладбище стало одним из крупнейших в городе, здесь погребено почти 200 000 покойников. Не в последнюю очередь постарались большевики, которые, по ряду источников, тайно закапывали здесь представителей духовенства, расстрелянных у Бадаевских складов. Хоронили на погосте и ленинградцев, умерших в блокадные годы, хотя официально кладбище было закрыто в 1927 году. Храмы взорвали, кресты снесли, надгробные плиты утилизировали или пустили в хозоборот (по воспоминаниям, в тротуаре Невского проспекта в конце 1920-х годов можно было увидеть мраморную плиту с выбитой надписью: «Дорогой Сашеньке от любящих родителей»).
Митрофаниевское кладбище не считалось богатым и престижным. В основном здесь хоронили людей низкого и среднего достатка. К середине XIX века это было, как писал Всеволод Крестовский в романе «Петербургские трущобы», «по преимуществу кладбище демократическое: тут хоронится петербургский пролетарий, тут же указано место и преступнику, и тюремному арестанту». Впрочем, относительная дешевизна кладбища сделала его местом погребения многих петербургских актёров и литераторов среднего достатка. Рядом с церковью располагались могилы людей известных: поэта и переводчика Льва Мея, известной актрисы Екатерины Семёновой, чьим талантом восторгался Пушкин, замечательной польской пианистки Марии Шимановской… В истории литературы Митрофаниевское кладбище знаменито тем, что именно здесь был предан земле отставной титулярный советник Семён Захарович Мармеладов — отец Сонечки Мармеладовой, героини романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание».
В 50-х годах прошлого века на месте кладбища шумела барахолка, потом её сменили склады, гаражи и свалки. Ныне кладбище не существует, но память о нём сохраняют Митрофаньевское шоссе, Малая Митрофаньевская улица. В 2009 году на мемориальном участке установили поклонный крест и 14 октября открыли Музей Памяти. А 22 января 2011 года появился мемориал, который увековечил память выдающихся российских учёных и инженеров, среди которых фортификаторы и строители, сапёры и минёры, инженеры-артиллеристы, инженеры Арсенала и Пороховых заводов, топографы и гидрографы, члены военных династий.
Рассказывая о Митрофаниевском кладбище, нельзя обойти вниманием и здешних попрошаек. «Специальность» «митрофаниевских нищих» приносила такие доходы, что сюда тянулись профессиональные побирушники со всей России. Так, в 1899 году полиция задержала на кладбище нищего из Таганрога Григория Павлова, при котором было обнаружено 707 рублей наличными и сберегательная книжка на 900 рублей (сумма по тем временам громадная).
Именно это обстоятельство в своё время заставило меня пойти по ложному следу и предположить, что песня «Как на кладбище Митрофановском» возникла ещё до революции в среде нищих, а затем в 20-е годы XX века обросла уже «советскими» подробностями. На это наталкивали, казалось бы, и некоторые детали. Например, в одном из вариантов есть такие строки о раскаявшемся отце-злодее:
Указание на полицию вроде бы естественным образом отсылает нас к дореволюционному периоду. Но этот отсыл оказывается ложным…
«В одном городе близ Саратова»
Если мы хотим разобраться, где, когда и как появилась душераздирающая баллада об отце-злодее и его невинно убиенной дочери, невозможно обойтись без разговора о другой песне похожего содержания. О ней уже упоминалось вскользь: это — жестокий городской романс «В одном городе близ Саратова». Самая ранняя его запись относится к 1931 году. Этот текст фольклорист А. Астахова включила в так и не изданный сборник городских песен. Его мы и приводим с сохранением орфографии и пунктуации:
Совершенно очевидна тесная связь «Петровской были» и «Митрофановского кладбища» — и по жанровой принадлежности, и по фабуле (расправа отца над ребёнком по наущению мачехи), и даже по мелодии. Обе песни написаны на мотив популярных в 20—30-е годы прошлого века «Кирпичиков» — городского романса на стихи Павла Германа, автором музыки традиционно называют Валентина Кручинина, хотя на самом деле композитор использовал ещё дореволюционную мелодию вальса С. Бейлезона «Две собачки» из цикла оркестровых пьес «Цирковые впечатления».
«Саратовские страдания» пользовались большой популярностью, как и «Митрофановское кладбище», но постепенно кладбищенская история вышла на первый план (хотя в сельской среде песня о сожжении сирот известна до сих пор, одна из последних записей относится к 2009 году). И всё же именно «Митрофановское кладбище» стало настоящей песенной фольклорной классикой. При этом оба романса заимствовали один у другого лексику, куплеты, языковые клише. Об этом свидетельствует беседа с жителями города Петровска Саратовской области Борисом Ермолаевичем Штыровым и Надеждой Александровной Кореневой (2006 год), отрывок из которой приводит Михаил Лурье:
«Б.Е.Ш.: В одном городе близ Саратова, под названием город Покровск, по-моему… Там жила семья небогатая, мать… Ладно, забыл. Ну, там чёй-то “отец дочку зарезал свою”. Вот такие слова. Я не помню. Я обрывки с тех песен знаю… Ну а больше-то я и не знаю.
— А вот как отец в печке сжёг детей, не помните?
Б.Е.Ш.: А это я не помню.
Н.А.К.: Да это всё одна и та же песня. Ее по-всякому переворачивают.
— Всё одна песня?
Н.А.К.: Мм… Её по-всякому… По-разному её пели. Начало всё время одно и то же.
Б.Е.Ш.:
Оттого она и… Он ей говорит, значит: “Давай убьём дочку, нам одним будет жить веселей”. Вот такая вот вещь. Ну, целиком-то не знаю».
Трудно дать однозначный ответ, почему именно «Митрофановское кладбище», а не «В одном городе близ Саратова» оказалось более живучим и популярным. Это — тема отдельного исследования. Но вот об особенностях рождения и общности обеих песен в рамках нашей темы есть смысл поговорить особо.
«Утром в газете — вечером в куплете»
Михаил Лурье, исследуя песню «В одном городе близ Саратова», обращает внимание на то, что этот жестокий романс отличается не только детальным описанием преступления и его последствий (в разных вариантах), указанием на конкретные учреждения («народный суд», «советский нардом», «Петровский исправдом», «Петровская тюрьма», «Петровский централ»). Есть и другая особенность. Обычно стилистика жестокого романса тяготеет к использованию книжных слов и выражений, не свойственных бытовой речи или языку старого крестьянского фольклора. А вот во многих версиях «Петровской были» отчётливо видны черты газетно-публицистической риторики, которые, впрочем, в трактовке самодеятельных сочинителей воспринимаются большей частью карикатурно-пародийно: «вот вам первый факт опишу я вам», «факт ужасный он людям придал», «не закончил кровавый кошмар» и т. д. Там же, где стиль жестокого романса смешивается с репортажной лексикой, текст воспринимается чуть ли не как издевательство, например:
Лурье делает вывод о том, что все эти особенности, а также «чёткая локализация действия в ничем не примечательном с точки зрения фольклорной карты мира городке Петровске, — всё это заставляет предположить, что баллада о сожжении детей — не что иное, как песня-хроника, сочинённая, скорее всего, по тексту заметки в прессе (буквально в соответствии со схемой “утром в газете — вечером в куплете”)». По наблюдениям А. Астаховой, в период нэпа в Ленинграде подобного рода творчеством занимались несколько сочинителей-профессионалов: «Краткие сообщения газетной хроники происшествий в ряде случаев несомненно напоминают преступления и происшествия, о которых повествуют песни. Авторы этих песен сами рассказывают о процессе их создания. Так, один из них говорил, что пишет больше всего по утренней “Красной газете”». О том же пишет и М. Лурье: «В эпоху нэпа и ещё некоторое время это было вполне доходным ремеслом, поскольку песни, подходящие для публичного исполнения, были нарасхват: их пели на рынках и в поездах кормившиеся своим искусством профессиональные уличные исполнители, заинтересованные в пополнении своего репертуара новинками по горячим следам сенсационных преступлений и готовые платить за это. Кроме того, слова песен просто продавались в виде листов с напечатанными текстами. “Петровская быль”, в числе прочего, активно исполнялась в те годы уличными певцами — собственно, публикуемый вариант № 1 получен от одного из них. В 1936 г. Ананьин записал её от “незрячего” 30-летнего мужчины — что также, вполне возможно, не случайно; есть и более поздние свидетельства о присутствии этой песни в репертуаре певцов-инвалидов».
Подчеркнём: речь идёт именно и исключительно о Ленинграде. Возможно, похожий промысел существовал и в других городах, но об этом мне сведений найти не удалось. В то же время у Астаховой приведены и другие питерские песни-хроники — например «Гибель “Буревестника”» и «Чубаровцы».
Впрочем, тут же возникает вопрос: какое отношение к Питеру имеют города Петровск и Покровск (они меняют друг друга в разных версиях) Саратовской губернии? И тут оказывается, что «петровско-покровская быль», скорее всего, родилась как раз вдалеке от этих городов. Так, в материалах фольклорной экспедиции под руководством профессора Б. М. Соколова, проходившей в Петровском в 1923 году, как и в материалах других экспедиций, работавших в Саратовской губернии (в 1926-м — в Вольском уезде, в 1928-м — в Саратовском уезде и других), среди множества романсов и баллад нет ни одной записи этой песни. Не удалось обнаружить сообщений о преступлении, описанном в романсе, ни в петровских, ни в саратовских газетах за 20-е годы. Самый ранний текст, как уже сообщалось, относится к 1931 году и записан в Ленинграде.
То есть вполне возможно, что сведения о расправе отца над сиротами могли появиться именно в какой-либо ленинградской газете. На что настраивают и строки одного из вариантов:
Но нас всё же интересует не столько трагедия в Саратовской губернии, сколько романс о Митрофановском кладбище. Хотя по духу обе кровавые истории близки и даже частями взаимозаменяемы, однако истоки «митрофановской жути» на поверку оказываются более очевидными и ясными. Если следов деяний жестокого отца из-под Саратова исследователям пока обнаружить не удалось, то с «Митрофановским кладбищем» ситуация иная. Этот жестокий романс создан по публикациям ленинградских газет 1925 года — об убийстве чертёжником фабрики Гознака Василием Путятиным в конце октября своей девятилетней дочери Надежды.
Процесс был громким ещё и потому, что убийца оказался бывшим депутатом Государственной думы третьего созыва от фракции социал-демократов. Правда, при советской власти политическую карьеру ему продолжить не удалось. Видимо, оттого он сильно запил. Далее песенная и реальная фабулы несколько отличаются: жена Путятина вовсе не умерла, а ушла от него вскоре после революции, оставив маленькую дочь. Непутёвый отец отдал Надю на воспитание родственникам и женился снова. Его очередная супруга носила «говорящую» фамилию Страхова и полностью ей соответствовала. Она потребовала от чертёжника, чтобы тот избавился от дочери любым путём — хотя девочка вроде бы ей не мешала, поскольку, как уже говорилось, жила отдельно. Но кто же поймёт чёрную женскую душу… Путятин встретился с Надей, угостил конфетами и завёл на безлюдное кладбище. Здесь он перерезал девочке горло заранее прихваченным ножом, бросил трупик в какой-то ящик и завалил железным ломом с неухоженных могил. На следующее утро тело Нади обнаружили кладбищенские сторожа. Тут же обратились к отцу. Девочку отец опознал и рассказал, что Надя действительно вчера с ним гуляла, а затем ушла к дяде. Однако Путятина удалось быстро припереть к стенке. По результатам психиатрической экспертизы он был признан вменяемым, хотя и страдал запущенным алкоголизмом. Позднее «вменяемый алкоголик» был приговорён к значительному сроку лишения свободы.
Итак, слова Астаховой подтверждаются с абсолютной точностью. Правда, возникает резонный вопрос. Если песни «В одном городе близ Саратова» и «Как на кладбище Митрофановском» связаны буквально генетически (возможно даже, оба романса созданы одним автором), если они являются отражением реальных уголовных дел в незамысловатых виршах — почему же в тексте «Митрофановского кладбища», открывающем этот очерк, фактически нет тех характерных черт, на которые указывает Лурье, анализируя «петровский ужастик»? Прежде всего внимания к деталям преступления и его последствий, газетной риторики и т. д.
В том-то и дело, что мы приводим текст канонический, прошедший испытание временем и освобождённый от излишней детализации. Заметьте: даже точное название реального кладбища — Митрофаньевское — во многих вариантах превратилось в Митрофановское. Песня стала народной и фактически освободилась от своих географических, топографических привязок. Митрофановское кладбище — уже не указание на конкретное место в Петербурге, а некое обобщение. В одном из вариантов от него даже образован город Митрофановск…
Это свидетельствует об огромной популярности песни. Всё-таки романс «В одном городе близ Саратова» подобной степени обобщения не достиг. Мы имеем дело с любопытным явлением. Многие песни, наоборот, уходя в народ, обрастают подробностями, деталями, в разных регионах получают свои топонимические «метки». Например, в «Аржаке» речь идёт то о васинских парнях, то о петровских, орловских, ростовских ребятах. В ростовском варианте «Мурки» поётся: «На Большой Садовой, в тёмном переулке, урки собралися на совет». В песне «Идут на Север этапы новые» безликую «каталажку» или «пересылку» заменяют точным адресом: «А завтра утром покину Пресню я…». Сколько различных способов убийства Мурки подробно описывают безвестные авторы! Ну, и так далее. В «Митрофановском кладбище», напротив, излишняя детализация устраняется. Это нередко свойственно популярным фольклорным произведениям, особенно на стихи русских поэтов.
Но варианты «Митрофановского кладбища» с детальной прорисовкой обстоятельств дела и всевозможными продолжениями истории — сохранились! И они чрезвычайно любопытны. Например, на сайте городского фольклора www.ruthenia.ru приведён значительно более полный вариант трагедии, повествующий также о событиях, которые произошли после убийства. Причём присутствует немало стилистических оттенков с элементами усложнённого психологизма (мачеха, обращаясь к новому мужу с просьбой устранить дочь, подчёркивает — «говорить тебе даже совестно», раскаяние отца описывается очень подробно). Явно видны и языковые клише, свойственные официальной, газетной лексике с уклоном в тривиальный пафос и патетику: «мужу задачу дала», «мысль зверская впала в голову», «как мог мысли такие держать», «я кончаю петь, факт действительный»… Характерно и пристальное внимание к прорисовке деталей убийства, от чего в дальнейшем избавился канонический текст.
Вот этот самый вариант (опущены куплеты традиционного зачина):
Другой «репортёрский» вариант был записан А. Морозом в 1995 году от жительницы Каргопольского района Архангельской области — 64-летней Лидии Григорьевны Богдановой:
Мораль сей басни такова…
Что лично меня умиляет в «Митрофановском кладбище», так это какой-то особый, извращённый взгляд сочинителей на произошедшее. Вдумайтесь только:
Строчки звучат издевательски-иронично, однако, судя по всему, неведомый сочинитель был совершенно искренним, употребляя слово «совестно». То есть убить, оказывается, менее постыдно, чем отдать в детский дом! Перед соседями неудобно…
А уж резюме — просто сказочное!
Ну, сейчас пригвоздит злодея-отца к позорному столбу!
Совершенно замечательно! Другими словами, всё эти бабы проклятые… На ту же особенность обращает внимание и писатель Вадим Шефнер в книге «Имя для птицы, или Чаепитие на жёлтой веранде»:
Так начиналась одна из них. Далее выяснялось, что отца на это преступление подговорила мачеха, и вот он повёл дочку на кладбище, якобы для того, чтобы помолиться с нею на могилке её матери, — и там, надеясь, что все останется в тайне, совершил злодеяние. Характерно, что мачеха в песне осуждалась более строго, нежели непосредственный исполнитель её злого умысла».
Нет, ребята, что-то явно не то творится в нашем Отечестве, и уже давно. На этом я кончаю петь песню грустную, и сказать мне больше нечего…
Как юный маньяк сменил канотье на котелок и стал Чарли Чаплином
«Когда я был мальчишкой»
Когда я был мальчишкой
Спор за Гомера-душегуба
Хулиганская песенка о мальчишке, который уничтожил всю свою семью, по количеству вариантов может поспорить со знаменитыми «Гоп со смыком» и «Муркой». Кроме того, юный отморозок поднялся до гомеровских высот! Напомним, что в Древней Греции за титул родины великого слепца бились семь городов. За сомнительную честь считаться родиной пакостного мальчугана борются, к счастью, всего лишь три (всё-таки юный негодяй не «Илиаду» с «Одиссеей» сочинил, а родню угробил).
Первый претендент — Одесса-мама. Она решилась даже вставить своё имя непосредственно в текст жуткого повествования. Уточним, что идея пришла в голову австрийскому певцу русского происхождения Борису Рубашкину, для которого вообще свойственно очень вольное отношение к российскому фольклору. К «каноническому» тексту Борис Семёнович прибавил «одесский» припев, зато убрал упоминание о расправе центрального персонажа над мамой, папой и сестрицей. Песня так и называется — «Одесская»:
В некоторых выступлениях Рубашкин после слов «Иду я по бульвару» вклеивает ремарку — «По Дерибасовской», чтобы уж совсем не оставалось сомнений в одесском происхождении песни. К сему одесситы добавляют шляпу-канотье вкупе с брюками-клёш — и готова картина маслом!
Разумеется, песня Рубашкиным чудовищно переврана. Вообще исчез кульминационный куплет о расправе мальчишки над родными, а заодно и о коварных замыслах в отношении дяди-часового. Вместо часового появляется совершенно нелепая «девушка-мартышка» (в ранних вариантах еще хлеще — «дедушка Мартышка»), которую непонятно почему забивают кирпичом. Собственно, у Рубашкина подобные глупости встречаются на каждом шагу. Но нам важно отметить, что за Одессу он стоит горой.
У Самары — свои козыри. Здешние краеведы утверждают, что песня действительно родилась до революции, но именно в Самаре-городке. Тут хулиганы в начале XX века якобы исполняли куплеты:
«Горчишниками» в Самаре назывались группы организованной шпаны, в арсенале которой, помимо ножей и гирек на проволоке, были пакеты с «волжской горчицей» — молотым красным перцем. Существование «горчишников» подтверждают газетная криминальная хроника и полицейские отчёты.
Питер тоже предъявляет аргументы. Мол, упоминание финского ножа ясно указывает, что речь идёт именно о Северной Пальмире. Песня ранняя, дореволюционная (не зря упоминается гимназистка), а где же в то время были распространены финские ножи, как не в Финляндии и прилегающих к ней регионах? А брюки-клёш — они на Балтике в большой моде.
Короче, как гласит поговорка — «У каждого Павла своя правда». Попробуем разобраться, чья же правда правдивее.
«Погиб я, мальчишка, погиб навсегда…»
Прежде всего, согласимся, что песня «Когда я был мальчишкой» появилась до революции, о чём свидетельствует хотя бы упоминание во всех вариантах «сестрёнки-гимназистки». Но, оказывается, у неё существует первооснова. Упоминание о песенной расправе мальчишки над близкими мы находим в сборнике очерков Александра Куприна «Киевские типы» (1895–1897) — точнее, в очерке «Вор»:
«У воров есть и свои собственные песни, навеянные тюремными музами. Песни эти говорят большею частью о суде и о горькой участи “мальчишки”, отправляющегося на каторгу…
Другая песня, с очень трогательным мотивом, похожим на похоронный марш, чрезвычайно популярна. Она начинается так:
И припев, печальный, почти рыдающий припев:
Однако мальчишка вовсе не заслуживает этого сожаления, потому что дальше очень подробно перечисляются его прежние подвиги:
и опять “Погиб я, мальчишка…” и так далее до бесконечности, куплетов что-то около сорока».
В приведённом Куприным отрывке упоминается убийство отца и матери, но нет ни слова о сестрёнке. Впрочем, эта каторжанская песня была распространена по всей России, поэтому текст её восстановить несложно. Например, вот расшифровка исполнения песни Е. Г. Гиляровым в 1912 году:
В сборнике «Русский шансон», составленном И. Банниковым, добавлены ещё два куплета:
Куплет с «бубновым тузом», а также огромную популярность этой каторжанской песни в России подтверждает и дореволюционный ставропольский фольклорист Михаил Карпинский. В своём исследовании «Русский былевой эпос на Тереке» (1896) он отмечает:
«Ввиду пренебрежения молодёжи к старинным песням, мне думается, что те остатки былевого эпоса, которые сохранились ещё у гребенских казаков до последнего времени, через два-три десятка лет и совершенно исчезнут, так как, с проведением железнодорожных путей, в Терскую область проникают всё больше и больше песни… арестантские, нравящиеся молодежи своим напевом, но с таким содержанием, от которого коробит и не особенно вдумчивого человека. Во многих, например, станицах Терской области, находящихся вблизи линии Владикавказской железной дороги, распевается песня:
где встречаются такие стихи:
с упоминанием в дальнейшем изложении о “бубновом тузе на спине” и прочих атрибутах арестантской жизни.
Можно думать, что скоро подобные песни раздадутся по среднему и нижнему течению Терека и совершенно вытеснят собой и эти остатки русского былевого эпоса».
Кстати, у песни о «погибшем мальчишке» есть автор! Во всяком случае, если верить известному писателю Алексею Ивановичу Свирскому (до крещения — Довид Вигдорович Шимон). Свирский родился в семье рабочего табачной фабрики. Когда мальчику было 5 лет, родители развелись, и он уехал из Петербурга в Житомир. Здесь он до 12 лет жил вместе с матерью, а после её смерти пристал к беспризорникам и 15 лет бродяжничал по всей Российской империи, добирался даже до Персии и Турции. Его спутниками были «бродяги, промысловые нищие, воры, мелкие авантюристы, проститутки, босяки всякого рода и вида». Свирский не раз попадал в тюрьмы (объявляя себя беспаспортным, «не помнящим родства»), ночлежные дома и притоны.
Литературную деятельность писатель начал в 1892 году на страницах газеты «Ростовские-на-Дону известия». Затем редактор газеты Н. Розенштейн предложил полуграмотному автору регулярно публиковать очерки из жизни босяков и городского дна. Сначала увидели свет «Ростовские трущобы» (1893), а следом — «В стенах тюрьмы. Очерки арестантской жизни» (1894). То есть Свирский писал о тюремной жизни не понаслышке. И вот как раз в его тюремных очерках мы находим сведения об авторе песни «Погиб я, мальчишка» и отрывок из самой песни:
«Муравьёв, или Сенька Щербатый, — родом одессит и воспитание, в буквальном смысле этого слова, получил в одесской тюрьме. Будучи одиннадцатилетним мальчиком, он совершил кражу, за что был приговорён к четырёхмесячному заключению и высидел срок наказания в одесском отделении для малолетних преступников… Здесь при помощи вольнонаёмного учителя он выучился грамоте, и здесь же он брал у товарищей-молокососов первые уроки “маровихерничества” (карманного воровства). По выходе на свободу Сенька, вместо того чтобы вернуться к родителям, стал посещать одесские “пчельники”[19], где благодаря своей чистой “работе” (воровству) приобрёл себе в тюремном мире громкое имя. Но надо отдать справедливость арестантам: они почитали и до сих пор почитают Щербатого не столько за его искусство в деле воровства (это один из первых карманников на юге), сколько за его песни. И нет ни одной тюрьмы в России, где бы арестанты не распевали муравьёвских песен. Для примера и приведу целиком одну из них:
Конечно, в приведённом отрывке нет упоминаний о кровавом преступлении «мальчишки», да и вообще это слово не звучит. Но весь зачин совпадает с песней «Погиб я, мальчишка». Возможно, Свирский не рискнул воспроизвести «кощунственные» строки или же не знал их, а привёл один из вариантов — смягчённый. Но в любом случае — это ещё одна ниточка, которая связывает залихватскую песенку «Когда я был мальчишкой» с Одессой.
Кстати, следует обратить особое внимание на слово «мальчишка». Каторжники, уголовники дореволюционной России «мальчишками», «мальчонками», «мальчиками» называли всякого удалого преступника, сорви-голову, в том числе и взрослого, и даже старого. Это отразилось в низовых песнях. Вот, например, знаменитый «Чубчик»:
Особую известность «Чубчик» приобрёл в 30-е годы благодаря исполнению певцов-эмигрантов Петра Лещенко и Юрия Морфесси. К сожалению, пока не удалось найти примеров более раннего исполнения «Чубчика», равно как и упоминаний об этой песне в художественной и мемуарной литературе. На основании этого некоторые исследователи высказывают предположение, что «Чубчик» мог быть всего лишь умелой стилизацией под уголовно-каторжанский фольклор. Думается, это не так. Во всяком случае, один из куплетов явно перекликается со строками известной дореволюционной песни «Зачем я встретился с тобою»:
Кроме того, Лещенко в 1936–1937 годах пел не полный, а усечённый вариант «Чубчика», причём нарушая рифму. То есть искажал более ранний, классический текст, подстраивая его под себя. О том, что песня дореволюционная, говорит и такая деталь, как скованные цепями руки и ноги: после Февральской революции 1917 года кандалы были отменены.
Но дело не только в этом. Песня рисует яркие приметы лихого озорника конца XIX — начала XX века (как их описывают исследователи и современники) — сдвинутый на затылок картуз вкупе с «чубчиком кучерявым»: «Картуз надет небрежно, лихо, далеко назад. Он не захватывает густой, спускающийся низко на лоб, клок волос — чёлку» (К. Головкин); «Заломленная фуражка-московка… Внимательнейшее отношение к внешности — чёлочка в виде свиного хвостика спадает на лоб, при себе всегда расчёска и зеркальце» (Л. Лурье). Если сюда ещё добавить лёгкость, с какой «бедный мальчонка» орудует ножом, не задумываясь, всаживая его в бок товарищу, мы получаем законченный портрет хулигана последних десятилетий империи.
В общем, мы установили, что «песня про мальчонку» пользовалась огромной популярностью в дореволюционной России. Даже в эмиграции Иван Бунин, рассуждая о творчестве Сергея Есенина, приводит куплет о расправе над семьёй:
«За что русская эмиграция всё ему простила? За то, видите ли, что он разудалая русская головушка, за то, что он то и дело притворно рыдал, оплакивал свою горькую судьбинушку, хотя последнее уж куда не ново, ибо какой “мальчонка”, отправляемый из одесского порта на Сахалин, тоже не оплакивал себя с величайшим самовосхищением?
А вот тут Иван Александрович неправ. И неправота его основательна. Потому что, если уж говорить о песне про жестокого мальчонку, следует заметить, что фабула эта типична вовсе не только для уголовных песен, но прежде всего — для классического русского фольклора. На этом хотелось бы остановиться особо.
«По край синего моря Веряжского»
Итак, исходя из каторжанского фольклора, мы можем утверждать, что песня «Когда я был мальчишкой» является хулиганской пародией на более раннюю одесскую «Погиб я, мальчишка», издевательством над «жалистливым» каторжанским фольклором. Но ряд мотивов и сюжетных линий в эту пародию перешёл (опять-таки через песню «Погиб я, мальчишка») из русского народного песенного творчества.
Обратим внимание на важный момент: согласно Бунину, выходит, что на самом деле мальчонка не утопил сестру, а… изнасиловал! И, видимо, именно этот вариант — самый ранний. Позднее «ради приличия» самодеятельные исполнители несколько перекроили балладу. Но «хвосты», однако, остались. Вспомним текст в исполнении Гилярова:
Так ведь сестрица-то утоплена! Можно, правда, предположить, что это призрак её является и укоряет брата. Но возникает резонный вопрос: почему именно сестра? Не мать, не отец, не все убиенные вместе? Откуда такая избирательность? Объяснение одно: эта строка смотрится волне органично в тексте, где говорится об инцесте. Но она выламывается из логики повествования, когда изнасилование заменяется утоплением.
Читатель может возразить: так ли это важно? Убил, изнасиловал — всё равно преступник. Это так. Но мотив изнасилования родной сестры для нас важен потому, что прямо отсылает нас к русскому песенному фольклору, где тема надругательства брата над родной сестрой, кровосмешения представлена довольно ярко. В народной традиции такой инцест является популярным мотивом фольклорных произведений: баллад, обрядовых песен, апокрифических рассказов. Так, тема инцеста брата и сестры характерна для купальских песен; в них рассказывается о происхождении сине-жёлтого цветка (Иван-да-Марья), в который после кровосмешения превратились брат и сестра. Превращение в растение предстаёт как единственно возможная форма наказания: брата с сестрой не принимают в монастырь, их не трогают в лесу дикие звери, они не могут утонуть… Нравственное неприятие и осуждение инцеста передается через состояние природы: там, куда идут брат с сестрой, пересыхают реки, высыхают леса, от них бегут звери…
Есть предположения, что во время игрищ на Ивана Купалу допускалась полная свобода сексуальных связей, «свальный грех». Прямых данных об этом нет, однако в похожих ситуациях праздничного разгула кровосмешение, судя по всему, имело место. Так, «Повесть временных лет» (начало XII века) отмечает, что из языческих славянских племён лишь поляне имели «стыденье» к снохам и сестрам. Во время «братчины» в Вятской губернии совокуплялись сноха с деверем, свёкром, а также женатые братья и сёстры — грехом это не считалось.
Можно вспомнить русскую былину о Михаиле Козарине, где Михаил освобождает от татар русскую девушку-полоняночку и, не зная, что это его сестра, едва избегает греха. Известны во множестве вариантов восточнославянские баллады «Брат женился на сестре», «Братья-разбойники и сестра» и другие, в которых грех уже не предотвращается, а совершается. Так, в балладе «Охотник и сестра» девушка заблудилась в лесу, собирая ягоды. Её находит охотник и занимается с нею любовью:
Поняв, что перед ним — родная сестра, охотник убивает себя.
Но особенно близка сюжетно к песне «Погиб я, мальчишка» баллада о сестре и братьях-разбойниках. Вот отрывок одной из фольклорных записей:
После этого оказывается, что разбойники надругались над родной сестрой. Следует узнавание, ужас и раскаяние:
Далее разбойнички едут к родной матери вместе с сестрой и на коленях молят о прощении.
То есть речь идёт об убийстве родных (хотя и не отца с матерью), а также об изнасиловании сестры. Другими словами, тема для русского фольклора ничуть не новая. «Погиб я, мальчишка» — лишь одна из её вариаций, которая затем превратилась в цинично-залихватскую одесскую «Когда я был мальчишкой».
«Когда я был горчишник»
Одесскую? Но позвольте! А как же быть с Самарой? Версия с «горчишниками» вроде бы выглядит достаточно правдоподобно и заслуживает внимания. Созвучие довольно любопытное. Да и сами «горчишники» существовали в реальности. Может, стоит к ним присмотреться поближе?
Ну что же, присмотримся. Помогут нам краеведы Андрей и Ирина Демидовы — авторы нескольких книг по истории старой Самары. На сайте, посвящённом родному городу, они разместили материалы, в которых подробно рассказано о том, кто же такие «горчишники»:
«Старожилы до сих пор вспоминают об удалых парнях, которые наводили ужас на самарского обывателя начала нашего века. Их звали самарскими горчишниками или просто горчицей. Ими пугали непослушных детей… Ходили горчишники стайками, подчинялись законам горчишного братства. Они были агрессивны, нахальны и повсюду демонстрировали право сильного. Каждая группка имела своего признанного вожака, самого отчаянного и крутого из них. Но горчишниками их звали потому, что в критических ситуациях, когда противник наседал или в дело вступали полицейские, кто-то кричал: “Атас!” и высыпал в лицо неприятелю пакет с горчичным порошком. Используя замешательство, хулиганствующая ватага мгновенно растворялась в самарских проходных дворах».
Как поясняют Демидовы, эти ребята были люмпенами. Их отцы приходили в Самару из деревень на заработки и оседали в городе. Дети же оказывались без необходимых трудовых навыков и образования — чуждые как деревне, так и городу. Словно в поговорке — «Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан». Таких мальчишек использовали только «на подхвате», на грязных работах, постоянно обманывали, обсчитывали, унижали хозяева — фабриканты, купцы, трактирщики. Поэтому в конце концов они занялись простым делом: выращивали на огородах красный перец, мололи его и продавали на базарах под названием «волжской горчицы». Вообще-то поначалу «горчишниками» в Самаре называли любых торговцев красным перцем. Но поскольку все они вечно жульничали, подмешивали в толчёный перец тёртые отруби, шелуху и пыль, «горчишниками» стали кликать всех мелких преступников — мошенников, воришек, хулиганов.
Озверевшая от социальной несправедливости малолетняя голытьба естественным образом нашла отдушину в крайних формах хулиганства. «Горчишники» устраивали дикие пьянки, дрались с рабочими и солдатами, нападали на обывателей респектабельных районов. Газеты пестрели сообщениями типа: «Драка на Панской. Снова горчишники», «Горчишники рыболовными крючками рвали одежду на прогуливающихся горожанках в Струковском саду». «Самарская газета» 25 июля 1905 года писала: «В пивной Кожевникова произошла драка между горчишниками… Началась стрельба. Затем они выскочили на улицу. На них набросилась толпа рабочих и избила хулиганов. Трактиру нанесён ущерб…» Из уст в уста передавались наводившие ужас имена знаменитых «горчишных» хулиганов Кузи, Мамоши.
Краеведы Демидовы красочно описывают и песенный репертуар «горчишников»: «По вечерам раздавалась гармонь и хриплые голоса кричали: “Разлука ты разлука — чужая сторона”, “Великий русский писатель Лев Николаич Толстой, не ел он ни рыбы, ни мяса, ходил по России босой…”. Подбадривая себя дешёвым венским пивом и портвейном, горланя “Шумел камыш…”, горчишники направлялись к центру города в поисках приключений. У них был даже свой гимн. В 30-е годы в самарских дворах на бывшей Николаевской пацаны пели: “Я в детстве был горчишник, носил я брюки клёш, соломенную шляпу, в кармане финский нож”».
Авторы явно не специалисты в области низовой и авторской песни. Иначе они бы не допустили ляпа с песней о Льве Толстом. На самом деле ни до революции, ни даже в 30-е годы прошлого века «горчишники» эту песню исполнять не могли. По той простой причине, что она была создана в период 1947–1951 годов. Её автор, Алексей Охрименко (1923–1993), — выходец из семьи известного переводчика англо-американской прозы Петра Охрименко, фронтовик, прошедший германский и японский фронты Второй мировой, журналист и весельчак. Его перу принадлежит не только творение о великом графе-писателе, к которому «приезжали славяне и негры различных мастей», но и знаменитый «Батальонный разведчик» («Я был батальонный разведчик, а он — писаришка штабной»), «Отелло» («Венецианский мавр Отелло один домишко посещал»), а также «Случай в Ватикане» («В Ватикане прошёл тёплый дождичек, кардинал собрался по грибы») — классика иронической авторской песни. Часто соавторами Охрименко называют журналиста Сергея Кристи и сценариста Владимира Шрейберга. Но, по мнению составителей фундаментальной антологии «Авторская песня» (2003), анализ и сопоставление текстов позволяют сделать вывод о том, что Алексей Охрименко написал перечисленные песни самостоятельно.
Хулиганская мода и Ося Бендер-Задунайский
Впрочем, этот песенный пласт лежит за пределами настоящего исследования. Зато о многом могут рассказать записки самарского художника, мецената и коммерсанта Константина Головкина, который вспоминал о дореволюционных «горчишниках»:
«Одевались они в чёрный костюм, короткий пиджак, брюки или штаны. Лакированные, блестящие на солнце, голенища сапог, иногда жилет, вышитая или ярко цветная на выпуск рубаха, подпоясанная шнуровым поясом непременно с кистями, видными из-под пиджака. На голове картуз, изменявшийся благодаря моде: то с широким блинообразным верхом, то совершенно почти прямой… За голенищем сапога или нож, или гирька на проволоке. Лицо красноватое, заветренное, грубое, совершенно не интеллигентное, кажется зверообразным, с резко выступающими жевательными мышцами, способными во время драки откусить нос или палец у своего противника. Походка качающаяся с боку на бок, как бы у выпившего, задевающая прохожих».
В принципе, перед нами — традиционный наряд хулигана царской России начала XX века. Можно сопоставить его с обликом питерского хулигана той же поры. Вот как его описывает Лев Лурье: «Заломанные фуражки-московки, красные фуфайки, брюки, вправленные в высокие сапоги с перебором, папироски, свисающие с нижней губы, наглый вид… В кармане — финский нож и гиря, заменяющая кастет. Цвет кашне указывает на принадлежность к той или иной банде».
Кашне стало элементом питерской хулиганской моды потому, что традиционным аксессуаром одежды петроградских рабочих-металлистов являлся вязаный шарф серого или коричневого цвета. Затем эта деталь стала опознавательным знаком «чистопородного» хулигана и босяка. Ильф и Петров в романе «Двенадцать стульев», вводя Остапа Бендера в Старгород «со стороны деревни Чмаровки», специально отмечали: «Его могучая шея несколько раз была обёрнута старым шерстяным шарфом».
Позже, уже в «благородном воровском мире», среди блатных хулиганское цветное кашне или вязаный шарф значительно трансформировались. Вот что рассказал мне о моде уголовного мира Ростова 30-х годов XX века старожил города Владимир Ефимович Пилипко, пацанёнком заставший то время: «Элита воровского мира отличалась особым шиком и манерой себя держать. Как в песне Утёсова — “Лопни, но держи фасон!” Прежде всего, это были чрезвычайно аккуратные люди. Всегда в кипенно-белой или модной клетчатой сорочке, длинном — часто тоже клетчатом — пиджаке, в тщательно отглаженных “шкарах” (брюках), заправленных в сверкающие “прохоря” (сапоги) особым образом — с легким напуском. Сами сапоги были обязательно “гармошкой”, или, как тогда выражались, “зашпилены третями” — то есть сжаты как бы в три слоя. Ансамбль завершали кепка-восьмиклинка (сшитая из восьми кусков материи, с маленьким козырьком) и изящный белый шарф». О белом шарфе как обязательной детали «блатного костюма» вспоминал и мой покойный отец, рассказывая о воровском мире послевоенных 40—50-х годов.
Но не будем вдаваться в детали. Главное очевидно: песня «Когда я был мальчишкой» ни при каких обстоятельствах не могла родиться в Самаре, поскольку (ко всем прочим «одесским» аргументам) мода самарских хулиганов резко отличалась от той, которая описана в залихватской истории о жутком убийстве. Да и самарские краеведы относят время исполнения песенки о «горчишнике» к советским 30-м годам, то есть привычный текст местные хулиганы могли переделать.
В любом случае, версия не может строиться на столь шатких аргументах, как случайное созвучие или отдалённая схожесть каких-либо фактов.
Канотье — не ваш фасончик
В связи с особенностями хулиганской моды теперь есть смысл обратиться и к северной столице как третьему претенденту на звание родины кровавого фольклорного триллера о мальчишке-негодяе.
Действительно, местные бузотёры с начала 20-х годов и далее любили щеголять в клешах. Старый петроградец П. П. Бондаренко в беседе с журналистом К. Кудряшовым вспоминал о хулиганах того же времени: «Носила эта братия широченные брюки-клёш, да ещё почище, чем у матросов. С наружной стороны штанины внизу делался разрез, в который вшивался клин из черного бархата. Выглядит “шикарно”». Анджей Иконников-Галицкий уточняет: «Хулиган начала 1920-х годов во всём старался подражать старшему “братку”-бандиту — в той же манере, в какой тот копировал повадки революционного матроса-анархиста. В повести Вениамина Каверина “Конец хазы”, события которой разворачиваются в Петрограде в 1921–1922 годах, дан портрет налётчика и убийцы Сеньки Пятака: он носил “одежду военмора”, а также… “ходил в брюках с таким клёшем, что нога болталась в нем, как язык в колоколе”. Таков же и облик типичного питерского хулигана… непременная матросская блуза, бушлат или похожая на него куртка, брюки клёш, подметающие тротуар. Тип матроса, “братишки” времен Гражданской войны и в то же время Сеньки-бандита. Нож у пояса, в кармане кастет».
Да и молва народная, и сознание обывателя, и даже литература того периода нередко смешивала матроса с уголовником. Поэтесса Елизавета Полонская в 1925 году на страницах альманаха «Ковш» публикует поэму «В петле», где рисует «героический» образ налётчика Лёньки Пантелеева:
Подобного рода легенды о бандите Пантелееве поддерживали и сами чекисты. Писатель Лев Шейнин, служивший в то время следователем Ленинградского областного суда, приписывал Пантелееву «бандитское молодечество и щегольство», «возвышенную любовь». А участник ликвидации пантелеевской банды комиссар милиции И. В. Бодунов вообще рисует образ «рыцаря без страха и упрёка»: питерский налётчик «очень отличался от обычного бандита, он не пил, не жил той грязной недостойной жизнью, которой обычно живут преступники, он любил одну женщину и был ей верен». На самом деле Леонид Пантёлкин (настоящая фамилия) не был российским Робин Гудом и стрелял, не задумываясь, во всех подряд. Так, убегая с места очередного убийства, он застрелил старушку, шедшую с рынка, а также водителя, который под дулом пистолета вывез его с места преступления. В другой раз, спасаясь во время налёта оперативников на притон, Лёнька по пути убил дворника, подметавшего улицу.
Забавно отметить, что в новой России героический бандит стараниями шансонье Александра Кальянова превратился… в капитана милиции Каталкина (наверное, по аналогии с героем итальянского сериала «Спрут» комиссаром Каттани):
Впрочем, нам важна не «поэтическая преемственность поколений», а то, что клеши пришли в хулиганскую моду Питера довольно поздно под влиянием формы бравых матросов-анархистов. До этого здесь, как и вообще по стране, господствовали начищенные сапоги «гармошкой» и заправленные в них брюки.
С соломенными шляпами — вообще крах. Для начала уточним, что речь идёт прежде всего о канотье, поскольку именно эта соломенная шляпа с жёсткой плоской цилиндрической тульей (окантованной чёрной лентой) и ровными полями стала чрезвычайно популярна в России на рубеже XIX и XX веков. Мода на канотье пришла из Франции, где поначалу эта шляпа была головным убором лодочных гребцов (по-французски canotier — гребец). Сначала такие шляпы считались мужскими, однако очень скоро они полюбились и женщинам, щеголяли в них и дети «среднего класса». Конечно, можно назвать ещё панаму, а также другие разновидности соломенных шляп, однако они в смысле популярности не могли соревноваться с канотье.
Не то чтобы канотье (как и другие головные уборы из соломы) вообще не носили в суровом северном краю. Носили, конечно. Мода, она и в Африке мода, и даже в Питере. Анна Ахматова в поэме «Русский Трианон» писала:
В мемуарах «Острова моего детства» известный фотограф Лев Штерн вспоминал о дореволюционном Питере: «Медленно прогуливающиеся по дорожкам дамы в невероятных шляпах… Их спутники — “господины” в плоских соломенных канотье или панамах». В канотье щеголяли даже рабочие: «Кадровые рабочие высокой квалификации, особенно работающие в Петербурге и Москве, одевались по-городскому. Носили тёмные шляпы и котелки… Летом носили соломенные шляпы-канотье, панамы и белые картузы».
Но сама природа не позволяла использовать такого рода шляпы длительное время: весна на севере наступает поздно, лето уходит рано, да и погоды постоянно дождливые — не уступают столице Туманного Альбиона. Уже только поэтому канотье не могло стать постоянным атрибутом хулиганской моды Питера.
Не то — в Одессе! Здесь популярности канотье способствовал не только южный климат, но и оживлённая морская торговля, отчётливо выраженное европейское влияние. Не забудем, что канотье первоначально была шляпой французских моряков, частью их формы. А французы, моряки и Одесса — вещи неразделимые. Затем эта шляпа стала обязательной принадлежностью джентльмена, в ней приходили даже на танцевальные вечера и балы. В канотье и панамах большую часть времени ходила вся пижонская Одесса. Именно над этой модой позднее, уже в начале 30-х, подсмеивались два одессита — Илья Ильф и Евгений Петров в своём романе «Золотой телёнок», рассказывая о старичках — «обломках довоенного коммерческого Черноморска»: «Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах-канотье. Некоторые носили даже шляпы из потемневшей панамской соломы».
Понятно, что и Одесса уголовная щеголяла в канотье. Картуз здесь, как говорится, «не хилял». Заметим, что «соломенную» хулиганскую традицию заложили всё те же французы. Так, мужчин в шляпах-канотье мы видим на натурных картинах 1869 года кисти импрессионистов Моне и Ренуара, изображающих парижский «Лягушатник» — знаменитое кафе на воде, которое размещалось на понтоне, пришвартованном к берегу Сены. Здесь во времена Второй империи царила атмосфера беззаботности и счастья, которую отразили в своих произведениях братья Гонкур, Золя, Мопассан и другие французские писатели. «Лягушатником» кафе прозвали потому, что здесь собирались хорошенькие девицы лёгкого поведения — «лягушки», которые толпами наезжали сюда в компании мелких хулиганов и проходимцев из предместья. Вот как раз эти типы и щеголяли в канотье, подражая молодым спортсменам-гребцам, которые катали по Сене своих подружек.
Шляпа-канотье так «срослась» с образом жизни одесских уголовников, что они не расставались с ней даже в самых необычных ситуациях. Например, когда по просьбе главного одесского жулика и бандита Моисея Винницкого (он же — Мишка Япончик) реввоенсовет 3-й Украинской Советской армии дал «добро» на организацию особого 54-го полка из черноморских уркаганов, форма новых «красноармейцев» была очень оригинальной. Как вспоминал старый одесский чекист Николай Мер: «Впереди Япончик на вороном жеребце и с конными адъютантами по бокам, за ними два еврейских оркестра с Молдаванки, потом шествовала пехота с винтовками и маузерами, одетая в белые брюки навыпуск и тельняшки. Головные уборы самые разные: цилиндры, канотье, фетровые шляпы и кепки».
А в одном из документальных рассказов, действие которых относится уже к периоду нэпа, Лев Шейнин так описывает прибытие в Москву известного одесского взломщика сейфов Ястржембского (он же Романеску, он же Шульц): «На следующее утро мы встречали на Киевском вокзале одесский скорый. Когда поезд подошёл, мы остановились у международного вагона и стали поджидать “адмирала Нельсона”. Он появился в соломенном канотье, с роскошным, перекинутым через руку коверкотовым плащом».
Выходит, соломенная шляпа и клёш лишний раз подтверждают то, что песня «Когда я был мальчишкой» родилась именно в Одессе.
«Саданул под сердце финский нож…»
Остаётся последний питерский козырь — финский нож, финка. В самом деле, если говорить о дореволюционных временах, к которым относится создание песни «Когда я был мальчишкой», то мода на ношение финского ножа была распространена прежде всего в северо-западной части Российской империи.
А что такое этот самый финский нож и чем он так выделяется среди своих собратьев? Попробуем разобраться, обратившись к специалистам. Так, автор исследования «Финский нож на гранях времён» Александр Марьянко пишет: «Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи с 1809 по 1917 год. До этого территория Финляндии принадлежала Швеции. Обе страны последовательно проводили политику разоружения коренных жителей, дабы не смущать их наличием оружия и не вводить в соблазн вступления в борьбу за независимость. Очевидно, что такое положение дел не слишком устраивало финнов, и XIX век ознаменовался мощным освободительным движением, олицетворением которого стала финская ножевая культура (puukko-junkkari или haijyt). Более точно этот период датируется 1790–1885 гг. Отношение к её носителям — удалым ножевым бойцам, державшим под контролем деревни в области Похъянмаа, было, по меньшей мере, неоднозначным даже в самой Финляндии. Это были своего рода борцы за свободу и независимость, с одной стороны, и лихие разбойнички — с другой».
По большому счёту, речь идёт об особой породе финских хулиганов. В конце концов, российское хулиганьё тоже было «своего рода борцами за свободу». Правда, в роли «горячих финских парней» большей частью выступали не рабочие (почти за полным отсутствием таковых), а сыновья владельцев крупных хуторских домов (или сами хозяева). Отличительным знаком таких «крутышей» были ножи с наборными рукоятями — Harma Puukko. Мужичьё попроще таскали повсюду национальные ножи без выкрутасов, в основном с деревянными ручками.
Да и как не носить? Ведь ещё в начале XX века Финляндское княжество оставалось аграрным регионом с развитым охотничьим и рыболовецким промыслом. Для этого и служили недорогие, удобные ножи. Самыми популярными считались пуукко (от финского puu — лес). Такой нож — универсальное оружие и орудие «лесных» людей, которое предназначено для разделки и свежевания дичи, потрошения рыбы, работы с деревом — ну, и для хозяйственно-бытовых нужд. Финны владели этим инструментом в совершенстве. «С оттенком гордости они говорят, что специально отбирают у мальчиков на уроках труда их ножи, дабы те приучались работать и другими инструментами», — сообщает Марьянко.
Есть много разновидностей пуукко — в зависимости от местности, мастеров и т. д. Но существует ряд обязательных признаков, отличающих классический финский нож. Для всех пуукко характерен простой клинок, причём обязательно более узкий по отношению к рукояти. Лезвие не обоюдоострое, а режущее лишь с одной стороны, вторая — обух, то есть не заточенная. Подъём лезвия относительно пологий, иногда с небольшим скосом обуха или слегка поднятым кончиком острия. Длина лезвия обычно не превышала 15 см, причём соотношение длины рукояти и клинка варьировалось от 0,5 до 1,5, то есть порою рукоятка была длиннее лезвия, часто — наоборот.
Что касается рукояти, она обязательно округлая — бочкообразная или эллиптическая. Традиционные рукояти делались первоначально из твёрдых пород дерева, а также оленьего, лосиного рога; клинок насаживался на рукоять. Металлических оковок такие ножи обычно не предполагали (хотя позже колечки на границе клинка и рукояти встречаются постоянно). Но главное: классический финский нож не имеет ограничителя, гарды, крестовины! Это — очень важная деталь. Казалось бы, таким ножом хорошо полосовать, но неудобно наносить колющие удары. Для европейца так оно и есть. Но у финнов для колющего удара существует особый «финский хват», при котором головка рукояти (нижняя часть) упирается в ладонь. Другая разновидность «финского хвата» основана на том, что рукоять ножа фиксируется особым образом. У европейца удержание производится при помощи большого и указательного пальцев с упором в перекрестье ножа. У финна же удерживающую функцию выполняют усилия мизинца и безымянного пальца. И наконец, ещё одна деталь: финские ножи обычно носятся в кожаных ножнах, подвешенных к поясу сбоку или сзади, причём в них утопает большая часть рукояти вместе с клинком.
То, что многие уголовники на северо-западе России и до революции, и после использовали классические финские ножи, неудивительно. Ведь с 80-х годов XIX века царское правительство, обеспокоенное ростом национального движения в Финляндии и кровавым характером местных «разборок», приступило к русификации части финских территорий. Тесные контакты русских с чухонцами сказались и на ножевой культуре. Финка стала популярнейшим оружием маргиналов Петербурга. И не только Питера, но также Москвы и других регионов России. Даже в 1931 году в фильме Николая Экка «Путёвка в жизнь» Фомка Жиган орудует настоящим финским ножом.
Александр Марьянко считает, что особую популярность в уголовном мире классический финский нож приобрёл после Декрета СНК РСФСР «О сдаче оружия» от 10 декабря 1918 года. Тогда-то хулиганы и урки стали гулять с «ремесленно-охотничьими» финскими ножами, вроде бы под категорию «оружия» не подпадавшими. В 1923 году согласно инструкции № 132 от 7 мая «О порядке приобретения охотничьего огнестрельного и холодного оружия и огнестрельных припасов, регистрации и учёта их» разрешение приобретать и хранить холодное оружие давали только органы милиции. В 1927 году УК РСФСР в статье 182 предусматривает запрет на приобретение, хранение и пользование холодным оружием для несовершеннолетних, лиц, привлекавшихся к ответственности за хулиганство, и лишённых избирательных прав.
К тому времени словосочетание «финский нож» в Совдепии уже неразрывно связано с уголовщиной. Сергей Есенин в «Письме матери» (1924) сетует:
В рассказе «Таракан» (1925) Михаил Булгаков повествует, как Василий Рогов случайно приобрёл в нагрузку к сапогам финский ножик — и затем, проиграв эти сапоги и ещё пятьдесят рублей профсоюзных денег мошеннику, тут же зарезал его. Позднее, уже в «Мастере и Маргарите», то есть в конце 30-х годов, Михаил Афанасьевич вкладывает в уста своего героя — мастера фразу: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!»
Хроника тех лет пестрит рассказами о том, как шпана, бандиты, хулиганы пускают в ход финки. В середине 20-х годов босяки в Таврическом саду ограбили и порезали финками даже члена городской комиссии по борьбе с хулиганством! Судя по письму, присланному в начале 1927 года в «Комсомольскую правду», часть рабочей молодежи «скучала за военным коммунизмом и шла орудовать финкой». Постоянным было упоминание нападений с финками и во время процесса 1934 года над хулиганской бандой братьев Шемогайловых.
Поэтому, когда в 30-е годы началась активная кампания за ужесточение уголовной политики в отношении оборота холодного оружия, финке было уделено особое внимание. В связи с этим Александр Марьянко пишет: «После появления цикла статей, вроде публикаций 1932–1933 гг. об убийстве братьев Морозовых хозяйственным ножом, названным в прессе “финским”, даже для самых непонятливых стало ясно, что финка — варварское оружие классово-чуждых элементов для расправы с детьми и партийными активистами. Таким образом, в 1935 г. содержание статьи 182 УК было расширено: “Запретить изготовление, хранение, сбыт и ношение кинжалов, финских ножей и тому подобного холодного оружия без разрешения НКВД в установленном порядке”. Очевидно, с тех самых пор финский нож и завоевал имидж “типичного оружия уголовника” в среде обывателей и российских блюстителей порядка, подтверждения чему поступали с самого высокого уровня. Даже после принятия нового Уголовного кодекса в 1960 году Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 30 сентября 1969 г. по делу Л. отмечала неизменность позиции российской Фемиды относительно финского ножа: “Закон… прямо называет кинжалы и финские ножи, потому что их принадлежность к холодному оружию не вызывает сомнения ввиду заранее известных признаков, определяющих их основное назначение — быть использованным в качестве оружия, то закон также предусматривает уголовную ответственность за их ношение”».
Из перечня заведомо запрещённых видов холодного оружия финский нож был выведен по рекомендации экспертов только в 1996 году постановлением № 5 Пленума Верховного суда РФ.
Финка-ножик или ножик Финка?
Столь подробный рассказ о финском ноже крайне необходим. И вот почему: оказывается, в России финский нож приобрёл свои особенности. Уже цитированный нами не раз А. Марьянко определяет российскую финку как «странный русско-финский феномен». После того как в 1917 году большевики признали независимость Финляндии, отношения между странами оставались нейтральными, но культурные связи практически прервались. Это отразилось и на ножевой культуре. Правда, в Республике Советов помнили о популярных финских ножах и даже взялись за их выпуск. Однако, как пишет Марьянко, «ножи эти весьма отдалённо напоминали пуукко, но по укоренившейся традиции “финками” именовалось всё, имеющее прямой клинок с односторонней или полуторной заточкой, скосом обуха и непременными, глубокими долами, именуемыми в просторечии “кровостоки”. На финках того времени встречались мощные навершия, выдающиеся брюшки черена рукояти, передние боевые упоры и даже развитые ограничители. Эта нестыковка ставила в тупик даже отечественных криминалистов 70-х годов, которые указывали, что “ножи, получившие известность в нашей стране почему-то под названием «финских»… обычно снабжаются разномастными рукоятками и нередко ограничителями. Общим у них является только то, что все они по форме, соотношению размеров частей и изяществу отделки в большей или меньшей степени отличаются от настоящего финского ножа”».
Но это бы ещё полбеды. Дело в том, что уголовная финка вообще никакого отношения к финскому ножу не имеет! Например, в Большой Советской Энциклопедии 1960-х годов «финский нож» описывается как оружие, имеющее обоюдоострый клинок длиной до 20 см и рукоять с перекладиной (крестовиной). Военная энциклопедия Claw.ru поясняет: «Финка — вид кинжала с обоюдоострым коротким клинком и прямой крестовиной». То же встречаем и во множестве других источников. Хотя ради справедливости надо заметить: некоторые авторы имеют весьма отдалённое представление о том, что значит «обоюдоострый». В русском языке «обоюдоострый» — это клинок, имеющий лезвие с двух сторон. Однако А. Владзимирский в книге «Зэковские ножи» пишет: «Финка — разновидность специального псевдонационального ножа. Имеет фиксированный, обоюдоострый короткий клинок с толстым, прямым или почти прямым обухом». Откуда у обоюдоострого клинка «толстый обух», то есть не заточенная сторона лезвия, — тайна сия велика есть.
Одной из важных особенностей уголовной финки следует назвать наборную рукоять — в подражание рукоятке ножей финских «кулаков». Говорят, по чередованию цветов, количеству наборных полос и прочему можно было даже узнать о статусе владельца, его уголовной биографии и т. д. — как в своё время по татуировке. Кроме того, крестовина «блатной» финки на концах загибалась в разные стороны — вверх и вниз.
Но как же финка превратилась в кинжал? Ведь это — совершенно другой вид холодного оружия! И тут снова необходим экскурс в историю. Прежде всего, категорически не согласимся с А. Марьянко в том, что свою популярность финский нож приобрёл в Советской России. Как мы уже писали, финка полюбилась уркаганам ещё до революции. Этому ножику посвящено множество фольклорных «боевых частушек», которые относятся как к советскому, так и к досоветскому периоду. Мы приводим их по книге А. Грунтовского «Русский кулачный бой»:
Но что понимали в то время под «финским ножиком» — это вопрос. С одной стороны, речь могла идти о классическом финском ноже:
Некоторые специалисты считают, что речь идёт именно о финке, у которой скос обуха к острию — «нос» — называется «щучкой» (по профилю, сходному с профилем щуки). Однако на самом деле такая ассоциация более чем сомнительна. Даже не будучи специалистом по ножам, я достаточно много общался с так называемыми «чернушниками» — зэками-мастерами, которые занимаются изготовлением поделок и сувениров и особо специализируются на самодельных ножах. Я заинтересовался разновидностями ножей, и мастера перечислили мне множество типов клинков, которые отличаются формой «носов». Помимо традиционного «пера» (действительно напоминающего гусиное перо) и уже названной «щучки», существуют «акула», «дельфин», «уточка», «тюлень», «чирок», и это далеко не всё. Так что «носатые ножи» вовсе не обязательно финские.
Кроме того, под «финскими» подразумевались в России также шведские, норвежские, немецкие ножи, похожие на финский, но имеющие и принципиальные отличия: крестовину или упоры, иную форму рукояти и прочее. Этому есть и лексическое подтверждение. Например, в уголовном мире существует такое название ножа, как «саксан». Старый лагерник Семён Бадаш вспоминает в документальной повести «Колыма ты моя, Колыма»: «Тогда подключается к разговору Сергей Шлычков. Он вынимает из-за пояса длинный нож — “саксан”». Сергей Довлатов в автобиографической «Зоне» пишет: «Все грузины с ножами ходят. Если что, за ножи берутся. У Дзавашвили вот такой саксан. Не умещается за голенищем». И таких примеров немало.
Что же такое саксан? Финны называют словом «Саксан» Германию (от Саксон, Sachsen). Нож саксан (реже — саксон) происходит от боевого ножа «сакс» древних германцев. Его ещё называли «скрамасакс» — боевой нож с односторонней заточкой и, как правило, асимметричным хвостовиком (головкой рукояти) в виде ворона. Длина клинков «саксов» была более 30 сантиметров. Конечно, саксаны, попадавшие в Россию, здорово отличались от древних собратьев, но так по-прежнему именовали длинные ножи. А поскольку они поставлялись из Финляндии (о чём говорит и финское название ножа), россияне с полным правом называли их тоже «финскими».
Но саксанами в уголовном и хулиганском мире назывались также кинжалы! Вообще в фольклорных «боевых частушках» кинжалы постоянно упоминаются наряду с финскими ножами:
На ножевом рынке Российской империи щедро были представлены самые разные типы кинжалов — начиная от изделий знаменитого русского мастера Егора Самсонова (особенно славились его кинжалы на медведей) до французских «шательро». Разумеется, ценились разнообразные кавказские кинжалы — но их могли позволить себе не все, и носились они чаще «для фасона». Исключение — юг России, где для терских, кубанских и отчасти донских казаков кавказский кинжал считался традиционным видом оружия.
Но в связи с песней «Когда я был мальчишкой» нас интересует особый тип кинжала, распространённый в царской России начала XX века. Чтобы перейти к рассказу о нём, снова обратимся к «боевым частушкам»:
Целый ряд знатоков настаивает на том, что в данном случае следует писать не «финка-ножик», а «Финка ножик», поскольку слово «финка» не есть производное от финского ножа, а обозначает фамилию известного на переломе XIX–XX веков изготовителя ножей Финка. Если быть совсем точными, речь идёт о фирме «Уилл и Финк» (WILL & FINCK), которую во второй половине XIX века создали Фредерик Адольф Уилл и Джулиус (Юлиус) Финк из Сан-Франциско. Эти американцы поставляли в Россию широкий ассортимент своей продукции. Но здесь её ассоциировали исключительно с Финком, поскольку фамилию первого компаньона Уилл (по традиционной русской транскрипции — «Вилл»; вспомним хотя бы Вильяма Шекспира) принимали за имя второго компаньона. Вот так из «Вилл и Финк» получался «Вилли Финк» или «Вилл Финк» (как в названии фирмы, если отбросить «непонятный значок»). Особой популярностью у покупателей пользовались небольшие кинжалы Финка с компактными ножнами. Такое оружие удобно носить в кармане, между тем как традиционный финский нож с фиксированным лезвием для этого не предназначен — его ножны крепились к ремню. Писатель Вадим Шефнер вспоминает в повести «Бархатный путь» о своём школьном детстве второй половины 20-х годов прошлого века:
«Во-первых, я купил себе финский нож. Как ни странно, это хулиганское оружие продавалось тогда вполне открыто. Я приобрел свою финку в хозяйственном магазине на Малом проспекте; там же продавались ножи хозяйственные, примусы, кухонная посуда и керосин… Финка моя покоилась в ножнах, украшенных на конце свинцовым шариком. Носил я её на брючном ремне, под курточкой. В школу, разумеется, ходил без оружия. Но по вечерам, когда мы втроём — Борька, Гошка и я — шли шлифовать асфальт на бульвар Большого проспекта (который тогда именовался проспектом Пролетарской Победы), каждый из нас был при ноже. Вряд ли мы, даже если бы и в драку ввязались, пустили бы в ход это оружие. Однако — носили. Такая уж тогда была тайная молодёжная мода — походить на хулиганов…»
К слову сказать, версию об «американской финке» косвенно подтверждают и частушки. Помните, в одной из них упоминается «золочёная печать»? На деревянных или наборных рукоятях финских ножей никаких печатей не было, а вот на изделиях Уилла и Финка они присутствовали.
Так значит, мальчишка, который зарезал папу, маму и сестрёнку, таскал в кармане именно ножик Финка? Такой вариант вполне вероятен, тем более что позднее, как мы убедились, уголовная финка стала ассоциироваться именно с кинжалом, а не с ножом, имеющим обух.
Но есть и другой вид финки, которую можно было запросто носить в кармане. И это — именно финский, а не американский нож. Об этом типе ножа пишет энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, статья «Ножевое мастерство»: «Из особенных форм складных ножей следует указать на складной финский “пука”. Это толстый остроконечный ножик, вращающийся на шарнире между двумя прямыми плашками без пружин; эти плашки плотно вдвигаются в отдельный черенок и задерживаются защёлкой, но только когда нож открыт или вполне закрыт. Невозможность случайного закрывания делает складной финский нож очень удобным для рабочих».
Вот вам тот самый финский нож, который носил в кармане мальчик-убийца! Особо важно замечание о том, что подобные ножи были удобны для рабочих, а значит, и популярны в пролетарской среде, среди оголтелого хулиганья. По внешнему виду складной пуукко отдалённо напоминает нож, изобретённый Жозефом Опинелем в 1890-е годы и тоже имеющий оригинальную фиксацию лезвия — при помощи вращающегося металлического кольца-оковки. Правда, в России «опинель» не был сколько-нибудь известен, к тому же в качестве холодного оружия, конечно, не котируется: слишком лёгок, да и лезвие хлипкое.
Итак, теперь мы можем быть совершенно уверены, что песня «Когда я был мальчишкой» родилась до революции: именно тогда в рабочей и хулиганской среде был чрезвычайно популярен складной нож пуукко, о котором после революции вовсе забыли.
Кирпич — оружие мальчиша-плохиша
Подведём некоторые итоги. В результате нашего расследования мы пришли к выводу, что песня про мальчишку в клешах, который угробил своё семейство, несомненно, родилась в славном городе Одессе и является пародией на известную дореволюционную каторжанскую балладу «Погиб я, мальчишка». На это указывают и каторжанский текст, и клеши, и шляпа-канотье.
К этому «джентльменскому набору» хотелось бы добавить… кирпич. Впрочем, на самом деле речь пойдёт не столько о кирпиче, сколько о часовом. Для начала вспомним строки из песни каторжан:
Зря он это сказал. Прямо скажем, погорячился. Циничные уличные сказители отыгрались на часовом по полной программе, включив в песню «Когда я был мальчишкой» несколько куплетов и пополнив число жертв подлого мальчугана. Д. Гаврилов на одном из форумов приводит их в следующем варианте:
В связи с последним куплетом россияне, чьё детство пришлось на советскую эпоху, сразу же вспомнят детсадовскую песенку про Ленина, где не только повторяется история с выносом тела, но и мистическим образом возникает мрачный образ кирпича:
Думается, немотивированный «ленинский кирпич» и описание траурной процессии возникли именно по ассоциации с песней о весёлом маньяке. А авторы хулиганской переделки каторжанских причитаний вполне могли позаимствовать кирпич из задорной народной частушки:
Позже трагическое повествование о героической гибели дяди-часового выделилось в отдельную песню:
Случается, впрочем, что убиенного караульщика даже на кладбище не пускают, заставляя его разделить судьбу погибшей ранее сестрёнки-гимназистки:
Правда, чаще всего до исполнения этих величественных планов дело не доходит: многие варианты завершаются лишь мечтами мальчишки о расправе над охранником. Но уже само по себе упоминание часового в негативном контексте прямо отсылает нас к одесской песне «Погиб я, мальчишка».
«А бедный Чарли Чаплин окурки собирал»
В некоторых версиях песенного триллера упоминание о часовом отсутствует. Зато появляется неожиданная ссылка на «волшебную силу искусства», а ещё точнее — кино:
Завершается история покаянием убийцы, который просит прощения у родителей, при этом почему-то совершенно упуская из виду сестрицу:
Однако нас интересует не факт амнезии, а указание на то, что мальчишка совершил преступление под воздействием некоего кинофильма, перенеся жестокий сюжет картины в жизнь. Вопрос: идёт ли речь о «художественном вымысле» или такой фильм действительно существовал?
Обратимся к истории отечественного немого кино. В дореволюционном русском кинематографе одно время существовал уклон в экранизацию известных песен и романсов. Песня «Из-за острова на стрежень» — о расправе Стеньки Разина над персидской княжной — стала основой фильма «Стенька Разин» («Понизовая вольница», 1908). Дважды создавались картины на сюжеты «Ухарь-купец» (1909 и 1916), «Последний нонешний денечек» (1911, 1915), «По старой Калужской дороге» (1911, 1917), трижды — на сюжет «Ваньки-ключника» (1909 и дважды в 1916). Особой любовью режиссёров пользовались «скаковые» и «ямщицкие» песни: «Вот мчится тройка почтовая» (1915), «Запрягу я тройку борзых, тёмно-карих лошадей» (1916), «Когда я на почте служил ямщиком» (1916), «Ямщик, не гони лошадей» (1916). Дважды выходил «кинороманс» «Пара гнедых» (1911 и 1916). Экранизаций удостоились «Хаз-Булат» (1913), «Очи чёрные, очи страстные» (1916), «Ах, зачем эта ночь так была хороша» (1916), «Бывали дни весёлые, гулял я молодец» (1916), «Есть на Волге утёс» (1917) и другие.
В 1916 году создаётся фильм на «жестокий фабричный романс» «Маруся отравилась», и мэтры отечественного кино решают дальше разрабатывать благодатную тему. А годом позже на экраны России выходит «Погиб я, мальчишка, погиб навсегда» по мотивам каторжанской песни. Именно эта картина и упоминается в пародийно-издевательской переделке «Когда я был мальчишкой».
Возможно также, отражением сюжета кинокартины является встречающийся в некоторых версиях песни куплет, где указан род занятий родителей жестокого мальчишки:
Не зря профессор Александр Чижевский в исследовании «К вопросу о природе хулиганства» (1926–1927) специально подчёркнул: «Хулиганство перешло на широкую арену кинематографа. Доблесть хулиганов и их прообразов воспевается в кинофильмах. Рукопашные схватки, поножовщина, боксёрские дуэли, массовые побоища и т. д. попадаются в каждой картине. Там же мы встречаем акты убийства, насилия, воровства и прочих сногсшибательных “подвигов”, которые с необычайной силой действуют на воображение лиц с ослабленной сопротивляемостью психики, с предрасположением к нервным или психическим заболеваниям».
Я склонен рассматривать вариант с упоминанием «кина» как один из наиболее ранних, поскольку вряд ли уже в первые мирные годы Республики Советов приветствовались и тем более демонстрировались фильмы на мотивы «душераздирающих» дореволюционных романсов. В новой России насаждалась совсем иная кинопоэтика. «Прокатить» кровавая история о семейной резне могла разве что в годы Гражданской войны. Вспомним трагикомедию «Гори, гори, моя звезда…» Александра Митты, где персонаж Евгения Леонова крутит бездарные образчики немой кинопродукции с милыми комментариями типа:
Подчёркиваю: первоначальные варианты песни-пародии «Когда я был мальчишкой» появились значительно раньше, когда хулиганы ещё носили в карманах складные финские ножи пуукко и аккуратные американские кинжалы Финка в компактных ножнах. Уже в революционные годы поставки этой продукции на российский рынок естественным образом прекратились и более не возобновлялись. Но и «киношная версия» была одной из первых.
Кино вообще оказало на песню о «мальчише-плохише» серьёзное воздействие. Возможно, на образ юного убийцы в соломенной шляпе накладывались образы персонажей тогдашних звёзд немого кино Гарольда Ллойда и Бастера Китона, для которых канотье было непременным отличительным признаком. В 20-е годы картины с Ллойдом и Китоном пользовались огромным успехом по всему миру, не исключая Россию. Гарольд Ллойд между 1913 и 1947 годами снялся примерно в 200 юмористических фильмах, Бастер Китон — «комик без улыбки» — поражал миллионы зрителей способностью разыгрывать на экране абсурдные ситуации, сохраняя невозмутимое выражение лица. Кстати, популярнейший комик немого кино Макс Линдер в пародии на «Трёх мушкетёров» тоже надевает на своего д'Артаньяна канотье.
Им подражали и отечественные актёры. Так, в «Записках следователя» Лев Шейнин, описывая костюм одесского взломщика, выходящего на ленинградский перрон в шляпе-канотье и с массивной тростью, замечает, что этого уголовника легко можно было принять «за международного злодея из фильмов выпуска киностудии “Русь”».
Но упоминание кино в песне «Когда я был мальчишкой» не завершается одной лишь строчкой. Если кому-то имена Гарольда Ллойда и Бастера Китона покажутся искусственно притянутыми, то уж имя Чарли Чаплина из песни точно не выкинуть!
«Когда я был мальчишкой» наряду со многими другими образчиками русской низовой песни (с тем же «Цыплёнком жареным», например) давно и прочно вошёл в детский фольклор. Одно из ранних свидетельств этого находим в повести «Сестра печали» Вадима Шефнера. Речь идёт о детдомовском детстве писателя, выпавшем на середину 20-х годов:
«Я пел старую детдомовскую песенку:
Но куда более известна песня с неожиданным и немотивированным вступлением, которое популярно у ребятишек и по сей день:
Какое отношение имеет Чарли Чаплин к маньяку в канотье? Попробуем разобраться. Со стопроцентной уверенностью можно определить, что куплеты с Чаплином появились достаточно поздно — не ранее 1936 года и, разумеется, связаны с образом знаменитого Бродяги. Сам актёр в автобиографии характеризовал своего героя так: «Он очень разносторонен — он и бродяга, и джентльмен, и поэт, и мечтатель, а в общем это одинокое существо, мечтающее о красивой любви и приключениях… И в то же время он готов подобрать с тротуара окурок или отнять у малыша конфету. И, разумеется, при соответствующих обстоятельствах он способен дать даме пинка в зад, — но только под влиянием сильного гнева». То есть с окурками всё ясно. Правда, Чаплин не сообщает, способен ли его персонаж «под влиянием сильного гнева» не только пнуть, но и зарезать даму (тем более двух дам с довеском в виде господина).
Правда, Образ Бродяги впервые появился в фильме «Необыкновенно затруднительное положение Мэйбл» или, по другой версии, в фильме «Детские автомобильные гонки» (обе картины вышли в 1914 году). Именно тогда Чаплин надел огромные штаны, узкую визитку, большие башмаки, на голову — котелок, взял в руки тросточку и приклеил небольшие усики. Почему же неведомые сочинители не включили этого Бродягу в свою песенку раньше? Времени было достаточно… Время-то было, а вот повода — не было! Чаплинский Бродяга действительно не имеет ничего общего с «соломенным мальчишкой», носившим в кармане финский нож.
А какой же повод появился в 1936 году? Да самый непосредственный: Бродяга в первый и последний раз в своей кинематографической жизни… запел! До этого все фильмы с ним были немыми. Собственно, немым был и фильм «Новые времена», в котором Чаплин продемонстрировал свой певческий дар. Бродяга заговорил, то есть запел — в финале картины. И как запел! Это — удивительная находка, своеобразное прощание великого актёра с «Великим Немым».
Помните замечательную комедию Марка Захарова «Формула любви»? Там слуги графа Калиостро Жакоб (Александр Абдулов) и Маргадон (Семён Фарада) исполняют «тарабарскую» песенку на псевдоитальянском языке с припевом «Уно, уно, уно, уно моменто…». Кстати, тарабарский — не тарабарский, а текст, по рассказам, пришлось утверждать в литкомитете, для чего предоставили даже «русский перевод». Так вот, впервые этот приём в кино использовал именно Чарли. В фильме «Новые времена» его Бродяга, устроившись в кафе, должен исполнять комические куплеты. На репетиции перед выходом в зал он всё время забывает текст, и его молоденькая подруга (Полетт Годдар) записывает слова песни на бумажном манжете Бродяги. Однако во время танца манжет улетает в публику, и Чарли вынужден по ходу выступления сочинять бессмысленные куплеты из «макаронической» смеси слов, похожих на итальянские и французские.
Песенка приобрела феноменальную популярность по всему миру — и, конечно же, в СССР, где фильм «Новые времена» особо рекламировался: в нём усматривалось издевательство над американским образом жизни. Фильм открывается картиной стада баранов, затем их сменяют кадры с рабочими, идущими на завод. Бродяга выполняет на конвейере одну и ту же операцию. Президент компании увеличивает скорость движения ленты, а заодно на Бродяге испытывают машину, которая кормит его прямо во время сборки. Машина ломается, обливает Бродягу супом и скармливает ему две гайки. Герой Чаплина сходит с ума, пытаясь закручивать гаечными ключами всё подряд, в том числе пуговицы на чужой одежде… В Соединённых Штатах «Новые времена» вызвали возмущение властей, ФБР завело на актёра оперативное дело объёмом около двух тысяч листов. А в эпизоде рабочей демонстрации один из протестантов держит плакат с русским словом «свабода»! Хоть с ошибкой, а родное…
Но особое впечатление на зрителей произвела песенка Чарли. Как и в случае с «уно моменто», тут же последовал её «перевод» на русский язык в самых разных вариациях:
Как легко заметить, вступительные строфы песенки «Когда я был мальчишкой» поются именно на этот мотив. Совершенно ясно, что они дописаны к хулиганской песне потому, что она укладывается в тот же размер — выпадает лишь вторая строка. А чтобы связать потрёпанного, непрезентабельного чаплинского персонажа с мальчишем-плохишем, анонимные сочинители заставляют Бродягу вспоминать о своём «шикарном» и одновременно преступном прошлом. Мол, были когда-то и мы рысаками, а теперь вот приходится собирать «бычки»…
«Среди бушующей толпы судили парня молодого…»
Итак, мы выяснили, что хулиганская песня «Когда я был мальчишкой» является издевательской пародией на каторжанскую «Погиб я, мальчишка». Возникла пародия ещё до революции, затем многократно переделывалась и дописывалась, в результате чего в тексте появились упоминания о кино и Чарли Чаплине. Нынче песенка о мальчишке-убийце стала «детским фольклором», и ребятишки знакомятся с ней уже в дошкольном возрасте.
Проникновение уголовной темы в детский и подростковый фольклор неудивительно. И в довоенные, и в послевоенные годы босяки, прошедшие лагеря, тюрьмы, во дворах притягивали к себе ребят, как магнит. Вот что пишет о своём предвоенном детстве Ким Иванцов — участник краснодонского подполья, воспоминания которого мы уже цитировали ранее: «Дружбой со старшими лагерниками, собиравшимися около кочегарки, мы дорожили. Еще бы! Они столько видели и столько знали всего, о чем не писалось ни в одной книге. А как занимательно, просто артистически иные из них рассказывали о своей далеко не простой и совсем не сладкой лагерной и тюремной жизни. Какие подчас страшные и смешные истории расписывали! Какие остроумные выражения употребляли, какими фокусами нас развлекали! Мы жадно вслушивались в слова тех беглых лагерников, присматривались к их поведению. В красочно описываемых историях было немало романтики, которая не просто манила, а прямо-таки кружила голову. Мы нередко копировали жесты, манеру разговаривать, сплевывание сквозь зубы, чтобы жидкая струя слюны летела за два-три метра…»
Кстати, повествуя об одном из таких «блатных воспитателей» по кличке Пульо, сделавшем уголовные наколки самому Иванцову и его другу — руководителю «Молодой гвардии» Сергею Тюленину (в романе — Тюленеву), автор мемуаров сообщает:
«Мастер татуировки был явно удовлетворен своей работой. Видно, оттого неожиданно запел:
…Подельники Пульо говорили, что он на курорте червонец тянул. Переводя на нормальный язык — сидел десять лет. И был не просто фартовым вором, а паханом — принадлежал, говоря нынешним языком, к воровской элите».
Думается, Клим Михайлович (настоящее имя Иванцова, которое он сменил на «Ким» — Коммунистический Интернационал Молодёжи) то ли что-то подзабыл, то ли домыслил для красоты слога. Авторитетный вор в то время вряд ли стал бы петь уличную хулиганскую песню (если уж «Муркой» брезговали, то «Мальчишкой» — тем более). Разве что ребятам «причёсывал уши» какой-нибудь мелкотравчатый шпанюк. Но для нас важно другое: песня «Когда я был мальчишкой» в 30-е годы была популярна среди уличных «огольцов».
Однако чем дальше, тем больше история гадкого мальчишки превращалась в откровенный балаган. К пострадавшим от хулиганского беспредела добавилась несчастная деревенская бабушка:
Иногда бабушке дозволяется применить приёмы необходимой самообороны:
Это уж совсем детский сад.
Между тем отечественный подростковый фольклор давно включил в состав своей «классики» ещё одну вариацию песни «Когда я был мальчишкой», где разухабистые шутовские куплеты о расправе над папашкой, мамашкой и сестрёнкой превращаются в историю, леденящую душу. Это песня «Судили парня молодого» («Когда мне было десять лет»). Принадлежит она к достаточно длинному ряду так называемых «судебных» песен — то есть тех, где речь идёт о судебных процессах. Среди образчиков этого жанра — «Два громилы», «Сын прокурора», «Дочь прокурора», «Письмо подруге» («Суд идёт, и наш процесс кончается»), «Судили девушку одну» («Мурочка Боброва»)…
Многие варианты этой песни начинаются довольно неожиданно — «Шумел бушующий камыш, судили парня молодого», «Горит пылающий камин…» и в том же роде. Правда, представить, что судьи слушали убийцу, сидя у пылающего камина или зарывшись в камыши, достаточно сложно… Однако любопытно не это, а то, что блатные сказители за основу сюжета взяли всё ту же хулиганскую песенку «Когда я был мальчишкой» и представили историю кровавого хоррора (по-русски говоря, тихого ужаса) в новой обработке:
Родившись в уголовной среде, романс про парня молодого обрёл широкую популярность в народе, и прежде всего — среди подростков. Этот «ужастик» входил в обязательный фольклорный репертуар не только советских зэковских, но и пионерских лагерей. Много вариантов песни сохранили тетрадки-песенники школьниц — начиная с пятиклассниц и выше.
Потрясает неистощимая творческая фантазия многочисленных исполнителей, вносивших свою лепту в рассказ о ночной сельской трагедии и последующем судебном процессе. Так, в школьном альбоме киевской семиклассницы Ольги М. (1976 г.) приведён следующий вариант:
Хорошенькая обида — засадить родимой маме в грудь кинжал… Далее следует не менее замечательный куплет:
Умиляет чувство художественного любования «красивым трупом» отца, лежащего в крови. Эстет, твою мать…
И наконец, ребятишки из пермской воспитательно-трудовой колонии в конце 80-х — начале 90-х годов, преисполнившись сострадания к убийце, решили оставить его в живых, вложив в уста судей следующую милостивую тираду:
Так что лучшие традиции русской разбойничьей песни успешно переходят из поколения в поколение.
Как купец Калашников почал хулиганить
«Аржак»
Аржак
Маруся, Аржак и Чеснок
Баллада об Аржаке относится к числу ранних уголовных песен советской эпохи. Первая запись трагической истории о героическом хулигане Кольке относится к 1921 году, но возникла она ещё раньше. Исследователь низового песенного фольклора Сергей Неклюдов отмечал явную схожесть ряда сюжетных линий «Аржака» с фабулой жестокого романса «Маруся отравилась» — особенно эпизода с больницей и похоронами. Вот запись 1912 года:
В другом варианте «друг любезный», ставший причиной смерти Маруси, просит у неё прощения (так же, как убийцы Аржака):
В этой же версии встречается и беседа со сторожем у могилки:
Налицо явная связь песен, хотя гибнут герой и героиня по-разному. Впрочем, позднее, уже в годы нэпа, появились пародии на «Марусю» (в частности, «Серёга-пролетарий»), где она «в грудь себе вонзает шашнадцать столовых ножей». Однако этот мотив уже заимствован из «Аржака» (в грудь которого вонзилось от «нескольких» до «четырнадцати» ножей) и, возможно, под впечатлением популярного дореволюционного городского романса:
Сергей Неклюдов пишет: «Самая ранняя фиксация текста (в песеннике) под названием “Маруся отравилась, в больницу повезли” относится к 1912 г., причём в качестве автора музыки указывается композитор, пианист и дирижер, концертмейстер ресторана “Яр” Я. Ф. Пригожий… Эта версия неоднократно перепечатывается в песенниках и на нотных листах (1915,1918 и др.), а иногда встречающийся подзаголовок “Новая саратовская народная песня” позволяет предположить, что существовал какой-то прототекст романса. Есть основания думать, что именно данная версия стала исходной для других разработок данного сюжета, хотя грампластинки с записями этих сюжетных версий начинают появляться ещё до издания песенника 1912 г. Так, романс под заглавием “Маруся умерла” в исполнении Н. В. Дулькевич и опять-таки с указанием на авторство Я. Ф. Пригожего был записан на пластинку в 1911 г. петербургской фирмой “Сирена Рекорд”. По другим сведениям, пластинка существовала даже в 1910 г., причем речь идёт ещё об одной сюжетной переработке, которая называлась “Маруся отравилась (Житейская трагедия)” или “Обманул Алёша бедную Марусю”; относительно данного текста в недатированном нотном издании сказано: слова Д. А. Богемского, музыка Г. З. Рутенберга, репертуар М. А. Эмской».
Романс быстро приобрёл широкую известность, вошёл в репертуар популярных певцов. Актёр Михаил Жаров в мемуарах «Жизнь. Театр. Кино» вспоминал, что этот жестокий романс был главным номером московских шарманщиков. Песня оставалась уличным шлягером и в 20-е годы прошлого века.
Что касается музыки, и «Маруся», и «Аржак» положены на мелодию известного городского романса «Разлука ты, разлука, чужая сторона» или, если угодно, «На Муромской дороженьке стояли три сосны». Есть ещё один возможный вариант заимствования — народная разбойничья песня «Среди лесов дремучих». Так что музыкальное авторство Пригожего или Рутенберга является более чем сомнительным.
Однако перейдём к «Аржаку». Здесь нас ждёт первое открытие. Оказывается, «Аржак» — это не единственное, а главное, не первое прозвище хулигана Кольки! В наиболее раннем из дошедших до нас рукописных текстов (Омск, 1921) Аржака называют Чесноком, а расправу недруги творят не только над ним, но и над его подельником Ромашкой (кстати, в «омском» варианте впервые упоминаются и «васинские парни», к которым мы еще вернемся). А в сборнике Майкла и Лидии Джекобсон «Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник. 1917–1939» главным героем баллады выступает уже Аржак, но Ромашка тоже присутствует — однако в облике девушки:
Там же приводится вариант куплета, где прямо говорится:
Наконец, писатель Вадим Шефнер в повести «Имя для птицы, или Чаепитие на жёлтой веранде» объединяет Чеснока и Ромашку в одно лицо, называя местом рождения баллады Петроград:
«Частенько пели ребята привезённую из Петрограда песню о Ромашке Чесноке; дело в ней происходило на родном моем Васильевском острове. Ромашка Чеснок, предводитель гаванской шпаны, попал в засаду, устроенную васинской шпаной:
С распространением песни сообразно региону стали меняться и обозначения убийц главного героя: петровские, грузинские, орошенские, ростовские ребята, ольховские мальчишки…
Интересно отметить, что прозвище «Чеснок» сохранилось даже в послевоенный период. Возможно, песня повлияла и на блатной жаргон. Ведь нередко в 40-е годы прошлого века «честных воров» называли не только «честняками», но и «чесноками». А выражение «честно», «по-честному» звучало как «по чесноку» (так нередко говорят и до сих пор). С более ранним использованием этих терминов мне встречаться не приходилось.
Однако в конце концов Аржак вытеснил Чеснока.
Из Якутии — в Питер
Но что скрывается за прозвищем «Аржак»? Это остаётся загадкой. Следует признать несерьёзной этимологию, предложенную Джекобсонами — от «аржануха», что значит ржаной хлеб. Какое отношение может иметь ржаной хлеб к Кольке-хулигану, непонятно. Так же нелепо выводить прозвище Аржак от армянского имени Аршак на том основании, что в одной из версий текста встречаются «грузинские ребята». Не исключено, что грузинских ребят и включили в один из вариантов именно по «национальному признаку», чтобы противопоставить «армянскому парню», однако это лишь частный случай переделки песни.
Вспомним, что обличитель Синявского и Даниэля Юрий Феофанов в известинской статье 1966 года «Тут царит закон» писал: «Утверждают, что слово “аржак” на смоленском говоре некогда означало “бандит”». Нам не удалось найти подтверждения такой этимологии, но версия любопытна.
Симпатичен и вариант с происхождением Аржака от французского «аржан» (argent) — деньги (точнее, серебряные монеты). Тем более словечко использовалось долгое время в блатном жаргоне, который перенял его из жаргона городского. Так, в словаре Михельсона «Меткие слова и выражения», вышедшем в 90-е годы XIX века, есть статья с иллюстративной цитатой из Григория Данилевского: «аржан — деньги. Ср. Иной раз (исправник) продуется офицерам в карты и прямо уж нам скажет: эйн вениг аржанчика, братцы бурлаки; это значит, деньжат дай ему малую толику. Данилевский». И до сих пор в уголовном мире бытует прозвище «Аржан». Однако авторы баллады почему-то используют не его, а именно Аржака. Случайно? Вряд ли.
На наш взгляд, речь может идти о конкретном уголовном деле, связанном с убийством человека по фамилии Аржаков. А уже производным являлось прозвище «Аржак». Усекновение окончания — распространённый способ образования прозвищ, «погонял», «погремух». Примаков — Примак, Леваков — Левак и так далее. Подтверждением догадки служит прямое упоминание в одном из текстов песни фамилии убитого хулигана: «Труп Кольки Аржакова на кладбище несут». Возможно, со временем удастся докопаться и до уголовного дела, отражённого в песне. При этом следует заметить, что дело если и существовало, то появилось уже после создания песни (поскольку первоначально речь шла о Чесноке) и лишь затем повлияло на изменение имени героя.
Что касается фамилии Аржаков, в России она встречается довольно редко и корнями уходит в северо-восточный и восточный регионы страны. Эта фамилия распространена, например, в Республике Саха, среди якутов. Причём с давних пор: впервые Алексей, или Сэсэн, Аржаков (1739–1834) упоминается в XVIII веке. Будучи головой Борогонского улуса, он подготовил на имя Екатерины II «План о якутах с показанием казенной пользы и выгоднейших положениев для них» и представил его императрице на приёме в 1789 году. Род Аржаковых известен в Якутии и сегодня.
С другой стороны, в форме Оржак и Ооржак фамилия встречается в Республике Тува. Имя Аржа мы найдём в бурятском эпосе, где один из героев — Аржа Боржи-хан… Возможно, все эти имена и фамилии объединяет какой-то единый корень.
Есть Аржаковы и в других регионах России, хотя попадаются они нечасто. Как сообщает доктор филологических наук А. Суперанская на сайте, посвящённом происхождению фамилий, в Москве сегодня живут шесть семей Аржаковых. Немного, но всё же…
Так что род Кольки Аржакова с его гибелью не прервался.
Российские апачи
Не менее важен и другой вопрос: когда родилась «хулиганская баллада»? Как вообще в Россию попало слово «хулиган»?
Термин «хулиган» появился ещё до революции 1917 года. По одной версии, слово произошло от фамилии ирландца Патрика Хулигэна, который прославился своими безобразными выходками. Согласно другой легенде, речь идёт о лондонском жителе — ирландце по фамилии Хулли, который в XVIII веке организовал уличные бандитские шайки (the gang). Этих «гэнгстеров» и называли хулиганами, то есть членами банды Хулли (версию поддерживает Британская Энциклопедия). Интересен и вариант, который отсылает нас к лорду Хью Сесилу: во второй половине XIX века он стоял во главе группы молодых политиков, отличавшихся буйным поведением в английском парламенте. По имени сэра Хью их якобы и окрестили «хьюлиганс».
Одна из нелепых теорий гласит, что в слове смешались древнерусское «хула» (осуждение, брань) и французское «gens» (люди). Якобы кличку «хулиган» давали крепостным, которых хотели унизить. Ну, это даже не народная этимология, а лёгкая форма помешательства…
Наконец, самое оригинальное предположение: термин «хулиган» произошёл от названия североамериканского индейского племени. Согласно этой версии, наиболее стойкое сопротивление белым переселенцам оказывали племена апачей и хулиганов. Другой вариант: апачи стремились завоевать хулиганов и за упорное сопротивление приписали врагам самые гадкие качества.
Несмотря на экзотичность, легенда отчасти находит своё подтверждение. Правда, сведений об индейцах-«хулиганах» история до нас не донесла. Зато племена апачей и впрямь прославились такой воинственностью и свирепостью (скорее, благодаря бульварным романам про индейцев), что в начале XX века французы стали называть словом «апаш» криминальных представителей «чрева Парижа». По определению этимологического словаря Макса Фасмера: «апаш — уличный грабитель, из франц. apache “хулиган, сутенёр”, с 1902 г., пущено в обиход редактором газеты “Матен”. По имени индейского племени апачи в Мексике, у границы с США». Как пишет исследователь проблемы хулиганства Лев Лурье, до появления термина «хулиган» «уличных безобразников в Питере именовали башибузуками, по названию турецких иррегулярных частей, знаменитых своими зверствами на Балканах. Позже появляется французское словцо “апаш”. Ни один из номеров “Петербургского листка” не обходился без рубрики “Проделки апашей” — так называли иногда столичных буянов по аналогии с парижскими».
Думается, однако, что слово «апаш» как определение буяна-маргинала появилось ранее 1902 года. В начале 1902-го оно уже вовсю используется в российской криминальной хронике, и репортёры не поясняют термин. А ведь для того, чтобы «апаш» с лёту схватывался в России, должен был пройти определённый срок. Между тем уже 1 февраля 1902 года читаем в газете «Наше время»: «Гренобль. В казармах 28-го альпийского батальона произошла страшная драма. Один из солдат, парижский апаш, набросился с ножом на полковника и нанёс ему рану в область живота. Адъютант полковника, который хотел разоружить апаша, был на месте убит разбойником. Подоспевший нижний чин в борьбе с апашем был им тяжело ранен…»
«Апаш» как синоним уличного безобразника держался довольно долго, чему способствовала и мода. Парижские апаши для демонстрации независимости и вызова обществу стали носить рубахи с распахнутым воротом, на отложных воротниках которых отсутствовали пуговицы. Вместо галстука они повязывали шейные платки. Подобные рубашки якобы носили индейцы-апачи. На самом деле такие блузы были излюбленным платьем жителей парижских предместий ещё с середины XIX века: этот наряд очень удобен для рабочего человека (в рубашках «апаш» щеголяют герои французского кинофильма «Парижские тайны», поставленного по одноименному роману Эжена Сю). Затем блузы с открытым воротом вошли в моду у художников. В Париже возник даже танец «апаш», который имитировал замашки уличной шпаны. Во время танца партнёры держали дам за волосы.
И всё же в России французский «апаш» уступил место английскому «хулигану». Самое раннее использование «хулигана» в официальных документах относится к 1892 году: петербургский градоначальник фон Валь предписал полиции принять меры против бесчинствующих «хулиганов»: «уличных бездельников, забавляющихся издевательствами над горожанами». Но по-настоящему популярным сделал «хулигана» лондонский корреспондент газеты «Русские Ведомости» (с 1896 года) и журнала «Русское Богатство» (с 1897 года) Исаак Шкловский, выступавший в газете под псевдонимом Sh, а в журнале — Дионео (кстати, родной дядя известного литературоведа Виктора Шкловского). Причём англоман Дионео употреблял слово не по отношению к английским озорникам, а аттестовал так российских безобразников. Статьи из «Русского Богатства» были изданы отдельной книгой «Очерки современной Англии» в 1903 году. Слово зазвучало повсюду, а в 1909 году «хулиган» проник даже в энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
Правда, законодательство империи этот термин не применяло, хотя Уголовное уложение от 22 марта 1903 года предусматривало ответственность за действия, нарушающие общественный порядок: «учинение шума, крика или иного бесчинства в публичном месте либо в общественном собрании, или хотя вне оных, но с нарушением общественного спокойствия или порядка» (статья 263 — «О нарушении постановлений, ограждающих общественное спокойствие»). Сюда же входили драки, кулачные бои или иные буйства, которые выражались в циничном сквернословии, хождении по улицам толпой с гармониками, исполнение песен неприличного содержания и т. п.
Особое внимание проблема хулиганства привлекла к себе в связи с событиями революции 1905 года. «Она вызвала озорников-хулиганов на улицу как своих пособников разрушения, и они, почуяв свободу в смысле свободы озорства и безнаказанности его, стали проявлять себя, как звери, вкусившие крови», — писал современник. Вместо бесцельно шнырявшей голытьбы появляются шайки, в которых существовала иерархия, общая касса, свой «кодекс поведения» и «суд».
В 1912 году хулиганство начинает приобретать характер повального бедствия, этот термин часто используют правоохранители, криминологи, публицисты. «Со всех концов России от Архангельска до Ялты, от Владивостока до Петербурга в центры летят сообщения об ужасе нового массового безмотивного преступления, которое мешает населению мирно жить, развиваться, дышать. Деревни охвачены ужасом, города в тревоге», — писал видный криминолог той поры В. И. Громов в статье «Безмотивные преступления». Особенно пышным цветом «озорство» расцвело в крупных промышленных центрах. К ним относилась и столица империи — Санкт-Петербург. За первые 13 лет XX века рост хулиганства в городе впечатляет: с 2512 до 9512 случаев. Если говорить о мелком хулиганстве, только в 1910 году зарегистрировано 46 690 таких случаев.
Одна из причин — чудовищное пьянство. В среднем петербуржец выпивал полтора ведра водки в год. Кроме того, в начале века на заводах появляются поточные линии, квалификация рабочего уже не играет особой роли. Резко увеличился приток деревенских жителей, обострилось противостояние «деревенских» и «городских», стремление новичков утвердиться, выстоять против местных. На конвейер пошли женщины, во многих семьях работали оба родителя, а дети оставались без присмотра, шастали по городу, где и без них было полно беспризорных: бежавшие от издевательств подмастерьев и хозяев ученики, «мальчики» из трактиров, обувных и портняжных мастерских, парикмахерских.
Подрастая, уличное «озорство» хулиганы переносили и в производственные цеха. «Весёлой забавой» рабочей молодежи считалось избиение заводского мастера. Рабочий Ижорского завода с гордостью вспоминал в 1920-е годы: «Мы, молодежь, били старших. Рабочие били мастеров, купали их в одежде в речке Ижора. При неполадке в заводской лавке разбивали стекла, били уполномоченных, устраивали обструкцию, бросали в ораторов стулья. Вмешивался полицейский — били и его».
«Васинские парни» — омичи или петербуржцы?
Как мы уже говорили, в раннем «омском» варианте песни об Аржаке упоминаются «васинские парни». Возможно, это поможет нам локализовать место рождения баллады? В самом Омске «васинская» топонимика отсутствует. Зато мы находим несколько упоминаний о том, что в области существовал некий «Васинский район». Сомнения прочь: оттуда и попали в песню «васинские парни»!
Но краеведение об этом районе — ни сном, ни духом. Упоминания о «Васинском районе» встречаются лишь в нескольких биографических справках. Так, о бойце Латышской дивизии Роберте Подансе, погибшем в 1944 году, сообщается: «родился в 1917 году в Васинском районе Омской области». Его мать Екатерина Михайловна — уроженка деревни Вернов того же района. Справочник «Великая Россия. Имена» сообщает об Иване Езунове, гендиректоре АО «Орскнефтеоргсинтез»: «родился 9 июня 1941 г. в дер. Щелкановка (Васинский район)».
Однако в 1917 году никакого «Васинского района» быть не могло, губернии тогда делились на уезды! Не существовал «Васинский район» и в 1941 году. Это легко установить по краеведческим источникам. Откуда же он взялся? Дело в том, что в 1940 году на территории Омской области был упразднён Тарский округ, а на его месте возникли 5 районов, в том числе — Васисский. Именно Васисский район в некоторых документах искажённо назван «Васинским». Указанная в биографии Езунова Щелкановка находится как раз на территории нынешнего Тарского района. Здесь же расположено и село Васисс.
Так что никаких «васинских» ребят в Омской области не было и в помине. Конечно, можно предположить, что песня возникла в Тарском уезде, где васисские резались с тарскими хулиганами — жителями уездного городка Тара. Когда же балладу передавали из уст в уста, «васисские парни» превратились в «васинских». Но все мало-мальски известные уголовные песни рождены в крупных городах, а не в забытых Богом местечках. Именно в густонаселённых центрах они обретают популярность, а затем расходятся по всей России. Это, как говорится, закон природы. Москва, Питер, Одесса, Ростов, Киев, в конце концов Омск — но только не захолустная Тара, население которой в 20-е годы едва ли достигало 20 тысяч человек (да и сейчас примерно столько же). Село Васисс и вовсе насчитывает 700 человек. Стычки здешнего хулиганья вряд ли могли лечь в основу песни, популярной по всей низовой России.
Зато в Питере «васинские парни» составляли одну из крупнейших хулиганских группировок. Город ещё до революции был поделён между многочисленными шайками хулиганов. Самыми старыми считались банды Петербургской стороны — «Роща» и «Гайда». С начала XX века Петербургская сторона активно разрасталась. Рядом с деревянными домиками мелких чиновников и торговцев с Ситного рынка, с фешенебельными шестиэтажными доходными домами, где в апартаментах жил «средний класс», селились и рабочие с фабрик и заводов Дюфлона, Семёнова, Тюдора. Лев Лурье пишет: «Рощинские и гайдовские чувствовали себя хозяевами на Большом проспекте Петербургской стороны и прилегающих к нему улочках. Они жестоко расправлялись со сверстниками-чужаками, случайно забредшими в чужую часть города… Ночью по Большому ходить не решался никто — хулиганы могли безнаказанно избить, ограбить, надругаться». Затем здесь появились и «колтовские» — хулиганы не из рабочего, а из купеческого сословия. На Выборгской стороне «фризовские» соперничали с «сампсоньевскими». Возникли «владимирцы», «песковцы», «вознесенцы». На городских свалках — Горячем поле напротив Новодевичьего монастыря и Гаванском поле — хозяйничали «горячевская» и «гаванская» шайки. В них входили большей частью бездомные бродяги и босяки, которые жили на свалках.
А вот на Васильевском острове издавна противостояли местные «васинские» (остров любовно называли «Васька») и «железноводские» ребята с Голодая — остров севернее Васильевского, отделённый от него рекой Смоленкой. «Железноводские» во главе с Васькой Чёрным резали «васинских», как только те оказывались на их территории — севернее Малого проспекта Васильевского острова. Сами «железноводцы» смертельно рисковали, если решались зайти в Соловьёвский садик, где собирались «васинские» во главе с Колькой Ногой.
Однако 3 октября 1910 года обе группировки объединились, чтобы наказать «дворянских», которые нарушили «конвенцию» и порезали «васинского» Ваньку Котла в Александровском парке: это место считалось среди питерских хулиганов «нейтральной территорией». Здесь можно было бить и резать гуляющих, но запрещались стычки друг с другом. Однако «железноводцы» сорвали «воспитательную акцию». Вожак банды Васька Чёрный залез в карман рядового команды военной электротехнической школы Волкова. Другой рядовой, Блоцкий, схватил Ваську «на кармане», а 17-летний подельник Чёрного Аксёнов ударил Блоцкого ножом в шею и перебил ему сонную артерию. Солдат скончался на месте.
Убийство возмутило столичных обывателей. Облавы прошли по всему Петербургу. Убийц судили 26 ноября 1910 года. Аксёнова приговорили к повешению, Чёрный отбыл полтора года каторги и вернулся в Петербург, где 5 августа 1912 года его зарезали «васинские».
«Васинские» продолжали «греметь» и в советское время. Писатель Вадим Шефнер, вспоминая детдомовскую жизнь в начале 20-х годов, цитирует куплеты песни о «Ромашке Чесноке» (первооснова «Аржака»), где также упоминаются «васинские парни», которые зарезали главного героя, несмотря на его просьбу не драться ножом, и далее комментирует: «Но его всё-таки убивают, и именно ножом! А потом, осознав всю низость своего поступка, васинцы приходят на Смоленское кладбище в день похорон Ромашки и у его свежей могилы каются перед гаванцами и предлагают им вечную дружбу. Позже, вернувшись в Ленинград, я убедился, что автор песни отразил в ней свой идеал вечного мира на Васильевском острове — но отнюдь не истинное положение вещей: вражда между васинской и гаванской шпаной была ещё в полном разгаре и сопровождалась частыми драками, порой с применением финок; только к середине тридцатых годов угасла эта междоусобица».
Итак, «васинская» группировка была широко известна и в Петербурге, и в Ленинграде. Воспоминание Шефнера относится примерно к тому же времени, что и «омская» запись. Песня же, в основе которой лежит романс «Маруся отравилась», скорее всего, впервые появилась также в Петербурге.
Владимир Владимирович Аржак: приключения итальянца в России
Я уже высказывал предположение, что хулиганская баллада была создана ранее 1921 года, когда впервые письменно зафиксирована. На это указывает хотя бы тот факт, что песня о Чесноке отмечена одновременно в Питере и в Омской области. Должен был пройти определённый срок, чтобы она столь широко распространилась по России. Но когда же именно возник «Аржак» (он же «Чеснок»)?
Возможно, ответ нам подскажет немой советский фильм, который имеет прямое отношение к нашей теме. Называется он «Барышня и хулиган». Да-да, тот самый фильм, где поэт Владимир Маяковский выступил сразу в трёх ипостасях — актёра, сценариста и режиссёра (вместе с Евгением Славинским). Картина вышла в 1918 году и имела огромный успех. Владимир Владимирович прекрасно сыграл хулигана из захолустного городка, его партнёршей была Александра Ребикова в роли учительницы. Сюжет заимствован из популярной в то время переводной повести итальянского писателя-социалиста Эдмондо д’Амичиса «Учительница рабочих» («La maestrina degli operai»). К 1918 году повесть вышла в России уже пятым изданием. Правда, место действия сценарист перенёс из Италии в дореволюционную Россию. Картина «Барышня и хулиган» явилась одной из первых попыток откровенной поэтизации хулиганства; затем к этому процессу подключился другой гениальный поэт — Сергей Есенин.
Сюжет фильма прост. В уездный городишко приезжает молодая миловидная учительница. На неё кладёт глаз местный верзила-хулиган, который разгуливает по улицам со стеком — тонкой короткой тростью на ременной петле, обхватывающей запястье. Верзила отбирает деньги у низкорослых, тщедушных горожан, угощает девушек семечками и уводит от кавалеров. Чтобы быть поближе к предмету своей страсти, хулиган приходит в класс, где за партами сидят рядом мальчуганы, великовозрастные недоросли и мрачные бородатые мужики. Трагическая интрига сводится к тому, что хулиган накостылял одному из школяров, оскорбившему «училку», а папаша пострадавшего собрал толпу мужичья и пошёл на «разборки» с обидчиком.
Сначала папаша и хулиган схватились за ножи, но затем герой Маяковского отшвыривает нож в сторону, то же делает и бородатый папа. Противники схватываются в честной борьбе. Когда же хулиган начинает одолевать, кто-то из толпы бьёт его между лопаток поднятым с земли ножом. И все скопом бросаются добивать поверженного: человек десять на одного. Финал: хулиган умирает в больнице, но перед этим рыдающая учительница целует его в губы, а священник подносит крест…
Мы можем убедиться, что в общих чертах коллизия «Барышни и хулигана» очень близка к сюжету «Аржака». И драка без ножа, и расправа над «честным хулиганом», и повод — из-за женщины, и больничная палата… К сему напомним песенные строки —
и сопоставим их с рыдающей учительницей. Более того: в ранних редакциях хулиганской баллады присутствует и священник:
Позднее священник исчезает — видимо, из-за идеологических соображений: какие священники, когда по стране церкви рушат? Из фильма тоже в двадцатых годах вырезают эпизод со священником, а заодно из названия удаляют всякое упоминание о хулигане, «перекрестив» картину на итальянский манер — «Учительница рабочих».
Резюмируя всё сказанное, можно с большой долей вероятности предположить, что сюжет «Барышни и хулигана» мог подтолкнуть неизвестных авторов к созданию трагического повествования о Чесноке, впоследствии — Аржаке.
Хулиган — это диагноз
Но огромную популярность хулиганская баллада о Кольке Аржаке обрела именно с приходом советской власти. Почему? Дело в том, что тревожная ситуация с дореволюционными «башибузуками» и «апашами» по сравнению с разгулом советского хулиганства может показаться пляской зайчиков вокруг новогодней ёлки. В СССР хулиганство достигло масштабов национального бедствия, хулиган стал неотъемлемой фигурой повседневной жизни и во многом её определял.
Так случилось не сразу. «Гражданская война во всех её проявлениях позволила лицам, по своему психологическому складу склонным к хулиганскому поведению, полностью реализоваться в конкретной деятельности белых, красных, “зелёных” и т. д. Кроме того, при отсутствии законодательства, регулировавшего борьбу с хулиганством, когда суд руководствовался “революционной совестью” и “классовым сознанием”, совершение хулиганских действий грозило правонарушителю серьёзными последствиями», — пишет исследователь С. Панин. Но пришла мирная жизнь, время разрушения закончилось, начиналась пора созидания. К этому многие оказались не готовы. Наблюдается всплеск «беспричинного озорства». В РСФСР хулиганские действия в расчёте на 10 тысяч человек за несколько лет выросли феноменально: в 1925 году — 3,2, в 1926-м — 16,7, а в 1927-м — 25,2 случая (данные статистического отдела НКВД). То есть за три года хулиганство подскочило более чем в восемь раз! Лидировали города. В них проживало около 17 % населения страны, а из общего числа хулиганских поступков на долю городского населения приходилось более 40 %. В Ленинграде число приговорённых к различным срокам тюремного заключения за нарушение общественного порядка с 1923 по 1926 год увеличилось более чем в 10 раз. Не менее впечатляющая ситуация сложилась в регионах. В Иваново-Вознесенской губернии в 1923 году возбуждено 428 уголовных дел о хулиганстве, в 1924-м — на 78 % больше, в 1925-м — на 117 % больше, чем в 1924-м, в 1926-м — на 166 % больше, чем в 1925 году.
Психиатры отмечали, что хулиганы (большинство из которых составляли подростки и молодёжь) проявляют повышенную нервозность, истеричность, склонность к патологическим реакциям. Из 408 обследованных в 1927 году рабочих подростков Пензы 93,6 % имели нервные заболевания. А в школах рабочих окраин Пензы умственно отсталые ученики часто составляли до 52 %! Исследование, проведённое в 20-е годы А. Мишустиным («Алкоголь, наследственность и травма у хулиганов»), показало, что среди обследованных хулиганов 56,1 % — травматико-невротики, а 32 % — неврастеники и истерики.
Подобные наблюдения подвигли известного русского учёного Александра Чижевского на создание исследования «К вопросу о природе хулиганства» (1926–1927), где автор определил хулиганство как психическую болезнь, а его распространение — как «эпидемию».
Одним из источников «болезни» Чижевский называл безудержную поэтизацию и героизацию хулиганства в современном искусстве: «Вся поэзия 1917–1921 гг. сплошь проникнута духом безудержного хулиганства. Возмутительные акты неприличия, непотребства, полового извращения, смакование убийств, вплоть до сладострастного воспевания потрошения человеческой утробы — вот основные мотивы этого циничного, бездарного и вместе с тем явно-патологического течения в русской поэзии».
Учёный заостряет внимание на слабой психической конституции хулиганов: «Согласно статистическим сведениям, огромный процент лиц, задержанных по обвинению в хулиганстве, находится в возрасте от 18 до 25 лет… Война и революция, голод и эпидемии принесли бесчисленное количество тревог и жертв. Физическая и нервно-психическая конституция молодых людей указанного возраста была подвергнута ходом исторических событий вопиющему и безжалостному насилию. Каждый из них может насчитать ряд тяжёлых моральных переживаний, потерю близких, немало месяцев голодания, доводившего многих до пробуждения каннибальских порывов, или систематического недоедания, длившегося годы. Все эти факторы расшатывали молодой растущий организм, создавая благоприятную почву для возникновения физических и нервных заболеваний».
Профессор отмечает активное появление в общественной жизни аффективных личностей, истериков с физическими и моральными недостатками. Именно они являются центрами распространения психической заразы, «воспламеняют страсти окружающих, предрасположенных к тому лиц».
Мысль о «болезненной заразности» хулиганства Чижевский подтверждает статистическими данными за период с апреля 1924 по июнь 1926 года: «Хулиганство распространяется вполне эпидемически, охватывая всё большие и большие районы и поражая всё сильнее и сильнее население… За два года зарегистрировано до 680 000 хулиганских и озорных актов, не считая более тяжёлых преступлений, тесно связанных с хулиганством, которые также насчитываются десятками тысяч в год. Следует отметить, что указанное число в 680 000 — чисто официальная сводка. Нет сомнения, что подлинное количество хулиганских деяний по крайней мере в два-три раза больше, т. е. число почти что достигает 2 000 000!» Отсюда — вывод: «Мы имеем здесь дело с повальным распространением известного явления, которое стремится подобно остроинфекционным болезням овладеть наибольшим количеством жертв, лишённых возможности сопротивляться, и которое, передаваясь из округа в округ, ставит население страны под угрозой массового заражения».
На основании анализа ситуации автор делает крамольное открытие. Оказывается, наиболее подвержен «заражению хулиганством»… пролетариат, который большевики считали «передовым классом»! Размышления учёного для того времени чудовищны: «Представители рабочего класса участвуют в эпидемии хулиганства в первую очередь… В то же время представителей деклассированных слоев населения, например бывшей буржуазии, мы встречаем здесь наименьшее количество. Это явление объясняется тем, что рабочему элементу, по преимуществу, свойственна истерическая конституция, которая обязана, как известно, различным производственным травмам, подобно тому, как представители армий обычно травматизированы войной… Грандиозные психопатические эпидемии всегда вспыхивали в среде этого класса, и проявления истерии… всегда бывали выражены с достаточной ясностью». Далее рисуется типичный портрет пролетариев и прочей «сволочи»: «Лица с болезненным состоянием психики — психопаты, дегенераты, истерики, лица, предрасположенные к нервно-психическим заболеваниям, лица, чей организм расшатан или ослаблен тяжёлыми условиями жизни, непосильной работой, перенесённой болезнью, ранней или неумеренной половой жизнью, наконец, лица, которые испытывают нравственную неудовлетворённость, отсутствие стремлений и идей и не обладают никакими систематическими познаниями».
Как говаривал небезызвестный профессор Преображенский: «Да, я не люблю пролетариат»… Но не до такой же степени! Понятно, что подобное исследование не могло быть опубликовано в Республике Советов. Оно вышло в свет лишь в 1998 году.
Пролетарское бузотёрство
Статистика 20-х годов подтверждает наблюдения Чижевского. Криминологи отмечали, что «хулиганит в основном рабоче-крестьянская молодежь в возрасте от 18 до 25 и главным образом на почве социальной распущенности, выражающейся в грубой примитивности интересов, в отсутствии культурных запросов и социальной установки, в крайне низком образовательном уровне». По данным обследования 1926 года, рабочая молодежь составляла около 75 % всех хулиганов. Около половины из них — выходцы из деревни. Нэпманов и служащих ничтожно мало. Интеллект «озорников» крайне низок: 76 % имеют начальное образование, 10 % — среднее, столько же неграмотных.
Солидарны с криминологами и сочинители баллады о Кольке Аржаке. В ряде вариантов песни действие происходит именно на фабрично-заводской окраине:
Заметим, что в раннем варианте 1921 года привязки к заводу или фабрике нет:
Сначала хулиганство в Стране Советов определялось достаточно туманно: как «озорные, бесцельные, сопряженные с явным проявлением неуважения к отдельным гражданам или обществу в целом действия» (статья 176 УК РСФСР 1922 года). Да и позднее это явление трактовалось как Бог на душу положит: «Под хулиганством понимались самые разные действия: произнесение нецензурных слов, стрельба из огнестрельного оружия, шум, крики, пение озорных или нецензурных песен и частушек, обрызгивание граждан водой и нечистотами, бесцельное постукивание в двери домов, устройство загромождений на дорогах, кулачные бои, драки и т. д.» (журнал «Право и жизнь», № 2, 1927).
Хулиганили на улицах, в рабочих клубах, кинотеатрах, пивных, в государственных учреждениях. В Казани закидали палками и камнями агитационный самолет «Осавиахима», в Новосибирске разогнали комсомольскую демонстрацию, в Пензенской губернии развернули «рельсовую войну»: разбирали железнодорожное полотно и подкладывали шпалы на пути проходивших поездов. За весну 1925 года под откос пошли три поезда, два человека погибли, девять были ранены.
Нередко выходки носили националистический характер. Рабочую молодёжь к этому подталкивала идеология. Так, в мае 1928 года ЦК комсомола принял постановление «О работе среди еврейской фабрично-заводской молодёжи», где подчеркивалось, что «троцкистская оппозиция нашла в своё время известный отклик среди вновь привлекаемой в производство еврейской рабочей молодёжи». Это заявление спровоцировало взрыв антисемитских хулиганских выходок. В одном из городков близ Ленинграда группа хулиганов убила еврейского юношу — учащегося ФЗУ, посчитав это «праведной местью» за коварство Троцкого: «Он продал нашего Ленина, как Иуда Христа». Хулиганили «во имя Ленина»…
Эти настроения наблюдались и позже. 29 апреля 1936 года слушатели Центральной школы национальных меньшинств в Москве возвращались с первомайского вечера и пели узбекские песни. К ним пристали шестеро «местных» — Кузьмичёв, Бекасов, Медведев, Зорин и другие. Они стали обзывать узбеков «чурками», «азиатскими мордами», а возле общежития набросились на них. Абдулаева ударили ножом в горло, Исмаилджанова — в плечо. К счастью, пострадавшие выжили. Нападавших арестовали, Кузьмичёва приговорили к расстрелу, который заменили десятью годами лишения свободы.
Власть долго смотрела на «рабочее озорство» благодушно и даже использовала его в своих целях. Молодёжь вели громить церкви и храмы, бить самогонщиков, призывали «поприжать старую мастеровщину и инженеров». Травля «спецов» привела к тому, что 3 ноября 1928 года на ленинградской фабрике «Скороход» рабочий Быков из хулиганских побуждений застрелил мастера Степанкова. С тех пор «спецеедство» получило название «быковщина».
Коммунистические идеологи идеализировали босяков, снисходительно смотрели на хулиганов. В 1924 году начальник административного отдела Ленинградского губисполкома рекомендовал «при привлечении к ответственности замеченных в хулиганстве проводить классовый подход». А в 1927 году нарком просвещения Анатолий Луначарский, выступая на митинге, посвящённом «есенинщине», заявил, что существует тип хулигана, полезный для революции. Хулиганство подавали как форму протеста против нэпманской буржуазии.
С другой стороны, советская власть пыталась приструнить «озорников». Поначалу (УК РСФСР 1922 года) хулигану грозило небольшое наказание: принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года. «Рабоче-крестьянские» бузотёры отделывались парой месяцев тюрьмы. Стали появляться озорные частушки:
В 1924 году хулиганство вообще изъяли из уголовной сферы и стали сажать «озорников» на 15 суток. Это привело к чудовищным последствиям. Хулиганьё терроризировало горожан. «Красная газета» в 1925 году писала: «В Ленинграде есть ряд хулиганских корпораций. Охтинская, гаванпольская, балтийская, тамбовская. У каждой — своё лицо. Охтинские занимаются разрушением домов — бьют стёкла, срывают вывески, выворачивают фонари, мажут ворота и стены. Гаванпольские нападают на прохожих. Балтийские специализируются на собачонках и кошках, которых подвешивают к окнам, чтобы пищали, и на преследовании подростков. Тамбовские практикуют в пивных и клубах». Люди боялись обращаться в милицию, потому что после короткой отсидки хулиганы возвращались и начинали мстить.
Отдел ГПУ по Пензенской губернии докладывал в 1927 году московскому начальству, что среди рабочих Трубочного завода ходят разговоры: «Стало невозможно, нигде покоя тебе нет от этих хулиганов… Всё время только и слышишь, что кого-нибудь бьют или ругаются матом, кричат “Зарежу!”, “Застрелю!”… Это происходит оттого, что власть слабо борется с хулиганством. Сегодня задержат, а дня через 2, через 3 хулигана опять встретишь…»
Появляются хулиганские объединения: «Центральный комитет шпаны», «Топтательный комитет», «Интернационал дураков», «Кружки хулиганов», «Общество “Долой невинность”», «Общество советских алкоголиков», «Общество советских лодырей», «Союз хулиганов»… В некоторых избирали «политбюро» и платили членские взносы. В Питере в середине 20-х годов действовал «Союз советских хулиганов». Возглавлял его бывший есаул 6-го казачьего кавалерийского полка Дубинин. Ему удалось собрать в единый кулак более ста молодых парней. Все они добывали средства к существованию уголовными преступлениями.
Наконец власть серьёзно обеспокоилась разгулом уличной преступности. В декабре 1925 года Народный комиссариат юстиции РСФСР издал циркуляр № 251 с требованием решительно искоренять хулиганство. В1926 году 74 % приговоров судов по делам о хулиганстве сводились к лишению свободы. В октябре 1926 года выходит постановление СНК СССР «О мерах по борьбе с хулиганством», в котором судам предложено давать «озорникам» сроки не ниже трёх месяцев, а условное и условно-досрочное освобождение вовсе исключить. Допускалась и ссылка в отдаленные места СССР. И всё же нижняя санкция статьи предусматривала всего три месяца изоляции, «потолок» — два года лишения свободы.
В конце 1920-х для борьбы с хулиганством стали использовать рабочие дружины, вечерние и ночные облавы. Но коллективизация и индустриализация резко увеличили городское население за счёт вчерашних крестьян, часто настроенных крайне враждебно к власти, согнавшей их с мест. К тому же государство увеличило выпуск спиртного и поощряло его употребление. В таком «контексте» попытки покончить с хулиганством были обречены на провал.
Лишь к середине 30-х годов в Советском Союзе произошло окончательное становление сильного государственного строя. И правоохранители принялись искоренять хулиганство с присущей тому времени непримиримостью. Как заявил нарком юстиции СССР Николай Крыленко: «Для широких обывательских кругов вопрос о том, могут ли они спокойно пройти по улице, не рискуя получить плевок в физиономию, является вопросом, на котором они испытывают крепость политической власти того класса, который господствует и который правит».
Особенно показателен разгром ленинградской хулиганской шайки братьев Шемогайловых. Практически все ее члены были коренными питерцами, выросли в пролетарском районе города. Начали с того, что отбирали мелочь у малышей, перешли к изнасилованиям комсомолок, избили трёх рабочих-активистов. В январе 1934 года шайка совершила налёт на «красный уголок»: один пострадавший остался калекой, а Степан Шемогайлов убил ударом кастета комсомольца Алексея Доненкова. Хулиганов задержали, в обвинительное заключение вошло более ста эпизодов. Оказалось, братья Василий и Степан Шемогайловы были лишь формальными атаманами шайки, на самом деле во главе стояли двоюродные братья Пётр Лупанов и Пётр Егоров. Их родителей — мелких лавочников — в 20-е годы раскулачили, братья сбежали в Ленинград и решили мстить «коммунякам». Суд в июле 1934 года приговорил Шемогайловых, Лупанова, Егорова и Жуковского к «высшей мере социальной защиты» — расстрелу. Остальные получили от одного до 10 лет лишения свободы.
После постановления СНК СССР от 29 марта 1935 года «О мерах борьбы с хулиганством» гайки закрутили до предела. А 10 августа 1940 года Президиум ВС СССР издал указ «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство», и в городах стали создавать дежурные камеры народных судов. В Ленинграде городской прокурор Д. Грибанов заявил: «Задержанных за хулиганство будут сразу же направлять в эти камеры. Дела будут слушаться без предварительного расследования… Действия злостных хулиганов, нанёсших кому-либо ранение или увечье либо совершивших преступления группой, квалифицируются как бандитизм. Виновные подвергнутся самым суровым мерам наказания, вплоть до расстрела».
За словами последовали дела. Наказания поражают своей суровостью:
«Попов М. П. 21 августа в закусочной выражался нецензурной бранью и толкал посетителей. 22 августа осужден к 1 году тюремного заключения».
«Кузнецов В. П. 21 августа ударил чемоданом по лицу гр-на Сахарова. 22 августа осужден к 3 годам тюремного заключения с запрещением в течение 4 лет после отбытия наказания проживать в главных городах Союза».
«Отъявленный хулиган, известный под кличкой Ханжа, Смородинов беспричинно приставал к сидящему на скамейке Н. Бурдилову. Он всячески его оскорблял, ударил селёдкой по лицу, а затем стал избивать и сбросил со скамейки на землю… Смородинов осужден на 5 лет лишения свободы с последующим запрещением в течение 5 лет жить в центральных городах СССР».
После этого на улицах воцарилось относительное спокойствие.
«Хулигана я очень люблю»
Мы не случайно отвели столько места истории русского и советского хулиганства. Теперь можно локализовать время создания «канонического» текста хулиганской баллады. Это 20-е годы прошлого века — период «героизации» советского хулигана в низовом фольклоре. Появляются частушки, исполнители которых с гордостью именуют себя хулиганами и подчёркивают, что не боятся тюрьмы:
В песне о подлой Мурке, которая снюхалась с чекистами, хулиганы и уркаганы объединены в одну шайку:
Отождествляются воры и хулиганы также в песне про «девочку-жиганку»:
Кстати, в прототексте «Аржака» отсутствует сам термин «хулиган» — там герой называется «атаманом». Это неявный отсыл к дореволюционным временам, когда «хулиган» ещё не прижился в низовой среде, а вот «атаман» — главарь ватаги, шайки — был чрезвычайно распространён, о чём свидетельствует множество частушек:
Но в конце 20-х история любви «уркаганов» и «хулиганов» обрывается. Когда хулиганство стало политическим преступлением, за которое можно было схлопотать расстрел (в 1937 году его отнесли к «контрреволюционным»), воры и босяки резко отмежевались от «бакланов». Из-за этого на «малинах» и в лагерях ни «Мурка», ни «Аржак» не пользовались популярностью и не исполнялись. «Мурка» если и пелась, то без первого куплета с упоминанием хулиганов. «Аржак», как и ряд других низовых уголовных песен, ушёл на улицы, во дворы и подворотни. Слава его возродилась позже, в конце 40-х годов, когда хулиганство вновь стало бичом советского послевоенного общества и потребовало своего героического песенного фольклора.
«Аржак, красивый парень, ходил без картуза…»
А, собственно, почему авторы подчёркивают эту особенность? Ну, без картуза — и что? Вот если бы без штанов — дело другое. Однако, как нам предстоит убедиться, манера прогулок с непокрытой головой не случайна.
Но прежде разберёмся, что это за головной убор — картуз. Слово «картуз» происходит от итальянского cartoccio — «кулёчек», преобразованного во французский cartouche — «патрон» (возможно, многие вспомнят знаменитого разбойника Картуша в исполнении Бельмондо). В русский язык слово пришло из шведского во времена Петра Великого. Шведы картузом (карпусом) называли суконный мягкий колпак с козырьком, действительно внешне напоминавший кулёк.
А в привычном виде картуз вошёл в состав русского мужского костюма к началу XIX века. Это — фуражка с плоским круглым верхом, большим козырьком и очень высоким околышем, доходившим до 5–8 сантиметров. От фуражки картуз отличался тем, что не имел отличительных знаков, указывающих на принадлежность к какому-либо ведомству.
Картуз являлся «визитной карточкой» хулигана не только до революции, но и как минимум в первое десятилетие советской власти. Киношный персонаж Маяковского тоже повсюду щеголяет в картузе. В том же самом 1918 году, когда на экраны страны выходит «Барышня и хулиган», Александр Блок публикует знаменитую поэму «Двенадцать», где так аттестует революционный (фактически уголовно-хулиганский) патруль:
Обычай «лепить» на спины осуждённым «бубнового туза» появился на царской каторге: тряпичные ромбы нашивались для того, чтобы конвоир мог легче попасть в спину каторжанину при попытке побега. Поначалу ромбы были чёрными: «Просто жаль было смотреть на него, облечённого в серую куртку с двумя чёрными каторжными тузами на спине» (П. Якубович. «В мире отверженных»). Затем «тузы» поменяли цвет на жёлтый и оранжевый. Тогда-то они получили эпитет «бубновых» и стали синонимом каторги. Как писал Николай Некрасов в «Героях времени»:
Советская тюремно-лагерная система переняла у царской обычай нашивать «бубнового туза» на спину зэкам, и вот уже Ярослав Смеляков пишет в «Послании Павловскому»:
Конечно, картузы носила вся Россия, а не только хулиганы. Эти головные уборы мы встречаем на головах гоголевского Манилова, тургеневских Николая Кирсанова и Евгения Базарова, даже на герое пушкинского «Медного всадника» — Евгении. И всё же к началу XX века картузы — головной убор преимущественно рабочих, ремесленников, крестьян. Собственно, внешне городские хулиганы в то время вообще мало чем отличались от обычных рабочих. Да и как иначе, если большей частью они были обитателями рабочих районов, а многие сами вкалывали на производстве?
В первые десятилетия XX века спецодежды рабочий не имел: одевались кто во что горазд. Но нас интересуют именно головные уборы. Вот что пишет исследователь истории костюма Я. Ривош: «Характерной чертой рабочих (всех без исключения специальностей) в то время была манера носить на работе головной убор. Это могла быть кепка-восьмиклинка, картуз, фуражка-капитанка… Некоторые старые рабочие носили также кожаные кепки, реже — кожаные фуражки, получившие распространение лишь в период Гражданской войны».
Поэтому хулиганы стремились выделиться не картузом как таковым, а способом его ношения. Лев Лурье в исследовании о хулиганах старого Петербурга пишет: «“Гайдовцев” отличают по тому, что у них картуз залихватски надвинут на правое ухо, а у “рощинцев” — на левое».
Хулиганы из купеческого сословия предпочитали более дорогую разновидность картуза — фуражку-московку, головной убор состоятельных обывателей. Так, в романе Алексея Скалдина «Странствия и приключения Никодима Старшего» читаем: «За спиной же Никодима оказался русокудрый молодец, в синей поддёвке, подпоясанной пёстрым кушаком, в плисовых шароварах и пахучих смазных сапогах, — словом, человек вида совсем не монастырского. В правой руке он держал письмо… а левой придерживал у пояса фуражку-московку». Молодец одет для того времени богато и стильно. Вот и другие купеческие хулиганы: «На окраине Петербургской стороны, на глухих колтовских улицах, где жили купцы, мещане, разночинцы, разгуливали местные хулиганы — подростки лет 14, в основном купеческие сынки. В модном среди них наряде: пиджак, косоворотка, пояс с кистями, лакированные сапоги, фуражка-московка, они угрожающе распевали не совсем внятную, но лихую песню: “По одной стороне Гайда свищет-идёт, по другой стороне Роща бить всех спешит”».
Не забудем ещё один головной убор хулигана 20-х годов. Журналист еженедельника «Аргументы и факты» Константин Кудряшов в материале «Повесам — по мордасам» приводит воспоминания питерского старожила П. Бондаренко: «Летом шпана носила кепки, сдвинутые на левое ухо, либо фуражки-“капитанки” с большим лакированным козырьком, сама “капитанка” непременно синего цвета». Это «либо» дорогого стоит. Различие между кепками (к середине 20-х картузы стали уступать место английским кепи) и «капитанками» подчёркивало статус хулиганов. «Капитанки» носили наиболее авторитетные. Это опять же связано с повседневным рабочим бытом. На производстве такие головные уборы полагались мастерам. Я. Ривош пишет: «Мастера казённых заводов, железнодорожных мастерских, рудников чаще всего ходили в штатском, но вид их значительно отличался от рабочих. На голове они носили котелки, шляпы или чёрные (синие) фуражки-“капитанки” с лаковым чёрным козырьком и плетёным шнурком вместо ремешка». Он же даёт и более подробное описание «капитанки»: «Чёрная или тёмно-синяя, с чёрной муаровой лентой вокруг околыша, с лакированным козырьком и таким же ремешком. Иногда ремешок заменялся затейливо сплетённым шнурком».
Но вернёмся к Аржаку. Его манера ходить без картуза говорит, в первую очередь, о явном желании выделиться из общей массы как хулиганов, так и обычных работяг. В определённом смысле это воспринималось как фрондёрство, как вызов. Это не могло не раздражать остальных бузотёров.
Однако есть и иная причина. Один из вариантов песни «Маруся отравилась», откуда «Аржак» заимствовал ряд сюжетных линий, начинается словами:
Вечер вечереет.
Наборщицы идут…
Речь явно о типографии. Возможно, Колька Аржаков унаследовал от Маруси ту же профессию. И этим многое объясняется: «Лучше других одевались… типографские работники… Рабочие-полиграфисты одевались на работе более по-городскому, чем рабочие других профессий. Они работали без головных уборов», — пишет все тот же Я. Ривош.
Таким образом, Колька Аржак уже одним своим внешним видом подчёркивает превосходство над другими хулиганами: он — «белая кость», «рабочая интеллигенция» (полиграфисты по роду деятельности были грамотнее и образованнее, нежели остальные пролетарии). Стало быть, причина расправы над ним — не только в ухаживании за «чужими девчатами». Хотя не исключено, что девчата тянулись к Аржаку как к представителю «культурной» профессии — в отличие от «грязных» ухажёров из металлургических и иных производственных цехов.
«В грудь ему воткнулись четырнадцать ножей»
Основная интрига баллады «Аржак» раскручивается вокруг «неблагородного» поведения шайки хулиганов, которые зарезали безоружного коллегу, несмотря на то, что он предложил драться голыми руками. Авторы специально подчёркивают особую доблесть Аржака, который «считался хулиганом, но дрался без ножа». Другими словами, атрибутом типичного хулигана непременно должен быть нож.
Здесь надо сделать важное отступление. Ни один из Уголовных кодексов советского образца не определял хулиганство как преступление с применением оружия! Оно трактовалось как озорные действия с явным проявлением неуважения к обществу (1924), буйство и бесчинство, которое отличается исключительным цинизмом или дерзостью (1926), умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, — но никогда речь не шла о применении оружия! Вооруженное хулиганство чаще всего старались переквалифицировать в преступные деяния, которые подпадали под более серьёзные статьи.
А вот в новой России всё переменилось. Госдума 24 мая 1996 года принимает новый Уголовный кодекс Российской Федерации, где под хулиганством традиционно разумеется «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества» (статья 213). Однако затем происходит странная метаморфоза. С. Панин пишет: «Как отмечал один из судей Верховного суда РФ, “авторы УК РФ 1996 года в отношении хулиганов продемонстрировали явный либерализм”: “особая дерзость” в виде нанесения побоев, легкого вреда здоровью — наиболее распространенный вид хулиганства из категории тяжких преступлений — перекочевала в разряд деяний небольшой тяжести… Сравните: молодой, дерзкий преступник демонстративно “в кровь” избил пожилого мужчину, сделавшего ему справедливое замечание, — до 2 лет лишения свободы. Тот же преступник тайно похитил бутылку импортного пива из киоска — от 2 до 6 лет лишения свободы…»
Замечание справедливое. Казалось бы, из него следует, что санкции за хулиганство надо ужесточить. Однако происходит наоборот! Статья 213 УК РФ действительно претерпела значительные изменения 8 декабря 2003 года. Её сократили, оставив, по сути, лишь уголовную ответственность за вооружённое хулиганство! Любые другие действия из прежнего «традиционного» определения либо «нежно» караются по второй части статьи 116 УК РФ «Побои» — до двух лет лишения свободы, либо вообще отнесены к разряду «мелкого хулиганства». Согласно части первой статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, под мелким хулиганством понимается «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества»[21].
То есть если с вас сняли шапку, нагадили в неё и надели вам же на голову — это «шутка юмора». Вас могут сбить с ног и затем помочиться на вас, облить краской — за это обидчиков ожидает «ай-яй-яй со штрафом». Правда, за такое насилие без оружия УК РФ тоже карает. Но под уголовно наказуемыми истязаниями (статья 117 УК РФ) имеются в виду лишь систематические насильственные действия. Если вас регулярно окунают в дерьмо — это преступление. А один-два раза — ребячья шалость… Из определения хулиганства ушли понятия исключительного цинизма и дерзости. Как не вспомнить слова наркома Крыленко: о власти граждане судят по тому, могут ли они спокойно пройти по улице, не рискуя получить плевок в физиономию.
Однако вернёмся к России прежней. Дикая поножовщина традиционно считалась у русского народа в порядке вещей. Причём если в городе массовые драки с применением оружия хоть как-то можно было пресекать, применяя полицию, а то и солдат, в деревне подобные «развлечения» практически оставались бесконтрольными. Как пишет Л. Лурье: «Деревня знала тяжёлые формы хулиганства — поножовщину, при которой орудием преступления мог быть и нож, и кол, и кулак». Причём нож считался не самым страшным оружием — в ход пускали кастеты, гирьки на цепочке, дубины или трости, перчатки с утяжелителем-свинчаткой, кистени:
Правоохранители империи не особо вмешивались в «народные забавы», предпочитая бороться с проникновением в деревню «политических смутьянов» разных мастей, что отразилось и в фольклоре с упоминанием «листочков»-прокламаций:
После реформы 1861 года, отменившей крепостное право, крестьяне повалили в города, укрепляя ряды маргиналов-костоломов. Правда, в городах меж хулиганских шаек существовали свои «правила», согласно которым орудовать оружием разрешалось только при выяснении отношений между группировками. Но в XX веке всё стало меняться. Л. Лурье отмечает: «По словам родоначальников питерского хулиганства, ножи и гири они применяли только в стычках с соперничающими группировками… а вот те, кто пришёл им на смену, были горазды на любое беспричинное преступление».
С началом войны 1914 года дикая резня сошла на нет: разудалые ребята отправлялись на фронт, где им было чем занять ручки шаловливые. Пламя хулиганства естественным образом удалось погасить. Однако оно с новой силой забушевало в начале 20-х годов, уже в Совдепии. Эпоха войн и революций добавила свои штрихи — теперь в руках «озорников» появились наганы:
В 1926 году на Обводном канале Ленинграда при побоище между двумя шайками хулиганов — тамбовской и воронежской — в ход были пущены не только камни, палки, ножи, но раздавались выстрелы из револьверов. И всё же чем дальше от военного времени, тем реже стали мелькать в руках уличной шпаны «шпалеры». А вот ножи были непременными спутниками сорвиголов.
Уголовная хроника тех лет пестрит сообщениями о нападениях с применением холодного оружия. Так, в Питере на протяжении 1924–1925 годов шайка обнаглевшего хулиганья во главе с «атаманом» Берлиным и «есаулом» Храпом орудовала в районе Смольного, рядом с обкомом большевистской партии. В шайке было 23 участника, они каждый вечер резали прохожих. Милиция оказалась бессильна, пришлось вызывать красноармейцев.
То же самое происходило и в Москве, и в других городах даже в середине-конце 1930-х годов. Шайка некоего Бородулина ворвалась 21 апреля 1935 года в «красный уголок» треста «Мосстройканализация» в Филях. По призыву атамана: «Режьте, ребята, ножами!» — хулиганы набросились на стоявших у входа граждан. Порезали заведующего «красным уголком» Быкова и председателя профсоюзного бюро Солдатова, ранили милиционера Роговского и рабочего Рогова, а рабочий Забиров от ножевого ранения позже скончался.
Хулиганы не унимались и в период «мрачных сталинских репрессий». 1 мая 1938 года на Загородном шоссе пьяная шайка в составе Германа Есипова, Константина и Георгия Соловьёвых, Ивана Волкова подошла к палатке, торгующей квасом, и попыталась пролезть без очереди. Когда стоявшие в очереди Соколов и Коровин сделали им замечание, Константин Соловьев с криком «Режьте, ребята!» нанёс удар финкой по голове Коровину, Есипов всадил нож в бок Соколову, а Волков порезал руку гражданину Журавлеву.
Частушечный фольклор того времени не обходится без упоминания поножовщины:
В обстановке повальной резни указание на то, что известный хулиган не использует в драке ножа, воспринималось как нечто исключительное, создавало вокруг Аржака ореол не просто героя, а человека выдающейся смелости, отчаянной отваги, «былинного» хулигана-богатыря.
Как Владимир Высоцкий воскресил Кольку Аржака
Итак, доблесть Аржака подчёркивается тем, что, хотя он считался хулиганом и на этом основании мог использовать холодное оружие, однако «дрался без ножа». Судя по тексту, такое поведение «выламывалось» из общей хулиганской традиции. И не только в первые советские десятилетия.
Я рос в 60-е годы прошлого века на окраине Ростова, где нож считался атрибутом всякого уважающего себя пацана. Мы носили при себе складные ножи «Белка», с большим лезвием, хотя и сделанным из дрянной стали. Их мог купить в спортивном магазине за 1 рубль 40 копеек любой мальчишка от семи лет и выше: на возраст продавцы не обращали внимания. Моего 17-летнего приятеля во время ночной облавы на разгулявшихся ребят забрали в милицию и обнаружили упомянутую «Белку» (или «Соболя» — они различались по контуру животного на пластмассовой рукояти). Его мама оправдывалась: «Серёженька этим ножиком карандаши строгает!» Хотя при желании таким лезвием можно было легко «построгать» и человека…
Бывший вор, затем писатель-эмигрант Михаил Дёмин в повести «…И пять бутылок водки» пишет: «Существует старая босяцкая заповедь — тот, кто пользуется ножом, должен иметь их несколько. С одним ходить нельзя. Необходим запас. Он бывает необходим в самых разных обстоятельствах».
Конечно, в драке можно было использовать и другие подручные средства: гирю, кистень, кастет, свинчатку. Но кастет по функциональности уступает ножу. Гирька на цепочке среди деревенских драчунов была популярна (известных бойцов даже хоронили с их любимыми гирьками), однако в городских условиях такое оружие применяли редко. Правда, порою — с особой изобретательностью. На Дону такую гирьку называли «ростовский кистень». Вот как её описывает тот же Дёмин: «Так называлась гиря — чугунная килограммовая гиря — на ремешке, на тонкой цепочке. Привязанная к запястью, она обычно прячется в рукаве либо в согнутой ладони и потому неприметна со стороны. Пущенный в ход, кистень действует молниеносно и сокрушительно. Он поражает на расстоянии четырёх метров, и уберечься от него практически невозможно… Оно распространено в основном на Северном Кавказе и предместьях Ростова».
Но подобные средства (кроме кастета) в советских городах считались «экзотикой». То же касается дубинок, тростей и т. д. Вот разве что «розочка» — разбитая бутылка с острыми краями, которую боец держал за горлышко. Помните:
В другом варианте прямо сказано:
И всё же самым опасным оружием хулигана считался нож (хулиган с наганом переходил в ранг «разбойника», «налётчика», «бандита»).
В связи с этим чрезвычайно интересно проследить, как история Аржака была творчески переосмыслена уже в начале 60-х годов прошлого века нашим замечательным поэтом Владимиром Высоцким. Тот, кто достаточно хорошо знаком с творчеством Владимира Семёновича, легко поймёт, о какой его песне идёт речь. Конечно же, это знаменитая «Тот, кто раньше с нею был». В ней отражены все основные мотивы «Аржака». Давайте освежим это произведение в памяти:
К сравнению двух песен мы ещё вернёмся, пока же необходимо прояснить: действительно ли «Аржак» повлиял на Высоцкого при создании его песни или же это — не более чем случайная перекличка, как это нередко бывает? Ведь утверждал же Пушкин — «Бывают странные сближенья…».
Казалось бы, повод для таких сомнений есть. Ведь созданная поэтом в 1962 году песня носила первоначально несколько названий, в том числе «Почти из биографии» и «Вестсайдская история на современный лад». Итак, вроде бы ясно сказано: переделка «Вестсайдской истории» (с примесью личного опыта). Но так ли это на самом деле?
Насчёт личного опыта — гадать не будем. К тому же слово «почти» к этому не располагает, да и сюжет песни далёк от реалий биографии Высоцкого. Перейдём сразу к «Вестсайдской истории». Прежде всего, довольно странно было перекладывать её «на современный лад», поскольку она и без того являлась вполне современной. Фильм West Side Story режиссёров Роберта Уайза и Джерома Роббинса по мотивам одноименного культового бродвейского мюзикла, созданного потомками еврейских эмигрантов из Российской империи композитором Леонардом Бернстайном и поэтом Стивеном Сонхаймом, вышел на экраны в 1961 году. Да и сюжет его к песне Высоцкого, прямо скажем, имеет весьма отдалённое отношение. Это — американизированная вариация трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Даже в перечне сценаристов указано — Эрнест Леман, Артур Лоуренс, Уильям Шекспир…
Вспомним фабулу. На окраине Нью-Йорка молодежные группировки «ракет» («коренные американцы») и «акул» (пуэрториканцы) жестоко враждуют между собой — в том числе на почве расовой ненависти. Друг атамана «ракет» Рифа — Тони влюбляется в сестру атамана «акул» Бернардо — юную Марию. Далее примерно по шекспировскому сюжету: Бернардо ненавидит Тони, убивает его друга, Тони мстит и убивает самого Бернардо, затем сам гибнет от пуэрториканской пули…
Ничего близкого песне Высоцкого. А теперь сравните с «Аржаком»: девчата любят гулять с героем, «васинские парни» ревнуют. Устраивают засаду и нападают толпой на одного (в некоторых вариантах на двух). Наносят многочисленные раны ножами.
По всем основным линиям Высоцкий следует за «Аржаком». Однако излагает события в своей интерпретации: его герой, современный поэту дворовый пацан, далёк от ограничений балладного героя-хулигана. Он без сомнений хватается за нож и наносит удар первым. Собственно, как мы помним, то же пытается сделать и Аржак, только бутылкой, но не успевает. И далее Высоцкий не желает, чтобы его герой погибал — пусть даже красиво! Он выживет — лично отомстит за всё, без помощи мифического Рыжего Николая… То есть Владимир Семёнович поступает с «Аржаком» так же, как авторы «Вестсайдской истории» — с «Ромео и Джульеттой». Ведь и там в финале Мария не погибает (то есть не следует судьбе Джульетты), а банды — не мирятся (как это сделали в Вероне Монтекки и Капулетти)…
Теперь остаётся один вопрос: а был ли знаком Высоцкий с песней об Аржаке? И вот тут, я думаю, можно на все сто процентов ответить утвердительно. Чтобы подтвердить это, не требуется особых усилий. Нужно лишь снова обратиться к судьбе Андрея Донатовича Синявского, о котором было уже не раз упомянуто в этой книге.
Синявский в 1949 году окончил филологический факультет Московского университета, затем — аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и стал работать в Институте мировой литературы им. М. Горького (ИМЛИ). Но отношения с властью у него как-то не заладились. Уже в ходе работы над историей советской литературы цензура забраковала его статью о Борисе Пастернаке, да и вообще образ мыслей филолога вызывал большие подозрения. В 1957–1958 годах Синявский вёл на филологическом факультете МГУ семинар по русской поэзии XX века, но весной 1958-го «лавочку» прикрыли за идеологическое несоответствие линии партии, принципам соцреализма, морально-нравственному воспитанию студенчества и прочее.
Тогда Синявский стал преподавать русскую литературу в Школе-студии МХАТ, где познакомился и дружески сошёлся со своим учеником — молодым Владимиром Высоцким. Прежде всего — на почве общей любви к песенному творчеству уголовного мира. Андрей Синявский и его жена Мария Розанова коллекционировали блатные песни. Эта страсть у Андрея Донатовича проявилась ещё во время его учёбы в университете. Во всяком случае, в 1947 году на семинаре по творчеству Владимира Маяковского, который вёл Виктор Дувакин (позже — свидетель защиты на процессе Синявского-Даниэля, лишившийся за это должности), студенты сочинили «гимн» на мотив «Гоп со смыком», где (как в знаменитом гимне первого, пушкинского выпуска Царскосельского лицея) давались шутливые характеристики всем участникам. Куплет о Синявском звучал так:
То есть приятели уже тогда отмечали в характере Андрюши тягу к соответствующей тематике…
А уже в те годы, когда Андрей Донатович стал преподавать сам, о его любви к песням маргиналов знали многие. Именно эта страсть сблизила Синявского с молодым актёром Владимиром Высоцким. Сокурсница Высоцкого по Школе-студии МХАТ Марина Добровольская вспоминала, как Синявский пригласил однажды к себе домой нескольких студентов с курса: «Я помню, что там были Жора Епифанцев, Гена Ялович, Володя Высоцкий, конечно, и еще человека три-четыре. Вот так мы попали в знаменитый подвал к Синявскому». Имеется в виду 1958 год. Впрочем, сам Андрей Донатович в интервью «Чекисты слушают Высоцкого» (по материалам передач радиостанции «Свобода» 1982–1983 годов) рассказывал несколько иначе: «После окончания курса он с ребятами как-то попросился ко мне в гости… Откуда-то они узнали, что я люблю блатные песни. Давайте, говорят, мы вам будем петь… Тогда и Высоцкий, и другие ребята просто пели блатные песни. Володя и начинал с исполнения их. Исполнял он их мастерски! Замечательно! И как-то после этого установились такие отношения: несколько раз в год либо он с друзьями, либо один стал приходить к нам в дом, так как мы с женой очень его начинания одобряли. Как только он начал сочинять песни, то нам это страшно понравилось, и он это видел».
По словам Синявского, так продолжалось до самого ареста писателя и ещё в течение двух лет после возвращения Андрея Донатовича из лагеря — вплоть до отъезда за границу. Мария Розанова вспоминала, что первые встречи не записывались, поскольку в доме не было магнитофона. Но затем супруги приобрели магнитофон «Днепр-5» — «большой, громоздкий и с зелёным огоньком», и раннее творчество Высоцкого сохранилось для вечности. Вот как Мария Васильевна охарактеризовала отношение Синявского к Высоцкому в беседе с Марком Цыбульским (американский исследователь творчества поэта): «В Высоцком он услышал народный голос, который волновал его, интересовал и не давал покоя. Именно поэтому из всего Высоцкого сердечно ему были ближе всего блатные песни… Мы с Синявским очень любили в то время — да и сейчас любим — блатную песню. Собирали её и даже имели наглость петь — правда, лишь до тех пор, пока не познакомились с Высоцким. Высоцкий нас “выключил”, показав, что в блатной песне тоже должен быть профессионализм… После этого, даже когда Синявского просили спеть его любимого “Абрашку Терца” (откуда и был заимствован его литературный псевдоним), — он отказывался».
О том же говорил и сам Андрей Донатович в интервью журналу «Театр» («Для его песен нужна российская почва»): «Считал и сейчас считаю, что Высоцкий — самый народный поэт, и прежде всего за счет его блатной тематики и интонации. Я вообще люблю блатную песню и думаю, что это — лучшее, что создано фольклором XX века: это, во-первых, и анекдот — во-вторых».
Розанова тесно связывала раннее творчество Владимира Высоцкого с судьбой Синявского и Даниэля: «Думаю, что Высоцкого мы полюбили особенно в ту пору потому, что он с его пронзительной воровской тематикой был очень созвучен ситуации, в которой мы жили и в которой уже существовали Терц и Аржак. Все его песни можно было применить и к Синявскому, и к Даниэлю, и к лагерю, и к суду. Поэтому ранний Высоцкий мне ближе, чем, скажем, Окуджава и Галич. В его песнях удивительным образом проявилась общая приблатнённость нашего бытия. Мы все выросли в этой среде. И в этом смысле он — певец нашей страны, нашей эпохи, нашего мира».
Не случайно 15 ноября 1964 года (дату определил известный исследователь творчества Высоцкого Алексей Краснопёров) Розанова и Синявский «поднесли» Владимира Семёновича в качестве подарка ко дню рождения Юлия Даниэля (по воспоминаниям Розановой, они даже то ли хотели перевязать, то ли действительно в шутку перевязали поэта голубой ленточкой). И на торжестве Юлия Марковича Высоцкий весь вечер пел свой и народный «блат».
После ареста двух писателей Высоцкий пришёл к Марии Розановой, снял со стены гитару и исполнил песню «Говорят, арестован добрый парень за три слова». Позднее он написал горько-ироническую песню о процессе Синявского-Даниэля:
В сборник стихов Высоцкого эта песня была включена лишь в 1992 году. А 20 декабря 1965 года Владимир Семёнович писал в Магадан поэту Игорю Кохановскому: «Помнишь, у меня был такой педагог — Синявский Андрей Донатович? С бородой, у него ещё жена Маша. Так вот уже четыре месяца, как разговорами о нём живёт вся Москва и вся заграница. Это — событие номер один… При обыске у него забрали все плёнки с моими песнями и ещё кое с чем похлеще — с рассказами и так далее. Пока никаких репрессий не последовало, и слежки за собой не замечаю, хотя — надежды не теряю». Понятно, что в словах «надежды не теряю» заключена горькая бравада. Но — и отношение к репрессиям как высшей оценке литературной деятельности.
К сожалению, в любви Синявского и Розановой к Высоцкому была и обратная сторона. Восхищаясь им как «блатным народным певцом», они отказали ему в праве называться поэтом. Как сформулировала Розанова в интервью Цыбульскому: «Слово “поэт” я вообще к нему приложить не могу. Это совершенно особый, отдельный жанр, не имеющий к тому, что называется поэзией, на мой взгляд, вообще никакого отношения. Это можно только петь. Читать это и нельзя, и ни к чему, и, главное, неинтересно. Это интересно именно в сочетании с музыкой, с гитарой, с голосом». Возможно, столь странная глухота связана с фанатической любовью Синявского и Розановой именно к блатному жанру, который для них воплощался в Высоцком. (Между тем сам Иосиф Бродский высоко оценивал как раз поэтический талант Владимира Семёновича.)
Но особо въедливый читатель заметит: ну, допустим, Синявского и Высоцкого объединял интерес к блатным песням. А вдруг вот как раз «Аржак» в свод этих песен не входил! Ну, могло же как-то это случиться…
Отвечаю: не могло никак и никоим образом. Достаточно обратиться к истории с публикацией на Западе произведений Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Напомним: Синявский передал свои повести и статью о социалистическом реализме во Францию в 1956 году и подписал их псевдонимом «Абрам Терц» — по имени персонажа песни «Абрашка Терц, карманщик из Одессы». Правда, публикации Синявского появились только через три года. Заминка связана с романом Бориса Пастернака: издатели, по словам супруги Синявского Марии Розановой, «хотели сначала пропустить “Доктора Живаго”, посмотреть, что из этого получится». Как говорится, где — Пастернак, а где — Абрашка Терц? Но в феврале 1959-го парижский журнал «Эспри» разместил на своих страницах статью «Что такое социалистический реализм», летом вышла повесть «Суд идёт».
Юлий Даниэль присоединился к Синявскому позже. Как рассказала та же Мария Розанова, это произошло в 1959 году, когда они с мужем решили отметить первую публикацию за рубежом «грандиозной попойкой» и пригласили Даниэля: «У друга загорелись глаза, и промолвил он мечтательно: “Я тоже хочу…”»
Так вот: Синявский не только помог другу (Даниэль позднее выпустил за границей повести «Говорит Москва», «Искупление» и рассказы «Руки», «Человек из МИНАПа»), но и подсказал ему выбор псевдонима. А псевдоним этот был… «Николай Аржак»! То, что инициатива исходила от Синявского, сомнению не подлежит: Даниэль не жаловал блатных песен; во всяком случае, достаточно негативно относился к их смакованию в интеллигентской среде, о чём прямо писал в том же «Искуплении». Но — настоятельному совету друга всё же последовал. Однако после разоблачения и осуждения Юлий Маркович прекратил уголовный маскарад. В воспоминаниях об отце Александр Даниэль пишет: «Псевдоним “Николай Аржак”, выбранный им для подпольного литераторства и заимствованный из популярной блатной песенки (конечно же, в подражание другу, Андрею Синявскому, ставшему Абрамом Терцем), не стал его “вторым я”, не превратился в элемент жизненной игры, как “Терц” для Синявского. Это была всего лишь производственная необходимость, не более». То же подчёркивал сам Юлий Маркович в письме из лагеря от 1 июля 1966 года: «Я прошу запомнить: Николай Аржак существует или существовал только на бумаге: на обложках книг, в газетных или журнальных статьях». В документальном фильме 2007 года «Процесс Синявского и Даниэля» сказано: «Они по-разному прожили лагерные годы. Синявский — замкнуто, а Даниэль, напротив, предельно открыто. Он принимал участие в голодовках политзаключённых, подписывал письма протеста и в конце концов за одно из таких писем получил второй срок и угодил во Владимирскую тюрьму. Но и там не сломался. Но с Николаем Аржаком расстался навсегда».
Другими словами, Синявский прекрасно знал песню о Кольке Аржаке! И было бы совершеннейшей нелепостью предполагать, что тесно общавшийся с Андреем Донатовичем Владимир Высоцкий мог оставаться в неведении… Достаточно сравнить хотя бы даты: в 1958 году Высоцкий знакомится с Синявским, распевает, а затем записывает классический «блат», а в 1959-м Синявский предлагает Даниэлю назваться Аржаком. Тут даже обсуждать нечего.
И ещё одна любопытная деталь. Почти сразу после создания песня Высоцкого фактически стала народной! Как песня «неизвестного автора» она в 1963 году прозвучала в спектакле «Микрорайон» Московского театра драмы и комедии. Вполне возможно, те, кто её включил, знали истинного сочинителя. Ну и что с того? Она остаётся народной и сейчас, когда это имя знают все…
Кровавый «спорт»
Ранее мы пришли к выводу, что Аржак, исходя из логики повествования, должен был владеть приёмами уличного рукопашного боя — включая использование подручных предметов. Вот об этом есть смысл поговорить особо, чтобы уяснить, почему баллада доводит в разных версиях число вооружённых убийц героя от неясных «нескольких» до четырнадцати человек! Значит, противники Аржака крайне опасались его мастерства в схватке.
Откуда же было взяться таким боевым навыкам у обычного бузотёра? Ответ на этот вопрос потребует от нас серьёзного исторического экскурса.
В поисках истоков хулиганского уличного боя (а заодно и связанных с ним хулиганских традиций в истории России) следует, прежде всего, обратиться к традиционной русской «забаве» — кулачному бою. Ранние упоминания о нём относятся к 1068 году (Нестор-летописец). Существовали три разновидности такого боя. Первая — «сцеплялка-свалка»: «неустроенное сборище толпы, в которой противной стороны не имелось, а бились все вразсыпную, кто с кем попало и кто кого одолеет, в толпе, без разбору». Вторая — «стенка на стенку», «стеношный бой»: она «представляла уже нечто стройное, где различались стороны — своя и чужая, где… часто одна деревня или половина деревни, или одна половина города становилась противу другой половины». И наконец, «один на один», «сам на сам», «охотницкий (охотный) бой» — единоборство двух кулачных мастеров. Как сообщает знаток вопроса Андрей Тюняев в исследовании «Русский рукопашный бой», «кулачные бои проводились обычно зимой в воскресные и праздничные дни, заканчиваясь в последний день Масленицы или на первой неделе Великого поста и достигая в это время наибольшего размаха. Начинались они поздней осенью… достигая больших размеров на рождественских Святках, Пасху, Семик-Троицу и особенно — в масленичную неделю, и завершались в июне, часто на Петров день».
Несмотря на то, что правила изобиловали запретами, при массовых побоищах многие участники получали увечья, становились калеками, бывали и убитые. Поэтому светская и духовная власть боролись с опасной забавой. В 1274 году киевский митрополит Кирилл на Владимирском соборе постановил совместно с другими отцами отлучать участников подобных мордобоев от церкви («да изгнани будут от святых божьих церквей», «прокляты и в сей век и в будущий»), а убитых в схватках не отпевать. В XVII столетии государь Михаил Федорович Романов издал указ, где предписывал ловить и наказывать кулачных бойцов (правда, не вдаваясь в подробности, каким образом). В 1684 году ответственность ужесточают: «А которые изыманы будут на кулачных боях, тем чинить наказанье, бить кнутом и ссылать в Сибирь и в иные городы на вечное житье».
Но побоища продолжались, несмотря на запреты. И 21 июля 1726 года императрица Екатерина I издаёт указ «О кулачных боях», пытаясь упорядочить рукопашные схватки, хотя бы в пределах столицы: «…ныне Великая Государыня Императрица, для охранения народа, указала: по имянному своему Императорскаго Величества указу, тем кулачным боям без позволения главной полицеймейстерской канцелярии не быть, а ежели кто те кулачные бои будут без позволения иметь, то те люди будут наказаны, смотря по состоянию вины и дела». Бои должны были вестись под руководством выборных «соцких, пятидесяцких и десяцких».
Однако уже 3 июля 1743 года императрица Елизавета Петровна вынуждена «изустно» запретить кулачные бои в Санкт-Петербурге и Москве. А 6 декабря 1751 года из главной полицеймейстерской канцелярии на места пошла письменная «Промемория», согласно которой «повелено никому кулашных боев, как в Санкт-Питербурхе, так и в Москве не заводить и не битца». Ведь дошло до того, что 26 ноября кулачный бой устроили… прямо у Зимнего дворца, под окнами императрицы! Среди зачинщиков массовых кулачных потасовок назывались рабочие кирпичных, черепичных, стеклянных заводов и других предприятий.
Следующий запрет последовал уже в правление государя Александра I. Во время путешествия императора по югу России 20 июля 1823 года ему доложили, что в городке Пирятине во время кулачного боя мещанин Иван Герасимов убил мещанина Трофима Сыроватникова. Огорчённый этим несчастьем самодержец указом от 20 октября через военного министра высочайше повелел кулачные бои воспретить. А в 1832 году Свод Законов императора Николая I коротко подытожил: «Кулачные бои, как забавы вредныя, — вовсе запрещаются» (часть IV статьи 180). Но даже после этого бои проходили по всей территории Российской империи.
Русские кулачные забавы многим представляются как бессмысленное махание кулаками, в отличие от восточных и западных боевых школ. Такое мнение ошибочно. «Это совсем не была драка, ссора, вражда или что-либо подобное, а нечто вроде игрища. Между тем удары наносились серьезно, причиняли ушибы и даже смерть», — пишет автор очерка «К истории кулачных боёв» А. А. Лебедев («Русская Старина», 1913). В идеале состязания были ограничены «правилами честного боя». Первая заповедь: между собой сражаются бойцы одного возраста. «Стенка» состояла из нескольких рядов. Сначала — мальчишки-подростки, затем в схватку вступали молодые ребята-холостяки, и лишь в конце выходили отцы семейств, имевшие за плечами не один десяток боёв.
Из других правил можно выделить несколько основополагающих:
— лежачего не бьют;
— «“мазку” не бьют» (того, у кого пошла кровь);
— бьются без «закладок» (тяжёлых предметов, зажатых в руке и усиливающих удар).
Не допускалось нанесение ударов в висок («подлый удар»), исключались удары сзади. Нельзя было бить «под микитки» — в область подреберья и в пах.
В том же очерке о кулачных боях из «Русской Старины» отмечается: «Если в XVI–XVII веке, по описанию Н. И. Костомарова, “бойцы поражали друг друга в грудь, в лицо, в живот, — бились неистово и жестоко, и очень многие выходили оттуда калеками, а других выносили мертвыми”, то в XVIII веке кулачные бои приняли другой вид… До смертных случаев, при честных условиях боя, никогда не доходит, кому не под силу, тот под ноги (т. е. умышленно падает), а «лежачего не бьют»; и кончается себе бой тем, что молодцы на добром морозце друг другу бока погреют, да носы подрумянят». Нарушение этих правил жестоко каралось: виновного били «не на живот, а на смерть» и своя, и чужая стороны, и он с позором изгонялся с поля боя. То же утверждает М. Назимов в воспоминаниях о кулачном бое 1812–1826 годов: «Конечно, у некоторых были спрятаны “закладки”, — это куски свинца, железа, даже камни, увеличивавшие силу удара. Но эти закладки жестоко преследовались на кулачном бою, и горе тому, у кого их обнаруживали. Толпа в таких случаях была беспощадна; тут не только противная сторона, но и свои набрасывались на виновника и били нещадно смертным боем, иногда и забивая до смерти».
Увы, к началу XX века бои вернулись в традиционное состояние. Георгий Панченко, автор исследования «Нетрадиционные боевые искусства», утверждает: «Те современные авторы, которые пытаются представить стеночный бой как благородную забаву с товарищеской взаимопомощью, отсутствием ударов в голову и категорическим запретом атаковать сбитого с ног, мягко говоря, приукрашивают истину. Очень часто стеночные схватки превращались в массовое побоище с использованием ножей, кастетов и прочих припрятанных до поры “заначек”. “Стенка”, после которой не оставалось хоть несколько убитых или искалеченных, редчайшее явление. Ставшее в конце XVIII века пословицей правило “лежачего не бьют” впервые сформулировано в полицейском указе от 1726 года: “Чтобы увечного бою не было б, и кто упадёт, лежащих никого не били б”. Большинство кулачных бойцов восприняли этот указ как покушение на свои священные права, и прошли десятилетия, прежде чем он хоть изредка стал соблюдаться».
«Традиционный» кулачный бой отличался крайней жестокостью и представлял собой массовое побоище с использованием дубинок, кистеней, свинцовых заначек, ножей. Согласно новгородским былинам, богатырь Васька Буслаев, его сотоварищи и супротивники используют тележные оси, «шалыги» (лопатовидные дубинки, залитые свинцом), «дубины червлёные», кистени, ножи. Сами богатыри предстают древними хулиганами, для которых не было ничего святого. Васька в боевом задоре «стряхивает» с себя собственную матушку, которая цепляется за него сзади и пытается остановить побоище. Слегка успокоившись, богатырь заявляет мамаше:
Хорош сыночек! Под стать Буслаеву его дружина:
Из этого можно сделать вывод, что традиции отечественного хулиганства корнями уходят в глубь веков. Русский народ любовно превозносил пьяниц, воров и разбойников как национальных героев. Неудивительно, что кулачные забавы развивались в том же русле. Вот описание кулачного боя русской молодёжи первой трети XVI века, которое оставил Сигизмунд Герберштейн, австрийский посол на Руси: «Услышав свист, они немедленно сбегаются и вступают в рукопашный бой: начинается он на кулаках, но вскоре они бьют без разбору и с великой яростью и ногами по лицу, шее, груди, животу и паху, и вообще всевозможными способами одни поражают других, добиваясь победы, так что зачастую их уносят оттуда бездыханными».
А чтобы стало окончательно ясно, что представлял собой подлинный кулачный бой, вернёмся к указу Екатерины I от 21 июля 1726 года: «Ея Императорскому Величеству учинилось известно, что в кулачных боях, которые бывают на Адмиралтейской стороне на лугу, позади двора графа господина Апраксина и на Аптекарском острову и в прочих местах во многолюдстве, от которых боев случается иногда, что многия, ножи вынув, за другими бойцами гоняются, а иныя в рукавицах положа ядра и каменья и кистени, бьют многих без милости смертельными побоями, от которых боев есть и не без смертных убойств, которое убойство между подлыми и в убойство и в грех не вменяют, также и песком в глаза бросают…»
Не отменяя боёв, государыня пытается придать им цивилизованный вид и урезонить бойцов: «Чего ради чтоб им означенных продерзостей отнюдь не чинить… чтоб у них никакого оружия и прочих инструментов ни под каким видом к увечному бою не было».
Правда, тот же Лебедев в «Русской Старине» пытается свалить вину за жестокость боев на «инородцев»: «В Петербурге на Неве, на Фонтанке, где бились охтяне с фабричными и где злобные чухонцы обращали забаву чисто русскую и незлобливую в бойню — они пускали в ход ножи и наносили кровавые раны». Увы, дело вовсе не в «злых чухонцах». Массовый русский мордобой отличался крайней жестокостью. Драки были распространены не только в среде рабочей и крестьянской «поросли». В городах «дети окраин» охотно дрались с гимназистами. И ребята в гимназической форме оказывались далеко не подарком. Особенно в провинции, где гимназическое образование получали не только дети интеллигенции, но и пареньки из сёл, хуторов.
Писатель Лев Кассиль в автобиографическом романе «Кондуит и Швамбрания» описывает схватки в гимназии слободы Покровской близ Саратова: «И вот великовозрастные сыны этой степной вольницы, хуторские дикари, дюжие хлопцы, были засажены за парты Покровской гимназии, острижены “под три нуля”, вписаны в кондуит, затянуты в форменные блузы… Дрались постоянно. Дрались парами и поклассно. Отрывали совершенно на нет полы шинелей. Ломали пальцы о чужие скулы. Дрались коньками, ранцами, свинчатками, проламывали черепа. Старшеклассники… дрались нами, первоклассниками. Возьмут, бывало, маленьких за ноги и лупят друг друга нашими головами. Впрочем, были такие первоклассники, что от них бегали самые здоровые восьмиклассники». Коньки, свинчатки, проломленные черепа — и это в гимназии, а не в пьяной заводской слободке!
В первое десятилетие советской власти угасшая было во время Первой мировой войны «кулачная традиция» возродилась с небывалой удалью. Бои собирали до полутора тысяч человек! После 1917 года часть рабочих переселилась с фабричных окраин в центры городов, занимая квартиры «буржуев», туда же переместился и кулачный бой. В первые годы Совдепии этот обычай так распространился, что Петроградский губком РКП(б) в феврале 1923 года был вынужден принять специальное решение об искоренении кулачных боёв. Но они всё равно продолжались.
Георгий Андреевский в книге «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху» сообщает: «Со временем из-за того, что власти не поощряли этот вид развлечения, драчуны стали выбирать для боёв более укромные места. Например, 28 января 1923 года на железнодорожных линиях между Александровским (Белорусским) и Савёловским вокзалами сошлись в кулачном бою жители Ямской слободы и Сухаревского рынка. Участвовало до тысячи человек. Главную силу дерущихся составляли ломовые и легковые извозчики… Когда драка была в самом разгаре, нагрянула милиция, потребовала прекратить побоище, но на неё никто не обращал внимания. Правда, кто-то рявкнул: “Вас, что ли, бьём, уходите, пока целы!” — и снова полез в драку. Утихать бой стал лишь после того, как милиционеры открыли стрельбу. Ещё 7 марта 1926 года, в Прощёное воскресенье, кулачный бой должен был состояться у Бабьегородской плотины, но конная и пешая милиция его быстро пресекла».
Такие бои являлись отличной школой для «хулиганского сословия». В них вырабатывались не только стойкость, умение принимать и наносить удары, но и жестокость, презрение к здоровью и жизни противника. С кулачными боями прямо связан рост хулиганства. На это указывает единый ареал распространения обоих явлений — рабочие окраины, кварталы, улицы.
Ещё раз подчеркнём: с начала XX века и особенно в первые советские десятилетия кулачный бой вновь становится безжалостным и кровавым. Александр Дым в работе «Насилие.ру» рассказывает: «Уже в начале XX века (демографический взрыв!) отмечают ужесточение драк: появление перчаток с утяжелителями, разного рода кастетов, дубин и т. п. …упоминается также использование ножей и огнестрельного оружия». Автор анализирует задиристые куплеты «под драку», которые пели деревенские парни: «Тексты происходят из Ярославской, Тверской, Олонецкой, Архангельской губерний и Псковско-Новгородского региона. Раны упоминаются в 60 текстах. Из них в 30 — раны в голову, 7 — в лицо (в “морду”, глаз, ухо и зубы), 1 — в горло, 5 ранений в грудь, 2 — в живот, 9 — без точной локализации (но характерны мотивы разъятия тела: “Нас избили, изорвали”, “Пусть меня побьют, порежут, на капусту иссекут”)».
Приведём в качестве иллюстрации примеры из песен «под драку»:
То есть рассуждения о «милосердных правилах» и табу на удары по голове в XX веке выглядят анахронизмом. При этом Александр Дым оправдывает драчунов: «Ранение в голову, кровь на голове воспринимались как сигнал к окончанию драки. Ударить в грудь — в душу — считалось излишней жестокостью; целились чаще в голову, в зуб, в лицо… Были специальные приёмы и орудия, нацеленные на нанесение максимального эстетического ущерба. В Печорском районе Псковской области использовали в драках холщовый мешочек с песком; раскрутив его, целились противнику в глаз, причем своеобразный шик требовал, чтобы выбитый глаз повис на мешочке». Глаз, болтающийся на мешочке, — несомненно, высшая степень проявления гуманизма…
В куплетах советской эпохи отражены и попытки властей остановить хулиганский беспредел, связанный с кулачными боями. Однако певцы призывают ничего не бояться и плевать на законы:
И действительно, многие хулиганы проходили через места лишения свободы по несколько раз — пока власть не закрутила гайки и «озорники» не стали попадать под расстрельные статьи.
Особенности национальной схватки
Как это ни кощунственно прозвучит, но баллада о Кольке Аржакове продолжает традиции русского песенного фольклора. Ещё раз освежим фабулу «Аржака» в той части, где речь идёт о столкновении героя с бандой «коллег»-хулиганов. На Кольку наваливается целая ватага и убивает его. Никаких понятий о справедливом поединке, о честном бое. Никаких правил и моральных ограничений. Главное для «отморозков» — достичь цели: наказать «чужака» любыми средствами.
Но и в русском былинном творчестве мы встречаем примеры ровно такого же подхода! Обратимся к народным песням о черкесе Кострюке (Темрюк, Мамстрюк и т. д.). Под этим именем безвестные авторы вывели военного и политического деятеля эпохи Ивана Грозного кабардинца Михаила Темрюковича Черкасского. В 1552 году Кабарда присягнула на верность России, чтобы защититься от татар и турок. В 1558 году валий (старший князь) Кабарды Темрюк Идаров присылает в Москву младшего сына, 15-летнего Салтанука. После крещения тот становится Михаилом и остаётся при дворе Ивана Грозного, участвуя в военных походах царя. Летом 1561 года Михаил Черкасский привозит в Москву свою сестру Гошаней, которая после крещения принимает имя Марии, выходит замуж за Ивана Грозного и становится царицей.
Михаил Черкасский входит в круг знати, получает боярство, он — первый человек после царя. Став одним из руководителей опричнины, Михаил Темрюкович лично истязал и убивал тех, кто попадал в царскую немилость. В 1567 году Черкасский «рассёк на части казначея государева Тютина с женой, двумя сыновьями и двумя юными дочерьми». Но в 1569 году Мария Черкасская неожиданно умирает. Спустя два года после смерти сестры Михаил не смог остановить набег крымского хана Девлет-Гирея. Царь бежал к Ярославлю, а малочисленная рать опричников во главе с Черкасским не сдержала 120-тысячное татарское войско. Хан захватил Москву и сжёг её. По дороге из Москвы в Серпухов князь был схвачен по приказу Грозного и посажен на кол. Впрочем, вскоре самодержец «посмертно реабилитировал» шурина.
Вот этот царский родственник и вошёл в фольклор — иногда почему-то под именем своего брата Мамстрюка, который в 1570 году попал в плен к крымским татарам и пробыл там семь лет. Возможно, обоих сказители объединили в один персонаж: Мамстрюк и ещё несколько братьев — Темрюковичей тоже занимали должности при царском дворе. В песне рассказывается, как «черкешенин» похваляется перед царём молодецкой силой и утверждает, что на Руси никто не сможет его побороть. Но находятся два «братца-калашничка» (пекари или торговцы калачами), которым удаётся одолеть кавказца. В других версиях их называют «дети калашниковы» («дети Калашниковы»). Не исключено, что Михаил или Мамстрюк впрямь были искусными борцами, и это могло раздражать царя. Точных свидетельств не сохранилось, но ведь и до сих пор кавказские борцы — одни из лучших в мире.
Заметьте: чтобы побороть черкеса, потребовалось двое братьев! Подчёркивается и страшная сила инородца:
В большинстве версий «черкешенин» борется с братьями по очереди. Кавказская и азиатская борьба в основном подразумевала борьбу на поясах, то есть один на один. Борьба «в пояски» была распространена и у славян… Однако, судя тексту песни, с черкешенином при царском дворе боролись по русским правилам «охотницкой борьбы», «на вольную»: дозволялись захваты за тело и одежду, подножки, подсечки, захват руками ног соперника.
С первым, старшим братом схватка продолжается до вечера и оканчивается вничью.
И лишь второй брат одолевает Кострюка. Причём поступает с ним, мягко говоря, неблагородно: раздевает догола, снимая дорогое платье и украшения. Отдельные сказители повествуют, что русский борец расшибает противника насмерть, а значит, обирает мертвеца, что просто отвратительно. А ведь, по чести сказать, победу можно назвать «грязной»: противник вымотан тяжёлой схваткой, которая длилась весь день! Чем же гордиться? Поэтому позже песняры стали придавать братьям вид захудалый и затрапезный для контраста с удалым царским шурином:
Короче, сирые и убогие, инвалиды с детства. Их победа над черкесом выглядит уже несколько по-иному. Впрочем, как ни крути, двое на одного… И в конце концов двух братцев заменяет один Потанюшка, на которого и вовсе без слёз глядеть нельзя:
Когда такой недомерок «схватил Кострюка за ногу, ещё кинул под облаце» — кто же будет сумлеваться в превосходстве русской силы над инородческой?! То есть чем далее от времени создания песни, тем более унижен супротивник. Его одолевает какой-то каличный хромоножка. Но вот вопрос: почему же в раннем варианте песни против Темрюка выступают двое русичей? Ответ напрашивается лишь один: потому что песня — историческая, отражает реальное событие! Так и происходило на самом деле: русские борцы против кавказских были, говоря словами героя чеховской «Каштанки», всё равно что плотник супротив столяра. Иначе неведомым сочинителям в голову бы не пришло выставлять против «черкешенина» двоих борцов. Это не в традициях былинного эпоса. Вот хилый Потанюшка, одолевший иноземца, — дело другое.
Но и до истории с Кострюком традиционная русская былина порою не жаловала отечественных борцов. Так, былина «Ставр Годинович» тоже представляет их не в лучшем свете. В ней повествуется, как князь Владимир, рассердившись на боярина Ставра за то, что тот считал себя богаче киевского правителя, велел бросить наглеца в темницу, а его владения отобрать. На помощь мужу поспешила верная жена Ставра — Василиса Микулишна. В одной из версий былины она переоделась послом Золотой Орды и прибыла в Киев требовать великой дани. Однако княгиня угадала в «татарском после» Василису. И Владимир решает проверить гостя, резонно посчитав, что если посол — женщина, то она не станет бороться с киевскими богатырями. Князь выставляет против «посла»… семерых удальцов! Однако «татарин»
Интересный поворот… Владимир приглашает гостя «поразвлечься», выставляя против него банду профессиональных костоломов! А если княжеская жена ошиблась? Если гость и впрямь прибыл из Золотой Орды, данником которой князь является? Неужто Владимир рискнул бы на проверку, которая могла обернуться реальной расправой над посланцем хана? За подобную наглость ордынцы сровняли бы Киев с землёй!
Но не будем торопиться. Былина о Ставре принадлежит к новгородскому циклу: в ней отразились неприязненные отношения Киева и Новгорода. По мнению крупнейшего специалиста по истории славянства Бориса Рыбакова, былина эта исторична. При Владимире Мономахе была предпринята последняя попытка киевлян круто обойтись с новгородским боярством. В 1118 году Мономах вызвал всех новгородских бояр в Киев, заставил их присягнуть на верность, а некоторых оставил в столице и заточил. Среди них оказался новгородский сотник, боярин Ставр Гордятич. В 1960 году на стене Софийского собора в Киеве обнаружили надпись: «Господи помози рабу своему Ставрови недостойному рабу твоему».
Так что новгородцы небеспристрастны. Их целью было не прославление татарских борцов, а унижение киевских. Для новгородцев Киев — «чужая сторона». Кстати, Василиса выступает под видом не только посла Орды, но и «сына короля ляховицкого» (литовского).
Однако затем былину переделывают по всей Руси, не боясь «макнуть» богатырей Добрыню Никитича и Алёшу Поповича, которые сначала признаются переодетой жене Ставра, что Владимир послал их схватить Василису Микулишну «да дорогой над ней наругатися», а позднее при дворе «ляховицкий королевич» этих богатырей швыряет, как тряпошных. И для этих сочинителей вполне естественно, что татарский посол побеждает семерых «русаков». То есть и татары, и кавказцы считались более искусными борцами. Даже в поздних вариантах песни, когда Кострюка побеждают уже честно, сказители глухо признают высокую эффективность и изощрённость «басурманского стиля». Кирша Данилов так описывает ухватку Кострюка:
«Учёная» борьба супротив нашенской, «простецкой»… Трудно сказать, что это за «борьба колесом». Возможно, способ противостояния нескольким противникам, когда боец двигается по кругу и разворачивается вокруг своей оси, чтобы всегда иметь перед собой одного соперника, оставляя других за его спиной? Такая тактика отрабатывается в современных спецподразделениях. Но в традиционной борьбе на поясах это исключено.
Но для нас важно другое. Ещё до Кострюка мы встречаем в былине попытку толпы «нарочных бойцов, удалых молодцов» расправиться с чужеземцем. И сказителей это ничуть не смущает. Победителей не судят…
Купец Калашников как зеркало русского хулиганства
Но порой выходит так, что судят и победителей. Уверен, в предыдущей главе читатель обратил внимание на «братцев-калашничков», они же «дети Калашниковы». Это же прямой отсыл к лермонтовской «Песне про купца Калашникова»! Верно. Лермонтов использовал историю с калашниками как источник вдохновения. Поэт был прекрасно знаком не только с фольклорной былиной, но и с биографией кабардинца: не случайно в «Песне…» Кирибеевич выведен опричником.
Всё это важно для понимания произведения. Ведь с лёгкой руки Белинского до сих пор гуляет нелепая трактовка поэмы. Как воспринимает «Песню…» современный читатель? Вот «историк» Сергей Лабзюк: «В этом произведении автор столкнул две силы — народную правду и самодержавное своеволие… И состоялся бой между молодым царским опричником и “удалым купцом Калашниковым”, в котором купец побеждает бесчестного врага». Или цитата с сайта «Мои сочинения по литературе»: «После того как Калашников убил в кулачном бою Кирибеевича, Грозный приказал казнить молодого купца. Он не посчитался с тем, что Калашников выиграл бой честным путём. Он хотел отомстить за смерть любимца».
Подобные трактовки — откровенная чушь. Попытку развеять мифы вокруг «Песни…» предпринял Михаил Кононенко в статье «Неизвестный М. Ю. Лермонтов». Кононенко указывает на то, что Белинский полностью игнорирует кульминационную часть «Песни…» — описание самого боя между купцом и опричником. «Неистовый Виссарион» пишет: «Начинается бой (мы пропускаем его подробности); правая сторона победила». Но именно подробности кулачного боя являются ключом к пониманию поэмы!
Отметим, что Лермонтов был прекрасно знаком с этой «народной забавой», что, в частности, подтверждали в своих воспоминаниях его троюродный брат Аким Павлович Шан-Гирей и тарханская крестьянка Аграфена Ускокова. Но кулачный бой вместо борьбы был необходим Лермонтову также для придания поэме особого драматизма, психологизма, который отсутствует в народной песне.
Вспомним тезис о том, что в бою «купец побеждает бесчестного врага». На самом деле Кирибеевич — не бесчестный враг. Напротив, непредвзятый читатель испытывает к нему симпатию и даже сочувствие. Сам Белинский вынужден изумлённо заметить: «Не правда ли: вам жалко удалого, хотя и преступного бойца?» Да конечно! Ведь в ряду «демонических» героев Лермонтова (Печорин, Арбенин, «печальный Демон») он — наиболее совестливый и трагичный. Кирибеевич не рад своей страсти, просит царя отпустить его «в степи приволжские, на житьё на вольное, на казацкое», где он примет смерть от «басурманского копья». Он молит Алёну Дмитриевну обнять его «единый раз, на прощание». Нехарактерное поведение для опричника…
В поединке на Москве-реке сходятся два достойных противника, каждому из которых автор сочувствует. Но победитель будет один. И в самом начале песни Лермонтов ясно даёт понять, кто является «фаворитом» в предстоящем бою. Царь спрашивает Кирибеевича о причине его печали:
Это — не пустая похвальба. Сам Степан Парамонович признаёт мастерство противника, давая наказ братьям (отзвук «братцев-калашничков»):
Калашников не уверен в своей победе. Да и на Москве-реке, где собрались бойцы «для охотницкого бою, одиночного», против Кирибеевича не осмеливается выйти ни один — даже после неоднократного вызова:
Сам Калашников выходит лишь после третьего выклика! Он скрепя сердце идёт на бой. Просто не остаётся иного выхода… И вот тут Лермонтов протягивает еще одну нить от фольклорной былины к поэме: как и «братцы-калашнички», купец Калашников сознательно идёт на бесчестный поступок.
Чтобы понять это, обратимся к тонкостям кулачного единоборства. Следует выделить три разновидности такого поединка. Первый — бой «один на один» перед началом «стеношного» побоища. Он допускал удары в голову — но ни в коем случае не в висок! Второй, существовавший как раз во времена Ивана Грозного, «Божий суд», или судебный поединок («поле»). Спорящие стороны встречались в бою сами или нанимали профессиональных бойцов. Кто побеждал, тот считался правым. И наконец, классический «охотницкий бой», где категорически запрещались любые удары в голову. Разновидность «охотницкого боя», описанная Лермонтовым, называлась «раз на раз», «удар на удар» или «через черту». Проводилась черта, за которую нельзя было заступать, а дальше каждый боец поочерёдно наносил удар, пока кто-то из соперников не падал на землю или не отказывался от поединка. Уклоняться в сторону, сдвигаться с места запрещалось. В поединке «раз на раз» бывали случаи гибели бойцов, однако, если победитель действовал по правилам, вины за ним не признавали.
Даже позднее, в свободном бою, запрет на удары в голову сохранялся. Такой поединок описывает Максим Горький в повести «В людях» (1915). Он перечисляет удары под ложечку, в грудь, под мышку — но не в голову!
Все эти подробности до тонкостей знал Лермонтов. Его брат Шан-Гирей вспоминал детство поэта: «Зимой… на плотине с сердечным замиранием смотрели, как православный люд, стена на стену (тогда ещё не было запрету), сходились на кулачки. И я помню, как расплакался Мишель, когда Василий-садовник выбрался из свалки с губой, рассечённой до крови». Позже, зимой 1836 года, Лермонтов устроил между крестьянами кулачный бой. Вот что в 1881 году вспоминала 80-летняя Аграфена Ускокова: «Супротивник сына моего прямо по груди-то и треснул, так, значит, кровь пошла. Мой-то осерчал, да и его как хватит — с ног сшиб. Михаил Юрьевич кричит: “Будет! Будет, ещё убьёт!”» Отметим: в «стеношном» бою Василию-садовнику рассекли губу, а сын крестьянки в «охотницком» поединке получил удар в грудь. Разные правила…
А теперь обратимся к поэме. Вот что пишет Михаил Кононенко:
«Давайте рассмотрим, как у Лермонтова описывается этот богатырский бой:
Из этого описания становится очевидно, что опричник Кирибеевич начал бой честно, по правилам, нанося удар в грудь, или, выражаясь боксерским жаргоном, по “корпусу”, хотя и знал, что в лице купца Калашникова имеет своего смертельного врага. Но он также знает и то, что грубое нарушение правил ведения кулачного боя карается казнью и что даже для него, любимого опричника, царь исключения не сделает, поскольку нарушение правил с его стороны не может быть случайным. Кирибеевич не может выйти из боя или отказаться от него, потому что нужно будет объяснять царю причину такого поступка, а причина такова, что царь не будет в восторге. Для Кирибеевича единственный выход — одолеть купца в честном бою. Купец же Калашников после удара, нанесённого ему Кирибеевичем, понимает, что против профессионального бойца, каковыми в то время являлись опричники, ему едва ли удастся выстоять в честном бою, и сознательно идёт на нарушение правил, которое карается смертной казнью, — он наносит Кирибеевичу удар “прямо в левый висок со всего плеча”. Удар смертельный и хорошо выверенный, поскольку он знает, что ещё раз нарушить правила и добить противника ему никто не позволит. Так, отстаивая свою честь и честь своей семьи далеко не праведным способом, Степан Парамонович хорошо осознавал, что он делает. Купец Калашников знает, что заслужил смертную казнь. “Чему быть суждено, то и сбудется; постою за правду до последнева!” Это — отчаянный крик души честного человека, решившегося на бесчестный поступок. Он роняет себя в своих же собственных глазах, и сама жизнь для него после этого бесчестия уже становится непосильным бременем».
То, что Калашников нарушает правила честного боя, не ускользает и от внимания других критиков. Однако, к примеру, Е. Грищук и М. Никифорова пытаются оправдать купца: «Лермонтов изображает единоборство — “охотницкий бой одиночный”… Был ещё другой вид единоборства — бой “сам на сам”, или “поле”. Он, однако, происходил не на льду Москвы-реки, а у Ильинских ворот Китай-города. Бой “сам на сам” — судебный поединок. Дрались обычно обидчик и обиженный. Тот, кто оказывался победителем, признавался правым, а побеждённый — виноватым. В бое “стенка на стенку” существовали свои правила: лежачего не бить, по виску и “под микитки” (под вздох) не ударять. При поединке “сам на сам” дрались без правил. Калашников “ударил своего ненавистника прямо в левый висок со всего плеча”, это говорит о том, что купец рассматривал бой с опричником на Москве-реке как судебный поединок. Да иначе он и не мог поступить. Калашников не имел права “просить поля” у Кирибеевича, как тогда назывался вызов на судебный поединок. Ведь опричник заранее считался правым».
Резон в словах авторов есть. Иван IV, дабы создать крепкое государство, объявил центральную часть страны собственной землёй царя — опричниной. На опричных землях деревни и сёла отбирались у знатных владельцев, а их самих царь селил на земли, названные земщиной. Опричные земли Грозный роздал преданным ему служилым людям, составившим личную гвардию царя. В любом споре опричник был заведомо прав, жалобы на него от земских людей не принимались. Поднять руку на опричника считалось тяжким преступлением. То есть «просить поля» для смертельного боя с Кирибеевичем Калашников не мог, а смыть позор кровью надо! И Степан Парамонович превращает «спортивный» «охотницкий бой» в смертельный поединок «Божьего суда». Купец честно предупредил опричника:
Калашников собирался убить обидчика «по-честному» и даже надеялся после боя пировать с друзьями. Но по ходу поединка купец вынужден пойти на грубое, преступное нарушение правил, когда понимает, что честно ему Кирибеевича не одолеть. Он наносит опричнику удар в висок, который во всех видах русского кулачного единоборства считался подлым!
А что опричник? Он всерьёз воспринял угрозу Калашникова, «побледнел в лице, как осенний снег»… Кирибеевич готов к любому исходу — но в честном бою! И удар наносит по правилам. Что мешало ему первым врезать купцу в висок? Только одно: царь Иван этого не простил бы. Такой поступок позорил государевых бойцов. А вот купцу ничего другого не оставалось…
Посмотрите, как Лермонтов описывает смерть Кирибеевича:
Жалость к молодому опричнику сквозит в каждом слове.
Что же касается Ивана Васильевича, он вместо скорой и жестокой расправы, напротив, пытается разобраться: может, купец случайно нанёс запрещённый удар? Тогда с него спросу нет.
Но если Калашников солжёт, то месть не имеет смысла! Обмануть царя, объявив убийство случайным, — значит струсить, упасть в глазах родных — братьев, жены! Сподличать перед самим собой. С другой стороны, рассказать царю о причинах убийства опричника — значит опозорить жену, дать повод для слухов и пересудов. В любом случае милость царя Степану Парамоновичу не нужна: он совершил бесчестный поступок и жить дальше с этим не желает. Выход один: за совершённый грех положить голову на плаху. Вот и говорит царю: да, убил я сознательно. А за что — не твое, государь, дело.
Выпытывать причину убийства Грозному тоже не резон: раз успешный торговец пошёл на такой позор, значит имел серьёзные основания. Зачем выносить грязное опричное бельё на всеобщее обозрение, мутить народ? Помиловать купца царь опять же не может, даже если бы и захотел: это создало бы опасный прецедент, соблазн порешить недруга под видом «спортивного поединка».
Смолчал купец — за то ему и хвала. И осыпает Иван милостями семью Калашниковых: вдову и детей жалует из казны, а братьям разрешает «торговать безданно, беспошлинно» (прямая цитата из народной песни о Кострюке, где «дети Калашниковы» просят князя: «Вели нам торговать безданно, беспошлинно»). Вот так ирод самовластный! С чего вдруг расщедрился? Да потому, что рассудил по справедливости!
По справедливости и казнил Степана Парамоновича «смертью лютою, позорною». А какою ещё казнить убийцу, который нарушил вековые русские традиции?! И схоронили купца вне кладбища — душегубу на православном погосте делать нечего:
Место захоронения Калашникова говорит само за себя: у восточных славян на перекрёстках было принято хоронить самоубийц, некрещёных детей и других «нечистых покойников». Если похоронить их на кладбище, наступит засуха или, наоборот, пойдут бесконечные ливни, град выбьет хлеба. Поэтому «нечистых» предавали земле в ничьём пространстве около перекрёстков и развилок, чтобы неприкаянная душа бродила где-нибудь подальше. Также считалось, что в тела казнённых преступников и самоубийц вселялись упыри, поэтому трупы зарывали на развилках, напоминающих по форме крест.
В довершение заметим, что нынче принято называть поэму Лермонтова усечённо — «Песня про купца Калашникова». Но купец-то помянут в самом конце! Полный титул — «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Первым назван царь, совершивший страшный, но справедливый суд, вторым — неправедно убитый (хотя и грешный) опричник и лишь в последнюю очередь — купец, ради защиты семейной чести совершивший позорное преступление.
Так почему же Лермонтов не поправил Белинского? Ведь статья критика была опубликована при жизни поэта. А никакой загадки. Поэму Лермонтов создал в 1837 году на Кавказе, в Пятигорске, куда был сослан за «возмутительное» стихотворение «На смерть Поэта», посвящённое гибели Пушкина. В истории боя опричника и купца аллюзии на дуэль Пушкина и Дантеса тоже более чем очевидны. Финал, правда, несколько иной, нежели в пушкинской дуэли, но вряд ли кто-то этим обманулся. Потому цензура и не разрешала печатать «Песню…»: её опубликовали только 22 марта 1838 года в «Литературных прибавлениях» к журналу «Русский инвалид», и то с условием, что вместо фамилии опального поэта поэма будет подписана буквами «-въ». Так что Лермонтову было не до полемики с Белинским.
«Аржак» — комикс по мотивам Лермонтова
Но не слишком ли далеко мы отклонились от темы очерка — хулиганской баллады о Кольке Аржаке? Новый взгляд на «Песню про купца Калашникова» любопытен — однако какое отношение он имеет к уличной балладе 20-х годов? Да самое прямое. И я попытаюсь это доказать.
Не случайно мы начали с исторического сказания о Кострюке и «братцах-калашничках». Разве сочинители этого повествования не понимали, что подвиги победителей выглядят не очень достойно? Понимали. Но даже в первых вариантах песни, написанных «по горячим следам» (наверняка поводом послужил реальный случай), бояны поддерживают своих героев, равно как авторы былины о Ваське Буслаеве любуются его чудовищными пьяными непотребствами. И каковы же аргументы защиты? А очень простые: наши русские ребята «уделали бусурмана»!
То есть главное — достичь цели и унизить супостата. А как — не столь принципиально. В сборнике Кирши Данилова мораль сформулирована ещё более отчётливо. Правда, в этом варианте (начало XIX века) оба брата побеждают «борца черкасского» чисто и честно. Однако версия поздняя, петровских времён: братья «одеты в платье саксонское», да ещё и гладко выбриты. Зато резюме откровенно до предела. Когда Марья Темрюковна возмущается мародёрством одного из победителей — «детина деревенской — почто он платья снимает?», царь Иван Васильевич ответствует «с чувством, с толком, с расстановкой»:
Вот типичная психология гопника-хулигана. Главное — что «русак тешится»! Не столь важно — русак, татарин или чеченец. Психология хулигана наднациональна. Куда важнее маркировка «свой — чужой» по любому принципу. Определил чужака — и делай с ним, что хочешь, тешься, как пожелаешь. Он виноват уж тем, что не свой. А если к тому же ещё и выпендривается — сам Бог велел его порвать. Как нынче говорят — «по-любому». Не задумываясь о каких-то там правилах честного поединка. Если чужак объективно сильнее, можно наплевать на любые правила. Даже нужно.
И песня о Кострюке-Мастрюке, и песня о купце Калашникове — обе они отразили принципы русского хулиганского понятия о «честном поединке»: неважно, что нечестно, важно победить! Но разве не то же самое делают и васинские парни с Аржаком? Разве не так же рассуждали русские кулачные бойцы, вооружаясь ножами, кистенями, свинчаткой? Хрен с ним, что подло — ведь не ради себя, ради «обчества», чтобы наши деревенские стеношники круче всех оказались!
В песне о Кострюке мысль эта грубовата. В «Песне о купце Калашникове» выражена с психологическими нюансами. Но смысл — тот же. С этой точки зрения «Аржака» можно рассматривать как хулиганскую адаптацию лермонтовской поэмы. Аржак (Кирибеевич) гуляет с петровскими (ольховскими, васинскими и проч.) девчатами (купеческая жена Алёна Дмитриевна). Парни этого района (Калашников) возмущены и хотят расправиться с наглецом. Аржак призывает их биться честно. Но хулиганы знают, что в таком бою Аржак мастер — может и «оборотку дать». И они пускают в ход ножи, убивая врага.
«Окоротить чужого» — вот что объединяет все три произведения: песню про Кострюка, песню про купца Калашникова, песню про Кольку Аржака. Возможно, не случайно привычный русскому слуху Чеснок превратился в странного Аржака, звучащего явно «не по-нашему». Не зря и у Лермонтова опричник выступает под «бусурманским» именем Кирибеевич — пусть он даже крещён и находится на царёвой воинской службе. (Любопытно, что Лермонтов «моделирует» псевдотюркское отчество: на самом деле имени Кирибей попросту не существовало.) Как не вспомнить Дантеса:
Смеялся? Презирал? Получи, фашист, гранату!
Печально то, что этот принцип — оправдание любого позорного поступка «своего человека» объективными обстоятельствами и благой целью — до сих пор торжествует в умах многих «русских людей». В полемике вокруг «Песни про купца Калашникова» многие мне возражали: но ведь Степан Парамонович мстил за поруганную честь семьи! Как можно его сравнивать с гопниками?!
Увы, можно. Да, Калашников переживает своё падение как трагедию и готов идти на казнь. Так ведь и васинские парни кричат: «Аржак, прости!» Русская натура такова: не согрешишь, не покаешься. Только главное не в этом. Главное в том, что через закон, традиции, честь можно переступить. И оправдание всегда найдётся. Реальное или мнимое.
Как петровский гренадер накостылял «бодливому» шотландцу
Но это — рассуждения о природе, психологии русского хулиганства, отражённой в отечественном фольклоре и литературе. Нам же интересно узнать об уникальной системе уличного боя, которой, скорее всего, владел Колька Аржак. Кулачные бои, безусловно, могли воспитать в парне с рабочей окраины жестокость, стойкость в схватке. Но способны ли они отточить мастерство бойца настолько, чтобы он мог противостоять нескольким соперникам, тем более вооружённым? Ведь «драться без ножа» вовсе не означает, что такого ножа нет у твоего противника!
Насколько искусными были удары и приёмы русского кулачного боя? Некоторые наши соотечественники считают эту систему столь эффективной, что даже настаивают на превосходстве кулачного боя над английским боксом. Способствовал распространению такого мнения известный археолог и этнограф Александр Власьевич Терещенко (1806–1865). В фундаментальном исследовании «Быт русского народа» он делает вывод о том, что английский бокс произошёл… от нашего кулачного боя! Основанием служит эпизод из «Рассказов Нартова о Петре Великом» — якобы рукописи известного русского учёного, механика, «токарных дел мастера» Андрея Константиновича Нартова (1693–1756), где в одном из эпизодов русский гвардеец побеждает английского боксёра. Этнограф развивает версию о том, что после обидного казуса англичане срочно отправили своих мастеров на обучение в Россию, а затем появился настоящий английский бокс…
Григорий Панченко отказывается верить такому свидетельству: «История эта восходит к так называемой “Рукописи Нартова”, подложность которой ясна уже несколько десятилетий, но из “патриотических” соображений об этом стараются не говорить». Ну, то, что рукопись написана не самим механиком, а его старшим сыном Андреем Андреевичем, давно не секрет. Удалось определить и источники, которые были творчески обработаны. Однако исследователи полагают, что, хотя Нартов-младший порою явно не в ладах с фактами (к примеру, сообщает, что знаменитый механик пробыл с Петром 20 лет, хотя тот состоял при императоре всего 6 лет), многие рассказы могли действительно принадлежать Нартову-старшему.
Заслуживает доверия и рассказ о лондонском поединке — с той оговоркой, что речь не шла о единоборстве гренадера с боксёром, как это утверждается в вольных пересказах. Слова «бокс» в рукописи вообще не могло быть: в 1698 году, когда Пётр посетил Лондон, бокс как система не существовал. Самые ранние упоминания об этом виде единоборства связаны с Джеймсом Фиггом, который стал первым официальным чемпионом Англии и владел этим титулом с 1719 по 1729 год. Рукопись же прямо указывает, что лондонские бойцы «сражались лбами», то есть по особым правилам. Ни об ударах руками, ни о других приёмах не упомянуто: «Во время пребывания Государева в Лондоне случилось видеть ему на площади аглинских бойцов, сражающихся друг с другом лбами, из которых один побивал всех. Возвратясь к себе в дом, расказывал о таком сражении прочим россиянам и спрашивал, нет ли охотника из Преображенских гранодеров, находящихся при свите его, побиться с аглинским силачем. Вызвался один гранодер, мочной, плотной, бывалый в Москве часто на кулачных боях и на себя надеявшийся, но просил Государя, чтоб приказано было сперва ему посмотреть битвы аглинской, что ему было и позволено. Гранодер, приметив все их ухватки, уверял Государя, что он перваго и славнаго их бойца сразит одним разом так, что с рускими гранодерами вперед биться не захочет. Его величество, улыбнувшись, ему сказал: “Полно, так ли? Я хочу держать заклад. Не постыди нас”. — “Изволь, Государь, держать смело и надеяться. Я не только удальца, да и всех его товарищей вместе одним кулаком размечу. Вить я, отец, за Сухоревою башнею против кулашной стены хаживал. Я челюсти, зубы и ребры высажу”».
Вот тут и кроется секрет победы гренадера! Не случайно он внимательно наблюдал за поединками лондонских бойцов и приметил их повадки — то, что удары наносились только головой. Легко понять радость гвардейца: при таких ограничениях он и впрямь мог разметать всех британских мастеров, тем паче бойцом был выдающимся.
А теперь внимательно ознакомимся с описанием боя: «Агличанин богатырским своим видом при первом на него взгляде уверял почти уже каждаго, что сия есть для него малая жертва. Все думали, что гранодер не устоит… Агличанин, нагнув шею, устремил твёрдый лоб свой против груди гранодерской, шёл его сразить, и лишь только чаяли произведённаго лбом удара, как увидели вдруг, что гранодер, не допустив его до себя, вмиг кулаком своим ударил агличанина по нагбенной шее в становую жилу столь проворно, что гигант шотландской пал на землю и растянулся. Зрители вскричали: “Гусе!”, ударили в ладоши, поклонились Государю и заклад заплатили. При сём Его величество, оборотясь ко своим, весело сказал: “Руской кулак стоит аглинского лба. Я думаю, что он без шеи”».
Шотландец не ожидал кулачного удара по затылку: это было запрещено. Потому и пошёл на таран бесстрашно. Гренадер легко победил — но фактически против правил. Видимо, так же решили и английские джентльмены. Но что взять с русских дикарей, которые не в состоянии вести честный бой? К тому же — дипломатия…
Вторая интересная деталь — указание на удары лбом. Упоминание поединков, где бьются лбами, заставляет отнестись к расссказу с высокой степенью доверия. Английский кулачный бой в самом деле практиковал такие приёмы! Их допускали и «Кодекс Браутона» (по имени чемпиона Англии Джеймса Браутона), вступивший в действие в 1743 году, и даже более поздние «Правила лондонской арены».
Однако на этом доверие к историям о победах кулачных бойцов в боксёрских поединках заканчивается. Терещенко замечает: «Рассказывают, что некоторые из наших вельмож, гордясь своими бойцами, сводили их в Москве с боксёрами. Достопочтенные лорды сами приезжали сюда и выставляли боксёров на дюжий кулак русского, который был не знаком с искусством, но так удачно метил в бока и лицо, что часто с одного раза повергал на землю тщеславного бойца. С тех пор боксёры перестали мериться силой с бойцами».
Подобные рассказы далеки от истины. Панченко резонно указывает: «Отдельные схватки бойцов, обученных европейскому боксу (тех же матросов), со “стеночными” мастерами не давали таких поводов для оптимизма. По окончании наполеоновских войн в России некоторое время выступал экс-чемпион Англии Томас Крибб (который тогда был уже не молод и несколько лет как оставил профессиональный ринг). Он провёл ряд схваток перед самим императором Александром I, ни в одном из этих боёв не то что не был побеждён, но и не встретил серьёзного сопротивления. А ведь противостояли ему лучшие “стеночники”, которых сумели найти». А тренер Крибба поссорился с двумя русскими офицерами и нокаутировал обоих, хотя те пытались пустить в ход шпаги.
Победы английских боксёров неудивительны. Бокс нацелен на поединок двух соперников, отсюда — оттачивание техники, постановка удара, искусство манёвра, ставка на выносливость. Поначалу некоторые схватки длились до четырёх часов (пока кого-то не посылали в нокаут). Массовый русский кулачный бой — коллективное побоище, где «сила солому ломит». На первое место выходили мощь и натиск, умение держать удар. На это ещё в XVI веке обратил внимание Сигизмунд Герберштейн — отменный знаток ратных искусств. Отдавая должное силе и храбрости бойцов в поединках «Божьего суда», он советовал европейцам не пытаться «пересилить» московитов: лучше уйти в глухую оборону, а после яростного натиска воспользоваться превосходством техники и недостаточностью защитных приёмов противника.
Недостатки кулачного боя отметил и Максим Горький в «Жизни Матвея Кожемякина»:
«Городской боец размахнулся, ударил — Мишка присел и ткнул его в подбородок снизу вверх, спрашивая:
— Как здоровье-то?
Освирепел Базунов, бросился на противника, яростно махая кулаками, а ловкий подросток, уклоняясь от ударов, метко бил его с размаха в левый бок.
— Лексей, не горячись! Что ты, Дурова голова? Стой покойно, дубина! — кричали горожане.
— Не горячись, слышь! — повторял слободской боец, прыгая, как мяч, около неуклюжего парня, и вдруг, согнувшись, сбил его с ног ударом головы в грудь и кулака в живот — под душу…
Базунов, задыхаясь, сидит на земле и бормочет:
— Ежели он вроде комара, — вьётся, вьётся… эдак-то разве бьются?»
Характерное замечание! «Эдак-то разве бьются?» В том и загвоздка, что «эдак» на Руси биться было не принято. Другое дело — полагаться на силу, на крепость кулака, кто кого передюжит…
Так значит, русские кулачные бойцы оказались «примитивнее» английских?
«Москва бьёт с носка»
Некоторые исследователи вопроса (тот же Григорий Панченко) приходят именно к такому выводу. Однако это мнение излишне категорично. Кулачный бой высокого класса допускал приёмы борьбы, а также применение разнообразной техники ног. С этой точки зрения и надо сопоставлять его с боксом. Так, в нынешних боях без правил, где представлены все стили единоборств и ограничения сведены к минимуму, классические боксёры часто выглядят очень бледно — если не используют дополнительно технику других стилей. Мгновенное сближение и переход к приёмам борьбы делают боксёра беспомощным. А ведь русский кулачный бой являлся именно смешанным единоборством! Что отмечал ещё немец Герхард Фит в своей книге «Опыт телесных упражнений» (Берлин, 1747): «Русские имеют обычай показывать на общественных увеселениях, кроме других упражнений, также свою ловкость и силу в борьбе. Они не только стремятся схватить друг друга и повалить, но ударяют друг друга, как боксёры в Англии, и подставляют друг другу ноги, что является одним из основных приёмов для победы над противником».
В примерах же с противостоянием кулачных бойцов боксёрам речь идёт о поединках по правилам бокса. Но ведь кулачный боец лишался важной части своих приёмов!
Григорий Панченко, впрочем, считает технику ног русских бойцов крайне примитивной: «Подбивы и зацепы ног (“удар с носка”) сохраняются и в кулачном бою, и в борьбе. Арсенал их очень ограничен, но всё равно умение проводить хотя бы некоторые подсечки считается верхом совершенства, доступным не каждому бойцу». Но это не так. Да, порой действовало правило-пословица «Бей по роже, да не замай одежи», поскольку при захвате одежды она могла порваться, а покупка нового платья била по скудному бюджету бойца. Однако обычно в кулачном бою не только допускались, но и практиковались подножки, подсечки, подбивы, броски с подхватом, удары ногами.
Интересна в этом смысле работа А. В. Александрова «Удары ногами в кулачных боях». Автор вспоминает известную поговорку «Москва бьёт с носка», в которой отразились особенности московского боя ногами — подсечки и подбивы, а также удары носком ноги в болевые точки. Выделяются три способа нанесения ударов — опорные, проникающие и рубящие. Они наносились стопой, носком, голенью, коленом, даже в прыжке — «петушиный скок».
Конечно, удар ногой рассматривался как вспомогательный элемент. Потому бой и носил название кулачного. И всё же историко-этнографические исследования учёных Тверского и Омского университетов позволяют сделать однозначный вывод: удары ногами среди кулачных бойцов в северо-западных областях России, в единоборствах сибирских казаков были распространены повсеместно. Целью являлись пах, солнечное сплетение, голень, колено. Александров, опираясь на исследователя из Твери Г. Базлова, пишет: «Среди ударов были распространены пинки, круговые удары сбоку по ногам, наподобие высокой подсечки — “поджилок”, удары коленями, подбивы по ногам и “топки” — добивающие удары. Кроме того, в арсенале присутствовали лягающие удары назад».
Предпочтение отдавалось невысоким ударам, не выше солнечного сплетения, хотя при желании удары наносились в голову и грудь. Кстати, многие боевые восточные единоборства в реальном бою рекомендуют то же самое. Долгое время этого принципа придерживался даже Брюс Ли.
Упоминания подсечек, подножек, ударов ногами встречаются и в русском фольклоре — в той же былине о Василии Буслаеве:
В песне о кулачном бое «калашничков» с Кострюком младший брат проводит подсечку, одновременно выводя противника из равновесия рывком за ворот:
В песне «Мамстрюк Темрюкович» встречаем тот же самый приём — видимо, чрезвычайно популярный:
Тот же самый приём встречаем уже в XX веке, в задорных припевках перед кулачными боями:
Таким образом, борцовская и ударная техника ног активно применялась как в русском кулачном, так и в русском уличном бою.
Саша Пушкин, солнце русского бокса
Кулачный бой постоянно совершенствовался благодаря тому, что им увлекались не только мужики и мастеровые, но и представители аристократии. Например, Алексей Орлов, брат фаворита Екатерины II Григория Орлова, был любителем «постукаться» один на один. В таких боях ему не было равных. Ещё бы: рост 203 см при весе более 150 кг! Силу граф имел неимоверную: будучи уже в летах, связывал узлом толстую стальную кочергу и гнул пальцами серебряный рубль. Но дело не только в этом. Некоторые исследователи полагают, что граф получил боксёрскую подготовку. Алексей Григорьевич в молодости участвовал в ожесточённых рукопашных схватках, в одной из пьяных кабацких драк его «отметили» глубоким шрамом через всё лицо. Затем его военная служба проходила в тесном контакте с английскими моряками, в то время (1770-е годы) буквально помешанными на боксе. Есть основания предполагать, что любитель почесать кулаки не мог остаться в стороне от подобного увлечения.
Но если знакомство Орлова с английским боксом — гипотеза, то о графе Фёдоре Ростопчине это можно заявить с полной уверенностью. Граф занимал при Павле I должность члена императорского совета, а в 1810 году при Александре I был назначен главнокомандующим Москвы, которую и поджёг с приближением Наполеона. Фёдор Васильевич с молодости увлекался кулачным боем. А посетив в 1788 году Англию, будучи ещё поручиком Преображенского полка, он наблюдал поединок боксёров Джексона и Рейна. По воспоминаниям графа Евграфа Комаровского, мастерство Рейна так понравилось поручику, что он «вздумал брать у него уроки: он нашёл, что битва на кулаках такая же наука, как и бой на рапирах». По возвращении на родину Ростопчин берёт в Москве уроки бокса у путешественника Вильяма Кокса и его спутников. Граф оказался хорошим учеником: ещё до сожжения Москвы он прославился как абсолютный чемпион кулачных боёв.
Но в перечне самых известных имён пропагандистов английского бокса того времени на первом месте стоит имя Александра Пушкина. О его знакомстве с боксом есть немало свидетельств. Так, сын поэта Петра Вяземского, Павел Петрович, вспоминал, как в возрасте семи лет встречался с Пушкиным: «В 1827 году Пушкин учил меня боксировать по-английски, и я так пристрастился к этому упражнению, что на детских балах вызывал желающих и нежелающих боксировать, последних вызывал даже действием во время самих танцев. Всеобщее негодование не могло поколебать во мне сознания поэтического геройства, из рук в руки переданного мне поэтом-героем Пушкиным. Последствия геройства были, однако, для меня тягостны: меня перестали возить даже на семейные праздники».
Сам Александр Сергеевич, отстаивая право защищать личную честь любыми способами, в неоконченной статье «Разговор о критике» пишет: «Посмотрите на английского лорда: он готов отвечать на учтивый вызов gentelman и стреляться на кухенрейтерских пистолетах или снять с себя фрак и боксовать на перекрёстке с извозчиком. Это настоящая храбрость».
Как предполагает выдающийся знаток русского рукопашного боя Михаил Лукашев в очерке «Пушкин научил меня боксировать…», великий поэт приобрёл навыки бокса в годы петербургской юности. Лукашев считает, что одним из наставников Пушкина мог быть Фёдор Ростопчин, что маловероятно: седовласый граф и сановник в близком знакомстве с младым пиитом не состоял.
Более весомо другое предположение Лукашева: «Русско-английские контакты росли. Англичане приезжали в Россию, русские бывали в Англии. Так, ряд наших морских офицеров проходил практику в британском флоте, который признавался наилучшим и где знание бокса считалось само собой разумеющимся. Кроме того, в среде русского дворянства намечалась тенденция к англомании. Всё это создавало более широкие, чем прежде, возможности для ознакомления с английским боксом».
Но зачем молодому выпускнику Царскосельского лицея умение боксировать? Так ведь на 1817–1820 годы приходится время разгульной молодости Александра Сергеевича! В среде его приятелей числился Павел Нащокин. После смерти отца богатый наследник Нащокин сорил деньгами, а, поступив 25 марта 1819 года в лейб-гвардии гусарский Измайловский полк, превратил службу в кавардак с постоянными пьянками, распутством — и драками. Как отмечал известный пушкинист Мстислав Цявловский: «Пушкин в компании приятелей Нащокина принимает участие в драке с немцами в загородном ресторане “Красный кабачок” и в других развлечениях такого рода».
«Красный кабачок» — трактир, где чинно проводили время немецкие бюргеры со своими семействами. Не одно поколение гвардейских офицеров находило удовольствие в том, чтобы провоцировать германцев на мордобой, приставая к их фрау и фрейлейн. Литератор и журналист Фаддей Булгарин, столь нелюбимый нашим «солнцем русской поэзии», горестно вздыхал: «Молодые офицеры ездили туда, как на охоту. Начиналось тем, что заставляли дюжих маминек и тётушек вальсировать до упаду, потом спаивали муженьков… и наступало волокитство, оканчивавшееся обыкновенно баталией». Об этом Пушкин вспоминает и в письме к жене из Москвы в мае 1836 года, рассказывая ей о драке офицера Киреева с простолюдином: «…что за беда, что гусарский поручик напился пьян и побил трактирщика, который стал обороняться? Разве в наше время, когда мы били немцев на Красном кабачке, и нам не доставалось, и немцы получали тычки сложа руки?»
Да, здоровые, мускулистые немецкие мастеровые могли крепко накостылять любому. Потому-то техника ударов и защиты английского бокса щуплому молодому поэту была нужна как воздух. Лукашев пишет: «Именно этот нелёгкий вид спорта и самозащиты давал навыки нанесения сильных ударов в наиболее уязвимые места на теле противника и защиты от его ударов. Кроме того, бокс той эпохи учил ещё и пользоваться при столкновении вплотную подножками, которые допускались правилами. Главным же являлось то, что основной техникой бокса был тогда так называемый прямой удар, т. е. удар, наносимый по кратчайшему расстоянию — прямолинейной траектории — за счёт резкого выпрямления руки в локте… Частокол быстрых прямых ударов надёжно отгораживал боксера даже от более сильного противника». А подобная тактика представляла собой как раз то, что было необходимо Александру и его задиристым приятелям в «Красном кабачке».
Поведение гусаров и примкнувшего к ним Саши Пушкина полностью подпадает под определение злостного хулиганства. Чем отличаются бесчинства лейб-гвардейцев в семейном кабачке от налётов советских хулиганов спустя столетие на комсомольцев в «красных уголках»? Даже совпадение символическое — «Красный кабачок» и «красный уголок»! Совдеповские бузотёры крепили традиции, заложенные великим русским поэтом.
Позднее, уже в южной ссылке, у Пушкина возникает новая насущная необходимость в навыках рукопашной схватки: «Его отношения с кишинёвским дворянством складывались не самым лучшим образом, и он знал, что его недруги отнюдь не склонны прибегать к небезопасной дуэльной процедуре». Приятель Пушкина подполковник И. П. Липранди рассказывал ему: «У них в обычае нанять несколько человек, да их руками отдубасить противника». В заштатном Кишинёве, правда, возможность совершенствования боксёрской техники у поэта вряд ли была. Зато она возникла позднее, в Одессе — портовом городе, полном моряков (в том числе английских). Недаром связь моряков и бокса подметил в своём толковом словаре Владимир Даль. Приведя просторечный глагол «боксать», он подчеркнул: «…слово, перенятое в наших гаванях, говоря о драке и задоре заморских матросов». Да и в окружении ярого англомана генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Семёновича Воронцова наверняка имелись люди, не понаслышке знакомые с боксом. Впрочем, к тому времени Александр Сергеевич уже имел обыкновение носить тяжёлую трость («железную палку восемнадцать фунтов весу», по свидетельству того же Липранди).
Учиться кулачному делу настоящим образом!
Обращение к примерам знаменитых людей важно нам не в качестве забавной иллюстрации. Оно показывает, что русский рукопашный бой в самых разных формах — от кулачного до уличного — на протяжении XIX века обогащается посредством проникновения в него элементов, заимствованных из-за рубежа, в основном из Британии. Русским «голиатам» (как называли мощных бойцов по аналогии с библейским Голиафом) было чему поучиться у иноземцев. Уже упомянутый Вильям Кокс, будучи в Москве со спутниками, заинтересовался русскими кулачными боями, и по приказу Алексея Орлова в Манеже собрали около трёх сотен московских бойцов. Сходились в боях, которые обычно проходят в начале «стеношного» боя и позволяют удары в голову. В путевых заметках британец отмечал: «На руки бойцы надевали рукавицы из такой жёсткой кожи, что с трудом могли сжимать кулак, а многие били прямо открытой ладонью. Бойцы выдвигали вперёд левую сторону тела и размахивали правой рукой, которую держали несколько наотлёт, левой отбиваясь от противника. Удары наносили кругообразно, а прямо не били. Целили только в голову и лицо. Если бойцу удавалось свалить противника на землю, его немедленно признавали победителем». О технике русских бойцов Кокс высказывается тактично, но определённо: «Мы посмотрели десятка два подобных схваток. Некоторые бойцы были очень сильны, но не могли причинить своим соперникам серьёзного вреда из-за самого способа драки, при котором невозможно нанести тех переломов и ушибов, коими часто сопровождаются бои у нас в Англии».
Итак, боксёр отмечает неудобство бойцовских рукавиц, не приспособленных для правильного формирования кулака, отсутствие прямых ударов, примитивную технику удара открытой перчаткой. Заметим, однако, что отсутствие ударов в корпус диктовалось именно формой рукавиц: как бить по телу, если нельзя сжать кулак? Описанная забава имела мало общего с реальным боем.
И всё же следует признать, что из-за массовости русского кулачного боя востребовано было в первую очередь то, что можно легко перенять и использовать в потасовке с непрофессионалами, в общей толпе. Отсюда популярность примитивной техники. Прямой удар, свинг, апперкот требовали длительных тренировок, а влепить с размаху оплеуху — это доступно каждому. Хорошо заметил известный персонаж комедии А. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» Расплюев, аттестуя боксёра: «У него, стало быть, правило есть: ведь не бьёт, собака, наотмашь, а тычет кулачищем прямо в рожу…»
Григорий Панченко отмечает: «Эта техника сохранялась вплоть до XX века: когда незадолго до революции молодой В. Набоков состязался со своими сверстниками, привычными к стеночным боям, его обвинили в англомании на основании того, что он бьёт лишь передней, а не внутренней стороной кулака. Только победа помогла будущему писателю доказать, что он придерживается боксёрской техники по причине её эффективности, а не “английскости”».
Между тем настоящие мастера кулачного боя уже к середине-концу XIX века обладали богатым арсеналом ударов и приёмов, не уступая боксёрам-профессионалам. Именно выдающиеся кулачные бойцы до революции часто становились чемпионами в боксёрских состязаниях (после соответствующей переподготовки). Среди них — неоднократный чемпион России Павел Никифоров и знаменитый татарский боец Нур Алимов по прозвищу Кара Мурза — «Чёрный парень». В дальнейшем оба стали основателями школы советского бокса. Павел Никифоров рассказывал, что кулачные бойцы часто сами доходили до правильной техники нанесения удара: «Били чистыми кроше» (короткими боковыми). А один из активных пропагандистов бокса в России барон Михаил Кистер в пособии «Английский бокс» (1894) пишет о кулачной технике: «Прямой удар назывался “тычком” или “ширмой”, короткий боковой именовался по той цели, в которую он обычно направлялся — “под силу”, то есть удар в бок, длинный боковой с размаху — “с крыла”, рубящий удар сверху — “рубма”».
Абсолютный чемпион СССР 1939 года Виктор Михайлов мальчишкой часто участвовал в кулачных боях у Дорогомиловской заставы и подробно описал приемы защиты «кулачников»: шаг или отскок в сторону, назад, нырки, подставки предплечья правой руки. Существовал и специфический способ защиты: «Многие защищали голову, зажимая в руке и подставляя под удар отворот верхней одежды. Эту защиту трудно описать, но если вы представите себе, например, подставку внешней стороны боксёрской перчатки под боковой удар, когда рука сгибается в локте и прикрывает голову сбоку, да учтёте, что в руке зажат край кафтана, пиджака или отворот поддевки, — это и будет описываемая защита».
Обратим внимание на изменение техники кулачного боя. Манёвры, уходы, нырки совершенно не характерны для «классической» стенки. Вывод: ко времени создания баллады о Кольке Аржаке кулачный бой обогащается боксёрской техникой.
Точнее, подобные перемены отмечены куда раньше. Причём преимущественно в городах, куда раньше всего проникали «заморские веяния». Деревня значительно отставала. Яркой иллюстрацией служит рассказ Василия Куликова — деда боксёра Петра Куликова (серебряного призёра первенства СССР 1940 года). Василий Петрович повествует о событиях конца XIX века, когда он работал набойщиком на фабрике Якова Горелина в Иваново-Вознесенске. Однажды хозяин фабрики перед Масленицей отправил Василия в Шуйский уезд, чтобы тот купил у крестьян две сотни заячьих шкурок. Набойщик попал в село Дунилово накануне «стеношного» боя с селом Горица. Крупный дуниловский торговец пушниной Кобельков идти на сделку не хотел. И тогда Куликов предложил побить главного «кулачника» Горицы — дьякона Григория взамен на то, что Кобельков завтра же продаст заячьи шкурки:
«— Слышь, а ну пойдём, — держа меня за рукав, сказал Фёдор, — испытать тебя надобно. Устоишь против меня — по рукам, нет — поворачивайте оглобли. Не будет вам мехов.
Вышли во двор. Фёдор Кобельков скинул жилетку и, оставшись в одной рубахе, засучив рукава, скрестил кулаки на груди.
— А ну, начнём!
Снял я свой зипунишко, шапку на снег положил. Фёдор размахнулся, но кулак задел лишь плечо, а я успел ответить коротким ударом в подбородок.
— Ого! — сплёвывая кровь, удивился Фёдор. — А теперь держись!
И снова его увесистый кулак просвистел у меня над головой. Я встретил его хлёстким ударом, и он, как подкошенный, ткнулся в сугроб. Немного погодя очнулся…
— Молодец! — обрадовался. — Можешь одолеть отца Григория».
На следующий день состоялся бой Куликова против дьякона:
«Смекнул я сразу, что силой батюшку не одолеть… И не торопился наносить удары. Всё уклонялся, как бы бегал от него. Дьякон рассвирепел. Ещё никто так долго не сопротивлялся ему. И когда, подняв кулак, он бросился на меня, я ударил его в челюсть. Он рухнул…
— Вот откуда бокс-то пошёл, — остановившись около дома, сказал Петрович…»
Рассказчик прямо признаёт, что был знаком с техникой английского бокса и это позволило ему одолеть деревенских. Когда же в 20-е годы стали популярны поединки «стеношников» с советскими боксёрами, преимущество последних было очевидным.
Другими словами, с началом XX века кулачные бои в крупных городах (а именно они служили оплотами хулиганства) обогащаются разнообразной техникой ударов, и прежде всего — боксёрской. А поскольку такие бои постоянно проходили в бузотёрских вотчинах — в рабочих районах, логично предположить, что эта техника вошла составной частью и в уличный бой хулиганов.
«Их благородия» набирают рекрутов
Однако, когда речь заходит об уличном бое хулиганов и босяков с применением ножей и других подручных средств, ни кулачный бой, ни даже бокс не являются вполне эффективными. Григорий Панченко, критикуя «кулачников», обращает внимание на то, что в «стеношных» боях эффективное сопротивление голыми руками бойцам, вооружённым ножом, кистенём, дубинкой, почти исключалось. Зачастую достаточно было тяжёлых вкладышей типа свинчатки, чтобы обеспечить превосходство даже над опытным бойцом: «Ещё Даль в своем “Толковом словаре” привёл примеры использования кистеней… утверждая, что к вооружённому таким образом человеку “нет подступа в кулачном бою”… Кистень в опытных руках — оружие, конечно, грозное, однако именно против него возможна масса контрприёмов — гораздо больше, чем против того же ножа… И если уж ни при каких обстоятельствах “подступа нет”, значит, нет и надёжных навыков работы против оружия».
Те же замечания относятся и к английскому боксу.
Но с XIX века в Россию начинают проникать элементы боевых систем, необходимую часть которых составляла работа «голыми руками» против вооружённого соперника. И не только руками. Первым профессиональным тренером по боксу в России стал Эрнест Лусталло — чемпион Франции в английском боксе, а в 1894 году — чемпион мира по французскому боксу. В начале 1897 года Лусталло пригласили в Петербург, а 16 марта он демонстрирует в поединке с неким Ивановским невиданный в России вид спорта — французский бокс. Газета «Петербургский листок» писала о французе: «Ногою он действует так же свободно, как руками, и потому за каждый нанесённый удар С. Ф. Ивановский получал добрый пяток тумаков, и таких неожиданных, таких комичных, что хохот не умолкал в зале».
Увы, «французский бокс — сават» не прижился в России. Лусталло в конце концов стал тренировать исключительно по системе бокса английского. Зато невероятный успех выпал на долю японской системы джиу-джитсу (дзю-дзюцу). Джиу-джитсу, а также джиудо — дзюдо от Кано Дзигоро (прикладной боевой вид, а не спортивная версия) на рубеже веков стали культивироваться в японской армии, полиции и в целом по стране, обретя чуть ли не статус массового национального вида спорта. В упрощённых версиях эти боевые системы (в основном джиу-джитсу) получили распространение и за пределами Страны восходящего солнца.
Многие исследователи считают, что на волне охватившей Россию и Европу в начале XX века моды на эту японскую школу боя этим воспользовались профаны и авантюристы, заполонив рынок нелепыми «пособиями» и «руководствами». На массовом уровне так дело и обстояло. Однако были в России люди, которые обучались джиу-джитсу и дзюдо не по бульварным самоучителям и не в группах сомнительных «сэнсеев». Вспомним мемуары писателя Владимира Гиляровского «Мои скитания»: «Матрос Китаев. Впрочем, это было только его деревенское прозвище, данное ему по причине того, что он долго жил в бегах в Японии и в Китае. Это был квадратный человек, как в ширину, так и вверх, с длинными, огромными и обезьяньими ручищами и сутулый. Ему было лет шестьдесят, но десяток мужиков с ним не мог сладить: он их брал, как котят, и отбрасывал от себя далеко, ругаясь неистово не то по-японски, не то по-китайски, что, впрочем, очень смахивало на некоторые и русские слова. Я смотрел на Китаева, как на сказочного богатыря, и он меня очень любил, обучал гимнастике, плаванию, лазанью по деревьям и некоторым невиданным тогда приёмам, происхождение которых я постиг десятки лет спустя, узнав тайны джиу-джитсу».
Гиляровский вспоминает, как при помощи этих приёмов пятнадцатилетним подростком он легко швырял наземь здоровенных ссыльных-народовольцев, которые особое внимание уделяли культу силы, чтобы быть «поближе к простому люду». 15 лет Володе стукнуло в 1870 году. Если к тому времени Китаеву было лет 60, значит, его заморские приключения выпали на 1820—1840-е годы. Выходит, уже тогда русские офицеры и матросы могли познакомиться с таинственными навыками восточных боевых искусств — ещё до «революции Мейдзи» 1860-х годов, которая покончила с японской политикой изоляционизма.
Впрочем, это касается не только моряков. Ранее мы уже отмечали, что в единоборствах сибирских казаков распространены искусные удары ногами. Это можно признать несомненным влиянием китайских стилей единоборств. Насколько бы экзотичным это ни казалось, примеры подобного влияния можно найти, если хорошенько поискать. В рамках же нашего исследования любопытно, как перенимали приёмы ушу и других стилей каторжане Российской империи. Известный этнограф Сергей Максимов (который и слыхом не слыхивал об экзотических способах мордобоя) в исследовании «Сибирь и каторга» 1871 года, в частности, рассказывает о некоем польском уголовнике Левицком, совершившем множество побегов, в том числе из страшных нерчинских рудников: «Из рудников он учинил третий побег, на этот раз в Китай, через Монголию, где несколько грабежей его вызвали облаву… Так как побеги за китайскую границу сильно отягощали наших властей большими хлопотами и длинною перепискою… то и раздражение начальства на таковых беглых выражалось наибольшею строгостью наказания».
Итак, оказывается, побеги в Китай из царской каторги были явлением нередким (речь идёт о 10—20-х годах XIX века). Но читаем дальше: «В 1832 году польские изгнанники 1831 года узнали своего оригинального земляка уже седым стариком, уволенным от работ, но продолжавшим непоседливо таскаться по всему Забайкалью за куском хлеба… Добравшись из Шилкинского завода до Акатуя, познакомился там с арестантом из Московской губернии, богатырём по росту и силе и к тому же хвастливым. Богатырь приглашал на поединок, обещая полштофа тому, кто поборет, но никто не являлся. Левицкий, остановясь в это время на площади, принял вызов и, как Давид, пошёл на Голиафа. Молодой арестант сбросил с себя армяк и, засучив рукава рубахи, гордо ожидал противника. Левицкий тем временем, смеясь и подшучивая, неожиданно перевернулся и встал на руках, подняв ноги кверху. Перевернувшись во второй раз, он стрелой бросился на противника, ударил его каблуком в переносье, потом схватился за ноги и быстро повалил под себя озадаченного силача. Такова-то была старость этого человека, истаскавшего свою жизнь в бродяжестве!»
Замечательный отрывок! Старый каторжанин делает двойное сальто, бьёт противника пяткой в переносицу, затем, рывком дёргая его за обе ноги, сбивает на землю — и устраивается сверху! Ни в одном виде европейских единоборств в то время ничего подобного нельзя было представить. Акробатика в связке с ударной техникой ног появилась в Европе и Америке совсем недавно благодаря фильмам о ниндзя и многочисленной кинопродукции из Гонконга. Сейчас без трюков с боевыми сальто обходится редкий боевик. Но Максимов писал о событиях первой половины XIX века на российской каторге! Выдумать такой эпизод этнограф не мог даже в страшном сне. Фантазии не хватило бы…
Но настоящее увлечение боевыми искусствами Востока, прежде всего — джиу-джитсу, началось после Русско-японской войны. Причём русские перенимали этот боевой стиль если не у лучших, то уж точно у японских мастеров. Так что влияние джиу-джитсу на становление отечественного рукопашного стиля бесспорно. Но так ли велико это влияние на хулиганский бой? Ведь мы имеем в виду в основном российских военных, русское офицерство. После войны джиу-джитсу начинает практиковаться также в полиции, в военной разведке. То есть в своём практическом (а не декоративно-экзотическом) виде джиу-джитсу распространялось в узкоспециальной среде. Ни в кулачных боях, ни в уличных драках до революции приёмы этой школы не были в большом ходу. Отдельные удары и манёвры бокса — да, но не джиу-джитсу (хотя отдельных случаев исключать нельзя). Значит, о культивировании этого стиля в среде босяков и хулиганов не может быть и речи?
До окончания Гражданской войны — да. А вот после картина сложилась иная. Значительная часть офицеров, сражавшихся против большевиков, не смогла или не захотела бежать за границу. Эти люди решили противостоять новой власти, и преступный мир привлекал многих из них больше, нежели политическая нелегальщина: бороться уголовными методами можно было гораздо эффективнее, нанося реальные удары и не маскируясь под «лояльных обывателей». Уже в сентябре 1919 года сотрудники Петроградского уголовного розыска вместе с чекистами произвели обыски в «буржуазных кварталах» города, где изъяли из тайников и подвалов 6625 винтовок, 141 894 патрона, 644 револьвера, 14 пулемётов.
Впрочем, активное проникновение офицерства в российскую криминальную среду началось раньше: многих выбила из колеи Февральская революция. В Петрограде и губернии действовали банды, во главе которых стояли бывшие царские офицеры. В паре с налётчиком Дружем по кличке Адвокат, ограбившим в 1917 году кассу игорного дома, «работал» потомственный дворянин барон Краверский. На Выборгской стороне орудовала шайка, которой руководил бывший прапорщик 46-го кавалерийского полка Дудницкий. При обыске у Дудницкого обнаружили два револьвера, именную саблю, шесть винтовок, двести золотых карманных часов, мешки денег и продуктов.
На пару с убийцей Даниловым грабил жителей Питера и при Временном правительстве, и при большевиках корнет Садовский. Во время налётов Данилов убивал своих жертв кинжалом в спину. Кинжал, отделанный серебром, подарил Данилову корнет — за убийство офицера Дронова, перешедшего на сторону красных. 10 января 1919 года на шоссе близ Автова банда грабителей во главе с бывшим царским офицером Жидковским-Максимовым напала на машину Октябрьской железной дороги, перевозившую деньги. Кассир и шофёр были убиты, охранник — ранен в голову. В перестрелке с сотрудниками угро Жидковского-Максимова смертельно ранили. На его квартире был обнаружен тайник, где хранились пулемёт, 59 винтовок, 100 ящиков патронов и 23 револьвера.
Председатель Донского областного ревтрибунала Мерен в 1921 году писал: «По делам о бандитизме, хищениях из государственных складов, поджогах и прочем, рассмотренных за последнее время Военной коллегией Ревтрибунала, в большинстве случаев руководителями являются бывшие офицеры и интеллигенты. В указанных явлениях, хоть и уголовного характера, Трибунал усматривает скрытую контрреволюцию».
Итак, уголовники из «благородных» и профессиональные преступники нередко действовали вместе. Боевые офицеры разрабатывали планы операций, прекрасно владели оружием, отличались самообладанием, не боялись рисковать жизнью. Подкупало уголовников и то, что в преступную среду дворяне привносили своеобразные представления о чести, сохраняли особую манеру говорить и держаться. А урки всегда ценили «шик» и «красивый жест».
Однако союз продолжался недолго. «Белая кость» не желала держаться на равных с «уркаганами», стремилась командовать, считая уголовников ниже по рангу, происхождению, интеллекту. Преступники со стажем, каторжане мириться с этим не желали. «Королям» криминального мира не нужны были отцы-командиры. Тогда «их благородия» стали искать особое место в криминальном мире России. И нашли.
По стране промышляло более 7 миллионов беспризорников. Беспризорничество — последствие двух войн, голода, разрухи, эпидемий, массового исхода людей из привычных мест — было бичом общества. Ютились беспризорные в разрушенных городских зданиях, кладбищенских склепах, асфальтовых чанах, жили попрошайничеством, воровством и разбоями. Имеются сведения о налётах беспризорщины на целые деревни. Озлобленные и озверевшие, пропитанные цинизмом ребята не останавливались перед пролитием крови. «Массовое появление беспризорников восходит к годам Гражданской войны 1918–1921 гг. Они образовали крупные, очень опасные банды» (Ж. Росси. «Справочник по ГУЛАГу»).
К беспризорникам примыкали босяки — уголовный сброд. Их отличие от преступников-профессионалов в том, что у босяков не было специализации, кастовых правил, традиций. Они следовали за тем, кто поведёт. Различие было между босяками и беспризорниками зачастую заключалось лишь в возрасте и криминальном опыте. В босяцкий мир к началу 20-х годов влилась также разношёрстная масса анархистов, недоучившихся гимназистов и прочих.
Кадровые офицеры решили подчинить себе эту массу, что им легко удалось: сказались высокий интеллектуальный уровень, волевые качества, боевое прошлое. Как замечает Юрий Щеглов в комментарии к роману Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»: «В ряде случаев беспризорные образовывали сообщества, объединённые жёсткой дисциплиной и авторитетом вожака». Вожаками как раз и становились бывшие офицеры.
В эту пору в криминальном мире возникают понятия «пахан» и «пацан» в их нынешнем понимании. Слово «пацан» было известно и прежде — в простонародье (прежде всего в Малороссии) так пренебрежительно кликали подростков, мальчишек. Это уменьшительное от древнееврейского «поц» (пенис) — «поцен». Но в преступной среде ему придаётся иной смысл. «Пацан» — настоящий преступник, соблюдающий уголовные законы, достойно ведущий себя (по криминальным меркам) человек, на которого можно положиться. Термин появился именно в бандах беспризорщины, возглавляемых «бывшими». Малолетки назывались «пацанами», главари банд — «паханами» (взрослыми преступниками, уголовными «отцами»). Таким образом, и слово «пахан», известное ещё среди уркаганов старой России, приобрело новый смысловой оттенок. Любопытно, что на Кубани слово «пацан» для казаков считается оскорбительным (учитывая его сомнительное происхождение). Здесь подростков называю «хлопцами»…
«Белая кость» со своими «пацанскими» бандами стала костью в горле старорежимных уголовников, особенно после того, как в Уголовный кодекс РСФСР 1926 года была введена расстрельная статья 593 — бандитизм. «Бывшие» занимались исключительно разбоем и бандитизмом, а «правильные» уголовники провозгласили себя «чистоделами» — преступниками, которые не совершают преступлений, связанных с кровопролитием. «Белых» назвали жиганами (горячими, отчаянными), или «идейными», профессиональных преступников — уркаганами. Между ними вспыхнула война, и уркаганы в конце концов одержали верх — во многом потому, что «пацаны» повзрослели и захотели самостоятельности.
Именно бывшие офицеры, становясь маргиналами, передавали часть своих боевых навыков «пацанам». Подростки и молодёжь должны были эффективно противостоять правоохранителям из рядов милиции, куда власть старалась набирать бывших бойцов Красной армии, имевших военный опыт. Уголовники с офицерским прошлым учили мальчишек действенным, правильно поставленным ударам в уязвимые места, чтобы можно было если не отключить, то хотя бы ошеломить взрослого мужчину. К ним добавляли удары ногами, подножки и подсечки: арсенал, приспособленный к тому, чтобы противостоять более сильному противнику.
Информация об этом криминальном рукопашном бое туманна и обрывочна. Так, Григорий Панченко пишет: «Слухи о таинственном “белогвардейском” (на самом же деле — просто офицерском) “искусстве убивать красиво”, похоже, базируются как раз на существовании… школ, представляющих либо чистое, либо “гибридное” джиу-джитсу. Насколько эффективным оно было, трудно сказать».
Некоторые приёмы уличного боя тех лет описывает Георгий Андреевский в книге «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху», основываясь на газетной хронике: «Встречаясь с преступником один на один, милиционер должен не только хорошо стрелять, но и драться. В арсенале уголовного мира и в то время было немало приёмов, о которых знали работники милиции. Приём одесской шпаны: удар головой в лицо — часто практиковали хулиганы, преступники применяли также “вилку” — удар двумя пальцами в глаза, “датский поцелуй” — выпад, состоящий из трех ударов: кулаком правой руки в лицо, локтем левой руки в живот и носком ноги в голень или коленом в пах. Применялся ещё “галстук” — преступник накидывал сзади на шею веревку или шарф и затягивал их, как аркан. Преступник мог накинуть на голову милиционера снятые с себя пальто, пиджак или плащ, мог нанести удар в лицо полями твердой шляпы (котелка), бросить в глаза песок, табак, перец, мог замахнуться палкой или ножом и нанести ему, воспользовавшись тем, что сотрудник, обороняясь, поднял руки, удар ногой в живот».
Честно говоря, эффективность исполнения «датского поцелуя» в описанном виде вызывает большие сомнения. Скорее, это нечто из области легенд (если только речь идет об одновременном выпаде, а не о последовательной «связке» из трех ударов). Остальные приёмы вполне действенны. Добавим к ним работу против вооружённого ножом соперника при помощи пиджака (куртки), карманы которого набиты камнями. Таким оружием можно действовать наподобие цепа или нунчаки как отбиваясь, так и нанося удары, а также отвлекая противника.
Косвенное свидетельство о проникновении джиу-джитсу в босяцкий мир 20—30-х годов оставил также Николай Погодин. В пьесе «Аристократы», посвящённой «перековке» профессиональных уголовников на строительстве Беломорканала, Погодин рисует образ блатного «авторитета» Кости-Капитана. В первой сцене появления Кости в мужском бараке происходит следующее:
«Капитан (любезное превосходство). Здорово, урки!
Маленький человек (с места). Пошёл к чортовой матери!
Капитан (тонкое удивление). Кто это сказал? (Вежливо.) Ах, это вы сказали? (И японским приёмом, одной рукой, выворачивает шею сказавшему, сбрасывает его на пол.)»
Обратите внимание, как подчёркивает Погодин этот самый «японский приём», позволяющий Косте легко расправиться с «маленьким человеком». Хотя «Аристократы» написаны в 1934 году, Погодин при работе над комедией использовал свои ростовские репортёрские впечатления. А репортёром в Ростове-на-Дону Николай Фёдорович работал с 1920 по 1923 год. Интересно, что в фильме «Заключённые», созданном в 1936 году на основе «Аристократов», в сцену появления Кости-Капитана среди уркаганов внесено «мелкое» уточнение. Если в пьесе его просто представляют как знаменитого вора, то в фильме один из заключённых с уважением поясняет — «Ростовскай…». То есть Погодин подчёркивает, что своих героев он списывал с натуры. А значит, он знал, что беспризорники, босяки, затем ставшие блатными, имели в своём арсенале эффективные приёмы экзотических систем рукопашного боя.
А вот у милиции той поры не было достаточных навыков самозащиты и задержания. Правда, в 1924 году появилось руководство «Физическая подготовка Рабоче-крестьянской Красной армии и допризывной молодежи», включавшее несколько приёмов французской борьбы, тычок пальцами в глаза и сомнительные «нажатия на девять чувствительных точек», но они были малопригодны на практике.
Постоянным нападкам подвергался бокс. В 1924 году Высший совет физической культуры запретил занятия боксом, а Репертком — его публичную демонстрацию. Газеты и журналы печатали карикатуры, писали о страшном вреде здоровью от ударов, о пробуждении «зверских инстинктов» у боксеров и зрителей, о том, что «пролетарий не может бить пролетария по лицу». Правда, уже в 1925 году запрет отменили, но на Украине он продержался до 1930 года.
Не особо везло и джиу-джитсу. В 1925 году бывший цирковой борец и атлет Михаил Алексеев выпускает пособие «Самозащита и нападение», где отсутствуют действенные приёмы рукопашного боя, зато присутствуют пренебрежительные оценки системы джиу-джитсу: «У нас в России, несмотря на все старания предприимчивых людей, она вскоре отцвела, не успев расцвести». А в это время «отцветшая система» вовсю практиковалась на улицах и в подворотнях советских городов… Этот «империалистический» стиль стал со скрипом культивироваться лишь с конца 20-х годов, когда благодаря упорству бывшего офицера царской, а затем Красной армии Виктора Спиридонова джиу-джитсу пробивало себе дорогу. С 1928 по 1933 год выходят несколько пособий Спиридонова для сотрудников ОГПУ. Спиридонов явился создателем системы «советского джиу-джитсу» — самбо, и под этой маркой рукопашный бой стал по-настоящему развиваться, но строго в рамках силовых структур.
Попытку придать искусству самозащиты массовый характер предпринял в 30-е годы Василий Ощепков — резидент Главного разведывательного управления Красной армии в Японии с 1918 по 1926 год. Оставшись сиротой, в 1911 году Ощепков попадает в Японию и поступает в знаменитую школу дзюдо «Кодокан», а через два года получает чёрный пояс (второй дан). Работает инструктором по самозащите в новосибирском отделении «Динамо», приехав в Москву, стремится разработать систему приёмов, доступных для всех желающих. Он добавляет в дзюдо приёмы из национальных видов борьбы, меняет покрой куртки, правила проведения соревнований и т. д. По сути, Ощепков является одним из отцов спортивного самбо, в то время как Спиридонов практиковал боевой, закрытый стиль. Но в 1937 году Ощепкова арестовывают как «японского шпиона» и расстреливают…
Однако всё это будет потом. А в 20-е годы ввиду полного отсутствия внимания к развитию и пропаганде боевых искусств в Советской России создалось парадоксальное положение: подлинные навыки реального рукопашного боя практиковались исключительно в уголовной среде и тесно связанной с нею среде хулиганской. Эта дурная традиция сохранялась в СССР очень долго. Не случайно уже в 60-е годы Владимир Высоцкий пел о канадских хоккеистах-профессионалах:
Пособие по хулиганскому бою
Хотя мы отмечали, что сведения об уличном бое 20-х годов обрывочны, тем не менее, остались не только свидетельства о хулиганской боевой системе, но даже описание её приёмов и тактики.
Мы имеем в виду уникальное пособие Нила Ознобишина «Искусство рукопашного боя», выпущенное в 1930 году издательством НКВД. Нил Николаевич Ознобишин — фигура легендарная и трагическая. Родившись в дворянской семье, он посвятил себя цирковому искусству, с 1907 по 1912 год в составе труппы гастролировал в Англии, Франции, Германии, Австро-Венгрии, Италии, Северной Африке, Австралии. Прекрасно владел пятью языками, активно занимался спортом — английским боксом и лыжами, прославился как велофигурист и наездник, был знаком с приёмами французской борьбы и джиу-джитсу. После революции Ознобишин написал несколько книг, посвящённых цирку и кино. Но его главной идеей было создание универсальной системы рукопашного боя, которая впитала бы в себя всё лучшее из мирового опыта.
Для нас книга «Искусство рукопашного боя» интересна по двум причинам. Во-первых, Ознобишин использовал новейшую иностранную литературу и брошюры, выходившие до революции. Так что в учебнике отражены сведения, которыми пользовались офицеры царской армии. В ней описываются удары и приёмы, пришедшие с Дальнего Востока, с которыми русское офицерство было знакомо в результате контактов с японцами.
Во-вторых, Ознобишин при создании учебника тесно сотрудничал с НКВД, преподавал в Московской школе милиции и стремился максимально приблизить пособие к практике стражей порядка. При помощи работников угро и рядовых милиционеров он знакомился с реальными опасностями, которые подстерегали его учеников на улице. Особое внимание уделено уличным приёмам и защите от них. Скорее всего, автор сам общался с задержанными урками и хулиганами.
Михаил Лукашев, автор пятитомного исследования о русском боевом искусстве, отмечает: «Существенным достоинством руководства является то, что в нём впервые было рассказано о специфике криминального рукопашного боя… Ещё никогда не шла речь о приёмах, которые уголовники использовали при внезапном и почти незаметном, даже в многолюдном месте, убийстве, в драке с оружием, подручными предметами или без них. Нил Николаевич стал первым и, к сожалению, последним, кто осознал острую актуальность не только изучения, но и непременного обнародования подобных сведений. Ведь даже в современных милицейских руководствах эти насущные вопросы обойдены полным молчанием, необходимые познания практические работники добывают дорогой ценой собственного и, слишком часто, кровавого опыта».
Андрей Кочергин в книге «Мужик с топором», напротив, считает, что изучением криминального боя силовики занимались вплотную: «Блатная техника боя напрямую связана с традиционным русским рукопашным боем, откуда она, собственно говоря, и вышла… Она точно так же связана и с советской государственной системой ССББ[22], которая тщательно изучала этот опыт… Потому что цели и у той, и у другой — похожие: выжить и победить любой ценой. Даже в открытых руководствах, например Ознобишина «Искусство рукопашного боя», отводилось много места описанию блатных действий. В. И. Грунтовский говорил, что при обучении в школе армейской разведки инструктора обучали большому объёму и традиционной, и блатной техники… Использовались заключённые и в качестве “кукол”, т. е. живых снарядов для тренировки бойцов советских спецслужб. Привлекались они, с их богатым эмпирическим опытом и своеобразной тюремной “школой”, и к самой работе этих служб. Тут можно вспомнить, например, о группе “Лихие” из разведывательно-диверсионной сети, созданной НКВД в 1941 году на случай захвата немцами Москвы, для выполнения мероприятий “Московский план”».
Увы: книга Нила Ознобишина вскоре после выхода из печати была изъята и сожжена. Власть могла обеспокоиться тем, что граждане получают в руки пособие не только по защите от преступников, но и по ведению уличной драки. Не исключено, что им воспользуются сами же преступники! Но есть и другая версия. Как считают некоторые специалисты, система Ознобишина явно превосходила школу самозащиты Виктора Спиридонова, которую взяли на вооружение советские спецслужбы того времени. Лукашев пишет: «Один из ветеранов и основоположников ленинградского самбо А. М. Ларионов утверждает, что ознобишинская система решительно превосходит спиридоновскую. Я не стал бы делать столь категоричных и далеко идущих выводов, но в ряде положений Нил Николаевич имел заметное преимущество».
Спиридонов мог приложить руку к уничтожению тиража. Ряд исследователей полагает, что Виктор Афанасьевич болезненно относился к успехам конкурентов. Григорий Панченко не исключает, что Спиридонов причастен к расправе над Василием Ощепковым в 1937 году: «По некоторым данным, Спиридонов был одним из инициаторов ареста Ощепкова. Во всяком случае, когда между их школами наметился конфликт, последний предложил решить его тем же способом, как Дзигоро Кано разрешил спор между своей школой и школой синто-рю: организовав массовый турнир, который позволит сравнить достоинства мастеров того и другого стиля. Судя по дошедшему до нас мнению современников, мало кто сомневался: у Ощепкова и его учеников были предпочтительные шансы на победу. Но турнир не состоялся. Для этого Спиридонов прибегнул к средствам, доступным влиятельному полковнику НКВД, каковым он являлся в то время. А вскоре после опалы последовал и арест его противника».
Документальных подтверждений этому нет. Но факт остаётся фактом: конкуренты Спиридонова были устранены. Правда, Ознобишину «повезло». Он, несмотря на тренерскую деятельность, не создал собственной школы. Сам Нил Николаевич не был выдающимся бойцом, выделялся «субтильной конституцией» (невероятной худобой), кроме того, его терзала извечная «русская болезнь» — пьянство. Ознобишин бросил семью, вёл бродячий, полунищенский образ жизни, а в конце 30-х даже оказался в психиатрической больнице, где лечился от алкоголизма. Это спасло его от репрессий, но ненадолго: в 1941 году Ознобишин получил пять лет ссылки за «недоносительство» и сгинул где-то в Казахстане. Подобный конкурент Спиридонову не был страшен.
Но вот книга «Искусство рукопашного боя» действительно сильнее учебников Спиридонова по богатству теоретического и практического материала, о котором Спиридонов не имел понятия. Как пишет Лукашев о системе Ознобишина, «это… достаточно продуманный, творческий синтез… В единую и цельную систему он старался объединить наиболее действенные в реальной схватке приёмы английского и французского бокса, джиу-джитсу, французской и вольно-американской борьбы, а также стрельбу из личного портативного оружия».
Поэтому книгу уничтожили — но не забыли. Судя по всему, система Ознобишина оказала влияние на подготовку бойцов спецподразделений — полновластной вотчины Спиридонова.
Обратимся же к пособию Ознобишина с целью обнаружить следы «хулиганского» боя. Мы встречаем здесь разнообразную технику ударов и приёмов, не характерную ни для кулачного боя, ни для бокса, ни тем более для борьбы. При этом автор со скепсисом относился и к джиу-джитсу. Однако даже тот, кто поверхностно знаком с ударами восточных боевых школ, с удивлением обнаруживает их в пособии! Объясняются нюансы нанесения ударов кулаком «с навеса», горизонтальных молотообразных ударов, ударов ребром руки и ладони, пальцами и т. д. Одних только ударов локтем насчитывается пять разновидностей. Многие удары со всей очевидностью заимствованы из джиу-джитсу и дзюдо, поскольку в европейской традиции такая техника не практиковалась, а каратэ и иные школы Востока европейцам не были известны. Ознобишин брал приёмы как из русских и переводных пособий, опиравшихся на технику японской самообороны, так и из практики уличного боя (куда благодаря бывшим офицерам проникала та же самая техника). Последнее тем более вероятно, что сам Ознобишин многие удары не связывал с джиу-джитсу.
Во многих местах книги автор прямо отсылает к тактике и приёмам уличного боя: «Удар правой руки противника (на улице особенно часто атакуют именно этой рукой) отводите вовнутрь своей левой рукой и бейте правой… Если противник нападает на вас в старой стойке уличных хулиганов и грабителей (левая рука горизонтально вытянута перед туловищем, правый кулак оттянут назад), то достаточно сделать финт в нижнюю часть туловища и бить вверх… “Удар вилки”. Это один из самых употребительных ударов пальцами, особенно в преступном мире Запада… Удары головой. Об этих оригинальных ударах и средствах защиты от них мы будем говорить подробнее в конце этой книги в отделе, посвящённом тактике преступного мира».
В свете нашей темы — умение Кольки Аржакова драться без ножа — обратим внимание на замечания Нила Николаевича о работе голыми руками против холодного оружия. Во многом они опираются на практику ведения уличного боя: «Удар острием ножа, направленный неопытным противником, очень легко парируется и, если от него уклонишься и не совсем чисто, то он всё же скользнёт по одежде и даже по коже. Жертвы ночных нападений, поножовщины и бандиты, дерущиеся между собой, получают иногда до тридцати ножевых ран (ударов), из которых только два или три проходят сквозь верхние покровы и причиняют поражения. И наоборот, малейший удар ребром лезвия (режущей стороной ножа) уже причиняет рану… Удары ребром ножа (режущие) требуют большого искусства и массы находчивости, чувствительной руки и быстроты, почему бандиты предпочитают им тяжёлые удары острием, наносимые с большим размахом и изо всей силы».
Ознобишин не зря называет себя «практиком». Его наставления представляют собой меткие наблюдения, подсказки, «психологический тренинг» для человека, который в условиях драки должен использовать любые средства: «В руках противника, специально работавшего по системе “рукопашной”, каждый предмет может превратиться в грозное оружие самозащиты, как, например: бутылка, чернильница, спичечница, толстая книга и проч. Для человека, обладающего хорошим глазомером, ловкостью, находчивостью и решительностью, такие безобидные на первый взгляд предметы, как камни, подсвечники, бутылки… могут служить оружием».
На память сразу приходят строки:
Учебник Ознобишина можно по праву считать источником, запечатлевшим практику хулиганского боя. Нил Николаевич исповедует хулиганский принцип победы любой ценой и иллюстрирует его типичными хулиганскими действиями. Пособие ставит целью победу в реальной схватке, доведение противника до беспомощного состояния, отсюда советы за гранью цинизма — например, по поводу удара двумя пальцами в глаза: «Целью удара являются глаза, причём метиться надо в нос, так чтобы оседлать пальцами переносье — “надеть очки”, как образно выражаются бандиты на своём оригинальном наречии… Результаты его — выдавливание обоих глаз противника, в лучшем случае временное ослепление. Если вашей жизни грозит опасность и вы сумеете исполнить удар — не колебайтесь».
Не проявляйте колебаний в выборе ударов и приёмов — вот магистральная мысль пособия. Она совершенно справедлива и практична — но именно с точки зрения хулигана. Для Ознобишина отсутствует понятие «необходимой обороны», тем паче «превышения пределов необходимой обороны». В уличном бою таких пределов не существует! «Искусство рукопашного боя» Нила Ознобишина — это расширенный курс беспощадной уличной драки, хулиганской психологии, почерпнутой им из окружающей действительности.
Это страшное слово — «бакланка»
Есть и другое свидетельство существования хулиганской боевой школы, ещё более впечатляющее, нежели учебник Ознобишина. Речь идет о статье Андрея Кочергина «Бакланка — кровавый бой малолеток». В мире нынешних боевых единоборств Кочергин — фигура спорная. Автор многих книг по искусству рукопашного боя, он, однако, не имеет значимых побед в официальных соревнованиях по смешанным единоборствам, боям без правил и т. п. Но исследования Кочергина крайне любопытны.
Одно из них — статья о «бакланке» для журнала «Кунфу». «Бакланом» на уголовном жаргоне называют хулигана, а «бакланкой» — статью, карающую за хулиганство. Это определение было присвоено уголовниками статье 206 УК РФСР образца 1960 года. Отсюда и название системы хулиганского боя. Как небезосновательно считает Кочергин, «по этой статье редко осуждались взрослые уголовники, как правило, это были малолетние или несовершеннолетние преступники».
Конечно, термин «бакланка» появился намного позднее 20-х годов прошлого века (хотя агрессивных, «безбашенных» уголовников в преступном мире именовали «бакланами» задолго до введения статьи 206 — слово заимствовано из морского жаргона). А вот сама система уличного хулиганского боя, которая охватывается термином «бакланка», возникла именно в первое послереволюционное десятилетие, а затем «творчески обогащалась». Попытаемся это доказать.
Воспитательные колонии для малолетних преступников являются самыми «беспредельными», звериная жестокость их обитателей не идёт ни в какое сравнение со «взросляком» — колониями для взрослых арестантов. Именно на «малолетку» значительной частью попадали хулиганы. Кочергин называет «бакланку» системой, которая родилась в ВТК[23] для несовершеннолетних, «где голые или плохо вооружённые руки порой являются последним аргументом в борьбе за жизнь, честь и человеческое достоинство». Он подчёркивает, что сведения о ней собирались в пермско-уральском лагерном регионе, то есть непосредственно получены от носителей «боевой школы».
Однако совершенно очевидно, что техника и стратегия «бакланки» возникли как раз вне мест лишения свободы, «бакланка» лишь осмыслила и переработала опыт, накопленный предыдущими поколениями «уличных озорников». К такому выводу неизбежно приходишь, когда знакомишься с принципами этого «искусства рукопашного боя». Автор пишет: «Юные преступники представляют собой очень агрессивный и подвижный социум, где каждый день “пробивают на вшивость” и вялый ответ может послужить командой для общественного приговора… Драка при столь скомпрессованом социальном устройстве вещь обыденная и являет собой продолжение не прекращающегося ни на секунду формирования иерархической пирамиды… Выживание этой остро агрессивной стаи всецело зависит от саморегуляции, по типу именно животного прайда».
Но это даже в большей степени характерно для хулиганов первых десятилетий XX века! Тезисы «бакланки» словно перенесены из хулиганской действительности 20-х годов. Например, в качестве главных факторов, определявших систему выбора приёмов и тактики боя «бакланов», Кочергин называет такой, как «небольшая физическая сила противников, как правило, малолетних преступников, существующих в условиях скудного питания». Как тут не вспомнить беспризорных «пацанов», которых обучали «паханы» из бывших офицеров! Эти мальчишки уж точно существовали в условиях скудного питания и постоянного недоедания. А вот в отношении многих обитателей «малолетки» этого как раз сказать нельзя: кормили здесь достаточно неплохо. В начале 80-х я видел тамошних «мальчиков»: они не производили впечатления дистрофиков… То же самое было характерно и для 60—70-х годов.
Физическая слабость диктует наиболее оптимальную технику боя, где борьба фактически исключается из арсенала: «Силовая борьба требует именно силы, навыков и условий боя один на один, что не факт, потому что групповые избиения “условно провинившегося” очень обыденная вещь в местах лишения свободы подростков. По этой причине борьба игнорировалась как самодостаточная часть арсенала и использовалась лишь вспомогательно… В “бакланке” избегают силовой борьбы и возни в партере… В партере побеждает не самый сильный, а самый тяжёлый».
Словно бы прямая иллюстрация к балладе о Кольке Аржакове: «групповые избиения “условно провинившегося” очень обыденная вещь». Именно так! И Аржак это знал, и его противники. Основная коллизия в том, что они выступили против Кольки не с кулаками, а с ножами. И били ножами все участники драки! Это косвенно свидетельствует о том, что каждый из них боялся лихого Аржака. Песенные «ребята» были не только жестоки, но и трусливы…
Но вернёмся к «бакланке». Предпочтение здесь отдаётся ударной технике. Это — ещё один аргумент в пользу того, что корни «боевой системы малолеток» уходят в беспризорное прошлое 20-х годов. Ведь даже в воспитательной колонии при самом жестоком выяснении отношений нередки схватки один на один со сверстниками, где борцовская, бросковая техника может быть эффективной. А вот в столкновении с взрослым стражем правопорядка или объектом преступления поневоле приходится прибегать именно к ударам. Автор статьи о «бакланке» перечисляет требования к ним:
— внезапность и нанесение удара по точке, которая гарантирует если не нокаут, то длительное отключение или потерю боеспособности: «Первый (и самый важный) удар бьётся в самые уязвимые места с длительным болевым ощущением или с его высоким порогом: пах, глаза, горло, солнечное сплетение, затылок, колено»;
— первый удар должен быть одиночным и сильным — со всей мощью, на какую способен атакующий;
— часто удару предшествуют «отвлекающие манёвры» с целью подойти на ударную дистанцию — например, «рамсы» («заговаривание зубов») или иные способы: «Если, сблизившись вплотную, вы резко, внезапно и глядя в сторону, ударите человека в солнечное сплетение, то вы — боец “бакланки”»;
— добивание противника должно быть мгновенным, агрессивным и эффективным, цель — разбить сопернику голову с максимальной скоростью: «Свалить и запинать. Если первый удар не возымел должного результата, то в ход идёт голова, локти и крайне редко колени. В 70-е годы я знал Сергея Тяпу, который, имея после 12 лет отсидки хронически переломанные в драках пальцы, начинал и заканчивал всё локтями и головой… К слову сказать, Сергей был в прошлом мастером спорта СССР по дзюдо, но пользовался именно локтями и головой — и это при весе не более 65 кг».
Особой «фишкой» являются «подлянки» как часть тактического арсенала: «Удар, да ещё внезапный и “с подлянкой” может если не отключить, то, по крайней мере, ошеломить противника, что позволит добить его всеми доступными или немыслимыми способами».
Кочергин перечисляет некоторые виды «подлянок»:
— сделайте вид, что хотите резко схватить левой рукой противника за пах, он рефлекторно опустит руки для защиты промежности и согнётся — в этот момент вы наносите врагу удар пальцами в глаза;
— обозначьте резкий удар ногой в пах, противник инстинктивно наклонится вперёд — бейте его кулаком в область переносицы, чтобы её сломать;
— плюньте сопернику в лицо и воспользуйтесь его секундным «ступором», чтобы нанести «вырубающий» удар — желательно снизу вверх кулаком в пах;
— швырните в лицо противника табак (можно также соль, песок и т. д.), а затем ударьте ногой в пах.
Таких примеров — десятки. Некоторые я узнал в молодости от ребят, прошедших школу реального уличного боя. Например, при защите от ножа вы бросаете в лицо нападающему пригоршню монет и тут же бьёте по руке, в которой он держит «перо». Результат стопроцентный: хватка рефлекторно расслабляется и нож вылетает из руки, какой бы силой человек ни обладал. Если бой переходит в возню с борцом, который превосходит вас силой и весом, следует крепко схватить соперника за ухо и рвануть вниз что есть силы! Следует болевой шок, а дальше можно делать с врагом что угодно. Бывало, и уши обрывали…
Перечисление ударов и «подлянок» — ещё один аргумент в пользу того, что «бакланка» как система существовала ещё в 20-е годы прошлого века. Многое из названного Кочергиным встречается у Ознобишина в практике московских хулиганов того периода.
Особое внимание Кочергин уделяет психологической составляющей бойца — определяющему элементу «хулиганской школы». Автор отмечает: «Бой ведётся на поражение, без весовых категорий и каких-либо ограничений (тем более морально-этических), в этой связи удары просто обязаны быть кровожадными и результативными. Подавление противника, его зашугивание и унижение — вот стратегическая задача данного вида боя, именно по этой причине психическая подготовка должна быть более чем предметной и прикладной… Именно безоглядное мужество и нарочито наплевательское отношение к своему здоровью и жизни вполне может характеризовать целевую установку всего “предварительного этапа обучения”… Лихое безрассудство предпочтительнее вялой расчётливости и натиск вернее в бою, чем оборона… Только абсолютная жестокость и кровожадность могут дать хотя бы умозрительный шанс на победу».
Кочергин подчёркивает, что в воспитательных колониях «не обязательно побеждать, в них обязательно не сдаваться и драться, пока дышишь, этого вполне может хватить для “уважухи”, и реальные ТТХ[24] играют значительно меньшую роль, чем готовность убить и быть убитым в борьбе за свою жизнь и достоинство. Как вам такие отморозки весом килограмм 40 и со стеклянными глазами, видел вживую — удивительное несоответствие внешней несостоятельности и внутренней силы… Такими бывают загнанные в угол животные — без сомнений, без состраданий, без выбора».
Здесь я хочу вернуться к работе Александра Чижевского «К вопросу о природе хулиганства» 1927 года. Напомню, учёный написал её на основе исследований, согласно которым среди хулиганов той поры 56 % оказались травматико-невротиками, а 32 % — неврастениками и истериками. Всех их профессор характеризует как психопатов, дегенератов, истериков без нравственных ориентиров. Уровень зверства в этой среде был значительно выше, нежели в ВТК образца 1960—1980-х годов. На «малолетке» позднего советского образца были воспитатели, определённый контроль, действовали школы, кружки, ребят занимали работой. Конечно, это не могло противостоять неформальным законам зоны, детской жестокости. Однако по сравнению с воспитанниками ВТК беспризорники и босяки послереволюционных лет выглядят просто патологическими типами, которые ни во что не ставили ни свою, ни чужую жизнь. И приёмы, которым их обучали бывшие офицеры, попадали на плодородную почву, богато удобрённую жестокостью, злобой, ненавистью и животными инстинктами. А явный уклон в психопатию и истерию не оставляет сомнений в том, что основные принципы «хулиганской школы» сформировались именно в 20-е годы прошлого века среди бузотёров беспризорного «розлива», «духовитость» которых ковалась в условиях революций, войн, кошмарной борьбы за выживание. Малолетки лишь переняли их эстафету, прошедшую в том числе и суровую школу ГУЛАГа.
Лев Разгон, узник сталинских лагерей, писал в мемуарах «Непридуманное»: «Малолетки — так назывались малолетние арестанты… Они становились одинаковыми. Одинаково отпетыми и страшными в своей мстительной жестокости, разнузданности и безответственности… Они никогда и ничего не боялись. Жили они в отдельных бараках, куда боялись заходить надзиратели и начальники. В этих бараках происходило самое омерзительное, циничное, разнузданное, жестокое из всего, что могло быть в таком месте, как лагерь. Если “паханы” кого-нибудь проигрывали и надо было убить, это делали — за пайку хлеба или из “чистого интереса” — мальчики-малолетки… Ничего человеческого не оставалось в этих детях».
Патологическое озверение возникает и формируется по одним законам. Что среди первых советских беспризорников, что в ГУЛАГе, что нынче, в период социальной «распутицы». Сейчас в этой среде вновь на первый план выходят аффективные личности, истерики, маньяки, психопаты. Преступность малолеток из социальной болезни переходит в психическую.
Но — закончим всё-таки с «бакланкой». «Это действительно система, которая, несмотря на всю свою кажущуюся примитивность и вульгарность, позволяет победить реального, брутально настроенного противника, в реальных условиях реального боя!» — резюмирует своё исследование Кочергин. Лучше и не скажешь. Но против четырнадцати человек с ножами и «хулиганская боевая школа» оказалась бессильна…
Вот мы и завершили рассказ о хулиганской балладе «Аржак». Он оказался долгим, непростым, но, надеюсь, увлекательным и познавательным. Непритязательная песенная баллада о том, как был коварно зарезан в неравной схватке «честный хулиган» Колька Аржаков, заставила нас разобраться и в природе русского хулиганства, и в его истории, и в его корнях, которые уходят в народные традиции русского кулачного боя, в массовую поножовщину, в фольклорные сказания, в ухарские ухватки российского дворянства… Желая узнать, как дрался без ножа Колька Аржак, мы познакомились с формированием особой системы хулиганского боя, с её приёмами и психологией. И всё это — на фоне истории Отечества, начиная с монголо-татарского ига и вплоть до сегодняшнего дня.
Положа руку на сердце: садясь за этот очерк, я представить не мог, куда меня заведут настырные и упорные изыскания. Результат превзошёл ожидания. Надеюсь, и ты, читатель, провёл время не зря. А может, даже почерпнул кое-что полезное — и теперь знаешь, чего ожидать от наглого хулигана и какие приёмы наиболее действенны в критической ситуации, когда речь идёт о выживании.
Краткая библиография
«А я не уберу чемоданчик!»: песни студенческие, школьные, дворовые / сост. М. Баранова. М., 2006
Авторская песня: антология / сост. Д. Сухарев. Екатеринбург, 2003
Ажаев В. Вагон // http://www.100tomov.ru/russ_proza/Azhaev_Vasiliy/Vagon.gz/138/
Александров А. Удары ногами в кулачных боях // http://www.buza.su/readarticle.php?article_id=12
Александров Р. «Родился я на Молдаванке» // http://odesskiy.com/chisto-fakti-iz-zhizni-i-istorii/moldavanka-rajon-odessy-bolshe-odessa-chem-sama-odessa.html
Алымов С. Стихотворения (1892–1948) // http://az.lib.ru/a/alymow_s_j/text_0020.shtml
Андреевский Г. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920—1930-е. М., 2003
Ансамбль казачьей песни «Криница» // http://www.krinitza.ru/lyrics/1037.html
Аржаков И. О Сэсэне Аржакове — нашем предке // http://www.terinerxc.ru/644704/1/Proishozhdenie-familii
Бахмутов В. Принцип классификации современной городской песни 20-го века // http://www.ruthenia.ru/folklore/ls04_bahmutov1.htm
Барышня и хулиган // Сайт «Kinopoint.ru»: http://www.kinopoint.ru/film?id=3419
Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства 1931–1934 гг. М., 1934
Блатная лира: сборник тюремных и лагерных песен /сост. Я. Вайскопф. Иерусалим, 1981
Блатная песня: сборник. М., 2002
Блатные песни: сборник / сост. и коммент. Фима Жиганец. Ростов-на-Дону, 2001
Блок А. Двенадцать // Собр. соч.: в 6 т. Т. 5. Л., 1982
Бокс в дореволюционной России // Сайт «Боевые искусства. Самооборона»: http://samooborona.3dn.ru/publ/boks_v_dorevoljucionnoj_rossii/42-1-0-349
Бондаренко Д., Катчук А. Одесский дневник // http://www.igrunov.ru/vin/vchk-vin-discipl/istoria/1182317908.html
Бондаренко Н. В воздухе — испытатели // http://librus24.ilive.ru/nikolaj_bondarenko_v_vozduhe_ispitateli_125554.html
Босенко В. Старый «сентиментальный романс» // Киноведческие записки. 2001. № 54
Братья-разбойники и их сестра // http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/bst/BST-502-.HTM
В нашу гавань заходили корабли. Пермь, 1996
В нашу гавань заходили корабли. Вып. 3. М., 2000
Вайнеры А. и Г. Место встречи изменить нельзя. М., 2001
Вертинский А. Дорогой длинною… М., 1990
Воспоминания Фаддея Бенедиктовича Булгарина: отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни. СПб., 1846
Гернет М. История царской тюрьмы. М., 1960—1963
Гернет М. Преступный мир Москвы. М., 1924
Гнетнев К. Соловей Беломорстроя // Беломорканал: времена и судьбы // http://www.rummuseum.ru/lib_g/belomor26.php
Грунтовский А. Русский кулачный бой: история, этнография, техника. СПб., 1993
Демидовы А. и И. Красномордики, или Волжская горчица // http://www.samaraart.ru/history/articles/?id=230
Дёмин М. Блатной. М., 1991
Джекобсон М., Джекобсон Л. Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник (1917–1939). М., 1998
Джекобсон М., Джекобсон Л. Преступление и наказание в русском песенном фольклоре. М., 2006
Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. СПб., 2000
Дубнова-Эрлих С. Хлеб и маца. СПб., 1994
Дьякова Елена. Двадцать лет спустя жизнь// Новая газета. 25.02.2009
Ерофеев В. Последние «горчишники» // http://www.samaratoday.ru/news.php?id=203080
Ефимова Е. Современная тюрьма. Быт, традиции и фольклор. М., 2004
Жаворонкова Т. Поэтическое наследие Сергея Яковлевича Алымова. М., 2007
Жетон строителя Беломорстроя // Библиотека антиквариата AntikLib.ru // http://www.antiklib.ru/novosti/jeton_stroitelya_belmorstroya.html
Запрещённые песни / сост. А. Железный, Л. Шемета, А. Шершунов. М., 2004
Зимородок Е. «Перебиты, поломаны крылья»: жестокий романс // За решёткой. 2007. Ноябрь. № 11
Иванцов К. Гордость и боль моя — «Молодая гвардия». Донецк, 2004
Иконников-Галицкий А. Хроники Петербургских преступлений. В тихом омуте НЭПа. Криминальный Петроград 1922–1926. СПб., 2008
Илёшин Б. Судьба Марии Спиридоновой // Неделя. 1989. № 27
Ильинский И. Газеты как исторический источник о социальных и культурных практиках городского населения Российской империи начала XX века // http://www.newlocalhistory.com/node/422
Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой телёнок. М., 2003
Исторические песни. Баллады / сост., подг. текстов, вступ. статья и примеч. С. Азбелева. М., 1986
История Казачьей общины Санкт-Петербурга // Сайт «Казачий Петербург»: http://spbkazak.narod.ru/61.html
История русского рукопашного боя. Кулачные бои в России // http://www.v8mag.ru/section314/article28152.php
История торговли и поставок наркотиков // http://voodoopipl.ru/istoriya-narkotikov/torgovlya-i-postavki/
Карпинский М. Русский былевой эпос на Тереке. Ставрополь, 1896
Келли К. Товарищ Павлик: взлёт и падение советского мальчика-героя // http://www.fedy-diary.ru/?p=3301
Клейн И. Беломорканал: литература и пропаганда в сталинское время // Zeitschrift fur Slavische Philologie. 1995/199. № 55
Клюев Н. В чёрные дни (Из письма крестьянина) // Наш журнал. 1908.№ 4
Ковальчук В. Михаил Яковлевич Винницкий — Беня Крик. Война в цилиндрах // http://www.pseudology.org/babel/BenyaKrik.htm
Комаров М. История мошенника Ваньки Каина. СПб., 2000
Кононенко М. Неизвестный М. Ю. Лермонтов (О «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова») // Наш современник. 2001. № 7
Кочергин А. Мужик с топором. М., 2009
Краснопёров А. «Блатная старина» Владимира Высоцкого // http://www.bards.ru/press/press_show.php?id=1569
Кротов П. Авторство и достоверность «Рассказов Нартова о Петре Великом» // http://fershal.narod.ru/Memories/Texts/Nartov/Nrt_1.htm
Кулачный бой на Руси // http://www.v8mag.ru/section314/article2669.php
Куприн А. Киевские типы. 1895—97 // http://az.lib.ru/k/kuprin_a_i/text_4010.shtml
Лавров А. Рецензия на книгу Я. Леонтьева «Скифы русской революции…» // НЛО. 2008. № 92
Лебедев А. К истории кулачных боёв // Русская старина. 1913. №№ 6, 7
Лебедев Вадим. Красные командиры делались в Одессе // http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/262
Лебедев Н. Очерки истории кино СССР. Немое кино: 1918–1934 годы // http://www.bibliotekar.ru/kino/4.htm
Лебина Н. Повседневная жизнь советского города. 1920–1930 годы. СПб., 1999
Леонтьев Я. Об образе Марии Спиридоновой в прологе поэмы Б. Л. Пастернака «Девятьсот пятый год» // http://socialist.memo.ru/firstpub/y06/leont01.htm
Лихачёв Д. Статьи ранних лет. Тверь, 1993
Логачёв В. Русская сила // Русский стиль. Боевые искусства. 1993. № 1
Лукашев М. Н. «Пушкин учил меня боксировать…» // http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v91/v91-083-.htm
Лукашев М. Самозащита для революции. М., 2003
Лурье Л. Хулиганы старого Петербурга // Неприкосновенный запас. 2000. № 3
Лурье М. Народная баллада «В одном городе близ Саратова» (Постановка вопросов и публикация вариантов) // Вестник РГГУ. 2009. № 9.
Максимов С. Каторга империи. М., 2002
Мальгинов В. Белая смерть // Истоки. 2008. № 16
Мария Спиридонова: террористка и жертва террора. Повествование в документах. М., 1996
Марьянко А. Финский нож на гранях времен. М., 2007
Махов В. Словарь блатного жаргона в СССР. Харьков, 1991
Медведев С. Неожиданное вознесение двух советских журналистов на Марс // http://kg.riacenter.ru/n40/241/
Мирошниченко А. Шансонизация и сексизм // http://slon.ru/blogs/miroshnichenko/post/215469/
Морозов А. Девять ступеней в небытие. Саратов, 1991
Неклюдов С. Почему отравилась Маруся? // http://www.ruthenia.ru/document/545633.html
Новиков В. Синявский и Терц // http://www.litru.ru/br/?b=80896&р=1
Ознобишин Н. Искусство рукопашного боя. СПб., 1998
Опрышко О. По тропам истории. Нальчик, 1998
Осипова Т. Российское крестьянство в революции и Гражданской войне. М., 2001
Осокина Е. За фасадом «сталинского изобилия». М., 2008
Панин С. Потребление наркотиков в Советской России // Вопросы истории. 2003. № 8
Панин С. Причины хулиганства. Социальный портрет хулигана // http://www.bg-znanie.ru/article.php?nid=30213
Панченко Г. Нетрадиционные боевые искусства. От Америки до Руси. Харьков-Ростов-на-Дону, 1997
Первый театральный диспут об «Аристократах» // http://vladblog.ru/2010/08/pervyi_teatralnyi_disput_ob_aristokratah/
Песенник анархиста-подпольщика // http://www.a-pesni.golosa.info/org.html
Песни нашего двора /сост. Н. Белов. Минск, 2003
Песни узников / сост. В. Пентюхов. Красноярск, 1995
Погодин Н. Аристократы // Красная новь. 1935. № 4
Потапов С. Словарь жаргона преступников: «блатная музыка». М., 1927
Пржиборовская Г. Лариса Рейснер // http://www.gramotey.com/?open_file=1269069561
Раззаков Ф. Владимир Высоцкий: козырь в тайной игре. М., 2009
Размахнин А. Механизмы порождения и функционирования текстов песен литературного склада на материале «гнезда» песен «Маруся отравилась» // http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/Razmahnin.htm
Размышления над папиросной коробкой на борту теплохода «Плеханов» // сайт журнала «Вокруг Света»: http://www.vokrugsveta.com/S4/zemla/belomor.htm
Ревзин В., Черноморский П. Кокаинизм // http://gruppapomosch.narod.ru/kokain.htm
Ривош Я. Время и вещи: Иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России конца XIX — начала XX в. М., 1990
Росси Жак. Справочник по ГУЛАГу: в 2 т. М., 1991
Русский бокс // http://boxprofi.ru/index/0-16
Русский шансон / сост. И. Банников. М., 2007
Рыжкова Н. Музыка из ГУЛАГа // Нева. 2003. № 7
Сайт детсадовского фольклора // http://odnapl1yazyk.narod.ru/detsad.htm
Свирский А. Казённый дом. М., 2002
Сидоров А. Арестантский фольклор Беломорканала // Неволя: альманах. 2006. № 9
Сидоров А. Великие битвы уголовного мира: история профессиональной преступности Советской России. В 2 т. Ростов-на-Дону, 1999
Сидоров В. Против зла: история ростовской милиции. Ростов-на-Дону, 1997
Синявский А. Диссидентство как личный опыт // Юность. 1999. № 5
Сиреневый туман: песенник / сост. А. Денисенко. Новосибирск, 2001
Сирота в фольклоре // http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/TROFIM2.htm
Скалдин А. Странствия и приключения Никодима Старшего // http://lib.ru/RUSSLIT/SKALDIN/nikodim.txt
Скворцов А. Рыцари ринга — история о том, с чего зарождался бокс в Ивановской области // http://www.ivboxing.ru/history/14-statya
Словарь музейных вещей // http://1-9-6-3.livejournal.com/245634.html
Современная баллада и жестокий романс / сост. С. Адоньева, Н. Герасимова. СПб., 1996
Солоневич И. Россия в концлагере. М., 1999
Спиридонова А. Я. Обращение к русским матерям // Молва. СПб., 1906. 21 марта
Спиридонова М. Письмо для «Руси» // Молва. СПб., 1906. 21 марта
Спиридонова М. Письмо об истязаниях // Русь. СПб., 1906.№ 27
Тарханы в творчестве Михаила Лермонтова // http://www.ref.by/refs/43/8932/1.html
Терц Абрам. Собрание сочинений: в 2 т. М., 1992
Файтельберг-Бланк В. Бандитская Одесса. Двойное дно. М., 2002
Файтельберг-Бланк В. Бандитская Одесса-2. Ночные налётчики. М., 2002
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм: социальная история Советской России в 30-е годы. М., 2008
Фоменко В. Записки о камере. Ростов-на-Дону, 1992
Хандзинский Н. Блатная поэзия // Сибирская живая старина. Иркутск, 1926
Цена метафоры, или Преступление Синявского и Даниэля. М.,1990
Частушки «под драку» // http://born-718.narod.ru/toppage4.htm
Чижевский А. К вопросу о природе хулиганства» // http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161275.htm
Шаламов В. Колымские рассказы: в 2 т. М., 1992
Шаламов В. Новая книга (воспоминания, записные книжки, переписка, следственные дела). М., 2004
Шедевры русского романса / сост. Н. Абельмас. М., 2004
Шейнин Л. Записки следователя. М., 1979
«Шёл трамвай десятый номер…»: городские песни / сост. А. Павлинов и Т. Орлова. СПб., 2005
Шефнер В. Имя для птицы. Л., 1983
Шефнер Вадим. Листопад воспоминаний // http://magazines.russ.ru/zvezda/2003/5/shefn.html
Шефнер Вадим. Сестра печали // http://knigresurs.narod.ru/bibl/RUFANT/SHEFNER/sister.html
Шмелёв Н. С малых высот // http://wap.sasisa.ru/lib/book.php?id=14058
Шохина В. Синявский и Даниэль: шутовской хоровод // Частный корреспондент. 2010. 8 сентября
Эткинд А. Седло Синявского: лагерная критика в культурной истории советского периода // НЛО. 2010. № 101
Якимова Н. История жестокого романса // Первая крымская информационно-аналитическая газета. 2009. 20–26 ноября. № 301