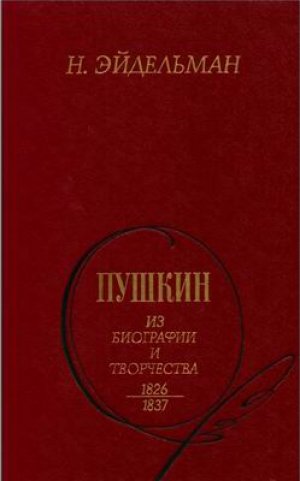
От автора
8 сентября 1830 года, в начале болдинской осени, поэт сочинил одно из лучших своих стихотворений:
Первоначально 7-я и 8-я строки читались:
Затем Пушкин поправил:
Жизнь мыслителя и мечтателя, такая, как в болдинские дни, представляется недостижимым чудом; куда более реальна «жестокая существенность»:
Но всё равно поэт принимает свой удел: хочет жить, мыслить и страдать — и даже получается, что без страдания высшим радостям не бывать…
В одной строке болдинской «Элегии» формула всего последнего пушкинского десятилетия: стремление к жизни, мысли, счастью — и ясное понимание цены, и готовность её заплатить.
Книга «Пушкин. Из биографии и творчества. 1826—1837» — обо всём этом.
Она является продолжением вышедшей в 1979 году в издательстве «Художественная литература» монографии «Пушкин и декабристы».
Книга-предшественница была в основном посвящена биографии поэта в контексте исторических событий 1820—1826 годов. Она завершалась рассказом о последних, самых напряжённых месяцах михайловской ссылки, когда постоянно решался вопрос: выйдет ли поэт на свободу или десятки упоминаний его имени на процессе декабристов закрепят неволю, чего доброго, поведут в Сибирь?
Новая книга так же, как и прежняя, — о взаимоотношениях поэта с обществом и властью.
Она начинается с того момента, где остановилось предыдущее повествование: с «помилования» Пушкина, его путешествия из Михайловского в Москву (сентябрь 1826 г.).
Никак не претендуя на исчерпывающее жизнеописание Пушкина 1826—1837 годов, автор останавливается лишь на некоторых характерных эпизодах, позволяющих сквозь частность увидеть общее, уяснить, может быть, углубить наши представления о последнем десятилетии пушкинской жизни в контексте российской истории, общественной мысли, ощутить реальность пушкинского — «мыслить и страдать».
Первая часть (главы I—IV) посвящена событиям, многое определившим в биографии, общественно-политическом статусе «позднего Пушкина». Речь пойдёт об известной беседе Пушкина с царём Николаем I и связанных с нею обстоятельствах (пушкинская записка «О народном воспитании», весьма характерное дело о «Гавриилиаде», первые булгаринские атаки, вопрос о реальности государственных реформ в конце 1820-х гг. и др.). «Программа», которую в этот период ясно и открыто защищает поэт, которую реализует в своих гениальных трудах — это «высокое просвещение», активное стремление духовно обогатить, оздоровить тысячи российских читателей. Она была выполнена Пушкиным при явном или скрытом противодействии верхов, в трудных, порою очень неблагоприятных общественных обстоятельствах.
Если в первых главах Пушкин предстаёт преимущественно в его отношениях с политикой, внешним миром последекабрьских лет, то в следующем разделе книги (главы V—VI) делается попытка приблизиться к пушкинскому осмыслению, сопоставлению эпох — той, что оканчивалась 14 декабря 1825 года, и новой, последекабрьской. Внутренний, творческий мир поэта постоянно, многосторонне раскрывается в отношениях Пушкина и таких значительных мастеров, собеседников, как Карамзин и Мицкевич. Хотя эти связи рассматриваются в книге хронологически достаточно широко, их «эпицентр» всё же в конце 1820-х — начале 1830-х годов.
Третья часть, завершающая книгу (главы VII—IX), целиком посвящена последним годам пушкинской биографии: сначала будет представлен ряд характерных групп пушкинского читательского окружения (декабристы, лицейские, старые друзья, «массовый читатель», молодёжь); анализ непростых, порою трагических отношений поэта с «миром 1830-х» завершится обозрением дуэльной истории и её интерпретацией.
Наконец, в «Заключении» делается попытка подвести некоторые творческие, общественно-политические итоги последнего пушкинского десятилетия.
Поэт выдержал испытания и одержал несомненную победу над «властью роковой».
В книге, конечно, нет ни одной темы, которая бы уже не рассматривалась в многочисленных трудах нескольких поколений пушкинистов. Однако само обилие примечательных книг, статей, публикаций открывает для очередного исследователя возможность заметить нечто новое прежде всего путём разнообразных сопоставлений, обобщений уже напечатанного. К тому же подавляющее большинство пишущих о Пушкине составляют филологи: поэтому остаётся определённое поле деятельности для пушкинистов-историков. Автор данной книги, в частности, постоянно стремился присоединить к разнообразным литературоведческим данным материалы, документы чисто исторического характера.
Известная часть предлагаемого труда основана на архивных изысканиях, на рукописных документах, извлечённых из хранилищ Москвы, Ленинграда, Киева, Тарту, а также из двух архивов Голландии.
Автор пользуется случаем выразить признательность всем друзьям и коллегам, помогавшим данной работе.
Часть I. Возвращение
Глава I. Сентябрь 1826-го
Когда б я был царь…[1]
Двадцать восьмого августа 1826 года из Москвы, где происходила коронация, царь Николай I велит «Пушкина призвать сюда».
В ночь на 4 сентября в Михайловское прибывает посланец псковского губернатора фон Адеркаса с двумя документами. Первым была записка самого Адеркаса:
«Милостивый государь мой Александр Сергеевич!
Сей час получил я прямо из Москвы с нарочным фельдъегерем высочайшее разрешение по всеподданнейшему прошению вашему,— с коего копию при сём прилагаю.— Я не отправляю к вам фельдъегеря, который остаётся здесь до прибытия вашего, прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне» (XIII, 293)[2].
Второй документ с отметкой «секретно» был подписан начальником Главного штаба Дибичем:
«Господину Псковскому гражданскому губернатору. По высочайшему государя императора повелению, последовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейше ваше превосходительство: находящемуся во вверенной вам губернии чиновнику 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочным фельдъегерем. Г. Пушкин может ехать в своём экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного штаба его величества» (XIII, 293).
Хотя из двух записок как будто и следовало, что Пушкина не арестовывают, но само внезапное ночное появление представителя власти, весьма двусмысленная формула Дибича о праве ехать «свободно, но в сопровождении только фельдъегеря», наконец, атмосфера 1826 года, недавние казни, аресты сотен людей, постоянное, напряжённое ожидание — всё это поначалу настроило Пушкина на невесёлый лад. Впрочем, он готов, опасные бумаги сожжены или припрятаны.
«Все у нас перепугались. Да как же? Приехал вдруг ночью жандармский офицер, велел сейчас в дорогу собираться, а зачем — неизвестно… Арина Родионовна растужилась, навзрыд плачет. Александр-то Сергеич её утешать: „Не плачь, мама, говорит, сыты будем; царь хоть куды ни пошлёт, а всё хлеба даст“»[3].
Мы точно знаем, что Пушкин берёт с собою рукопись «Бориса Годунова» — это документ, свидетельствующий о характере занятий, образе мыслей; настаивает, чтоб послали в Тригорское за пистолетами. Жандарм протестует, но Пушкину без них «никуда нельзя ехать»:[4] оружие «удостоверяет дворянство», напоминает, что едет свободный человек, а не арестант…
На другой день из Пскова поэт пишет П. А. Осиповой несколько раздражённо-иронических французских строк, которые были доставлены в Тригорское только через неделю:[5]
«Полагаю, сударыня, что мой внезапный отъезд с фельдъегерем удивил вас столько же, сколько и меня. Дело в том, что без фельдъегеря у нас, грешных, ничего не делается; мне также дали его для большей безопасности. Впрочем, судя по весьма любезному письму барона Дибича,— мне остаётся только гордиться этим. Я еду прямо в Москву, где рассчитываю быть 8-го числа текущего месяца…» (XIII, 558; перев. с фр.).
Однако прежде чем хозяйка Тригорского получила успокоительные строчки, она уже успела отправить в Петербург «отчаянное письмо» А. Дельвигу[6], который поделился новостью с Анной Николаевной Вульф; девушка, влюблённая в Пушкина, тотчас ему пишет (неизвестно куда, «в пространство»), и это послание открывает, что именно сообщила П. А. Осипова 4 сентября (под свежим впечатлением событий), какие версии обсуждались взволнованными обитательницами тригорского и михайловского гнезда.
«Я словно переродилась, получив известие о доносе на вас. Творец небесный, что же с вами будет? <…> Сейчас я не в силах думать ни о чём, кроме опасности, которой вы подвергаетесь, и пренебрегаю всякими другими соображениями. Если это вам возможно, то, во имя неба, напишите мне хоть словечко в ответ. Дельвиг собирался было написать вам вместе со мной длинное письмо, чтобы просить вас быть осмотрительным!! — Очень боюсь, что вы держались не так.— Боже, как я была бы счастлива узнать, что вас простили,— пусть даже ценою того, что никогда больше не увижу вас, хотя это условие страшит меня, как смерть <…> Как это поистине страшно оказаться каторжником! Прощайте, какое счастье, если всё кончится хорошо, в противном случае не знаю, что со мной станется» (XIII, 548—559; перев. с фр.).
Слова «донос», «опасность», «каторжник» навеяны впечатлениями П. А. Осиповой (как знать, может быть, и Пушкин, покидая Михайловское, произносил нечто подобное). И тем сильнее была радость друзей, когда из Москвы пришли успокоительные новости: «Плетнёв, Козлов, Гнедич, Слёнин, Керн, Анна Николаевна все прыгают и поздравляют тебя» (Дельвиг; см. XIII, 295).
Таковы были сентябрьские перепады — от «каторги» до радостных «прыжков»[7]. Последующая «благополучная развязка» вряд ли когда-либо стёрла в памяти Пушкина первые, самые тревожные и неопределённые ожидания после «внезапного отъезда с фельдъегерем». Да и в Пскове не слишком полегчало: фельдъегерь был явно приставлен, потому что Пушкин — ссыльный, ему не следует преувеличивать степень своей свободы, и по пути запрещается с кем-либо беседовать[8].
Четверо суток, начиная с 4 сентября 1826 года, Пушкина везут во вторую столицу, и он волен припомнить одно своё сочинение двухлетней давности: «Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал бы ему: „Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи…“»
Везут в Москву, где уже второй месяц продолжаются коронационные торжества.
Царь прибыл туда 25 июля 1826 года (выехав из Петербурга сразу же после казни декабристов).
1 августа состоялась торжественная церемония водоосвящения, о котором газета Булгарина сообщала в следующих выражениях: «Необыкновенное стечение народа всех состояний покрывало придверия Соборов, Кремлёвские площади, Стены и даже противолежащий берег реки. При погружении Креста началась пушечная пальба из орудий, на Кремлёвской горе поставленных. По окончании церемонии Его Императорское Величество изволил проехать мимо войска верхом <…> Всё время громкое ура! раздавалось в народе, который, желая долее насладиться лицезрением Монарха, толпился пред его лошадью. Государь император ехал шагом и ежеминутно принуждён был останавливаться: невозможно было оставаться холодным свидетелем сего единодушного изъявления любви народной к своему государю. Иностранцы, присутствовавшие при сей церемонии, сознались, что никогда ещё не видали зрелища, столь восхитительного и величественного»[9].
Эту церемонию хорошо запомнил и описал Герцен[10].
Коронация состоялась 22 августа; газеты называли поэтов, прославивших событие, особенно выделяя «На день священного коронования и миропомазания Его Величества Императора Николая Павловича. Стихотворение графа Д. И. Хвостова»; между прочим отмечалось, что «лучшим доказательством шумности Москвы в нынешнее время может служить досада некоторых поэтов, слагающих стихи свои даже во мраке ночи»[11].
В субботу 28 августа Николай I начал день в 8 часов с доклада начальника Главного штаба Дибича, которого обычно принимал ежедневно, но из-за празднеств нарушил порядок на целых 11 дней (последний перед тем доклад был 17 августа)[12].
Именно утром 28-го царь приказал доставить Пушкина, и Дибич тут же составил бумагу.
1 сентября царская фамилия переезжает с дачи графини Орловой-Чесменской в архиерейский дом Чудова монастыря. В этот день газеты извещают «о передаче крестьян, участвующих в неповиновении помещикам, военному суду»[13].
6-го, в понедельник, согласно камер-фурьерскому журналу, Николай I в течение дня «изволил заниматься делами»; в этот день императорские регалии, перенесённые для коронации в Грановитую палату, доставлены на место их обычного хранения, в Оружейную палату, «на десяти каретах»: торжества приближаются к концу, хотя ещё только 30 сентября будет зафиксировано «Высочайшее отсутствие их величеств из стольного града Москвы в Санкт-Петербург».
6-го вечером царь посещает «наивеликолепнейший обед московского дворянства»; 7-го принимает доклады Дибича, Нессельроде, а также московского генерал-губернатора Голицына и коменданта Веревкина…[14]
Первые осенние дни после «беспощадного лета» 1826 года; лета давно не виданного зноя, горящих лесов и болот:[15] лето, когда по России читают царский манифест (12 мая 1826 г.), призывающий к беспрекословному «по всей точности» повиновению крестьян помещикам и власти; крестьяне же, прежде обрадовавшись смутным вестям, что в декабре в столице царь «побил дворян», крестьяне выводят из этого факта близкую волю и, не получив её, задумываются: не «самозваный» ли царь коронуется; и уж скоро явятся несколько лже-Константинов[16].
Лето 1826 года, когда было выдано, но всё же не предъявлено «открытое предписание № 1273» — ордер на арест Пушкина.
Лето, в которое окончился процесс над декабристами: в эти сентябрьские дни несколько сотен человек уже отправлены или ждут отправления в Сибирь, на Кавказ, по крепостям, под надзор.
Пятеро казнены. Пушкин вскоре нарисует виселицу — «и я бы мог…», а один из мемуаристов запишет: «Никто не верил тогда, что смертная казнь будет приведена в исполнение, и будь жив Карамзин, её бы и не было — в этом убеждены были все современники»[17].
Восклицание горестное, наивное: некому заступиться!
Карамзин не мог бы отменить ту казнь, что состоялась 13 июля, но (согласно распространённой версии) он успел сказать Николаю I важнейшие слова: «Ваше величество! Заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века!»[18]
На фоне арестов, расправ, а также страха, настороженности даже известной части консервативного дворянства Николай I искал действенных идеологических мер для расширения своей популярности. Приятель Герцена Н. И. Сазонов, описывая события 1826 года много лет спустя, в эмиграции, вероятно, преувеличивал оппозиционные настроения 1826 года, но тем не менее передал некоторые характерные разговоры и мнения.
«…Прибыв в Москву для коронования <Николай I>, конечно, должен был заметить, что, унаследовав корону, он не унаследовал в народе популярности своего брата. Между тем Николай сделал всё возможное, чтобы её завоевать. Он с самого начала изменил приговор следственной комиссии таким образом, что тех, кого должны были четвертовать, лишь повесили, а приговорённые к повешению должны были испытать только тяготы каторжных работ.
Общественное мнение не поблагодарило его за такое великодушие. Ежедневно во время приготовлений к коронованию в Москве говорили о новых заговорах, об отдельных покушениях на государя, о клятвах в мести родственников и друзей тех, кого милосердие Николая удушило в куртине Петропавловской крепости или бросило в недра сибирских рудников. Он испробовал и другие способы, чтобы добиться популярности. Он расширил привилегии или скорее вольности дворянства; в одном из манифестов он объявил, что его царствование будет лишь продолжением царствования Александра, и, действительно, кроме Аракчеева, отставка которого была одобрена единогласно, Николай оставил на месте всех крупных чиновников, давая своим ставленникам лишь временные должности возле собственной особы. Всё это не помешало московскому населению остаться холодным и равнодушным к молодому императору, и Николаю много раз приходилось с огорчением замечать, что среди всех его придворных единственным человеком, вызывающим сочувствие и симпатию в народе, была старая княгиня Волконская, мать генерала Волконского, приговорённого к пожизненной каторге»[19].
Царские милости Карамзину (50 тысяч рублей годовой пенсии, независимо от числа здравствующих членов семьи) именно в этот период были, конечно, одним из способов воздействия на просвещённые круги[20]. В этом же ряду — возвращение Пушкина.
Разумеется, верховной власти понадобились ещё проверки, ещё и ещё «взвешивание» — пока не будет назначено освобождение с фельдъегерем. Чиновник III Отделения М. М. Попов, описывая много лет спустя историю возвращения поэта, сообщал версию, распространённую в его кругу и отражавшую, хотя и довольно тенденциозно, истинные намерения властей. Мемуарист утверждал, что «государю было приятно взглянуть на знаменитого молодого человека», который будто бы «совершенно чужд преступлений декабристов»[21].
Известность Пушкина действительно делала его значительной фигурой в глазах царя.
Меж тем быстрая кибитка 8 сентября въезжает в Москву: по Тверской — в Кремль…
Пушкин приехал в родной город, откуда летним днём 1811-го его увезли в Лицей — и с тех пор минуло пятнадцать лет, больше половины прожитой жизни; пятнадцать лет «блуждающей судьбы», «горестной разлуки» с Москвою.
Москва, 8 сентября, среда
«Московские ведомости» № 72 от 8 сентября сообщали о новых награждениях и производстве в связи с коронацией, с недавним купеческим праздником, где «государь пил „за здравие города“ и 240 музыкантов играли „Боже, царя храни“, а при питие за здравие союзных держав — „Vive Henri IV“», именно в этот день москвичи между прочим узнали «Высочайший указ об уничтожении Особой канцелярии Министерства внутренних дел и преобразования её под начальством генерал-адъютанта Бенкендорфа в III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии — с подчинением прямо Его Императорскому Величеству».
После объявлений о продаже имения — «а в нём 130 душ ревизских, карета, фортепианы, английский токарный станок», после сообщения о дворовых людях, «отпускаемых в услужение» (то есть продающихся), — следуют известия о лицах, прибывших в Москву с 2 по 6 сентября; о приехавших же с 6 по 9 сентября сообщает следующий номер «Московских ведомостей» (от 11 сентября): из Касимова прибыл «статс-секретарь господин тайный советник и кавалер Оленин», из Козлова «отставной генерал-майор Муравьёв». По именам — только лица генеральского ранга; о въехавших штаб- и обер-офицерах — лишь общее их число, сто семь персон. Отставной же чиновник 10-го класса, да ещё «в сопровождении фельдъегеря», конечно, для газеты не существует…
С утра в Москве было по Реомюру 3 градуса тепла, днём — 8,3, вечером — 4; пасмурно, дождливо, что коронационному веселью, конечно, никак не может помешать. Несколько дней спустя Пушкин опишет Прасковье Александровне Осиповой «большой народный праздник; версты на три расставлено столов на Девичьем Поле; пироги заготовлены саженями, как дрова; так как пироги эти испечены уже несколько недель назад, то будет трудно их съесть и переварить их, но у почтенной публики будут фонтаны вина, чтобы их смочить; вот — злоба дня. Завтра бал у графини Орловой; огромный манеж превращён в зал; она взяла на прокат бронзы на 40 тысяч рублей и пригласила тысячу человек» (XIII, 559; перев. с фр.).
Где же царь?
Снова помогает обращение к рукописному камер-фурьерскому журналу: «В пятнадцать минут десятого часа утра государь император с её высочеством великой княгиней Марией Павловной и с принцем Прусским выход имели на Ивановскую площадь к разводу. По окончании оного его величество, возвратившись к себе, принял военного генерал-губернатора князя Голицына и коменданта Веревкина с рапортом. Потом в Большом зале старшины Московского Дворянского собрания благодарили их величества за посещение бывшего у них вчерашнего дня бала. После сего государь император принял с докладом действительного тайного советника князя Голицына, генерал-адъютанта Бенкендорфа и гофмаршала Нарышкина <…> В три часа его величество изволил посетить императрицу Марию Фёдоровну.
За обеденный стол их величества кушали в кабинете с принцем Прусским и за оный сели в половине четвёртого часа. Пополудни в 9-м часу у её величества быть изволила на посещении императрица Мария Фёдоровна.
Сего числа давал наивеликолепнейший бал французский маршал Мармонт герцог Рагузский в доме князя Куракина на Покровской улице для дворянства и чужестранных министров. В двадцать минут десятого часа вечера их императорские величества изволили приехать на вышеписанный бал из Чудова монастыря в каретах: государь император с императрицей Александрой Фёдоровной, великая княгиня Елена Павловна с принцессой Вюртембергской, великий князь Михаил Павлович с принцем Прусским, где и ужинать изволили. Его величество за стол не садился. С бала возвратились в половине третьего часа ночи»[22].
Никакой встречи с Пушкиным не зафиксировано, и само отсутствие записи, конечно, тоже относится к истории того свидания: это показатель взгляда на важных и неважных собеседников императора у тех, кто вёл официальный дневник придворных происшествий.
Когда же точно приняли Пушкина? Дибич, узнав о прибытии поэта, написал дежурному генералу Потапову: «Высочайше повелено, чтобы вы привезли его в Чудов дворец, в мою комнату, к 4 часам пополудни»[23].
В историю этой встречи косвенно попал и «наивеликолепнейший бал» маршала Мармона (Мармонта), где царь кое-кому расскажет о своей сегодняшней встрече с Пушкиным.
Очевидно, между окончанием царского обеда (в половине пятого или в пять) и сборами на бал — вот где умещается час или (по другим данным) два часа секретной аудиенции.
К воссозданию и разбору встречи в Чудовом дворце 8 сентября 1826 года мы и приступаем.
Источники
Среди современников ходило «множество рассказов не особенно разноречивых, но довольно сомнительной правдивости»[24].
Автор только что приведённых слов П. А. Ефремов фиксирует действительно любопытное обстоятельство: сохранилось множество рассказов, правдивость которых, казалось бы, подтверждается совпадением текстов — но, увы, верить нельзя. Ведь отсутствие больших разночтений легко объясняется существованием немногих версий. Однако сами-то версии откуда?
Разумеется, в счёт не принимаются рассказы вроде, например, следующего: «Поэт Пушкин сочинил какие-то стихи против правительства, то государь Николай Павлович велел посадить в крепость <…> Государь приказал Пушкину писать стихи. Пушкин написал „Поймали птичку голосисту“. Эти стихи вызвали прощение».
Однако не просто разобраться и в самой достоверной, казалось бы, информации.
Содержание «кремлёвской аудиенции» 8 сентября 1826 года не раз было объектом научного и публицистического исследования. Наиболее полно и глубоко за последние десятилетия история «восьмого сентября» была разобрана в докладах замечательных пушкинистов М. А. Цявловского (1947) и С. М. Бонди (1961). К сожалению, эти важнейшие труды так и не были опубликованы. О докладе Цявловского коротко сообщила периодическая печать[25]. Большой доклад С. М. Бонди на XIII пушкинской конференции представлен лишь кратким резюме[26]. Согласно воспоминаниям слушателей выдающиеся учёные высказали множество очень ценных наблюдений, общих и частных[27]. Позже важные соображения о беседе Пушкина с Николаем высказали Д. Д. Благой, В. В. Пугачёв[28]. В то время как Бонди (вслед за Цявловским) полагал, что «дошедшие до нас свидетельства <…> слишком отрывочны и не дают верного представления о сущности этой важной беседы»[29], Благой находил, что по сохранившимся источникам можно составить о ней «довольно ясное представление»[30].
В. В. Пугачёв и Д. Д. Благой, расходясь в некоторых общих и частных оценках, не раз подчёркивали необходимость осторожного, исторического подхода к реставрации знаменитой аудиенции.
Этой мыслью, а также целым рядом конкретных наблюдений и соображений лучших знатоков проблемы автор данной работы старался руководствоваться, снова обращаясь к «8 сентября», существенному эпизоду пушкинской биографии.
Итак, первая проблема — источники.
Поскольку царь и поэт беседовали с глазу на глаз, все рассказы и пересказы в конце концов сводятся к тому, что, во-первых, шло от Пушкина, а во-вторых — к «царской версии».
Пушкинский рассказ: следы его заметны в ряде стихотворений, прозаических текстов и писем поэта. Можно сказать, что в нескольких письмах, отправленных Жуковскому, Вяземскому и другим друзьям ещё из Михайловского, то есть до вызова в Москву, уже видна программа пока что «воображаемого разговора» с царём. После же аудиенции мы находим ряд прямых откликов поэта — в письме П. А. Осиповой от 16 сентября 1826 года, в стихах «Стансы», «Друзьям», в записке «О народном воспитании», а также в некоторых других текстах, где воспоминания о 8 сентября присутствуют в сравнительно скрытой, косвенной форме.
Версия Николая I представлена в нескольких документах, так или иначе исходящих от царя.
В той же степени, как мы находим предысторию беседы в более ранних письмах Пушкина, она обнаруживается (с царской стороны) и в цитированном письме Дибича о характере освобождения Пушкина, и в разных сыскных мерах, которые предшествовали «прощению» поэта (отправка Бошняка, следствие по делу о стихотворении «Андрей Шенье» и др.). Прямым же эхом встречи будут пометы царя на полях записки «О народном воспитании», а также первые письма Бенкендорфа к Пушкину, уточнявшие или разъяснявшие царскую позицию. Например, разрешая Пушкину въезд в Петербург, через восемь месяцев после московской беседы с царём, шеф жандармов явно напоминал об одном из её аспектов: «Его величество, соизволяя на прибытие ваше в С<анкт>-Петербург, высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово: вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано» (XIII, 329).
Наконец, текст, едва ли не самый близкий к царскому рассказу,— известная дневниковая запись Корфа. Хотя разговор Николая с Корфом происходил в 1848 году, через много лет после беседы с Пушкиным; хотя запись — пример субъективности, как рассказчика-царя, так и, вероятно, самого Корфа,— тем не менее это единственный в своём роде документ. С оговорками он должен быть отнесён к числу важнейших свидетельств со стороны Николая I.
Третьей группой источников являются воспоминания, впечатления современников, передающих то, что они слышали от самих участников или — ещё более опосредованно.
Таких документов сохранилось довольно много, причём публикация их, начавшаяся в основном со второй половины XIX века, фактически продолжается до сей поры.
Определив, насколько это оказалось возможным, время возникновения разных записей о беседе поэта с царём, приходим к выводу о трёх главных этапах накопления этих материалов.
Во-первых, 1826—1827 годы, когда в письма, дневники и другие документы попадают более или менее прямые отклики на событие. Важная информация содержалась, впрочем, всего в нескольких текстах: строки П. А. Вяземского (его письмо к А. И. Тургеневу и Жуковскому от 19 сентября 1826 г.);[31] некоторые публицистические намёки Вяземского в конце 1826-го — начале 1827 года;[32] Дельвиг — в письме П. А. Осиповой (15 сентября 1826 г.);[33] запись осведомлённого современника — вероятно, Н. И. Бахтина;[34] дневник А. Г. Хомутовой (запись 22 октября 1826-го, но дополненная или обработанная уже после смерти Пушкина[35]); запись агента тайной полиции Локателли[36].
Проходит десять лет после гибели Пушкина, одного из «собеседников» 1826 года, и появляется ещё несколько рассказов: воспоминания Мицкевича;[37] письмо Погодина Вяземскому (29 марта 1837 г.);[38] отклик иностранного дипломата (точно не установлено, принадлежит ли он вюртембергскому посланнику кн. Гогенлоэ-Кирхбергу или нидерландскому поверенному в делах И. Геверсу; 1837 г.);[39] записки H. М. Смирнова (1834—1842);[40] дневник П. Б. Козловского (1830-е гг.?)[41]. Наконец, упоминавшийся уже дневник Корфа[42].
Третий период воспоминаний и припоминаний о всё более удаляющемся событии начинается в 1850-х годах, в связи с работами П. В. Анненкова и П. И. Бартенева над биографией Пушкина. Появление этих сочинений, совпавшее со смертью Николая I и освобождением крестьян, последующее смягчение цензурного режима — всё это стимулировало довольно значительное число новых записок и публикаций, относящихся к Пушкину в 1826 году.
Можно говорить о тридцатилетием примерно периоде, 1850—1880-х годов, когда высказались следующие мемуаристы: С. П. Шевырёв (1850—1851 гг.);[43] П. В. Нащокин (1851 г.);[44] Ф. Ф. Вигель (1840-е — 1850-е гг.);[45] М. М. Попов (середина 1850-х гг.);[46] К. А. Полевой (1855—1856 гг.);[47] «Русский человек» (Добролюбов или Чернышёвский?), 1860 год;[48] Д. Н. Блудов (1850-е — 1860-е гг.?);[49] Ар. О. Россет (1850—1860 гг.?);[50] М. И. Семевский — со слов «многих знакомых» Пушкина (1866 г.);[51] Н. И. Лорер (1860-е гг.);[52] С. А. Соболевский с дополнениями М. П. Погодина (1867 г.);[53] П. Лакруа со слов М. А. Корфа и др. (1865 г.);[54] П. И. Бартенев (на основании разных источников; в частности, со слов П. А. Вяземского, 1872 г.);[55] Ю. Струтыньский (1873 г.);[56] А. В. Веневитинов по записи А. П. Пятковского (1860-е — 1870-е гг.);[57] В. Ф. Вяземская (конец 1870-х — 1880-е гг.);[58] П. И. Миллер (1880 г.)[59].
Таким образом, мы насчитываем 29 документов, которые имеют более или менее существенное значение для освоения интересующей нас истории: шесть документов 1826—1827 годов, шесть, связанных со смертью Пушкина, семнадцать документов 1850—1860 годов. Дело, конечно, не в математически точном числе текстов — некоторые авторы, как можно было заметить, высказываются дважды, кое-что, вероятно, не учтено; однако определённые выводы можно сделать.
Социально-политический диапазон документов довольно широк: от агентурных замечаний шпиона Локателли — до обличающих самодержавие строк Мицкевича и «Русского человека» (Чернышёвского, Добролюбова?); от близких друзей Пушкина (Вяземский, Дельвиг, Соболевский) — до придворных и жандармских интерпретаторов (Корф, Попов).
Современный исследователь находит, что «по самому существу своему содержание этой беседы <…> не могло получить полного отражения в мемуарах: все сведения о ней идут из вторых рук, и все варьируются, однако не противоречат друг другу»[60]. Присоединившись к мнению В. Э. Вацуро о сведениях, которые «варьируются, но не противоречат друг другу», не согласимся, что совсем нет информации «из первых рук»; даже беглый обзор источников открывает между прочим особое место Вяземского, знавшего о событии подробно, именно из первых рук и «причастного» ещё к нескольким рассказам[61]. Заметим, наконец, что из 29 учтённых только что источников 22 прямо или косвенно восходят к рассказам Пушкина и лишь пять авторов пишут «со слов Николая» (Блудов, Козловский, Попов, Корф, Лакруа); сверх того, две записи (Н. И. Бахтина и П. И. Миллера) могли сложиться «на пересечении» как пушкинской, так и царской версии. Подобное соотношение объясняется, конечно, разным взглядом «собеседников» на аудиенцию 1826 года: для царя — «эпизод», для поэта — перемена судьбы. Более чем четырёхкратное преобладание пушкинской информации над николаевской позволяет куда яснее представить версию поэта.
Основной текст
Разбор встречи в Чудовом дворце удобно произвести по какому-либо одному источнику, сопоставляя (по мере возможности) каждую подробность с другими рассказами. Какой эпизод взять за основу? Ряд довольно достоверных записей очень короток; важная заметка Корфа предельно пристрастна и к тому же сделана много лет спустя; самая длинная, подробная запись о встрече находится в воспоминаниях польского литератора Юлиуша Струтыньского, опубликованных в 1873 году в Кракове, а позже ещё несколько раз, целиком и в извлечениях — на польском и русском языках. Вопрос о достоверности этого текста ещё недостаточно изучен. Д. Д. Благой сомневался в значении этого источника, находя, что он создан «на основе устных рассказов, которые ходили в ту пору <…> среди русских и польских знакомых поэта»[62]. Даже если бы это было так, вопрос об извлечении реальной основы тех рассказов был бы задачей достаточно интересной. Меж тем запись Струтыньского содержит подробности, совпадающие с другими воспоминаниями, а также ряд деталей, свойственных только этому рассказу.
Вслед за В. Ф. Ходасевичем, М. Топоровским, В. В. Пугачёвым и другими исследователями автор данной книги считает возможным осторожное использование этого документа. Одним из доводов, подкрепляющих эту позицию, может служить уточнение биографии рассказчика: по его словам, он двадцатилетним юношей служил в Митавском гусарском полку и в этот период беседовал с Пушкиным о недавнем прошлом; Струтыньский при этом не только называл место своей службы, но перечислял имена нескольких сослуживцев. Л. В. Крестову и других исследователей смущало то обстоятельство, что среди митавских гусар действительно числились в 1831 году упомянутые Струтыньским его товарищи, однако в списках офицеров нигде не фигурирует сам Струтыньский[63].
Загадочное противоречие снимается новонайденным архивным документом: 22 января 1831 года Бенкендорф секретно запрашивал дежурного генерала Главного штаба А. Н. Потапова: «Получив некоторые благоприятные, но неопределительные сведения о юнкере гусарского Митавского полка графе Строчинском <так!>, покорнейше прошу Ваше превосходительство уведомить, точно ли служит Строчинский и не ошибка ли в его фамилии?..»
Дежурный генерал рапортовал, что «графа Строчинского» в Митавском полку нет; однако «в декабре прошлого года подал прошение об определении в означенный полк граф Юлий Струтинский, сын председателя главного Могилёвского суда Феликса Лукьянова графа Струтинского». Из этого же документа видно, что в полку «граф Струтинский» (т. е. Струтыньский) остаётся не определённым, так как не представил ещё всех нужных бумаг[64].
Таким образом, Ю. Струтыньский мог беседовать с Пушкиным в 1829—1830 годах, когда оба они находились в Москве: Митавский гусарский полк входил в состав 4-го корпуса, квартировавшего в Москве и вокруг неё[65].
Самое длинное описание встречи царя и поэта в дальнейшем будет использовано в нашем повествовании; однако его всё же никак нельзя принять за основной, стержневой документ: исследователями справедливо отмечались беллетристические склонности Струтыньского, автора многих повестей и романов, возможность художественного домысла, трудно отделимого от реальной канвы.
Текстом, по которому можно и должно следовать за событиями, мы выбираем Дневник Анны Григорьевны Хомутовой. 2 февраля 1867 года П. А. Вяземский сообщал издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу: «У меня есть в виду 50-ти летний журнал покойной приятельницы моей, москвички Хомутовой. Тут должны быть сокровища, хотя и мелкой монетой»[66]. 23 марта того же года Бартенев уже благодарил Вяземского «за новую тетрадку из записок Хомутовой»[67].
Как видим, Вяземский называет материалы Хомутовой журналом, то есть дневником; Бартенев же видит в них записки, мемуары. По всей видимости, это были действительно записки, но основанные на дневниковых записях. Позже Л. Н. Майков, изучая другие фрагменты того же сочинения («Москва в 1812 году»), оценивал рассказ А. Г. Хомутовой как «переработку её подённых записок»[68].
Вяземскому вручила «тетрадки» Екатерина Ивановна Розе, близкий к А. Г. Хомутовой человек, воспитывавшаяся вместе с её племянниками[69]. В сопроводительной записке к публикации, составленной Е. И. Розе, но, может быть, не без участия Вяземского, даётся следующая характеристика А. Г. Хомутовой (родившейся в 1784 и умершей в 1856 г.): «Имея светлый ум, прекрасную память и удивительную, щеголеватую лёгкость выражать мысли, она записывала всё, что видела и слышала, и излагала в виде повестей происшествия, случившиеся в большом свете, поэтизируя и меняя имена и названия местности <…>.
Она была в коротких отношениях с Раевским, Ермоловым, Нелединским-Мелецким, князем Вяземским, Жуковским и Пушкиным.
Все знали её, а за необыкновенный ум, приятность характера, доброту, кротость, услужливость и любезность все любили.
Память Анны Григорьевны была удивительная: она помнила решительно всё, что читала, могла наизусть сказать целые поэмы и запоминала целиком разговоры. Она знала дни рождения и именин всех знакомых и напоминала им все эпохи их жизни»[70].
К сожалению, неизвестно местонахождение автографа записок или журнала — тех «тетрадок», что заполнялись полвека; П. И. Бартенев опубликовал лишь фрагменты, причём в переводе. Судя по переписке Бартенева с Розе, переводы французских записей А. Г. Хомутовой делала сама их владелица[71].
Как видно из опубликованного текста, Хомутова встретилась с Пушкиным всего через полтора месяца после аудиенции в Чудовом дворце.
«26 октября 1826 г.
По утру получаю записку от Корсаковой: „Приезжайте непременно, нынче вечером у меня будет Пушкин“,— Пушкин, возвращённый из ссылки императором Николаем, Пушкин, коего дозволенные стихи приводили нас в восторг, а недозволенные имели в себе такую всеобщую завлекательность.
В 8 часов я в гостиной у Корсаковой; там собралось уже множество гостей. Дамы разоделись и рассчитывали привлечь внимание Пушкина <…>
Не будучи ни молода, ни красива собой и по обыкновению одержимая несчастною застенчивостью, я не совалась вперёд и неприметно для других, издали наблюдала это африканское лицо <…>, по которому так и сверкает ум.
<…> За ужином кто-то назвал меня, и Пушкин вдруг встрепенулся, точно в него ударила электрическая искра. Он встал и, поспешно подойдя ко мне, сказал: „Вы сестра Михаила Григорьевича; я уважаю, люблю его и прошу вашей благосклонности <…>“
С этого времени мы весьма сблизились; я после встречалась часто с Пушкиным, и он всегда мне оказывал много дружбы. Летом 1836 года, перед его смертью, я беспрестанно видала его, и мы провели много дней вместе у Раевских».
Точное указание дня, даже часа встречи с поэтом, яркие, «дневниковые» подробности — всё это, однако, уже овеяно, пронизано воспоминанием, сложившимся на известном историческом расстоянии от события, вскоре после гибели Пушкина.
Особая память мемуаристки, тот культурный круг, которому она принадлежала, неоднократные встречи с поэтом — очень благоприятные условия для повторения и закрепления в её памяти максимально точной, пушкинской версии об очень важном для поэта событии. Убедительность, достоверность записи А. Г. Хомутовой подтверждается даже тем, что объём интересующего нас текста невелик, отрывок сжатый, ёмкий, лишённый следов особой литературной обработки.
Заметим, что рассказ Пушкина о встрече с царём передаётся от имени поэта, «в первом лице» — как бы в «стенографической записи».
Вот его текст:
«Рассказано Пушкиным.
Фельдъегерь внезапно извлёк меня из моего непроизвольного уединения, привезя по почте в Москву, прямо в Кремль, и всего в пыли ввёл меня в кабинет императора, который сказал мне: „А, здравствуй, Пушкин, доволен ли ты, что возвращён?“ Я отвечал, как следовало в подобном случае. Император долго беседовал со мною и спросил меня: „Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?“ — „Неизбежно, государь, все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за то Небо“. — „Ты довольно шалил,— возразил император,— надеюсь, что теперь ты образумишься и что размолвки у нас вперёд не будет. Присылай всё, что напишешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором“»[72].
«Долгая беседа»
Теперь прибегнем к «медленному чтению», комментированию рассказа А. Г. Хомутовой, расположив рядом другие воспоминания о том же событии.
«Фельдъегерь внезапно извлёк меня из моего непроизвольного уединения, привезя по почте в Москву, прямо в Кремль, и всего в пыли ввёл меня в кабинет императора…»
Другим мемуаристам тоже запала в память странная, парадоксальная ситуация: кабинет царя, да ещё во время коронации,— место, куда являются «при всём параде»; апартаменты, откуда царь с семейством вскоре отправится на «наивеликолепнейший бал» к французскому маршалу — и поэт, которому не дают и часу, чтобы привести себя в порядок.
«Небритый, в пуху, измятый, был он представлен к дежурному генералу Потапову и с ним вместе поехал тотчас же во дворец и введён в кабинет государя» (Н. И. Лорер со слов Льва Пушкина)[73].
Царь тоже хорошо запомнил первое появление поэта совсем не в светском, «придворном» облике (о чём позже поведал Корфу[74]). По существу, здесь повторялась ситуация с декабристами: арестованных доставляли прямо во дворец и, не давая никакой передышки, приводили к царю.
В отношении Пушкина тут был определённый замысел, в духе двусмысленной формулы «свободно, но с фельдъегерем». Поэт рассматривается как привезённый из заключения, и, пока не состоялась беседа с царём, пока нет высочайшего прощения,— никакие послабления не должны вызывать у Пушкина ощущения свободы: он ещё в ссылке, без права въезда в столицы (историк А. И. Михайловский-Данилевский был, конечно, не одинок, когда записал о возвращении Пушкина — «корифей мятежников»[75]).
Подозрительная власть, неразделимость освобождения и заключения (Пушкин не зря иронизировал, когда писал П. А. Осиповой, что и подобную ситуацию он должен считать для себя высокой честью) — всё это символ того, что происходило, происходит и будет теперь происходить с поэтом. С одной стороны, за Пушкиным числятся «разные вины» перед властью: перехваченное атеистическое письмо 1824 года, связи «со всеми заговорщиками», двадцать декабристских показаний о значении Пушкина в формировании вольных идей (в том числе свидетельства Южан и Соединённых славян о том, что стихотворение «Кинжал» читалось для поощрения к цареубийству).
С другой стороны, Пушкин в период следствия над декабристами был ведь уже сослан; его и забирать не надо в 1825/26-м, ибо — приговорён «авансом», ещё в 1824-м.
Впрочем, если за старые грехи поэт уже подвергся репрессиям, тем более власть присматривается к новым; сначала возникли подозрения и началась переписка на самом высоком уровне по поводу перехваченного письма Пушкина к Плетнёву (от 7 марта 1826 г.); агент Бошняк крутится возле Михайловского, отыскивая «возмутительные песни», будто бы пущенные в народ. Затем — дело о стихотворении «Андрей Шенье»…[76]
Власть, Николай I имели несколько серьёзных, по их понятиям, мотивов против Пушкина и несколько более или менее убедительных доводов за: неучастие поэта в восстании, хлопоты Жуковского и Карамзина.
Двойной счёт, трудность итога — всё это вело, повторим, и к «своему экипажу в сопровождении только фельдъегеря», и к тому, что «всего в пыли… в кабинет императора»…
Не так входили к монархам предшественники Пушкина — Державин, министр, статс-секретарь Екатерины II; Карамзин — личный друг Александра I. Их немыслимо представить под охраной фельдъегеря, «небритых, в пуху, измятых»…
Пушкин, до последней минуты не знавший, с кем придётся беседовать в Москве, но обладавший гениальной интуицией и при том имевший время обдумать по дороге своё положение,— отлично чувствовал отмеченную только что двойственность. Ещё в январском письме Жуковскому он просит за него «не ручаться»: «Моё будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc.» (XIII, 257).
Мы всё время говорим о «раздвоении судьбы», которое не в сентябрьские дни 1826 года началось: оно точно охарактеризовано современным исследователем.
«Исторический шквал, потрясший русское общество 14 декабря, в личной судьбе Пушкина обернулся сцеплением случайностей. Шесть лет никакие хлопоты друзей не могли освободить его, сосланного без прямого политического преступления и при отсутствии твёрдых улик. Сейчас, когда появилась несомненная улика — показания арестованных заговорщиков о революционизирующем значении его стихов, когда ближайшие его друзья идут на каторгу, а знакомые — погибают на эшафоте, его освобождают и обещают покровительство.
Всё происходит в единый момент, неожиданно и чудовищно парадоксально: неудачная попытка выезда, восстание, смятение и драма, пережитая без единого свидетеля: рисунок виселицы, запись „и я бы мог“,— затем фельдъегерь, Чудов дворец, свобода. Сознание начинает мистифицировать действительность, Пушкин был не более суеверен, нежели другие его старшие и младшие современники — семейство Карамзиных, Дельвиг, Лермонтов или Ростопчина,— просто ему больше выпало на долю»[77].
8 сентября Пушкин вдруг слышит, что его прощают, но ещё за минуту до того он мог ожидать совершенно противоположного, и тут было настроение, которое живо описал Ю. Струтыньский.
«Помню, что когда мне объявили приказание государя явиться к нему, душа моя вдруг омрачилась,— не тревогою, нет! — но чем-то похожим на ненависть, злобу, отвращение. Мозг ощетинился эпиграммой, на губах играла насмешка, сердце вздрогнуло от чего-то похожего на голос свыше, который, казалось, призывал меня к роли стоического республиканца, Катона, а то и Брута»[78].
Речь идёт о стихах — продолжении «Пророка»: «Восстань, восстань, пророк России…»
Находился ли на самом деле этот текст в кармане поэта или только в его памяти, — не станем сейчас разбирать: многочисленные совпадающие рассказы друзей об этих таинственных стихах безусловно доказывают одно: было у Пушкина настроение, желание в случае нового унижения, осуждения ответить самоубийственной дерзостью.
Так «двойные чувства» власти были угаданы и внутренне разыграны двойной реакцией поэта: «Вот моя рука…» или «Восстань, восстань, пророк России…»
«Фельдъегерь… всего в пыли ввёл меня в кабинет императора, который сказал мне: „А, здравствуй, Пушкин, доволен ли ты, что возвращён?“ Я отвечал, как следовало в подобном случае».
Николай I, вероятно, впервые видит Пушкина (до того разве что в толпе лицеистов); поэт же ещё до ссылки набросал портрет будущего монарха меж черновиками «Руслана и Людмилы»[79].
Царь, старший тремя годами, мог, как известно, оказаться в числе лицейских первого курса, если б осуществился первоначальный замысел Александра I — обучать младших братьев в новом заведении. Живущие в одну эпоху, «связанные историей»,— два собеседника, разумеется, представляют два разных мира[80].
Итак, царь задаёт «наивный вопрос»: доволен ли Пушкин своим возвращением? Декабрист Лорер вот как представляет этот поворот беседы: «К удивлению Александра Сергеевича, царь встретил поэта словами:
„Брат мой, покойный император, сослал вас на жительство в деревню, я же освобождаю вас от этого наказания с условием ничего не писать против правительства“»[81].
Разумеется, вопрос Николая отнюдь не прост: он требует благодарности и одновременно даёт простор для изъявления разных чувств (признание прошлых ошибок, или, наоборот, обличение властей за напрасную ссылку).
Пушкин отвечал «как следовало», то есть благодарил.
Кроме «формы», здесь была и подлинность. Ближайший друг поэта П. В. Нащокин, хоть не был «политиком», но знал и понимал Пушкина очень хорошо; поэтому следует отнестись с доверием (пусть и не чрезмерным) к его свидетельству, высказанному в откровенном разговоре с Бартеневым,— что Пушкин вышел из кабинета царя «со слезами на глазах и был до конца признателен к государю»[82].
А вот запись другого пушкинского собеседника, который был склонен к самому критическому взгляду на Николая I: «Пушкин был тронут и ушёл глубоко взволнованный. Он рассказывал своим друзьям иностранцам, что, слушая императора, не мог не подчиниться ему. „Как я хотел бы его ненавидеть! — говорил он. — Но что мне делать? За что мне ненавидеть его?“»[83]
Пушкин всю жизнь считал благодарность, «сердечное благодарение» одной из главнейших черт цивилизованного человека. Понимая, что царь имеет свои виды, поэт в иные минуты забывал или заставлял себя забыть об этом; считал долгом чести помнить то простое обстоятельство, что прежний царь его сослал, а новый — воротил.
Только такая линия поведения делала Пушкина максимально свободным в разговоре с царём: отвечая «как следовало», он имел моральное право затем говорить «как хотелось».
Высшая власть, впрочем, и тогда, и особенно позже постоянно подозревала, что Пушкин всё же не ощущает всей меры коснувшихся его благодеяний. Так, в связи со стихотворением «19 октября» Бенкендорф находил (в феврале 1827 г.), что Пушкину «вовсе не нужно говорить о своей опале и несчастье, когда автор не был в оном, но был милостиво и отечески оштрафован — за такие проступки, за которые в других государствах подвергнули бы суду и жестокому наказанию»[84].
«Император долго беседовал со мною и спросил меня: „Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?“»
Этот царский вопрос (как и последующий пушкинский ответ) — общеизвестны, так же как царские слова «я буду твоим цензором».
Меж тем разговор ведь состоял не из двух фраз, а длился более часа (Дельвиг) или даже более двух часов (Локателли). По-видимому, минимальная оценка времени вернее: представления современников о необыкновенности встречи, а также о большой её насыщенности — всё это создавало впечатление более продолжительной беседы, нежели та, что была на самом деле.
О чём же беседовали — «долго»?
М. А. Цявловский, С. М. Бонди и другие исследователи сетовали, что известные реплики из того разговора укладываются в довольно короткий промежуток времени; по разным записям современников рассыпаны отдельные «крохи», по которым трудно представить последовательность событий: скорее улавливаются впечатления Пушкина, обычно прослоённые эмоциями разных рассказчиков. Если же как-то суммировать тексты почти всех мемуаристов, то легко заметить, что разговор явно касался следующих главных тем: 1. Прошлое самого Пушкина — его прежние стихи и поведение; 2. Прошлое России; оценка 14 декабря и предшествующих событий; 3. Настоящее и будущее страны, то есть «программа» обоих собеседников.
По логике рассказа А. Г. Хомутовой, беседа касалась в основном первых двух «пунктов» — о том, что было. Поэтому прежде всего сложим вместе разные свидетельства именно об «историческом элементе» встречи.
Н. Лорер:
«…освобождаю вас от этого наказания с условием ничего не писать против правительства.
— Ваше величество,— отвечал Пушкин,— я давно ничего не пишу противного правительству, а после „Кинжала“ и вообще ничего не писал»[85].
Ар. Россет:
«Император Николай, на аудиенции, данной Пушкину в Москве, спросил его между прочим: „Что же ты теперь пишешь?“ — „Почти ничего, ваше величество: цензура очень строга“.— „Зачем же ты пишешь такое, чего не пропускает цензура?“ — „Цензура не пропускает и самых невинных вещей: она действует крайне нерассудительно“»[86].
Наконец, А. Мицкевич:
«Царь почти извиняется перед Пушкиным в том, что завладел троном: он полагает, что Россия ненавидит его за то, что он отнял корону у великого князя Константина; он оправдывался, поощрял поэта писать, сетовал на его молчание»[87].
Из нескольких воспоминаний вырисовывается вероятная логика определённой части разговора: Пушкину говорят о его прошлом, о ранних вольных стихах или о нелояльном молчании. Поэту легко оправдаться. Очевидно, он защищается так же, как прежде — в нескольких письмах к друзьям: «Со мною он <Александр I> поступил не только строго, но и несправедливо. Не надеясь на его снисхождение, надеюсь на справедливость его» (XIII, 121).
О несправедливости Пушкин толкует и в одном из писем Жуковскому (уже после восстания, поэтому выражения выбираются достаточно осторожно): «Его величество, исключив меня из службы, приказал сослать в деревню за письмо, писанное года три тому назад, в котором находилось суждение об афеизме, суждение легкомысленное, достойное, конечно, всякого порицания» (XIII, 265).
Мы можем уверенно утверждать, что новому царю Пушкин, пусть в самой корректной форме, сумел пожаловаться на несправедливость старого, на несоответствие постигшей его кары — «легкомысленному поступку».
Лакруа (со слов М. А. Корфа и др.) сообщает, что «Пушкин без труда оправдался в тех подозрениях, которые тяготели над ним и были последствием его неосторожных отзывов о разных злоупотреблениях; благородно и открыто изложил он пред монархом свои политические мысли…»[88]
Ещё в апреле 1825 года, отвечая друзьям на их призывы к благоразумию, отказу от радикальных идей, Пушкин замечает: «Теперь же всё это мне надоело; если меня оставят в покое, то верно я буду думать об одних пятистопных без рифм» (XIII, 167).
Подобные признания, естественные в письмах к Жуковскому, не подходили для объяснения с правительством. Слишком резкий отказ от прежних идей невозможен, безнравствен и — главное — не соответствует тому, что Пушкин думает на самом деле. Поэт вырабатывает другую, достойную формулу, которую сначала апробирует в письме Жуковскому от 7 марта 1826 года (явно для передачи «наверх»), а затем — включает её в послание на имя Николая I (май или июнь 1826 г.): «С надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием» (за легкомысленное суждение касательно «афеизма»); «с твёрдым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку» (XIII, 283). В этих строках — основа не только письменной, но и устной самозащиты Пушкина; подчёркивается наказание, уже полученное за «прошлые грехи»…
Царя, однако, больше интересуют свежие, последние «выходки».
Из стихотворений, написанных уже после высылки 1820 года, Пушкин, по рассказу брата, упомянул лишь «Кинжал» — и неспроста: именно это сочинение, как мы помним, фигурировало на процессе декабристов; несколько показаний подтверждали, что М. П. Бестужев-Рюмин принимал у Соединённых славян клятву готовности нанести удар самодержцу, причём важнейшим элементом этой клятвы было чтение пушкинского «Кинжала»[89]. Поэт знает или подозревает, что его стихи попали «на следствие», и поэтому сам первый говорит царю о «Кинжале»; при этом Пушкин, возможно, возражал против того смысла, который нашли в «Кинжале» самые левые истолкователи; ведь в стихотворении между прочим воспевался и кинжал Шарлотты Корде: здесь была почти полная аналогия со стихотворением «Андрей Шенье»; в обоих сочинениях как будто порицаются «крайности» французской революции,— и тем не менее стихи опасны для самодержавия…
Снова и снова, не воспринимая слишком буквально каждую строку Лорера (со слов Льва Пушкина), отметим главное направление разговора: царь напоминает об опасных стихах — Пушкин отодвигает их в прошлое; отрицает подобные шалости в недавние времена. На вопрос, что он пишет, поэт, очевидно, «предъявляет» Бориса Годунова, и драма вскоре будет «отцензурована» царём…
Однако 8 сентября Николай I, по всей видимости, пытался оспорить пушкинскую концепцию давней крамолы и сегодняшней «благонамеренности»… В рассказе Хомутовой об этом прямо не говорится, но мы легко догадываемся, что скрывается за испытывающими царскими вопросами: «доволен ли ты?», «принял ли бы ты участие?»
Ещё П. Е. Щёголев справедливо определил, что, вызывая поэта в Москву, царь в числе прочих мотивов руководствовался и подозрениями насчёт стихов «На 14 декабря»: судьба Пушкина «висела на волоске»[90].
Дело началось около 15 августа 1826 года, когда Бенкендорф получил от известного деятеля сыска генерала И. Н. Скобелева стихи Пушкина под заглавием «На 14 декабря». Донос имел явный успех у руководителя только что образованного III Отделения. Это видно и по наградам (чин и золотые часы), которых был удостоен агент военной полиции Коноплев, доставивший крамольные стихи;[91] это ясно и по тем вопросам, с которыми Бенкендорф сразу же обратился к Скобелеву:
«Какой это Пушкин, тот ли самый, который живёт во Пскове, известный сочинитель вольных стихов? <…> Стихи сии самим ли Пушкиным подписаны? <…> Где подлинники находятся?» и др.[92].
Без сомнения, донос и приложенный к нему текст из «Андрея Шенье» был тогда же, в августе, доложен царю: не исключено, что уже сами вопросы, предложенные Бенкендорфом Скобелеву, были «эхом» вопросов царских.
В любом случае титул «известного сочинителя вольных стихов» не сулил Пушкину ничего хорошего.
В конце августа — начале сентября 1826 года, когда за ним послано, следствие об «Андрее Шенье» уже велось.
Необходимость допроса Пушкина по делу о стихах была впервые отмечена следствием 26 сентября 1826 года и затем повторена не раз. История, как известно, тянулась около двух лет; однако из того факта, что поэт в начальный, самый острый период следствия (конец сентября 1826 г.) «был совсем в стороне», П. Е. Щёголев совершенно справедливо заключил, что ещё прежде Пушкин объяснился о стихах «На 14 декабря» с царём.
Есть и другие косвенные данные о внезапном появлении «тени Андрея Шенье» в кабинете Николая I.
Многознающий А. Я. Булгаков, очень интересовавшийся разбирательством о стихах «На 14 декабря», извещал брата, К. Я. Булгакова, 1 октября 1826 года: «Стихи точно Пушкина; он не только сознался, но и прибавил, что они давно напечатаны в его сочинениях». Далее шло объяснение насчёт того, что стихи относятся к французским, а не русским событиям. Публикуя этот текст, П. И. Бартенев заключил, что «по делу о Шенье ещё в сентябре Пушкина приглашали к Бенкендорфу»[93].
На самом деле Пушкин по поводу «Шенье» не подвергался в сентябре 1826 года никаким допросам, кроме царского, но информация об этом в течение трёх недель через нескольких посредников (Бенкендорф и другие) становится достоянием братьев Булгаковых и их круга.
Вяземский, которому Пушкин во время их первого разговора (с глазу на глаз), конечно, рассказал всё, объяснял А. И. Тургеневу 29 сентября 1826 года: «Пушкин здесь и на свободе. Вследствии ли письма его к государю, или доноса на него, или вследствии того и другого государь посылал за ним…»[94]
Понятно, сам Пушкин поделился с другом своими сомнениями: что было главной причиной вызова в Москву? Ведь царь говорил одновременно и милостиво, как бы отвечая на прошение поэта об освобождении, и сурово — тут уж подразумевался донос, то есть дело об «Андрее Шенье». Особая информированность Вяземского обо всей этой истории вскоре проявилась и в одном из его сочинений: 28 декабря 1826 года последовало цензурное разрешение «Литературного музеума на 1827 год», издававшегося Владимиром Измайловым. Там между прочим были опубликованы стихи Вяземского «Библиотека» (отрывок из стихотворения Деревня), где автор, характеризуя разных поэтов, конечно, нарочито пишет о Шенье в «пушкинском духе»; он подразумевает именно те эпизоды, которые могли помочь реабилитации Пушкина в 1826—1827 годах:
Имя Шенье Вяземский сопроводил примечанием, опять же явно стараясь подтвердить право Пушкина на подобные мысли в русской подцензурной печати: «Андрей Шенье, одна из прекраснейших жертв тирании Робеспьера и французского Конвента, кончил жизнь свою на плахе революционной два дни до низвержения Робеспьера и кровавого владычества, тяготевшего над Францией. Готовясь на казнь, он, ударив себя в голову, сказал: „Однако же тут было что-то…“»[96]
Ф. Ф. Вигель, лицо весьма заинтересованное, так как один из обвиняемых по делу «Шенье», А. И. Алексеев, был его племянником, имел возможность навести различные справки, в том числе у самого Пушкина, поэтому известный отрывок из «Записок» Ф. Ф. Вигеля, посвящённый 8 сентября, приобретает особое значение.
«Государь пожелал сам видеть у себя в кабинете поэта, мнимого бунтовщика, показал ему стихи и спросил: кем они написаны? Тот не обинуясь сознался, что он. Но они были писаны за пять лет до преступления, которое будто бы они восхваляют, и даже напечатаны под названием „Андрей Шенье“. В них Пушкин нападает на революцию, на террористов, кровожадных безумцев, которые погубили гениального человека. Небольшую только часть его стихотворения, впрочем, одинакового содержания, неизвестно почему цензура не пропустила, и этот непропущенный лоскутик, который хорошенько не поняли малограмотные офицерики, послужил обвинительным актом против них. Среди бесчисленных забот государь, вероятно, не захотел взять труда прочитать стихи; без того при малейшем желании увидел бы он, что в них не было ничего общего с предметом, на который будто они были написаны. Пушкин умел ему это объяснить, и его умная, откровенная, почтительно-смелая речь полюбилась государю»[97].
Вигель кое в чём ошибается, тенденциозно упрощает суть дела: стихотворение «Андрей Шенье» было написано и напечатано не «за пять лет», а всего за несколько месяцев до 14 декабря; не пропущенный цензурой отрывок хотя и обличал якобинцев, приговоривших Шенье к гильотине, но в то же время звучал как обвинение всякому деспотизму и тирании, как светлый гимн свободе. Недаром двухлетнее разбирательство по делу об этих стихах всё же завершилось признанием пушкинского сочинения «соблазнительным и служившим к распространению в неблагонамеренных людях… пагубного духа»[98].
8 сентября в «долгой беседе» Пушкин как будто всё объяснил насчёт «Андрея Шенье» — и царь удовлетворён; но позже, когда дело дойдёт до подробностей, до письменных объяснений, откроется, что «согласие разговора» было во многом внешним, иллюзорным. Это хорошо видно и при сравнении других «элементов» беседы с их последующим письменным эквивалентом (о чём ещё речь впереди).
Впрочем, даже благоприятный разговор о недавнем прошлом был острым и опасным. От явных угроз Пушкин сумел защититься (хотя и не до конца); утверждал, что ничего не пишет, ибо «цензура очень строга»: действительно, после выхода Сборника стихотворений 1826 года (поразительно совпавшего с первыми днями после восстания) поэт почти не печатается: издателю Плетнёву было фактически запрещено с ним переписываться (март — апрель 1826 г.)…
От частных вопросов насчёт давних или позднейших вольных стихов — разговор естественно переходит к проблемам общим, ибо поэта подозревают именно в декабристских стихах, декабристских сочувствиях. Повод для перехода от частного к общему — это прежде всего дружеские связи Пушкина с заговорщиками.
«Император долго беседовал со мною и спросил меня: „Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?“ — „Неизбежно, государь: все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за то Небо“».
Наиболее острое место беседы. Даже декабрист Лорер, со слов брата Пушкина, представляет разговор о декабристах более мягким, частным эпизодом:
«— Вы были дружны со многими из тех, которые в Сибири,— продолжал государь.
— Правда, государь, я многих из них любил и уважал и продолжаю питать к ним те же чувства.
— Можно ли любить такого негодяя, как Кюхельбекер? — продолжал государь.
— Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего, и теперь нас может удивлять только одно, что его с другими, сознательно действовавшими и умными людьми, сослали в Сибирь»[99].
Нам известны ещё только два текста, где приводится царский вопрос о 14 декабря и соответствующий пушкинский ответ. Во-первых, в письме Павла Миллера Я. К. Гроту, несколько лет назад изученном автором данной книги. Миллер, лицейский 6-го выпуска, страстный поклонник Пушкина, имел большие возможности для получения информации — и по лицейским своим связям, и как многолетний личный секретарь самого графа Бенкендорфа. Интересующее нас письмо к Гроту, академику и лицейскому однокашнику, было написано много лет спустя, 11 мая 1880 года, то есть после опубликования записок Хомутовой,— однако осведомлённость Миллера и весь характер его письма позволяют предположить, что он знал о смелом ответе Пушкина по своим источникам. «Нельзя ли тебе будет,— писал Миллер,— упомянуть как-нибудь в твоих речах о трёх случаях в жизни Пушкина, характеризующих его честное и смелое прямодушие: первый случай, когда по приказанию Николая Павловича он был прямо привезён во дворец из псковского имения. Государь спросил его: „Был ли бы ты на Сенатской площади 14 декабря вместе с бунтовщиками?“ — „Был бы,— отвечал Пушкин,— потому что они были моими друзьями“. Второй случай: когда он узнал из слов Милорадовича, что этот хочет сделать обыск в его квартире и захватить его бумаги, то он сам вызвался написать запрещённые стихи и, действительно, тотчас же написал их на дому у Милорадовича.
Третий, хотя в другом роде: когда граф Бенкендорф, послав за Пушкиным, спросил его: на кого он написал оду „На выздоровление Лукулла“? Он сказал ему: „На вас“. Бенкендорф невольно усмехнулся. „Вот я вас уверяю, что на вас,— продолжал Пушкин,— а вы не верите; отчего же Уваров уверен, что это на него?“
Дело так и кончилось смехом»[100].
Кроме Миллера, был ещё один рассказчик, который поведал об остром вопросе и ответе («принял ли бы ты участие?..»), задолго и до письма Миллера, и до публикации рассказа Хомутовой. Этот мемуарист — сам Николай I (в записи Корфа):
«„Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?“ — спросил я его между прочим. „Стал бы в ряды мятежников“, — отвечал он»[101].
Царские характеристики Пушкина, записанные Корфом в 1848 году, были, как уже отмечалось, особенно злыми. Николай I даже забыл или не счёл нужным припомнить объяснение поэта — что он был бы на площади, ибо там находились его друзья.
Любопытно, что за несколько месяцев до беседы в Чудовом дворце точно такой же вопрос, как и Пушкину, был задан одному декабристу. Описывая допросы в Следственной комиссии, А. Е. Розен вспоминал: «Не все члены комиссии поступали совестливым образом,— иначе как мог бы Чернышёв спросить М. А. Назимова: „Что вы сделали бы, если бы были в Петербурге 14 декабря?“ (Назимов был в это время в отпуску, в Пскове). Этот вопрос был так неловок, что Бенкендорф, не дав времени ответить Назимову, привстал и через стол, взяв Чернышёва за руку, сказал ему: „Послушайте, вы не имеете права задавать подобный вопрос, это дело совести“»[102].
Итак, вопрос «что вы сделали бы, если бы…», заданный во время следствия, даже Бенкендорфу показался юридически некорректным: Назимова и без того осудили за то, что он действительно «сделал». Конечно, подобный же вопрос, задаваемый царём человеку неарестованному, носит несколько иной оттенок, однако некоторое сходство, определённая провокационность обоих случаев несомненна. Тема достаточно щекотлива.
Снова подчеркнём, что из почти трёх десятков мемуарных свидетельств о встрече поэта с царём интересующий нас сейчас нюанс попал только в три текста: Хомутовой (самая достоверная запись рассказа Пушкина), Корфа (версия Николая I) и Миллера, возможно, восходящая к обоим источникам, но с явным сочувствием к Пушкину.
Понятно, царь был совсем не заинтересован в «популяризации» пушкинской смелости; в 1826 году он желал представить обществу свою милость и «раскаявшегося грешника». Естественно, и Пушкин не очень распространял свой ответ насчёт 14 декабря во избежание дурных толкований как со стороны власти, так и со стороны декабристов.
Уже по одному этому мы имеем право предположить, что вообще самые щекотливые элементы беседы, в особенности то, что касалось декабристов, так и осталось самой сокрытой от современников частью всего эпизода.
Дискуссия поэта и царя о декабризме требует самого тщательного и осторожного разбора.
Во многих исследованиях повторяются мысли о тактике, хитрости Пушкина, сумевшего сохранить достоинство и найти формулу, относительно приемлемую для самодержца. Поэт апеллирует к тому образу, что Николай стремится играть: образу первого дворянина, царя-рыцаря, который не может не понять правил чести, действительно, царь вряд ли был бы доволен, счёл бы ложью, если бы его собеседник начал уверять, что он ни при каких обстоятельствах 14 декабря не мог оказаться на Сенатской площади.
Однако главный подтекст пушкинского ответа всё же не в «тактике». Он был продиктован серьёзными, глубокими мотивами; он может быть объяснён прежде всего тем — каков был Пушкин в 1826-м?
Ответ поэта, что он вышел бы на площадь, так как друзья были в заговоре, конечно, большая смелость, особенно в атмосфере страха и подавленности, охватившей довольно широкие круги образованного общества[103]. Предысторию этого ответа мы находим, между прочим, и в пушкинских письмах друзьям, где формировались и другие мотивы будущего разговора с царём (не забудем, что эти письма отправлялись по почте и могли быть прочтены властями): «Всё-таки я от жандарма ещё не ушёл, легко может уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвинённых. А между ими друзей моих довольно» (Жуковскому; XIII, 257).
«Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков» (Вяземскому; XIII, 286).
Размышляя над пушкинским ответом царю и над только что приведёнными «фразами-предшественницами», приходим к выводу, что знаменитые слова «все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них» — это фраза не декабристская, а пушкинская: поэт говорит что думает; он объясняет своё возможное участие в событиях не политическими мотивами, но — понятиями чести. Подчёркивает, что вышел бы на площадь из дружеской солидарности, а не оттого, что считал бы в тот момент необходимым именно насильственную перемену власти.
Ю. М. Лотман полагает, что в той беседе «Пушкин не отрёкся от дружеских связей с декабристами, напротив, он, видимо, умолчал относительно своих глубоких сомнений в декабристской тактике и решительно подчеркнул единомыслие, сказав, что если бы он случился в Петербурге, то 14 декабря был бы на Сенатской площади»[104].
С этим определением хотелось бы поспорить: во-первых, повторим, что пушкинское «я был бы в невозможности отстать от них» означает прежде всего соблюдение правил чести; во-вторых, по тем же правилам чести поэт, конечно, прямо не отрицал декабристской тактики, но параллельно высказывал свой общий взгляд на вещи, сомневаясь в декабристских средствах. Подробнее о том, что Пушкин мог позволить себе в этом роде, мы скажем несколько позже; а сейчас вкратце напомним, какие идеи, выстраданные поэтом (до царской амнистии и независимо от неё!), теснились в его сознании и, даже не выходя наружу, многое направляли в разговоре с царём.
Пушкин, вступивший в кабинет царя, был поэтом, прошедшим период дерзкого, революционного отрицания, но приблизительно к 1823 году выработавшим иной, сложный взгляд на ход и перспективы российской истории.
Это был человек, ещё накапливавший в Михайловском дерзкие эпиграммы, но уже успевший на юге написать:
Это был Пушкин, недавно дружески, душевно общавшийся с друзьями-декабристами, но при том остро, принципиально споривший с Пущиным, Рылеевым, Бестужевым (а прежде вызывавший даже известную враждебность у некоторых особенно непримиримых заговорщиков-южан); Пушкин, который в 1825 году художественно исследует роль народа в «Борисе Годунове», существенно опережая в этом отношении декабристскую мысль.
При этом великий поэт — свободный человек, сторонник высокого просвещения, сторонник больших преобразований в стране, но — не восстания в прямом, декабристском смысле слова.
Подобная позиция, сложившаяся ещё до 14 декабря, независимо от царских репрессий и помилований, конечно, раскрепощала поэта в его разговоре с Николаем.
Позже некоторые радикальные критики упрекнут Пушкина за измену идеалам во время встречи 8 сентября. Адам Мицкевич полагал, что царь обольстил поэта, что общество русское имело право потребовать Пушкина к ответу: «Ты нам предрёк в своих ранних стихах кровавое восстание, и оно произошло; ты предсказал нам разочарование, крушение слишком выспренных, слишком романтических идей — всё это сбылось. Что же ты предскажешь нам теперь? Что нам делать? Чего нам ждать?»[105]
Сложность того, что говорилось 8 сентября 1826 года о декабристах, видна особенно ясно при сопоставлении двух «пушкинских цитат»:
«Я многих из них <декабристов> любил и уважал…» Кюхельбекер сослан «с другими, сознательно действовавшими и умными людьми» (запись Лорера).
Николай I — Корфу: «Он <Пушкин> наговорил мне пропасть комплиментов насчёт 14 декабря».
Снова и снова дело не в буквальности, но в духе сказанного. Декабрист Лорер (со слов брата Пушкина) знает, что поэт говорил о революционерах хорошо; царь же помнит «комплименты» себе…
Можно ли верить, можно ли согласовать?
Опережая наш последующий разбор, заметим, что поэт (как это видно, между прочим, из записки «О народном воспитании», представленной царю два месяца спустя) глубоко сочувствовал декабристам и в то же время признавал неслучайность, древние исторические корни самодержавия; если подобное говорилось вслух 8 сентября, то самодержец мог здесь легко услышать «комплимент». Но при том даже в самых официальных документах Пушкин пишет про идеализм декабристов, про «дум высокое стремленье» и стремится опальных защитить. Николай I неслучайно вспомнил в разговоре с поэтом его лицейского однокашника: тут происходит «экзамен» на примере очень близких людей (и можно верить, что Лев Пушкин с его изумительной памятью эту часть разговора передал Лореру без ошибок; ведь Кюхля был его любимым наставником). Пушкин хорошо знает (это было отражено в «Донесении Следственной комиссии»), что друг Вильгельм едва не стал шестым повешенным; 14 декабря на площади он пытался застрелить, правда без удачи, генерала Воинова, а также великого князя Михаила Павловича (в приговоре, вынесенном Кюхельбекеру, было подчёркнуто заступничество Михаила «в христианском духе» за своего несостоявшегося убийцу); Пушкин же пытается помочь Кюхле, нарочно представляя его странности как признак сумасшествия.
Ю. М. Лотман справедливо пишет: «Можно предполагать, что какие-то туманные заверения о прощении „братьев, друзей, товарищей“ Пушкин получил. Именно со времени этой первой встречи с царём начинается для Пушкина та роль заступника за декабристов, которую он подчеркнул как важнейшее из дел жизни:
Так высвечивается в кремлёвской беседе сложная, деликатная, крайне опасная для Пушкина тема 14 декабря.
«Комплименты царю» и защита опальных декабристов любопытно соединены в книге П. Лакруа: «Пушкин честно и искренне воздал его величеству хвалу за мужество и величие души, проявленные так торжественно 14 декабря, и только выразил сожаление о судьбе многих руководителей пагубного дела, обманутых своим патриотизмом, тогда как при лучшем направлении они могли бы принести деятельную пользу обществу»[107].
Совпадение мотивов у Корфа и французского историка легко объяснимо — Корф был «наставником», одним из главных информаторов Лакруа. И тем знаменательнее, что западный авторитет, специально нанятый для прославления Николая I, сообщает о пушкинском сожалении, об уважении поэта к декабристам: Лакруа, собирая свои материалы в начале 1860-х годов, не знал, кстати, ни текстов Лорера, ни записок Хомутовой.
Пушкин пытался говорить «в пользу декабристов» с позиций, при тех обстоятельствах, единственно возможных — с позиций общих; он говорил, что для этого движения (пусть и «ошибочного») были серьёзные причины, которые не устранены; что в мнениях заговорщиков немало правды и что многие задуманные ими перемены необходимы.
У всех почти мемуаристов подобные мотивы отсутствуют. Разве что Хомутова их подразумевает, записывая слова Пушкина: «Государь долго говорил со мною».
У подавляющего большинства рассказчиков, в том числе и у Хомутовой, после разговора о прошлом сразу следует финал:
«Ты довольно шалил,— возразил император,— надеюсь, что теперь ты образумишься и что размолвки у нас вперёд не будет. Присылай всё, что напишешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором».
Этому вторит Лорер: «„Я позволяю вам жить, где хотите. Пиши и пиши, я буду твоим цензором“, — кончил государь».
Ар. Россет (после слов Пушкина, что цензура «действует крайне нерассудительно»): «Ну, так я сам буду твоим цензором,— сказал государь,— присылай мне всё, что напишешь».
Ф. Вигель (после разговора об «Андрее Шенье»): «Пушкину <…> дозволено жить, где он хочет, и печатать, что хочет. Государь взялся быть его цензором с условием, чтобы он не употреблял во зло дарованную ему совершенную свободу».
А. Мицкевич (в некрологе Пушкину): «Во время этой достопамятной аудиенции царь с увлечением говорил о поэзии. Это был первый случай, когда русский царь говорил с одним из своих подданных о литературе! Он поощрял поэта к продолжению творчества, он позволил ему даже печатать всё, что ему угодно, не обращаясь за разрешением к цензуре».
Судя по записи Хомутовой и другим воспоминаниям, слова царя «я буду твоим цензором» были наиболее тёплым моментом беседы.
Видимо, Николай I не поскупился и на другие милостивые выражения.
Первая строка пушкинских «Стансов» — В надежде славы и добра — это, конечно, перевод на язык поэзии того, что говорилось «политической прозой» тремя месяцами раньше, во время кремлёвской беседы. Слава касалась и прошлого (Борис Годунов, Пётр), и настоящего (война с Персией уже началась, война с Турцией близка). Отзвук этого места беседы слышен и в уже цитированном первом письме Бенкендорфа Пушкину (30 сентября 1826 г.): «Его величество совершенно остаётся уверенным, что вы употребите отличные способности ваши на передание потомству славы нашего Отечества, передав вместе бессмертию имя ваше» (XIII, 298).
Царские слова, переданные Пушкину через Бенкендорфа, очевидно, повторение, пусть не буквальное, тех высоких слов, что говорились 8 сентября.
Меж тем подобные обороты почти отсутствуют в большинстве мемуаров о встрече и прослеживаются лишь в двух документах:
Лакруа: «Подавая руку Пушкину, его величество сказал: „Я был бы в отчаянии, встретив среди сообщников Пестеля и Рылеева того человека, которому я симпатизировал и кого теперь уважаю всей душою. Продолжай оказывать России честь твоими прекрасными сочинениями и рассматривай меня как друга“ (государь сказал Пушкину, что „лишь он один будет цензором его сочинений“)»[108].
Струтыньский (излагая рассказ Пушкина): «Как,— сказал мне император,— и ты враг своего государства? Ты, которого Россия вырастила и покрыла славой? Пушкин, Пушкин! Это не хорошо! Так быть не должно!»[109]
Позже, в конце беседы, царь (согласно версии польского мемуариста) сказал Пушкину: «Пиши для современников и для потомства. Пиши со всей полнотой вдохновения и с совершенной свободой, ибо цензором твоим буду я»[110].
Параллели приведённых текстов со словами царя — Бенкендорфа о «бессмертии имени вашего» требуют, конечно, размышления — явились ли они совсем независимо друг от друга?[111] В любом случае мы можем предполагать, что фразе о «царе-цензоре» предшествовал какой-то обмен мыслями, где «стороны» о чём-то договорились и отсюда — лестные царские слова. Именно в этой части беседы поэт, очевидно, мог позволить себе определённую вольность поведения («припёрся к столу», «обратился спиной к камину, обогревая ноги»): вначале, пока аудиенция смахивала на допрос, подобная ситуация маловероятна[112].
Реформы
Ещё раз повторим, что каждый вспоминающий о встрече Пушкина с Николаем не обходит царского — «я сам буду твоим цензором» (разве что сам Николай в беседе с Корфом — но это случай особый!); впрочем, через двадцать два дня после того, как эти слова были произнесены, их закрепил на бумаге Бенкендорф: «Сочинений ваших,— писал он Пушкину,— никто рассматривать не будет; на них нет никакой цензуры: государь император сам будет и первым ценителем произведений ваших, и цензором» (XIII, 298).
Через месяц с небольшим царская формула ещё раз записана и рукою Пушкина: «Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная» (письмо H. М. Языкову от 9 ноября 1826 г.; XIII, 305).
Тут необходимо отметить один, кажется, недостаточно оценённый исследователями оттенок знаменитой фразы Николая I: она произносится в те дни, когда вступал в действие только что утверждённый жесточайший, «чугунный» цензурный устав.
Удивление, негодование даже весьма умеренных деятелей по поводу этого устава не раз отмечалось в литературе.
Вяземский в том же письме, где извещал А. И. Тургенева и Жуковского об освобождении Пушкина, негодовал против «нелепости» устава, призывал Жуковского «написать на него замечания»; между прочим рассказывал, будто «государь, читая Устав в рукописи <…>, сделал вопрос: „В силу этого должно ли было бы пропустить Историю Карамзина? Отвечайте просто: да или нет?“ Они отвечали: нет! Государь приписал тут: вздор; но между тем вздор этот остался и быть посему»[113].
H. М. Языков 23 сентября писал брату Петру:
«Вот новость: Пушкина привезли на казённый счёт в Москву, и он освобождён. Это хорошо, но вот что худо — и чрезвычайно: вышел и начинает приводиться в действие новый Устав о цензуре — совершенная инквизиция <…> Устав мог бы подписать и монарх Высокой Порты, в нём ещё обнаруживаются глупость и невежество»[114].
Пушкин же, несомненно зная о возмущении Языкова, старается его успокоить; сообщая 9 ноября 1826 года, что царь — «сам мой цензор», сверх того поэт обещает: «о цензурном уставе речь впереди».
Пушкин явно намекает, что ситуация должна улучшаться; он уже знает о царских мерах к замене «чугунного» устава 1826 года новым, более мягким уставом (это решилось именно в сентябре—октябре 1826 г.; подробнее см. ниже).
Слова Николая «я буду твоим цензором», конечно, намекали на новую цензурную реформу.
Значит, перед знаменитой царской «репликой» шёл разговор о важном государственном деле. И, по всей видимости,— не об одном («Долгая беседа»).
Во вступительной статье к двухтомному изданию «Пушкин в воспоминаниях современников» В. Э. Вацуро замечает, что мемуарные сообщения об аудиенции в Москве «концентрируются вокруг нескольких смысловых центров. Первый из них: вопрос царя: что бы вы делали в Петербурге 14 декабря, и ответ Пушкина, что он примкнул бы к своим друзьям на Сенатской площади. Второй — условия некоего договора. По-видимому, это был договор не выступать против правительства, за что Пушкину представляется свобода и право печататься под личной цензурой Николая I. Есть основания думать, что Николай I говорил при этом Пушкину о какой-то программе социальных реформ. Но этого уже мемуаристы не сообщают»[115].
Действительно, в основном, хорошо известном корпусе мемуарных свидетельств о «8 сентября» подробностей насчёт самого длительного «раздела» беседы практически нет. Нелегко оперировать косвенными или недостаточно надёжными данными о важнейшей части аудиенции. Однако с должной осторожностью это необходимо сделать. 8 сентября Пушкин и Николай говорили, по всей видимости, о том, что не могло быть обнародовано и почти не осталось в письмах, дневниках и воспоминаниях современников: о будущем России, о преобразованиях…
Материи столь же деликатные и секретные, как и тема 14 декабря: ведь именно в это время свод декабристских показаний о внутреннем положении России был по приказу царя передан Секретному комитету, готовившему реформы. Суждения Пушкина и в этом случае почти приравнивались к «полезным показаниям» другой стороны.
Отзвуки разговора о настоящем и будущем России, естественно, отыскиваются в произведениях поэта, написанных вскоре после того.
Главная мысль записки «О народном воспитании» (которой будет посвящена отдельная глава этой книги) — благотворная, преобразующая роль просвещения; в «Стансах» (1826) пример и образец — Пётр Великий:
В стихотворении «Друзьям» (1828) снова противопоставлены «просвещенья плод» и «разврата… дух мятежный».
Упоминание в «Стансах» и других сочинениях Якова Долгорукова, смелого советчика при Петре Великом, звучало как поощрение нынешнему монарху, беседующему на равных со смелым, откровенным собеседником.
В стихах Николай I, правящий «бодро, честно», оживляет Россию «войной, надеждами, трудами»: прямая антитеза прошлому царствованию, где был
Разумеется, во время аудиенции Пушкин не осмелился прямо осуждать Александра I и его правление, однако это как бы подразумевалось: ведь всякий разговор о неустройствах и будущих реформах объективно задевал прежнего царя, допустившего неустройства, не давшего реформ…
Многознающий П. И. Бартенев сообщал: «Пушкин приехал в Москву в коляске с фельдъегерем и прямо во дворец. В этот же день на балу у герцога Девонширского государь подозвал к себе Блудова и сказал ему: „Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?“ На вопросительное недоумение Блудова Николай Павлович назвал Пушкина»[116].
Но что же имел в виду Николай, когда говорил об «умнейшем человеке в России»? Воспоминания современников о встрече дают немного; смелый ответ о Сенатской площади и друзьях для подобного суждения всё же недостаточен.
Люди, хорошо знавшие царя, не раз отмечали его самоуверенность, упрямство; как правило, он считал умными тех, которые угадывали его мысль или умели говорить в его духе. Отсюда можно заключить, что 8 сентября 1826 года при обсуждении некоторых важных вопросов мнения двух собеседников совпали или, точнее, создалось такое впечатление.
Царю могли очень импонировать пушкинские мысли (известные по более позднему документу 1836 г., но в той или иной форме постоянно присутствовавшие в его общих рассуждениях 1826—1836 гг.) о правительстве, которое «всё ещё единственный Европеец в России» (XVI, 422; перев. с фр.).
Отметим, что на балу у французского маршала Николай хвалит Пушкина не случайному собеседнику: он ведь обращается к Д. Н. Блудову, бывшему арзамасцу, «человеку Карамзина», и верно рассчитывает, что сказанное благоприятно подействует на сравнительно умеренные, либеральные круги двора и дворянства; кроме того, и это очень существенно, именно Блудов с 1826 года становится важным государственным человеком, который (вместе со Сперанским и несколькими другими сановниками) более других «приставлен к реформам». Он, будущий министр внутренних дел, председатель Государственного совета, только что, весной и летом 1826 года, выдержал страшный экзамен на лояльность, составив официальное «Донесение Следственной комиссии» — документ, исказивший подлинные планы и цели декабристов; но в то же время Николай I поручает ему составление секретного приложения к «Донесению», где Блудов делает довольно трезвые, реальные выводы из декабристских показаний. На вопрос, чем хотели заговорщики «обольстить народ и войско», Блудов отвечает: «Крепостных поселян обещанием свободы и разделением земель, других же граждан дарованием равных прав всем состояниям, прощением недоимок, уничтожением некоторых податей и установлений, стесняющих рукодельную или торговую промышленность, а войска — уменьшением лет службы солдат»; кроме того перечислялись и другие обстоятельства, которыми хотели и могли воспользоваться декабристы: «Большое число штрафованных солдат и разжалованных офицеров и иных чиновников <…>, ропот, жалобы на злоупотребления, беспорядки во многих частях управления, на лихоимство, почти всегда ненаказанное и даже незамечаемое начальством, на медленность и неправильность в течении дел, на несправедливости и в приговорах судебных, и в награждениях по службе, и назначении к должностям, на изнеможении главных отраслей народной промышленности, на чувствительное обеднение и самых богатейших классов»[117].
Вспомним, что именно Блудов однажды вот как объяснил Николаю I различие между самодержавием и деспотизмом: «Самодержец может по своему произволу изменять законы, но до изменения или отмены должен им сам повиноваться»[118].
Фраза царя об «умнейшем человеке», обращённая к Блудову, обозначала примерно вот что: Пушкин хорошо понимает то же, что и «мы с тобою», то есть необходимость реформ в рамках данной системы…
Царские слова косвенно свидетельствовали, что с Пушкиным было говорено о планах будущих преобразований.
Не знаем, дошла ли к тому времени до Пушкина крылатая карамзинская фраза о заблуждениях декабристов — «заблуждениях века», однако, независимо от прямого знания, эта мысль, очевидно, присутствовала в беседе: восстание имело серьёзнейшие причины, причины не устранены. Об этом хорошо писал автор анонимной записки «О преемнике Александра», скопированной приятелем Пушкина H. С. Алексеевым[119].
Даже Булгарин в 1826 году осмелился в записке «Нечто о царскосельском лицее…» перечислить главные недостатки по разным отраслям: «В финансах — упадок кредита, торговли и фабрик, истребление государственных лесов, недоверчивость в сделках с правительством, питейная система, гильдейское положение и т. п. В юстиции — взятки, безнравственность, решение и двойное, тройное перерешение дел по протекциям, даже после высочайшей конфирмации. В министерстве внутренних дел — совершенный упадок полиции и безнаказанность губернаторов и всех вообще злоупотреблений. В военном министерстве — расхищения»[120].
Кроме упомянутой многозначительной реплики царя Д. Н. Блудову, о содержании «потаённой» части разговора можно судить и по следующему послесловию П. И. Бартенева к публикации пушкинской записки «О народном воспитании»: «Без искательства со своей стороны, можно сказать, без своего ведома, Пушкин, опасавшийся преследований за политические свои связи <…> был необыкновенно милостиво принят императором Николаем Павловичем в Москве в Кремлёвском дворце, 8 сентября 1826 года. Сколько известно, государь продолжительно беседовал с ним, между прочим о возмущении 14 декабря и о намерениях своих дать прочное основание и направление воспитанию юношества и вообще народному образованию. В течение разговора приказал он Пушкину, чтоб он письменно изложил свои мысли по этим предметам <…> Мысли нового государя о коренных внутренних преобразованиях, об освобождении крестьян, о народном просвещении, о самостоятельности в делах внешней политики тогда же начали приводиться в исполнение <…>, о чём, конечно, знал Пушкин»[121].
Как уже отмечалось выше (в перечне разных мемуарных свидетельств о «8 сентября»), Бартенев, по всей видимости, опирался на воспоминания П. А. Вяземского: от него же получена записка «О народном воспитании» (впервые обнародованная в той же второй книге бартеневского «Девятнадцатого века»[122]); значительную часть сборника заняла «Старая записная книжка»[123], тоже принадлежавшая Вяземскому (но престарелый её автор пожелал сохранить инкогнито)[124]. Чрезвычайно осведомлённый насчёт «секретных обстоятельств» пушкинской биографии, Вяземский знал многое о кремлёвской аудиенции 8 сентября 1826 года; постоянно сообщая разные свои воспоминания П. И. Бартеневу, он вряд ли обошёл столь важный и таинственный эпизод. Любопытно, что Бартенев позже рассказал, как он пытался узнать подробности той аудиенции у Веры Фёдоровны Вяземской[125], но нигде не сообщал о подобных же естественных вопросах, заданных её мужу. Это объясняется, надо думать, тем, что Вяземский уже успел поведать Бартеневу некоторые факты, и они, в частности, попали в только что цитированную заметку (где Бартенев, не называя источника, пишет: «сколько известно…»).
Бедность данных и важность темы заставляют с должной осторожностью обратиться также и к двум уже цитированным источникам, не самым достоверным.
Тем не менее только в них, книге Лакруа и записках Струтыньского, можно найти кое-какие детали, дополняющие то немногое, что вычисляется по косвенным соображениям (в связи с Блудовым, Вяземским, Бартеневым).
П. Лакруа: «Пушкин <…> благородно и открыто изложил пред монархом свои политические мысли, объявив, что, будучи ревностным поборником движения вперёд, никогда не был сторонником смут и анархий»[126].
Особенно подробно, с беллетристическим многословием, описывает эту часть беседы Ю. Струтыньский. Согласно его рассказу Пушкин признался, что «никогда не был врагом своего государя, но был врагом абсолютной монархии». Царь в ответ говорит о «республиканских химерах»: «Сила страны — в сосредоточении власти; ибо где все правят — никто не правит; где всякий — законодатель, тем нет ни твёрдого закона, ни единства политических целей, ни внутреннего лада. Каково следствие всего этого? Анархия!»
Пушкин возражает, что, «кроме республиканской формы правления, которой препятствует огромность России и разнородность населения, существует ещё одна политическая форма — конституционная монархия».
Царь уверен, что для России, ввиду её отсталости и огромных размеров, эта форма ещё не годится; другой аргумент самодержца в пользу самодержавия был таким: «Неужели ты думаешь, что, будучи конституционным монархом, я мог бы сокрушить главу революционной гидры, которую вы сами, сыны России, вскормили на гибель ей? Неужели ты думаешь, что обаяние самодержавной власти, вручённой мне богом, мало содействовало удержанию в повиновении остатков гвардии и обузданию уличной черни, всегда готовой к бесчинству, грабежу и насилию?»
Пушкин будто бы соглашается, но указывает на «другую гидру», чудовище страшное и губительное: «самоуправство административных властей, развращённость чиновничества и подкупность судов России. Россия стонет в тисках этой гидры поборов, насилия и грабежа, которая до сих пор издевается даже над высшей властью. На всём пространстве государства нет такого места, куда бы это чудовище недосягнуло!
Нет сословия, которого оно не коснулось бы! Общественная безопасность ничем у нас не обеспечена! Справедливость — в руках самоуправцев! Над честью и спокойствием семейств издеваются негодяи! Никто не уверен ни в своём достатке, ни в свободе, ни в жизни! Судьба каждого висит на волоске, ибо судьбою управляет не закон, а фантазия любого чиновника, любого доносчика, любого шпиона! Что ж удивительного, Ваше Величество, если нашлись люди, решившие свергнуть такое положение вещей. Что ж удивительного, если они, возмущённые зрелищем униженного и страдающего отечества, подняли знамя сопротивления, разожгли огонь мятежа, чтобы уничтожить то, что есть, и построить то, то должно быть: вместо притеснения — свободу, вместо насилия — безопасность, вместо продажности — нравственность, вместо произвола — покровительство закона, стоящего надо всеми и равного для всех! Вы, Ваше Величество, можете осудить развитие этой мысли, незаконность средств к её осуществлению, излишнюю дерзость предпринятого, но не можете не признать в ней порыва благородного!»
Царь находит эту речь поэта слишком смелой и оправдывающей мятеж, но Пушкин повторяет: «Я оправдываю только цель замысла, а не средства». Царь, признав благородные убеждения собеседника, советует быть «рассудительнее, опытнее, основательнее» и затем толкует о возможных преобразованиях: «Для глубокой реформы, которой Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он ни был твёрд и силён. Ему нужно содействие людей и времени <…>
Пусть все благонамеренные и способные люди объединятся вокруг меня. Пусть в меня уверуют. Пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их,— и гидра будет побеждена! Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет, ибо только в общих усилиях — победа, в согласии благородных сердец — спасение! Что же до тебя, Пушкин… ты свободен. Я забываю прошлое — даже уже забыл. Не вижу пред собой государственного преступника — вижу лишь человека с сердцем и талантом, вижу певца народной славы, на котором лежит высокое призвание — воспламенять души вечными добродетелями и ради великих подвигов. Теперь можешь идти! Где бы ты ни поселился (ибо выбор зависит от тебя), помни, что я сказал и как с тобой поступил. Служи родине мыслью, словом и пером <…> Пиши для современников и для потомства. Пиши со всей полнотой вдохновения и с совершенной свободой, ибо цензором твоим буду я!»[127]
Снова и снова повторим, что не верим в буквальную точность воспоминаний польского беллетриста; более того, некоторые фразы из «речей» поэта и царя выглядят неестественно, «литературно». Однако, если перед нами всё же «беллетристические мемуары», ценность их несомненна; они дают первую и, в сущности, единственную версию связного диалога…
Приведём некоторые доводы в пользу серьёзного отношения к этому тексту.
1. Особая нелюбовь к Николаю I в Польше; известное предубеждение против Пушкина за его стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» (1831) — всё это как будто не должно было поощрять польского писателя (да ещё публикующегося вне пределов Российской империи, в Кракове) к выдумке, сочинительству, где и царь и Пушкин изображены с явным авторским сочувствием. Кстати, книга Струтыньского, по этой и другим причинам, не имела никакого успеха, осталась совершенно не замеченной в России и была забыта в Польше, пока в 1937 году её не «возродил из небытия» известный литературовед Мариан Топоровский[128].
2. Струтыньский несомненно тенденциозен; он упрощает, сглаживает реальные отношения поэта и монарха — но при том подробно развёрнутый им диалог не противоречит сведениям, которые можно извлечь из рассказов Корфа, Козловского, Блудова, из текстов Лакруа, Бартенева; из пушкинской записки «О народном воспитании».
Разумеется, можно и должно задаться вопросом (как это сделала в своё время Л. В. Крестова): не компилировал ли польский писатель сведения об аудиенции, полученные им из российской периодики? Однако некоторые мотивы, которые есть у Струтыньского, отсутствуют или едва намечены в уже опубликованных к тому времени текстах.
Таковы, например, излагаемые польским писателем рассуждения Пушкина об абсолютной и конституционной монархии, обличения административной и судебной системы.
Правдоподобны сообщаемые Струтыньским царские возражения насчёт необходимости и в то же время опасности «преждевременных» преобразований. Уместно в связи с этим вспомнить эффектные и демагогические заверения царя (не раз звучавшие в 1825—1826 гг.), что в сущности он желает того же, что и декабристы: «Зачем вам революция: я сам сделаю всё, что вы стремились достигнуть революцией»[129].
Очень любопытна параллель между тем, что Николай (согласно Струтыньскому) говорит Пушкину, и депешей французского посла Лаферронэ о его беседе с царём вскоре после восстания. 9 (21) января 1826 года Лаферронэ сообщал, что Николай считал особенно опасным «умеренное мнение» Трубецкого, так как в случае невыхода мятежников на площадь заговор мог бы не выявиться; царь пугал француза-роялиста тем, что «с первого появления на революционном поприще русские превзошли бы ваших Робеспьеров и Маратов, и, когда этим злодеям сказали, что они несомненно сами пали бы первыми жертвами столь ужасного безумия, они дерзко отвечали, что знают это, но что свобода может быть основана только на трупах, и что они гордились бы, запечатлевая своею кровью то здание, которое хотели воздвигнуть».
Будто предвосхищая объяснения Пушкина с царём, Лаферронэ вслед затем сообщает: «Люди самые благоразумные, те, кто с ужасом и отвращением взирали на совершившиеся события, думают и громко говорят, что преобразования необходимы, что нужен свод законов, что следует видоизменить совершенно и основания и формы отправления правосудия, оградить крестьян от неволи и произвола помещиков; что опасно пребывать в неподвижности и необходимо, хотя бы издали, но идти за веком и медленно готовиться к ещё более решительным переменам»[130].
3. Продолжая разбирать вопрос о достоверности записок Струтыньского, отметим очень правдоподобную и характерную для мышления Николая I реплику — насчёт «обаяния самодержавной власти» как единственного средства удержать массы в повиновении.
4. Струтыньский, вообще идеализирующий Николая, при том откровенно представляет его не слишком умным: ведь в словах царя «порочный круг»: без самодержавия не подавить «революционной гидры», но не будь самодержавия — не нужна ведь антисамодержавная революция!
5. В книге Струтыньского нет уже опубликованного к тому времени (в записках Хомутовой) ответа Пушкина на вопрос, что делал бы он 14 декабря в Петербурге? Компилятор вряд ли прошёл бы мимо столь эффектного эпизода.
6. Фраза царя «я буду твоим цензором» в записках Струтыньского логически завершает определённый, важный разговор, в то время как в других воспоминаниях она всё же «повисает в воздухе»: царь «милостив», но почему же обязательно он должен быть цензором Пушкина? Иное дело, если речь идёт о союзе монархии с «благонамеренными и способными людьми», если царь приглашает поэта делать «общее дело», тогда формула «я буду твоим цензором» как бы скрепляет соглашение; предлагается союз самодержавия и поэзии во имя просвещения; именно царь, уверенный, что дальше других видит задачи широкого, благого просвещения, именно он «лучше других» может понять широкие замыслы поэта…
Важнейшая формула, которую, по крайней мере словесно, разделяют оба собеседника: сначала просвещение, потом свобода, а не наоборот.
Если найден общий язык насчёт просвещения и свободы, то создаётся впечатление, будто царь, опираясь на мощь государственной системы, а также Пушкин и его единомышленники, могут, должны делать одно дело: воспитывать, просвещать народ, подготавливая его (когда-нибудь, рано или поздно) к существенным преобразованиям.
Поскольку же в тюрьмах и ссылке томятся сотни людей, также желавших существенных перемен, но не имевших силы ждать и терпеть, то реформы естественно приблизят амнистию. Не страшно освобождать людей, если их цели уже осуществляются… Иное дело, если реформ не будет: тогда возвращение декабристов «крайне нежелательно»; тогда они — живой укор тирании…
8 сентября без сомнения говорилось (пусть намёком) о реформах и связанных с ними помилованиях — когда «братья меч вам отдадут»[131].
Финал аудиенции
Рассказы Хомутовой, Корфа, Россета, Вигеля и ряд других завершаются царским прощением и формулой «я сам буду твоим цензором»; несколько же современников сверх того описывают «эпилог» беседы: «Выходя из кабинета вместе с Пушкиным, государь сказал, ласково указывая на него своим приближённым: „Теперь он мой!“»[132] Вера Фёдоровна Вяземская запомнила из всего разговора с царём именно заключительные слова: «Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин»[133].
П. В. Нащокин расскажет, что поэт вышел из царского кабинета «со слезами на глазах»; H. М. Смирнов, со слов Пушкина, записал почти то же самое: «Поэт вышел со слезами на глазах, бодрым, весёлым, счастливым»[134].
Ксенофонт Полевой: «Никто не может сказать, что говорил ему <Пушкину> августейший его благодетель, но можно вывести положительное заключение о том из слов самого государя императора, когда, вышедши из кабинета с Пушкиным, после разговора наедине, он сказал окружавшим его особам: „Господа, это Пушкин мой!“»[135]
Как видим, финальная «историческая фраза» поощрялась, распространялась столь же широко, как и — «я буду твоим цензором». Это был тот внешний, поверхностный итог «8 сентября», который отныне считался общепризнанным.
Оптимистические надежды 1826 года, связанные с такой беседой таких людей, зафиксировала между прочим и мемуарная запись Адама Мицкевича — художника, предельно чуждого всяких иллюзий в отношении царя: «Между тем Николай, преемник Александра, как будто готов был смягчить и изменить режим, по крайней мере по отношению к Пушкину. Он вызвал его к себе и дал ему специальную аудиенцию, имел с ним продолжительную беседу. Это было неслыханное событие! Ибо никогда ещё не видано было, чтобы царь разговаривал с человеком, которого во Франции назвали бы пролетарием и который в России имел гораздо меньшее значение, чем пролетарий у нас, ибо Пушкин, хотя и был дворянского происхождения, не имел никакого чина в административной иерархии, а человек без ранга не имеет в России никакого общественного значения, его называют „homme honoraire“ — существом сверхштатным»[136].
Завершим нашу сводку сохранившимся в архиве дежурного генерала Главного штаба текстом перехваченного, прочитанного властями письма П. А. Катенину, «поданного на почте в Москве 16 сентября 1826 года». Неизвестный автор (по всей видимости, Н. И. Бахтин) сообщает новости о коронации, и строки о Пушкине в этом отрывке столь же примечательны, как и контекст, в котором они появляются:
«Вчера, почтеннейший Павел Александрович, узнал я, что Александр Пушкин в Москве, и, признаюсь, немало порадовался. Видно, и здоровье и обстоятельства его поправились; здесь уже говорят, что его приглашают на службу и он нейдёт и его просят и он неумолим и проч.
Ежели я сказал это для Вас и не новое, так хорошее, а теперь расскажу и о другом, например: „вчера угощал царь гвардию театром, ложи 1-го яруса и 4-го ряда кресел занимали офицеры, а проч. солдаты, это что-то новое. Давали „Чванство Транжирина“ и „Казака-стихотворца““. Третьего же дня князь А. А. Шаховской трактовал публику Аристофаном, и я слышал стороной, что гг. греки худо гостей отпотчевали, а вас, кажется, совсем переселили на Дон,— воображаю! Северная пчела пояснила мне недоокончание Ваше, а то… Вижу, что тут и глупости и всего в меру. Что за мёд собирает Ваша Северная пчела! Уж такой сладкий, что нам, простым людям, и приторно»[137].
По всей видимости, этот текст (вкупе с другими подозрениями властей насчёт декабристских связей Катенина и его друзей) привёл к составлению справки III Отделения 27 октября 1826 года, пересланной «для сведения» начальнику Главного штаба[138].
Ироничный тон анонимного корреспондента Катенина в отношении чрезмерно слащавых, угодливых «коронационных восторгов» отчасти задевает и Пушкина, как будто слишком уж «обласканного»… Слышатся нотки известной иронии, предвосхищающие более позднюю «критику слева»: Пушкин начнёт подвергаться ей после «Стансов» («В надежде славы и добра…»). Подобные мотивы пока ещё редки.
Аудиенция окончена. Но при том и не окончена.
После её финала, внешне мажорного, оптимистического, обратимся к засекреченному «постскриптуму».
Глава II. Печальные истины
Последние происшествия обнаружили много печальных истин.
Известная пушкинская записка «О народном воспитании» — во многих отношениях эхо первой беседы поэта с царём.
30 сентября 1826 года, через двадцать два дня после кремлёвской аудиенции, царское семейство и двор покидают Москву. В этот момент А. X. Бенкендорф пишет послание Пушкину, открывающее длинный ряд его наставлений, выговоров, нравоучений, соизволений. Уже начальные строки письма содержат мягкий по форме упрёк: «Я ожидал прихода вашего, чтобы объявить высочайшую волю по просьбе вашей, но, отправляясь теперь в С. Петербург и не надеясь видеть здесь, честь имею уведомить, что государь император не только не запрещает приезда вам в столицу, но представляет совершенно на вашу волю с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешения чрез письмо» (XIII, 298).
Иначе говоря, Пушкину следовало бы через несколько дней после царского приёма самому прийти, представиться, установить отношения с тем человеком, которого Николай I, видимо, назвал поэту во время беседы (Бенкендорф на ней не присутствовал, но значение его летом и осенью 1826 г. непрерывно повышается).
Снова та же постоянная двойственность, которая видна и до, и во время, и после разговора 8 сентября. Пушкин может приехать в Петербург, когда захочет, но не может приехать без спросу («свободно, но с фельдъегерем»).
Бенкендорф и царь «переговорили» о Пушкине и его занятиях; это ясно видно из продолжения письма: «…Его императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения; и предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания» (XIII, 298).
Высокие слова и тут же — угроза с некоторой примесью иронии: Пушкину напоминают его собственный «пагубный» опыт и предлагают, в сущности, на своём примере и нескольких подобных,— представить этот опыт и, понятно, покаяться.
Поэт получает сложное испытательное задание по самому острому предмету, который был в центре его беседы с царём. В устной форме многое ускользнуло, осталось неясным, слишком эмоционально окрашенным; теперь Пушкина просят высказаться письменно и закрепить на бумаге то, в чём мнения собеседников как будто совпадали.
Письмо Бенкендорфа от 30 сентября 1826 года оканчивалось формально милостивым напоминанием (уже процитированным выше), что царь будет цензором Пушкина:
«Объявляя вам сию монаршую волю, честь имею присовокупить, что как сочинения ваши, так и письма можете для представления его величеству доставлять ко мне; но впрочем от вас зависит и прямо адресовать на высочайшее имя» (XIII, 298).
Пушкин не заметил, точнее, не захотел заметить, что и в этих строках любезность сочетается с недоверием. Поэт, судя по октябрьским и ноябрьским письмам 1826 года, весел, оживлён, полон планов, вдохновлён успехом своего «Бориса Годунова», прочитанного в нескольких московских кружках; в начале ноября он отправляется в Михайловское, чтобы забрать вещи, в первую очередь рукописи (о чём и думать не мог двумя месяцами раньше). И с той же вольной беззаботностью, с какой не догадался нанести визит Бенкендорфу в сентябре, не догадывается ответить, «как положено», в октябре.
22 ноября 1826 года Бенкендорф написал ещё раз — из Петербурга: он ядовито напомнил, что не имеет извещения о получении Пушкиным его первого «отзыва», но «должен, однако же, заключить, что оный к вам дошёл, ибо вы сообщали о содержании оного некоторым особам» (XIII, 307).
Пушкину напоминают, что за ним плотно следят.
30 сентября поэту объяснили, что он «может» представлять свои сочинения Бенкендорфу или непосредственно царю; теперь же вместо расплывчатого глагола «мочь», подразумевающего, что поэт свободен в своих действиях, являются новые, более жёсткие интонации долженствования, обязанности: «Ныне доходят до меня сведения, что вы изволили читать в некоторых обществах сочинённую вами вновь трагедию.
Сие меня побуждает вас покорнейше просить об уведомлении меня, справедливо ли таковое известие или нет» (XIII, 307).
Записка «О народном воспитании» составлялась Пушкиным как раз между двумя посланиями шефа жандармов; между первым, в котором поэт нашёл больше милости, чем там было, и вторым, где (по словам самого провинившегося) «уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову» (XIII, 312); в этот период слежка властей за прощённым весьма интенсивна[139].
Замечание, выговор «свыше», собственно говоря, относились не только к Пушкину, но и к его аудитории, являлись предостережением против свободного чтения ещё не разрешённых сочинений, против того энтузиазма, с которым Москва встречала Пушкина осенью 1826 года. Многие современники запомнили, что «приём от Москвы Пушкина — одна из замечательнейших страниц его биографии»; что «когда Пушкин был в театре, публика глядела не на сцену, а на своего любимца-поэта»; что «прощение Пушкина и возвращение его из ссылки составляли самую крупную новость эпохи»[140].
15 ноября 1826 года — эту дату Пушкин поставил в конце беловой рукописи своей записки, переписанной в Михайловском всего за несколько дней. В тот момент он не знал, не предполагал «головомойки» 22 ноября. Впрочем, именно в эти дни поэт особенно живо, остро проходит мыслью, чувством события последних месяцев; рисует виселицу, пишет: «и я бы мог…»[141]
Он также не знал и, вероятно, никогда не узнал о тайной переписке на его счёт, начавшейся как раз 15 ноября.
В архиве III Отделения отложилось дело, упоминавшееся в ряде исследований, но никогда не изучавшееся целиком: «О Михайле Погодине, получившем дозволение издавать журнал под названием „Московский вестник“»[142].
Дело открывается копией с перехваченного тайной полицией письма историка, публициста М. П. Погодина, отправленного из Москвы 15 ноября 1826 года «к Александру Сергеевичу Пушкину в Опочки».
Это письмо, точнее его фрагмент, посвящённый началу издания «Московского вестника», печатается в собраниях сочинений Пушкина по жандармской копии: «Позволение издавать журнал получено. Подписка открыта. Отрывок из „Годунова“ отправлен в с.-петербургскую цензуру; но его, может быть, не пропустят (два года тому назад запрещено было помещать отрывки из пиес в журналах), а первый № непременно должен осветить вами: пришлите что-нибудь поскорее на такой случай. Ещё — журналист ожидает обещанной инструкции» (XIII, 306).
Письмо вызвало преувеличенный испуг власти, усмотревшей здесь некую конспирацию: вероятно, «завораживали» термины — «не пропустят», «запрещено», «ожидает инструкции», имевшие у Погодина чисто деловой характер. Повторялась история полугодовой давности, когда в марте — апреле 1826 года было так же перехвачено и фантастически истолковано письмо Пушкина Плетнёву;[143] во всяком случае, начиная от слов «не пропустят», весь скопированный текст подчёркнут начальственным карандашом; очевидно, это сам Бенкендорф, потому что копия сопровождается трудно читаемой карандашной пометой: «Для Г<осударя?>. Ген-ад. Бенкендорф»[144].
Перлюстрация сопровождается интересным, не публиковавшимся раньше текстом анонимного консультанта, явно относящимся к тому же времени и тем же обстоятельствам.
Реакция высшего начальства, как увидим, свидетельствует о полном согласии, единомыслии с «консультантом»; показывает, как смотрело правительство на Пушкина в период, когда он был полон иллюзий и размышлял о «народном воспитании».
Записка «консультанта» озаглавлена: «Об издателе журнала „Московский вестник“ Михаиле Погодине». Далее следует текст:
«В мнении моём о цензуре вообще я полагал, что издатель журнала должен быть непременно человек опытный, надёжный, известный или самому государю, или его доверенным особам, потому что при самом строгом надзоре, при самой строгой цензуре он найдёт средство действовать на общее мнение, представляя происшествия и случаи, без своих даже рассуждений, в таком виде, что ясною будет та сторона, какую он захочет представить таковою, или, умалчивая о делах и происшествиях, могущих возбудить приятные впечатления, убедить в пользе настоящего порядка вещей. Молчать никто не запретит, а при случае и это важно. Кроме того рой юношества всегда вьётся вокруг журналистов, которые по нужде вступают со многими в связи и дружеские сношения. История Булгарина и Греча может послужить примером. Заговорщики всасывались, так сказать, в них, чтобы перелить в них свой образ мыслей, делая им различные угождения и, видя совершенную невозможность поколебать их правила, даже угрожали и старались вредить в общем мнении, провозглашая шпионом и бог знает чем. Некоторые из заговорщиков, молодые люди, свыклись вместе, продолжали дружескую связь, но масса их всегда оказывалась неприязненною.
Молодой журналист с либеральным душком, как Погодин, хотя бы и не имел вредных намерений, легко увлечётся наущением и влиянием чужого мнения, из протекции, из знаменитого сотрудничества и т. п.
Два человека в Москве, князь Пётр Андреевич Вяземский и Александр Пушкин покровительством своим могут причинить вред. Первый, которого не любили заговорщики за бесхарактерность, без всякого сомнения более во сто крат влиял противу правительства, образа правления и покойного государя, нежели самые отчаянные заговорщики. Он frondeur par esprit et caractère[145] — из ложного либерализма отказался даже от камер-юнкерства и всякой службы, проводит время в пьянстве и забавах в кругу юношества и утешается сатирами и эпиграммами[146]. В комедии „Горе от ума“ — зеркале Москвы, он описан под именем князя Григория. Пушкин известен — это несчастное существо с огромным талантом служит живым примером, что ум без души есть меч в руках бешеного[147]. Неблагодарность и гордость — две отличительные черты его характера. Вот меценаты молодого Погодина.
Он имеет довольно ума и начитанности, сколько можно иметь в 22 и 23 годах. С виду чрезвычайно скрытен и молчалив и, как говорят, расстёгивается только в коротком кругу. Начальство его не может аттестовать дурно, да и честному человеку нельзя сказать о нём ничего дурного, потому что здесь говорится только к званию журналиста. Весьма замечательно, что хотя ни Греч, ни Булгарин ни одного раза не критиковали и не бранили Пушкина, напротив того, всегда даром посылают ему свои журналы, он никогда не помещал у них своих стихов, как в журналах, составляющих некоторым образом оппозицию с мнением господствовавшей некогда партии, к которой Пушкин принадлежал, не по участию в заговоре, но по одинаковому образу мыслей и дружбы с главными матадорами.
Журналист, по моему мнению, должен быть воспитателем молодых писателей и советником созревших. Юноша сделается камратом[148] и пойдёт за общим стремлением. Течение увлечёт его — надобно иметь вес, чтобы не быть снесену.
Запретить Погодину издавать журнал без сомнения невозможно уже теперь. Но он хотел ехать за границу на казённый счёт, хотел вступить в службу — вот как можно зажать его. Это птенец, только что выпорхнувший из университета с большими надеждами; весьма было бы жаль, если он поставил себя на виду, дал себя увлечь этими вампирами, которые высасывают всё доброе из молодых людей и впускают свой яд»[149].
Здесь любопытнейший документ резко обрывается, оставляя нам определённые возможности угадывать характер автора и его политическую роль.
Записка не имеет ни даты, ни подписи; почерк её, по-видимому, писарский[150].
Если личность переписчика ещё требует разысканий, уточнений, то автора «Записки о Погодине» определить нетрудно. Во-первых, он несомненно находился в Петербурге, ибо выполнил задание тайной полиции очень быстро[151].
Во-вторых, это человек, без сомнения причастный к печати, хорошо разбирающийся и на берегах Невы в тонкостях московской литературной жизни, это журналист-профессионал, свободно судящий об издателях журналов и возможных их «уловках».
В-третьих, автор, можно сказать, откровенно обрисовывает свою общественную позицию: активный, недоброжелательный осведомитель, старающийся очернить Вяземского, Пушкина, советующий, как лучше «зажать» Погодина. Консультантом, очевидно, владеет чувство зависти, недоброжелательства к возможному конкуренту, издателю московского журнала, старающемуся привлечь к соучастию видных писателей. Попутно заметим, что, обличая Пушкина и Вяземского, потаённый автор не упускает случая похвалить не разрешённую к печати комедию «Горе от ума» («зеркало Москвы») и как бы призывает власти руководствоваться этим сочинением против Вяземского, будто бы описанного там под именем «князя Григория». Грибоедов, несомненно, симпатичнее анониму, чем Пушкин, Вяземский…
Наконец, автора выдают особая развязная бойкость пера и неоднократные комплиментарные упоминания Булгарина и Греча в третьем лице. Указание «консультанта» на его записку «О цензуре вообще» явно подразумевает булгаринскую записку «О цензуре в России и книгопечатании вообще» (май 1826 г.)[152]. В этой записке действительно говорилось о том, что «гиерархия литераторов увлекается мнением тех, которые управляют ею силою своего дарования. С этим классом гораздо легче сладить в России, нежели многие думают»[153].
Таким образом, можно смело утверждать, что именно Фаддей Булгарин выступил в «Записке о Погодине» в роли консультанта-осведомителя.
Как раз в конце 1826 года отношения Вяземского с Булгариным сильно ухудшаются, назревает и конфликт с Погодиным. Из Петербурга ревниво следят за изданием конкурирующего «Московского вестника».
7 января 1827 года Д. В. Веневитинов в письме М. П. Погодину иронизировал насчёт Булгарина и Греча: «Молодцы петербургские журналисты, все пронюхали до малейшей подробности: твой договор с Пушкиным и имена всех сотрудников. Но пускай, они вредить тебе не могут. Главное, отнять у Булгариных их влияние»[154].
Поэт, однако, недооценивал булгаринские «возможности»; не догадывался, например, что о договоре с Пушкиным и сотрудниках «Московского вестника» Булгарин знал, между прочим, из перлюстрации, любезно предоставленной ему III Отделением. Ещё в конце ноября 1826 года Булгарин послал довольно ядовитое, полное упрёков письмо Погодину, заканчивавшееся, впрочем, словами: «Да будет проклята зависть и её поклонники»;[155] 29 января 1827 года Булгарин снова заверял конкурентов: «Я человек кабинетный, не мешаюсь ни в какие интриги и не буду никогда игралищем чужих страстей. Вредить вам не имею ни склонности, ни охоты, ни даже пользы. В России для всех добрых людей просторно»[156].
И это писалось в разгар доносительской интриги против Погодина, Пушкина, Вяземского и их друзей!
Некоторые места разных булгаринских записок, известных по публикации Б. Л. Модзалевского, находят явную параллель в ноябрьской «экспертизе» — совпадают даже любимые словечки автора (frondeur и др.); в записках о Царскосельском лицее и Арзамасе Булгарин особенно сильно нападает на «высокомерных насмешников», постоянно скорбит о молодёжи, не имеющей должного направления. Между прочим — заведомо преувеличивает антиправительственную роль «нелюбимых» лиц и заведений. Так, Царскосельский лицей, по Булгарину, едва ли не главный рассадник зла: «И как с одной стороны правительство не заботилось, а с другой стороны частные люди заботились о делании либералов, то дух времени превозмог — и либерализм укоренился в Лицее, в самом мерзком виде. Вот как возник и распространился Лицейский дух, который грешно назвать либерализмом! Во всех учебных заведениях подражали Лицею, и молодые люди, воспитанные дома, за честь поставляли дружиться с Лицейскими и подражать им»[157].
Новообретённый булгаринский текст против Пушкина легко связывается с другими документами политического сыска: ещё одно подтверждение давнего вывода Б. Л. Модзалевского — «Булгарин, ретиво помогавший III Отделению в начале его деятельности, по-видимому, как доброволец-осведомитель»[158].
Как видим, Булгарин ухитрился представить Вяземского и даже Погодина «хуже отчаянных заговорщиков»… Очевидно, на этот донос опирался Николай I, когда сказал Блудову о Вяземском и 14 декабря: «Отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других»[159].
Прочитав весьма интересную для него записку о Погодине, Бенкендорф 26 ноября 1826 года отправил секретное письмо уже упоминавшемуся жандармскому полковнику И. П. Бибикову в Москву: «Известный Михаил Погодин, талантливый молодой человек, только что окончивший курс в Московском университете, получил разрешение основать новый журнал под названием „Московский вестник“.
Некоторые признаки, совпадающие в разных источниках, возбудили подозрение относительно политических убеждений юного публициста. Я прошу не терять из виду интимные связи этой особы, так же как его соратников, среди которых корифеи князь Вяземский и Пушкин (Александр). Вы меня бесконечно обяжете, если найдёте средство получить и представить нам в копиях поэтические отрывки, которые сей последний собирается передать Погодину для публикации в его журнале»[160].
4 декабря 1826 года Бибиков сообщал о получении приказа и его выполнении; у московского жандарма были, однако, более точные представления о Погодине как о человеке «скромном, умеренном и имеющем здесь хорошую репутацию». Во всяком случае, Бибиков рекомендовал начальству сдержанность в разысканиях и сообщал, что ещё «не смог получить стихи, которые Пушкин послал Погодину для публикации в его журнале — он <Пушкин> ещё не вернулся в Москву»[161].
Продолжением этой переписки, без сомнения, явился отчёт И. П. Бибикова, отправленный Бенкендорфу три дня спустя (7 декабря 1826 г.) и обнаруженный в своё время Б. Л. Модзалевским: «Ваше Превосходительство найдёте при сём журнал Михаила Погодина за 1826 год, в коем нет никаких либеральных тенденций: он чисто литературный. Тем не менее я самым бдительным образом слежу за редактором и достиг того, что вызнал всех его сотрудников, за коими велю следить; вот они:
1. Пушкин
2. Востоков
3. Калайдович
4. Раич
5. Строев
6. Шевырёв
Стихотворения Пушкина, которые он ему передавал для напечатания в его журнале,— это отрывки из его трагедии „Борис Годунов“, которые он не может сообщить никому другому, потому что, по условиям редакции, он не может предавать их гласности ранее напечатания. Из хорошего источника я знаю, однако, что эта трагедия не заключает в себе ничего противоправительственного. 7 декабря 1826»[162].
Легко заметить, что Бибиков успокаивает петербургское начальство относительно перехваченного погодинского письма Пушкину от 15 ноября (о драме «Борис Годунов» и других редакционных делах «Московского вестника») .
Мы представили наиболее интересующую нас часть секретного дела; заметим ещё, что оно продолжалось и в течение 1827, и в 1828 году: 30 декабря 1827 года высшее начальство было обеспокоено прибытием Погодина в Петербург. Осведомитель (по всей видимости, тот же, кто составлял записку в 1826 г.) перечислял сотрудников Погодина: «Соболевский, Титов, Мальцев, Полторацкий, Шевырёв и ещё несколько истинно бешеных либералов. Некоторые из них (Мальцев и Соболевский) дали денег на поддержание журнала и платят Пушкину за стихи.
Главная их цель состоит в том, чтобы ввести политику в этот журнал. На 1828 год они намеревались издавать политическую газету[163], но как ни один из них не мог представить своих сочинений, как повелено цензурным уставом, то они выписали сюда Погодина, чтобы он снова от своего имени просил позволения ввести политику.
Погодин человек чрезвычайно искательный <…>»
Далее следовал злобный донос на Погодина и его друзей: «Образ мыслей их, речи и суждения отзываются самым явным карбонаризмом. Соболевский и Титов (служащий в Иностранной коллегии) суть самые худшие из них. Собираются они у князя Владимира Одоевского, который слывёт между ими философом, и у Мальцева».
Цитируемые тексты параллельны другим, известным, булгаринским материалам об этих людях, а также — доносам на «Московский телеграф» (август 1827 г.)[164].
После второго доноса Погодиным заинтересовался сам царь.
Прошло ещё несколько месяцев, и управляющий III Отделением М. Я. фон Фок своею рукою переписал, а затем отправил (30 мая 1828 г.) Бенкендорфу и царю новую, по выражению Б. Л. Модзалевского, «очень интересную, типично инквизиторскую записку» под заглавием «Секретная газета»[165]. Сопоставляя её текст с запиской «консультанта» (ноябрь 1826 г.), невозможно усомниться, что автор один и тот же; совпадают полемические приёмы, целые обороты речи, наконец, обвиняемые лица. Достаточно привести хотя бы следующую выдержку из записки 1828 года насчёт предполагаемых издателей московской политической газеты «Утренний листок»: «Все эти издатели по многим отношениям весьма подозрительны, ибо явно проповедуют либерализм. Ныне известно, что партию составляют князь Вяземский, Пушкин, Титов, Шевырёв, князь Одоевский, два Киреевские и ещё несколько отчаянных юношей. Поныне такое между ними условие: поручить издателю „Московского вестника“ Погодину испрашивать позволение. Погодин, переводя с величайшими похвалами и лестью сочинения академиков Круга etc., ректора Эверса и других, успел снискать благоволение учёных, льстя их самолюбию. За свои детские труды он сделан корреспондентом Академии и весьма покровительствуем Кругом, Аделунгом и другими немецкими учёными.— Сей Погодин чрезвычайно хитрый и двуличный человек, который под маскою скромности и низкопоклонничества вмещает в себя самые превратные правила. Он предан душою правилам якобинства, которые составляют исповедание веры толпы московских и некоторых петербургских юношей, и служит им орудием. Сия партия надеется теперь чрез немецких учёных Круга и Аделунга снискать позволение князя Ливена, чрез князя Вяземского и Пушкина, действовать на Блудова посредством Жуковского, а чрез своего партизана Титова, племянника статс-секретаря Дашкова, снискать доступ к государю чрез графа Нессельроде или самого Дашкова»[166].
Донос получил резкую отповедь Д. В. Дашкова, который прямо намекнул на его авторов: «Сочинители записки видят в московских литераторах общество заговорщиков; но истинное побуждение их так явно, что даже открывает мне имена их. Скажу безошибочно, что они суть петербургские журналисты, имевшие много литературных сшибок с „Московским вестником“ и „Телеграфом“ и желающие приобрести разными путями прибыльную монополию политической газеты. Вы — ювелир, господин Жосс!»[167]
Французская фраза (из Мольера) «вы — ювелир…» определяла человека, действовавшего из корысти в свою пользу: старому арзамасцу, теперь государственному человеку, Д. В. Дашкову было ясно, кто «ювелир»…
Казалось бы, «петербургский журналист» получил отпор; однако власти были явно не склонны пренебречь доносом. Результатом дела о мифическом «Утреннем листке» были серьёзные неприятности у Вяземского, которому Николай I приказал сообщить (3 июля 1828 г., через графа П. А. Толстого), что «Его императорскому величеству известно бывшее его поведение <…> и развратная жизнь его, недостойная образованного человека»; царь велел внушить другу Пушкина, что «правительство оставляет собственное поведение его дотоле, доколе предосудительность оного не послужит к соблазну других молодых людей и не вовлечёт их в пороки. В сём же последнем случае приняты будут необходимые меры строгости к укрощению его безнравственной жизни»[168].
Вяземский отвечал тогда властям сильно и достойно, намекая на действия «тайной враждебной силы»;[169] за него вступились Жуковский, московский генерал-губернатор Голицын. При этом защитники недоумевали, что имеет в виду Николай I, обвиняя Вяземского в «развратной, безнравственной жизни». Пушкин, например, вообразил, будто всё дело в шумной вечеринке, которую в Петербурге «давал Филимонов и на которой были Пушкин, Жуковский и другие»[170]. Вяземскому и Пушкину было невдомёк, что царь и Бенкендорф пользовались готовыми формулами о «развратной жизни» Вяземского и его дурном влиянии на молодых людей, формулами из того самого анонимного доноса (ноябрь 1826 г.), о котором шла речь выше. Впрочем, не зная текста давнего доноса Булгарина, Вяземский и Пушкин в 1828 году уже отлично догадывались (и сами, и с помощью осведомлённого Дашкова), откуда «ветер дует»: много лет спустя, комментируя всю эту историю в полном собрании своих сочинений, Вяземский писал: «По всем догадкам это булгаринская штука. Узнав, что в Москве предполагают издавать газету, которая может отнять несколько подписчиков у Северной пчелы, и думая, что я буду в ней участвовать, он нанёс мне удар из-за угла». Вяземский вспомнил, что, по мнению Пушкина, «действовал один Булгарин, а Греч разве что потакал»[171].
Любопытно, что и после того, как выяснилась неосновательность доноса на Вяземского и «Утренний листок», III Отделение составило новую записку (в ответ на запрос о Погодине министра народного просвещения); в текст были включены большие выдержки из ранней булгаринской записки-доноса 1826 года, а также доноса от 30 декабря 1827 года[172].
Одна из резолюций царя на каком-то документе гласила: «Доносить легко, доказать мудрено»[173]. Тем не менее доносы принимались охотно, изучались внимательно…
Как видим, обширный свод документов о тайной слежке за Пушкиным, представленный в своё время Б. Л. Модзалевским, пополняется теперь несколькими новыми, в том числе одним из самых ранних и выразительных (булгаринская «экспертиза» в ноябре 1826 г.).
Пушкин, Вяземский, Погодин, всё более настороженно относясь к Булгарину и Гречу, до поры до времени не догадывались об их прямом осведомительстве и не прерывали с ними «дипломатических отношений»[174].
Если известные записки о лицейском духе, Арзамасе, книгопечатании и цензуре ещё не представляли из себя прямого «шпионского действия» и скорее только подчёркивали испуганную лояльность Булгарина и Греча, то записка-донос на Погодина, Пушкина и Вяземского в ноябре 1826 года — документ, не требующий объяснений насчёт его характера. «Экспертиза» в связи с перехваченным письмом Погодина к Пушкину — одно из первых серьёзных полицейских заданий Булгарину;[175] сразу же после удачного дебюта «энтузиаст» был отмечен: 22 ноября 1826 года последовал указ Сенату: «Обращая внимание на похвальные литературные труды бывшего французской службы капитана Фаддея Булгарина, всемилостивейше повелеваем переименовать его в VIII класс и причислить на службу по Министерству народного просвещения»[176].
Доносы на Пушкина и его друзей, как видим, накапливались с осени 1826 года, когда поэт был возвращён из ссылки, когда готовил записку «О народном воспитании». Николай I не отменял той двойственности в отношении Пушкина, о которой мы не устаём говорить. Прощение следовало за неприязнью, слежкой, недоверием.
Если сентябрьская беседа рождала впечатление согласия, «прилива» в отношениях поэта с властями, то в октябре — ноябре 1826-го всё это уравновешивалось новым отливом, «головомойкой»…
Повторяем, что Пушкин писал записку «О народном воспитании», основываясь на собственных представлениях о «8 сентября»,— документ же будут читать Бенкендорф и царь, настроенные в жёстком духе «октября — ноября».
Записка
Напомним, что официальное задание составить её Пушкин получил 30 сентября; черновики разрабатывались в Москве, вероятно, к концу октября были завершены и к 15 ноября переписаны в Михайловском. Поэт собирался до 1 декабря вернуться в Москву «и уже, вероятно, оттуда послать записку Бенкендорфу, показав её предварительно ближайшим друзьям, начиная с Вяземского»[177]. Несчастный случай, ушиб при падении из ямской повозки при выезде из Пскова, заставил Пушкина провести почти весь декабрь в местной гостинице. «За это время он отдал свою рукопись в переписку и прямо из Пскова, внеся в копию несколько поправок и дополнений, но никому из друзей не показав, отправил её в Петербург, Бенкендорфу»[178]. Н. В. Измайлов полагал, что шеф жандармов не торопил поэта, однако с этим нельзя согласиться: Пушкину переслали рассерженное письмо Бенкендорфа от 22 ноября, и «обвиняемый» встревожился. 29 ноября из Пскова он отправляет два письма — свежие, непосредственные отклики на только что полученный выговор. Во-первых, Погодину с просьбой: «Ради бога, как можно скорее, остановите в московской цензуре всё, что носит моё имя — такова воля высшего начальства»; на конверте поэт приписал: «Для доставления как можно скорее господину Погодину» (XIII, 307).
Затем — «покаянное» письмо Бенкендорфу, где Пушкин объяснял своё молчание тем, что он «чужд ходу деловых бумаг», а попытку опубликовать несколько «мелких сочинений» просил считать неумышленной, ибо — «мне было совестно беспокоить ничтожными литературными занятиями моими человека государственного среди огромных его забот» (XIII, 308). В ответ на слухи, что он без спроса читает свою трагедию, Пушкин посылал прямо из Пскова ту единственную рукопись «Бориса Годунова», которой располагал.
Ни в письме-нагоняе Бенкендорфа от 22 ноября, ни в пушкинском ответе не упоминается записка «О народном воспитании»; однако, опасаясь новых упрёков, Пушкин решил не дожидаться возвращения в Москву и отдал переписать свой автограф кому-то из лучших псковских писарей. К середине декабря записка была уже у Бенкендорфа, тот представил её царю, а Николай I написал по-французски: «Посмотрю, что это такое»[179].
Повторим, что поэт работал над запиской до первого грозного выговора, отдал же её перебелить и послал по адресу после «головомойки». Вылечиваясь от ушибов в Пскове, он, несомненно, многое обдумал, яснее понял характер отношений с властью: в письме шефу жандармов от 25 ноября ссылался на то, что «худо понял высочайшую волю государя» (XIII, 308). Эта формула много шире, нежели её употребление в официальном тексте. Поэт теперь действительно много яснее понимает, чего от него хотят. Чуть позже скажет А. Н. Вульфу по поводу записки «О народном воспитании»: «Я был в затруднении, когда Николай спросил моё мнение о сём предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро»[180].
Пушкин в результате не только сохранил первоначальный текст записки, сочинённый до выговора, но в некоторых местах усилил его «в опасную сторону»[181].
Конечно, не следует преувеличивать оппозицию поэта в этот период: встреча с царём была совсем недавно — наиболее лояльные стихи («Стансы», «Друзьям») впереди. Но при том окрик свыше безусловно возмутил и пушкинское чувство собственного достоинства. Уже в то время он постоянно придерживается принципа, который несколько лет спустя вспомнит, опять же после очередного конфликта с властями, — принципа Ломоносова: не быть холопом у царя земного, «нижé у господа бога».
Именно следование этому принципу, может быть, и привело к сложности текста, некоторые места которого и сейчас непросто истолковать. Ведь поручение имело явный характер политического экзамена, причём поэту было указано и направление работы. От него ждали, чтоб он осудил существующую систему воспитания как одну из причин декабристского движения. Пушкин в общем довольно ясно понимал, чего от него хотят; отсюда, как справедливо утверждал Д. Д. Благой, язык записки, подчас её «официальная фразеология», «заимствованная из царского манифеста о событиях 14 декабря»[182].
Однако Николай интуитивно почувствовал подвох, и поэт в упомянутой беседе с Вульфом описал результат своей записки точно тем же оборотом, каким поведал друзьям о первом выговоре Бенкендорфа: «Мне вымыли голову»[183].
«Записка» не публиковалась ни при жизни поэта, ни долгие годы спустя; впервые её текст был напечатан в 1872 году по черновой рукописи, и лишь в 1884 году академик М. И. Сухомлинов опубликовал не только текст Пушкина, но и пометы императора. Хотя состоят они только из вопросительных знаков (и одного восклицательного), однако дают представление о царском отношении к пушкинским мыслям: тех словах, которые Николай I мог бы написать в ответ почти на каждый тезис записки[184].
Таким образом, получается как бы диалог, новая беседа поэта с царём через два с небольшим месяца после первой. Ряд суждений, формулировок Пушкина, очевидно, отражают его версию насчёт 8 сентября 1826 года; пометы Николая — царская интерпретация той же аудиенции.
Мы понимаем разницу между живым разговором и письменным докладом; конечно — учитываем события, случившиеся за те несколько недель, что разделяют два разговора. И всё же — имеем право на осторожное сопоставление кремлёвской встречи и михайловской записки.
Диалог[185]
Пушкина просили представить своё мнение «о воспитании юношества»; почему — именно юношества? Вероятно, потому, что его запретные стихи имели максимальное хождение в кругу декабристской молодёжи; потому, что царя беспокоил так называемый «лицейский дух», о чём толковала соответствующая записка Булгарина;[186] наконец, Пушкин, как видно, обсуждал с царём 8 сентября именно вопрос об идеалах молодого поколения. Поэт, однако, понимал неразрывность общих проблем воспитания, просвещения — того, что касалось не только юных, но всех жителей России. Поэтому сам от себя он расширяет предложенную тему и озаглавливает записку — О народном воспитании.
Последние происшествия обнаружили много печальных истин. Недостаток просвещения и нравственности вовлёк многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий.
Николай I не стал возражать вопросительным знаком против этих строк, как чуть ниже — почти против каждой мысли; впрочем, не видно и восклицательного знака или других следов особого царского одобрения.
Пушкин тщательно отделывал это место записки, как видно по черновику, где появляются и зачёркиваются важные слова: «политические изменения <…> у нас ещё не требуемые ни духом народа, ни общим мнением, ещё не существующим, ни самой силой вещей».
Кое-что, безусловно, усиливалось для «высочайшего заказчика»; употребляются «официальные термины» (преступный, злонамеренный); но дело всё же не в этом. Пушкин пишет действительно то, что думает. Слова о «преступных заблуждениях», возможно, являются парафразом карамзинского — «заблуждения этих молодых людей есть заблуждения века».
Пушкин с карамзинской формулой был согласен; так же как с тем, что движение, восстание ещё не имело той почвы, той органической естественности, подготовленности, как было, например, во Франции конца XVIII столетия. Пушкин так думал примерно с 1823 года и этот свой новый взгляд на историю зафиксировал и в черновых «Замечаниях на Анналы Тацита» (1826—1828 гг.), и в известных словах из письма к Дельвигу — о необходимости смотреть на события «взглядом Шекспира», то есть — исторически.
Без всякого сомнения, подобные мотивы прошли через весь разговор поэта с царём 8 сентября 1826 года; об этом подробно говорилось в предшествующей главе. Задолго до восстания Пушкиным была освоена, осмыслена историчная по своей сущности идея: о том, что — нравится это или не нравится — а надо признать историческую обусловленность, серьёзную основу для существования самодержавия в стране, иначе оно не продержалось бы столько веков. Признание «силы вещей» (что уже видно по черновым заметкам в начале записки и что потом будет повторено и подтверждено) позволило Пушкину свободно развивать собственные мысли перед императором, отнюдь не отрекаясь от друзей и товарищей. Ведь ещё задолго до царского допроса он считал крайние, революционные действия беспочвенными.
Заметим кстати, что Пушкин прилагает эпитет «злонамеренные» к усилиям, средствам, практическим действиям декабристов; замыслы же их никак не принижены; планы, мечты революционеров — это «дум высокое стремленье»[187].
В словах о «печальных истинах» легко уловить мемуарные признания самого Пушкина: царь упрекнул его в декабристских настроениях, декабристских стихах,— поэт должен был признать перемену некоторых своих воззрений, достигнутую тяжкой, печальной ценой скитаний, гонений, сомнений, размышлений.
Здесь и после, почти везде в этой записке, поэт говорит о себе…
Повторим мысль, высказанную нами раньше в книге «Пушкин и декабристы». «Принято говорить об „ограниченности“ Пушкина по отношению к декабристам. Да, по решимости, уверенности идти в открытый бунт, жертвуя собой, декабристы были впереди своих соотечественников. Первые революционеры поставили великую задачу, принесли себя в жертву и навсегда остались в истории русского освободительного движения. Однако Пушкин на своём пути увидел, почувствовал, понял больше…» Он открыл «проблему проблем» — народ, мнение народное…
Лет 15 тому назад молодые люди занимались только военною службою, старались отличиться одною светской образованностию или шалостями; литература (в то время столь свободная) не имела никакого направления; воспитание ни в чём не отклонялось от первоначальных начертаний. 10 лет спустя мы увидели либеральные идеи необходимой вывеской хорошего воспитания, разговор исключительно политический; литературу (подавленную самой своенравной цензурою), превратившуюся в рукописные пасквили на правительство и возмутительные песни; наконец, и тайные общества, заговоры, замыслы более или менее кровавые и безумные.
Блестящий краткий очерк целой эпохи, в основе которого (так же как и других фрагментов записки) пушкинские мемуары, далеко не полностью уничтоженные в ожидании обыска[188].
«Лет 15 тому назад», то есть 1811 год, до Отечественной войны — время пушкинского раннего отрочества, прощания с Москвой, поступления в Лицей; вот какие времена сопоставляются с нынешними. Пушкин идеализирует, вероятно нарочито, спокойствие той эпохи; на самом деле он хорошо знал, и предвоенные годы уж были начинены грозою (недавняя французская революция, убийство Павла I). Не отыскивая буквальной точности в пушкинских оценках, заметим при этом — как верно определён «скачок», взрыв, то ускорение общественного развития после 1812 года, о котором писали многие мемуаристы. И. Д. Якушкин, к примеру, считал, что молодые люди, вернувшиеся с войны, по своим понятиям обогнали прежние поколения «на сто лет»[189].
Пушкин не раз обращался в своих сочинениях к 1812—1820 годам, времени своей бурной юности: в десятой главе «Евгения Онегина» представит картину декабристских «сходок» и «заговоров», поместит и себя на эти собрания («читал свои ноэли Пушкин»),— и всё это будет не раз сопровождено улыбкой зрелого Пушкина над тем, что ему позже покажется порывом молодости. Примерно тогда же, когда завершался «Онегин», через 3 года после возвращения из ссылки и «николаевского экзамена», Пушкин заставит одного из своих героев припомнить 1818 год: «В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг,— нам было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, теперь всё это переменилось» (VIII, 55).
В строках записки «О народном воспитании» насчёт «вывески» либеральных идей, моды на политику и «безумных замыслов» также легко заметить полускрытую иронию автора («заговоры между лафитом и клико»), нарочитое снижение серьёзности того, что когда-то начиналось. Мысль о преобладании внешних, наносных причин восстания над внутренними Пушкин сгущает и старается убедить своего собеседника: если столь многое в декабристском движении от моды, «внешности», то из этого как будто следует, что не должно уж так опасаться и так карать; постоянная для поэта мысль о милости к декабристам, конечно, присутствует уже и здесь. Так же, как мысль о немалой вине самой власти в происшедших событиях.
Поскольку Пушкина не спрашивают про общее положение в стране, он ни словом не касается главных «язв» — крепостничества, солдатчины, военных поселений. Однако в рамках своей темы, и так сознательно расширенной, постоянно будет рисовать отрицательные картины, толковать о дурных приёмах воспитания, заведённых правительством.
Пушкина не спрашивают и о литературе (на что он скромно намекнёт в конце записки), но поэт не упускает случал напомнить, что литература до 1812 года была очень свободной (а заговоров-де не было!), в последующие же годы «самая своенравная цензура» и, естественно,— хождение «рукописных пасквилей и возмутительных песен» (уж Пушкину это хорошо известно, и он, обороняясь, наступает).
Весь краткий исторический экскурс «Записки» Николай прочитал без возражений; в той части разговора 8 сентября, где говорилось о прошлом Пушкина, мы знаем, была затронута и «своенравная цензура», и «старые грехи»,— вольные стихотворения Пушкина, широко известные царю как следователю по делу декабристов. Перечень «декабристских фактов» был для обоих собеседников как бы повторением пройденного; более острым являлся вопрос о коренных причинах всего происшедшего. Николая I в какой-то степени устраивал взгляд на бунтовщиков как на людей, не имеющих почвы в стране. Но одновременно царь понимал, чувствовал глубочайшую серьёзность происшедшего. И свой взгляд «обосновал» суровыми приговорами бунтовщикам… Концы с концами как-то не сходились: почвы нет, и в то же время почва есть. Поэтому царь, мы догадываемся, с первых строк пушкинской записки с подозрением и недоверием глядел: куда клонит автор?
Ясно, что походам 13 и 14 года, пребыванию наших войск во Франции и в Германии должно приписать сие влияние на дух и нравы того поколения, коего несчастные представители погибли в наших глазах…
На полях против этих строк — первый вопросительный знак царя: Пушкину ясно, императору же совсем не ясно… Тут материя не простая.
Казалось бы, Николай должен ухватиться, поддержать мысль о «дурном» влиянии Запада; позже, как мы знаем, этот мотив усилится, начнут постоянно противопоставлять российскую «тишину» и западные смуты; позже — после новых туров европейских революций, после того, как будет усилен курс на «народность» (о том речь ещё пойдёт).
Во время процесса над декабристами тоже была сделана попытка — выгодно объяснить свободомыслие западным, «карбонарским» влиянием: в показаниях арестованных отыскивались следы их связей с итальянскими, французскими, английскими «либералами»; в поощрении революции было даже заподозрено австрийское посольство в Петербурге (посол Лебцельтерн — родственник декабриста Трубецкого). Именно для выяснения «заграничных связей» тайного общества был специально возвращён из Сибири и дополнительно допрошен декабрист А. О. Корнилович…[190]
Должного количества убедительных фактов, однако, не нашлось: сам список заговорщиков, представлявших коренные дворянские фамилии, сам перечень их требований — всё это слишком уж свидетельствовало о внутренних, российских причинах возмущения. Д. Н. Блудов в секретном приложении к «Донесению» признавал, что производился розыск насчёт «западного участия» в событиях, однако «по точнейшим исследованиям оказывается, что нет основательных причин питать сии подозрения»[191]. К тому же Николай I понимал, что усердный поиск заграничных связей может ухудшить отношения с западными державами.
Возможно, в пушкинском суждении Николаю неприятно и включение в предысторию заговора военных походов против Наполеона — того, что принято, а в будущем ещё сильнее будет осваиваться официальной, патриотической идеологией. Царю нравятся заграничные походы русских армий и очень не нравится 14 декабря… Он, разумеется, помнит, что русские армии во Франции и Германии встречались с народами без крепостного права, рекрутчины, с определёнными формами представительного управления; но Пушкин как будто говорит не об этом — только о воздействии на русское офицерство западного либерализма. Поэт сам, по-видимому, чувствует неясность, недостаточность этой формулы и несколькими строками ниже объявит, что дело не только во влиянии «чужеземного идеологизма»; вообще в записке «О народном воспитании» дальше почти ничего не говорится об иностранном влиянии…
…должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились: что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей. Но надлежит защитить новое, возрастающее поколение, ещё не наученное никаким опытом и которое скоро явится на поприще жизни со всею пылкостью первой молодости, со всем её восторгом и готовностью принимать всякие впечатления.
На этом как бы заканчивается первая глава пушкинской записки — краткая оценка причины недавних событий.
Снова повторим, что почти каждая строка Пушкина находит аналогию в других его сочинениях, писанных примерно в ту же эпоху; центральная мысль — «ничтожность замыслов и средств» заговора и «необъятная сила правительства, основанная на силе вещей» — прежде была уже серьёзно затронута в «Замечаниях на Анналы Тацита». В записке же «О народном воспитании» Пушкин с особой тщательностью отделывал наиболее ответственную фразу. Первоначально он написал про «необъятную силу правительства, основанную на духе народа…»; поэт в то время действительно считал, что правительство имеет традиционную историческую опору в народе («царистские иллюзии», влияние церкви) — и в конце концов это было одним из признаков страшной удалённости членов тайного общества от большинства населения. Однако вопрос о «духе народа» был всё же не совсем ясен — мелькнуло ведь в начале черновика: «общее мнение ещё не существующее». Народ — объект глубочайших размышлений Пушкина; год назад «Борис Годунов» был завершён тем, что масса, поощряемая «новыми хозяевами», восклицает: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!» Несколько лет спустя, по пути в типографию, последняя фраза будет заменена: «Народ безмолвствует».
Проникновение в народный дух — эта задача у Пушкина впереди. «Пугачёв» ещё не появился на горизонте…
В беседе с царём народ, конечно, упоминался: и тяжёлое его положение, и, разумеется, то обстоятельство, которое не уставала подчёркивать власть — что крестьяне и горожане в основной своей массе остались равнодушными, не приняли, не поняли заговора (хотя толпы петербургской черни, готовые 14 декабря вступить в дело, заставляли задуматься об иных исторических возможностях[192]). Согласно Струтыньскому, Николай между прочим сказал Пушкину о «черни»: «Она не посмела подняться против меня! Не посмела! Потому что самодержавный царь был для неё живым представителем божеского могущества и наместником бога на земле»[193]. В это же время, 25 ноября 1826 года великий князь Константин Павлович с удовлетворением писал Бенкендорфу о «состоянии умов»: «Я был бы более чем обрадован, узнав, что общественный дух освобождается от заблуждений и явно очищается. Вы так же, как и я, дорогой генерал, хорошо знаете, что дух большинства народа всегда был очень хорош для нас <…> Любовь к порядку и спокойствию укоренилась во всех классах и сословиях»[194].
Пушкин в своей записке снимает противопоставление мятежников и «народного духа», оставляя более общую формулу — «необъятная сила вещей»: сюда входит и народ, проявляющий верноподданнические чувства, и народ безмолвствующий…
Столь же осторожно отделывается другая важнейшая мысль о милосердии. Слова «братья, друзья, товарищи погибших» как будто перенесены Пушкиным из его письма к П. А. Вяземскому, написанного ещё в Михайловском, 14 августа 1826 года, под впечатлением от приговора декабристам: «Ещё-таки я всё надеюсь на коронацию: повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна» (XIII, 291).
Добрые, дружеские его характеристики осужденных связаны с надеждою на царскую милость, прощение; коронация прошла, но некоторое смягчение каторжного срока было совсем не то, о чём мечтал поэт; вместо пожизненного заключения было объявлено 20-летнее; имевший 20 лет получал 15 и т. д.
Пушкин надеялся на другую милость, более близкую к той, которая внезапно коснулась его самого.
Кроме того, он выражает надежду, что близкие «погибших» (а также, разумеется, сами «погибшие» — этот термин часто применялся к тем, кто формально жив, но погиб политически), что они «образумятся», «успокоятся», «поймут необходимость и простят оной…».
Речь идёт не о царском прощении — и, конечно же, не о покаянии, унижении «виновных»: Пушкин говорит о возможности для многих — как бы последовать его примеру, «успокоиться» с достоинством. Замечателен оборот: «поймут необходимость и простят оной»: не вымаливать прощение у власти — но простить необходимости!
Снова многое сообщает черновик, где было: «братья, друзья, товарищи <…> простят в душе своей необходимость и с надеждою на милость монарха, не ограниченного никакими законами…» Мелькнул вариант — «с надеждою на великодушие», но затем вся фраза о монархе зачёркнута.
Почему же?
Потому, вероятно, что в той или иной форме Николай намекнул на будущее прощение во время беседы 8 сентября… Позже, мы хорошо знаем, поэт постоянно будет призывать «милость к падшим»; этот мотив появится в стихах, обращённых к Николаю через несколько недель после завершения записки. Однако сейчас Пушкин ограничивается дальним окольным намёком на собственный пример «успокоения и размышления» — и переходит к главной части, прямому разговору о «народном воспитании».
Не одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества; воспитание, или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла. Не просвещению, сказано в высочайшем манифесте от 13-го июля 1826 года, но праздности ума, более вредной, чем праздность телесных сил, недостатку твёрдых познаний должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — погибель. Скажем более: одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия.
Пушкин переходит от внешних, «заграничных» причин — к основным, внутренним; при оценке событий пробует взять себе в союзники самого царя, вернее, подписанный им манифест…
И тем не менее царь выставляет вопросительный знак против слов «отсутствие воспитания есть корень всякого зла» и ещё один вопрос против последней фразы — об одном просвещении, которое в состоянии удержать «новые безумства, новые общественные бедствия».
Разумеется, мы не вправе однозначно толковать каждый царский «вопрос» как признак недовольства: в отдельных случаях Николаю I пушкинская мысль могла показаться неясной, предлагаемые меры — сомнительными и т. п. Однако вся совокупность высочайших недоумений (см. ниже) говорит об идеологических разногласиях с поэтом, а начало серьёзного разногласия именно в только что приведённых пушкинских строках.
Пушкин ведь сформулировал главную мысль, о чём без сомнения было говорено 8 сентября. Поэт и царь как будто согласились, что просвещение важно, необходимо; более того — Николаю нравилось, что Пушкин верит в просвещение, а не в восстание; монарх как будто предложил союз, совместные действия на ниве просвещения — «пиши, я буду твоим цензором».
Но царь хорошо знает, что ему нужно. В манифесте, написанном рукою Сперанского (и датированном днём казни пяти декабристов), не совсем та, а точнее говоря, совсем не та мысль, которую старается извлечь оттуда Пушкин: в тексте, правда, оговорено, что вина не возлагается на просвещение; но отнюдь не утверждается, будто «одно просвещение» — панацея от всех бед. Царский манифест 13 июля требовал более всего и прежде всего верноподданнических чувств, смирения, благонамеренности: «Да обратят родители всё их внимание на нравственное воспитание детей <…> Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления»[195].
Николаю I уже и теперь, а в дальнейшем всё больше, нравятся «простые», пусть мало просвещённые, мало воспитанные, но безоговорочно преданные престолу люди как из высшего сословия, так и из простого народа. Поэтому — не «отсутствие просвещения», а недостаток воспитания в официальном духе, недостаток благонамеренного усердия — вот где для царя и Бенкендорфа «корень зла». Вопрос же о том, может ли просвещение «удержать новые безумства», для власти более чем спорен и сомнителен.
В 1822 году Пушкин в своих потаённых, декабристских по духу «Некоторых исторических замечаниях»[196] писал о Петре I, который «не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения» (XI, 14). Речь шла о том, что дух народа, состояние умов позволяли Петру вводить такие преобразования, которые были чреваты освободительными идеями; однако «Пётр I не страшился…», ибо «доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, больше, чем Наполеон» (XI, 14).
Формула Пушкина действительна почти для всего XVIII века: «выгоды просвещения» для власти и дворянства значительно перевешивали возможные «невыгоды»: главная проблема — где найти достаточное число образованных людей; в сравнительно немногочисленные учебные заведения ещё приходилось заманивать, на некоторых факультетах Московского университета, бывало, училось по одному студенту. Первая угроза, первый страх власти перед просвещением относится к 1790-м годам: уже обозначился кризис крепостнической системы, ударили громы французской революции — и Екатерина II арестовывает не только Радищева, и Новикова, но также и многие книги. Просвещение «заподозрено», и в этом отношении царствование Павла I было продолжением последних екатерининских лет: вместо «просвещённого абсолютизма» утверждался непросвещённый, консервативный.
Однако просвещённый вариант к тому времени ещё не был исчерпан до конца для самодержавия и дворянства: в царствование Александра I создаётся пусть весьма ограниченная, но единая система образования, открывается несколько университетов, лицеи, гимназии. Наставник Лагарп уверял в 1801 году своего ученика Александра, что насаждение грамотности, школ, университетов в сочетании с разумным законодательством «разумного самодержца» — надёжный, единственный путь страны к прогрессу[197]. Однако время, когда самодержец мог совсем «не страшиться неминуемого следствия просвещения», минуло давно. Слишком тесно вопрос о народном воспитании был связан с другими, главнейшими проблемами — о крепостном праве, политическом устройстве.
Пока Александр I не оставлял общих реформаторских проектов («молодые друзья» императора в первые годы его правления, деятельность Сперанского в 1808—1812 гг., проекты освобождения крестьян и конституционные планы 1818—1820 гг.[198]) — до той поры в общем поощрялось и просвещение; страх высшей власти перед последствиями возможных реформ, нарастающая угроза «слева» (бунты крестьян, военных поселян, первые декабристские общества, влияние европейских революций), молчаливая, но страшная оппозиция реформам «справа» (крепостники, бюрократический аппарат) — всё это в 1820-х годах опять привело к довольно резкой смене просветительского курса на охранительный.
Впервые за сто лет, прошедшие после петровских преобразований, были введены определённые ограничения для поступления в высшие учебные заведения — прежде всего плата «умеренная и постоянная» (1817)[199], изменение учебных планов, исключение или сокращение ряда «опасных» предметов (философия, естественное право), расширение преподавания Священного писания и древних языков.
Преследование петербургских профессоров попечителем Руничем, а казанских — Магницким было новым, весьма симптоматичным явлением. Эти гонения, имевшие целью пресечь неминуемые следствия просвещения даже ценой урезания самого просвещения, явно запоздали. Российская жизнь, «народное воспитание» уже успели создать декабристов, Пушкина, активный образованный дворянский слой… Можно сказать, что в первой четверти XIX века просвещение вело к свободе, но противодействие ему — тоже вело к свободе.
Александр Бестужев доказывал Николаю I, что «едва ли не треть» образованных людей думает как декабристы; Каховский же заявлял, что «из тысячи молодых людей не найдётся и ста человек, которые бы не пылали страстью к свободе»[200].
Герцен позже не раз замечал, что пушки, расстрелявшие декабристов, одновременно били и в Петра Великого, вокруг памятника которому выстроились восставшие.
В самом деле, никто не думал объяснять восстание 14 декабря «дикостью», «невежеством», — что веком раньше относили к сопротивлению стрельцов, сторонников царевича Алексея и других противников власти. Нет, восстали просвещённые и даже просвещённейшие люди, и неслучайно Карамзин перед смертью опасался, что теперь на волне подавления мятежников усилится «аракчеевское невежество».
Правительство хорошо понимало, что без просвещения ему никак нельзя — иначе не будет пушек, кораблей, дорог и других вещественных признаков силы; даже самые реакционные деятели режима были формально людьми просвещёнными, во всяком случае, получившими «приличествующее воспитание». В то же время в стране с населением 50 миллионов человек к весне 1826 года во всех школах, училищах, гимназиях, университетах, академиях числилось всего 69 677 учащихся[201]. Число же грамотных вряд ли превышало три-четыре процента населения[202].
Итак, без просвещения нельзя — но и с просвещением нельзя; каким образом сохранить все положительные, необходимые стороны просвещения, но избежать его постоянных спутников — вольности, либерализма, революции — вот коллизия, о которой постоянно размышляли Николай I и его люди. «Свод показаний членов тайных обществ о внутреннем состоянии государства», переданный для секретного рассмотрения высшим должностным лицам империи, неслучайно начинается с раздела «Воспитание». До и после пушкинской записки царь постоянно поощрял к высказываниям на ту же тему многих лиц, и в конце концов располагал целым сводом разных «мнений». Большинство их авторов, кроме суждений по частным вопросам, высказывало и общие соображения, обычно хорошо представляя, чего от них ждут. Генерал Витт советовал царю пресечь домашнее образование и «благовоспитанную полуучёность»[203].
Ещё 9 апреля 1826 года царь прочёл и выставил два восклицательных знака и нотабене против одного места в большой записке графа Лаваля (от 10 марта 1826 г.): речь шла о некоторых основах, коренных принципах российского просвещения, поощрявших юношество к неповиновению, что (по мнению Лаваля) «уничтожает плоды этого просвещения, делает невыносимым иго любого авторитета, ведёт к оппозиции любому социальному порядку»[204].
Булгарин в записке «Нечто о царскосельском лицее…» настаивал: «В просвещении — пренебрежено главнейшее: воспитание и направление умов к полезной цели посредством литературы <…> Государь наш начал пещись о воспитании. Дай бог, чтобы ему удалось выбрать на безлюдьи хороших начальников учебных заведений. Но у нас нет вовсе Педагогов, и один только счастливый случай может указать полезных людей, которые бы с искусством исполняли благие виды государя. Ныне наступил век убеждения, и чтобы заставить юношу думать, как должно, надобно действовать на него нравственно».
В то же время автор записки предлагал действовать «на убеждение убеждением», «исправимых — ласкать, поддерживать, убеждать и привязывать к настоящему образу правления»[205].
Любопытна записка от 20 апреля 1826 года харьковского попечителя А. А. Перовского, известного писателя, выступавшего под псевдонимом Погорельский.
«По мнению моему,— писал автор,— цель учебных заведений в России относительно просвещения народного главнейше должна состоять в распространении познаний, на положительных и точных науках основанных. Мы имеем нужду в медиках, химиках, технологах,— но весьма сомнительно, чтобы появление в отечестве нашем русских кантов и фихте принесло какую-либо оному пользу <…> Я не говорю, что надлежит запретить преподавание наук отвлечённых и уничтожить кафедры оных, при университетах учреждённые; но полагаю, что необходимо нужно бы было заключить преподавание сие в пределы самим правительством назначенные, и резкими чертами отделённые от всякого самовольного лжемудрствования»[206].
Далее Перовский пишет о главной цели просвещения: «Цель сия во всех землях должна состоять в воспитании настоящего поколения соответственно системе того государства, которому, по определению провидения, оно принадлежит. В России же при образовании юношества надлежит в особенности избегать всего, что только, каким бы то ни было образом, может ослабить приверженность к престолу, сему краеугольному камню всего огромного здания. Каждое отступление от сего правила рано или поздно должно произвесть вредные последствия»[207].
Затем автор записки предлагает некоторые меры, которые позже будут в той или иной форме приняты правительством. Он — решительно против отмены в училищах телесных наказаний; советует не слишком рано продвигать молодого человека по службе, ибо «в 18 или 20 лет он считает себя в силах помышлять о преобразовании государства, и в праве действовать сообразно своим предположениям».
Сверх того автор записки предлагает «…для избежания вредного лжемудрствования в науках отвлечённых во всей империи ввести однообразное преподавание оных, по книгам, правительством одобренным, от которых отступать профессорам ни в каком случае позволять не следует»[208].
В целом Перовский против тех гонений на просвещение, что были в конце царствования Александра; он враг «библейских и мистических обществ», но одновременно ему не нравятся и чрезмерные вольности начала XIX века.
Перовский — личность незаурядная, просвещённая; тем разительнее отличие характера, духа его записки и пушкинских соображений.
Поэт как будто находил при первой встрече общий язык с монархом в том духе, что — сначала просвещение, а потом свобода; однако Николай явно «соглашался» на просвещение только вместе с изъявлением безоговорочной верноподданности.
Без сомнения мотив благонамеренности звучал и 8 сентября в речах Николая, однако поэт как бы не всё «расслышал», не хотел расслышать. Он тогда более был поражён положительной стороной разговора, нежели предостережением, угрозой. Теперь же два вопросительных знака Николая I (а за ними целый град других!) как бы объясняют Пушкину то самое, в чём он недавно признался Бенкендорфу: «худо понял высочайшую волю государя».
Чины сделались страстию русского народа. Того хотел Пётр Великий, того требовало тогдашнее состояние России. В других землях молодой человек кончает круг учения около 25 лет; у нас он торопится вступить как можно ранее в службу, ибо ему необходимо 30-ти лет быть полковником или коллежским советником. Он входит в свет безо всяких основательных познаний, без всяких положительных правил: всякая мысль для него нова, всякая новость имеет на него влияние. Он не в состоянии ни поверить, ни возражать; он становится слепым приверженцем или жалким повторителем первого товарища, который захочет оказать над ним своё превосходство или сделать из него своё орудие.
Приведённый абзац — один из немногих — без царского вопроса: о молодости, молодых горячих головах говорилось в кремлёвском кабинете и применительно к Пушкину, и к «погибшим». Николая и его министров в эту пору сильно беспокоила молодая часть офицерства, чиновников. Действительно, средний возраст активных декабристов составлял примерно 26 лет; даже «старейшие» были совсем не старыми; 33-летний Пестель, 30-летние Рылеев и Никита Муравьёв… Сам Пушкин, окончив Лицей в 18 лет, уже был человеком, получившим высшее образование. Юные поручики, молодые полковники, генералы, советники были характерной чертой российского дворянского правления в конце XVIII — начале XIX века. Связанное и с быстрым продвижением благодаря знатности, протекции и, главное, с ускоренным производством в период наполеоновских войн,— это обстоятельство было одним из могучих источников побед и успехов, каких Российское государство добивалось во внешней политике, отчасти и внутри страны. «Молодая Россия» — известное определение русского общества преддекабрьской поры; молодость, понятно, оборачивалась иногда легкомыслием, опрометчивостью. Пушкин позже напишет о «забавах юных шалунов». Однако недостатки «слишком молодых» с лихвой окупались их энергией, чистотой. Бездумно бросившийся вперёд и погибший в начале Бородинского сражения 28-летний генерал Кутайсов, конечно, сильно затруднил действия своих подчинённых, но в объёме всего этого великого сражения, всего 1812 года молодость командиров принесла, разумеется, огромные плоды.
Многое в первых декабристских сходках также определялось юной отвагой; именно молодость придавала всему движению особенный дух самопожертвования, беззаветности, высокого подвига: то, о чём Пушкин через два месяца после своей записки скажет в бесцензурном стихе —
Толкуя о «чрезмерной молодости» друзей, товарищей, братьев, Пушкин, однако, никогда, до последнего часа, не откажется совсем от «безумных лет»; не раз пошлёт им вослед слово благодарности или грустного прощания — но, разумеется, не здесь, не в потаённой официальной записке.
Впрочем, царь Николай и сам ведь отнюдь не стар: тридцать лет, возраст Никиты Муравьёва, Сергея Муравьёва-Апостола; многие из его ближайшего окружения тоже сравнительно молоды; и всё же средний возраст 72-х членов Верховного уголовного суда над декабристами был (по нашим подсчётам) вдвое больше возраста подсудимых; одним — 27, другим — 55 лет. Мысль о том, что надо подольше задержать выход в активную жизнь и деятельность юных офицеров и чиновников, распространялась в верхах всё сильнее (вспомним цитированную выше записку А. Перовского). Пройдут годы, и через шесть лет после гибели Пушкина министр просвещения С. С. Уваров с гордостью доложит царю: «Всякий <…> увидит на скамьях университетов детей высшего сословия, отцы коих находились на службе в тех летах, когда сынам предстоит ещё подвергнуться экзамену, дабы получить право сделаться питомцами университетскими»[209].
Пока же, в 1826-м, мы как будто наблюдаем внешнее согласие двух собеседников во взгляде на двадцатилетних…
Но как только Пушкин переходит к конкретным мерам, царь опять недоволен.
Конечно, уничтожение чинов (по крайней мере, гражданских) представляет великие выгоды; но сия мера влечёт за собою и беспорядки бесчисленные, как вообще всякое изменение постановлений, освящённых временем и привычкою. Можно, по крайней мере, извлечь некоторую пользу из самого злоупотребления и представить чины целию и достоянием просвещения; должно увлечь всё юношество в общественные заведения, подчинённые надзору правительства; должно его там удержать, дать ему время перекипеть, обогатиться познаниями, созреть в тишине училищ, а не в шумной праздности казарм.
Николай ставит вопросительный знак возле слов о выгодах и беспорядках при уничтожении чинов; другой знак относился к мысли о чинах как «цели и достоянии просвещения»; третий вопрос — против общественных заведений для юношества, наконец, четвёртый — насчёт шумной праздности казарм.
Можно предположить, что все четыре вопроса, в сущности, относятся к спору, уже начатому чуть выше: о значении просвещения. Пушкину кажется, что «тишина училищ» лучше «шумной праздности казарм», Николаю — что училища, общественные заведения, с одной стороны, необходимы; их действительно легче контролировать, нежели ученика, к которому ходит частный учитель. Однако, с другой стороны, в лицеях, университетах быстрее зажигается вольный дух,— и можно ли верить, что юноша, «перекипев, обогатившись познаниями», станет более зрелым и умеренным, а не более свободным и непокорным?
И чины автор записки связывает с просвещением: везде у него просвещение исходная точка, в то время как царь полагает, что и вопрос о чинах, и о характере училищ и о шуме казарм должен решаться с позиций самодержавных, верноподданных: важнее всего — те или не те люди будут получать чины, наполнять учебные заведения.
Ещё раз повторим, что правительственная точка зрения включала и мысль о необходимости известного просвещения,— иначе бы диалог и не начался,— но Пушкин предлагает больше доверять науке, учению, новизне…
Можно сказать, что, дойдя до этого места записки, царь уже выработал на неё общий взгляд, который сохранится и в дальнейшем: пока поэт констатирует недостатки воспитания, незрелость заговора, другие отрицательные стороны российской жизни,— Николай принимает. Однако, как только дело доходит до способов улучшить, исправить положение, царь возмущён в основе неверным, с его точки зрения, мнением Пушкина.
В следующем отрывке первый абзац принят царём почти полностью, но при переходе от общего к частному поэт опять обстрелян вопросительными знаками.
В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное; ребёнок окружён одними холопями, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трёх иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем. Воспитание в частных пансионах не многим лучше; здесь и там оно кончается на 16-летнем возрасте воспитанника. Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное.
Надлежит всеми средствами умножить невыгоды, сопряжённые с оным (например, прибавить годы унтер-офицерства и первых гражданских чинов).
Любопытно, что царь оценил вопросительным знаком слова Пушкина о необходимости подавить частное воспитание и затруднить первые чины для тех, кто обучался не под эгидой государства. Казалось бы, странно, сам Пушкин считал, что он тут несколько «подыгрывает» власти, в чём прямо признавался А. Н. Вульфу[210]. Мало того, учреждённый в мае 1826 года Комитет устройства учебных заведений с самого начала, среди прочих мер, предлагал усилить контроль, по возможности — вытеснить частное и домашнее образование. Эти предложения будут вскоре одобрены царём; с 1828 года начнут вводиться разные меры контроля за частными учителями, их заставят сдавать определённые экзамены и т. п.[211].
Если так, то чем же Николай I недоволен в соответствующих пушкинских строках? Или он не понял, хотя текст довольно ясен?
Возможно, по мнению царя, дело не в формах (частное или общественное заведение), а в сути, духе, в политических взглядах учащихся и студентов.
Пушкин продолжает предлагать конкретные меры, Николай не устаёт выставлять знаки вопроса.
Уничтожить экзамены. Покойный император, удостоверясь в ничтожестве ему предшествовавшего поколения, желал открыть дорогу просвещённому юношеству и задержать как-нибудь стариков, закоренелых в безнравствии и невежестве. Отселе указ об экзаменах, мера слишком демократическая и ошибочная, ибо она нанесла последний удар дворянскому просвещению и гражданской администрации, вытеснив всё новое поколение в военную службу. А так как в России всё продажно, то и экзамен сделался новой отраслию промышленности для профессоров. Он походит на плохую таможенную заставку, в которую старые инвалиды пропускают за деньги тех, которые не умели проехать стороною. Итак (с такого-то года), молодой человек, не воспитанный в государственном училище, вступая в службу, не получает вперёд никаких выгод и не имеет права требовать экзамена.
Царь выставляет знак вопроса у последних, подчёркнутых Пушкиным строк этого абзаца[212].
Пушкин живыми, художественными штрихами воспроизводит хорошо знакомые ему с детства эпизоды: «старики, закоренелые в безнравствии и невежестве», «в России всё продажно», взяточники-профессора… Об этом и многом подобном могла идти речь в беседе с царём. В приведённых строках уж заметна и пушкинская мысль, которую он начнёт подробно разрабатывать в ближайшие годы: о внешне демократических мерах нескольких царей, приведших к усилению чиновничества, разорению и упадку старинных дворянских родов. Надежды поэта на ещё не исчерпанную прогрессивную роль дворянского просвещения имели некоторую параллель с планами или, по крайней мере, словами Николая о необходимости «возрождения», «ограждения» дворянства. В 1830—1840-х годах, как известно, было издано несколько законов, направленных в эту сторону.
Казалось бы, царь в таком случае мог более благожелательно отнестись к пушкинской реплике об экзаменах; однако он, видимо, раздражён предыдущими текстами; возможно, его пока что не интересуют частности, он по-прежнему не находит в пушкинской записке того духа, который ищет.
Следующие затем несколько строк Николай I, впрочем, просто принимает к сведению.
Уничтожение экзаменов произведёт большую радость в старых титулярных и коллежских советниках, что и будет хорошим противудействием ропоту родителей, почитающих своих детей обиженными.
Дело в том, что царь был постоянно обеспокоен «ропотом обиженных родителей»: очень много знатных семейств пострадало, было задето в той или иной мере репрессиями 1825—1826 годов. Известно, что Николай, опасаясь неотысканных революционеров, в то же время боялся слишком расширить круг арестов; он подчёркнуто наградил и повысил несколько лояльных членов тех семейств, где были и «государственные преступники».
К тому же Пушкин говорит о способе привлечь стариков чиновников, что (как уже было замечено) отвечало общему неприятелю молодёжи Николаем I.
Опять, в который раз, царь согласен с описанием, фоном,— но тут же не приемлет очередной рекомендации.
Что касается до воспитания заграничного, то запрещать его нет никакой надобности. Довольно будет опутать его одними невыгодами, сопряжёнными с воспитанием домашним, ибо, 1-е, весьма немногие станут пользоваться сим позволением; 2-е, воспитание иностранных университетов, несмотря на все свои неудобства, не в пример для нас менее вредно воспитания патриархального.
В конце первого года своего царствования Николай ещё не был тем ярым противником европейского влияния, каким сделался позже, сильно опасаясь «революционной заразы». И тем не менее уверенность Пушкина, что не нужно запрещать заграничного воспитания, вызывает очередной вопросительный знак, и он «сродни» тем, которыми были награждены пушкинские строки о частном и общественном воспитании.
Зато следующий текст удостоился уже не одного, а сразу двух царских вопросов, то есть сильного недоумения и гнева.
К тому же фрагмент, столь огорчивший императора, был внесён Пушкиным уже в готовую писарскую рукопись:[213] сам вид этой «вставки» показывал, что поэт придаёт ей большое значение и рискует ради одного примера «испортить» должный порядок и красоту рукописи, подаваемой на высочайшее имя.
Вот что разозлило царя:
Мы видим, что Н. Тургенев, воспитывавшийся в Геттингенском университете, несмотря на свой политический фанатизм, отличался посреди буйных своих сообщников нравственностью и умеренностью — следствием просвещения истинного и положительных познаний.
Царь и без того подозревает, что Пушкин неверно понимает роль и место просвещения в его империи, но каков же пример, предлагаемый ему в виде иллюстрации: декабрист Николай Иванович Тургенев только что, в июле 1826 года, был заочно приговорён к смертной казни, заменённой во время коронации двадцатилетними каторжными работами! Старинный друг и наставник Пушкина, ярый и постоянный противник крепостного права, «хромой Тургенев» так и остался за границей, отказавшись явиться на суд, и поэт одно время был очень обеспокоен сведениями, будто английское правительство собирается выдать его русскому. Пушкин несомненно знал об оправдательных письмах, которые Тургенев посылал в Россию и где отстаивал мирный, «законный» характер своей общественной деятельности (явно преуменьшая её нелегальную, революционную окраску). Вполне вероятно, что и во время разговора 8 сентября, когда речь зашла о разумных, главнейших целях декабристов, могло возникнуть имя Тургенева, или, не исключено,— Пушкин рассчитывал, что его записка вызовет новые вопросы, может быть, новую аудиенцию,— и вот он не упускает случая «сделать добро».
Николай решительно отказывается поддержать разговор об отдельных просвещённых декабристах; Пушкин, изъявший, несколько выше, из текста записки намёк на общую милость, «на великодушие», не преуспевает и в частном случае.
Царь, по-видимому, сильно раздражается от неожиданной встречи с врагом и далее читает Пушкина со всё нарастающим озлоблением.
Пропустив без отметки несколько следующих строчек:
«Таким образом, уничтожив или, по крайней мере, сильно затруднив воспитание частное, правительству легко будет заняться улучшением воспитания общественного», —
миновав это место, царь наткнулся на фразу, открывавшую следующий раздел записки, посвящённый военному образованию.
Ланкастерские школы входят у нас в систему военного образования и, следовательно, состоят в самом лучшем порядке.
Снова два вопросительных знака, и притом не понравившийся текст впервые помечен на полях резким отчёркиванием (чего на прежних страницах не бывало)[214].
Снова царю предлагают нечто осуждённое, едва ли не декабристское: ещё в прежнее царствование ланкастерская система взаимного обучения была заподозрена как источник «излишних знаний», мятежных настроений солдат: узнав о «семёновской истории» 1820 года, Александр I некоторое время винил в этом событии Н. И. Греча, именно как проповедника ланкастерских методов[215].
Пятый год уже длилось дело «первого декабриста» В. Ф. Раевского, кишинёвского приятеля Пушкина, который между прочим обвинялся в «развращении нижних чинов»: он использовал крамольные тексты, имена Вашингтона, Квироги во время обучения солдат и юнкеров в ланкастерских школах.
Пушкин затрагивает святая святых, армию, главную опору трона. Мысль о том, что грамотность, разные педагогические методы отнюдь не нужны солдату, была одной из постоянных в течение всего николаевского царствования. Опять Пушкин говорит «не то»…
Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большого присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении.
С этим царь был почти согласен, разумеется, понимая присмотр за нравами в своём, а не в пушкинском смысле.
Это различие неожиданно резко выявляется в связи со следующими фразами:
Для сего нужна полиция, составленная из лучших воспитанников; доносы других должны быть оставлены без исследования и даже подвергаться наказанию; чрез сию полицию должны будут доходить и жалобы до начальства. Должно обратить строгое внимание на рукописи, ходящие между воспитанниками. За найденную похабную рукопись положить тягчайшее наказание, за возмутительную — исключение из училища, но без дальнейшего гонения по службе; наказывать юношу или взрослого человека за вину отрока есть дело ужасное и, к несчастию, слишком у нас обыкновенное.
Мы подошли к одному из самых сложных мест «Записки», способных, по выражению Д. Д. Благого, «на первый взгляд действительно… шокировать»[216] (смущал и сам термин «полиция», хотя в действительности здесь имелись в виду те же ученики-кадеты). Между тем в этом отрывке царь, можно сказать, не оставил «живого места»: первые слова, о полиции, составленной из лучших воспитанников, вызвали новое отчёркивание и два вопросительных знака. Сама мысль о самоуправлении кадет, об их праве самим следить за порядком и наказывать нарушителей — абсолютно противоречила централизаторским идеям Николая; ведь пятью месяцами раньше образовалось III Отделение, которое от имени царя должно было собирать явную и тайную информацию во всех сферах жизни.
Точно так же, конечно, отвергнута, «заклеймена» отчёркиванием и вопросительным знаком пушкинская идея, что доносы «со стороны» должны отвергаться и наказываться.
Наконец, двумя отчёркиваниями и большим вопросительным знаком оценены пушкинские попытки представить план сравнительно гуманных наказаний за «похабные» и «возмутительные» рукописи; Пушкин руководствовался, конечно, собственным опытом — длительное преследование, явно не соответствующее «проступку» (несколько слов о религии); перед ним был страшный пример многолетней расплаты Баратынского за «вину отрока»; наконец, в замаскированной форме здесь защищались самые юные участники декабристского восстания, зачастую увлечённые общей волной и наказанные «не по заслугам».
Пушкинский взгляд на полицию, доносы, наказания в военных училищах отвергнут царём с большим раздражением: как и последнее замечание об этих заведениях:
Уничтожение телесных наказаний необходимо. Надлежит заранее внушить воспитанникам правила чести и человеколюбия; не должно забывать, что они будут иметь право розги и палки над солдатом; слишком жестокое воспитание делает из них палачей, а не начальников.
Первая же фраза — о необходимости уничтожить телесные наказания — удостаивается отчёркивания и двух вопросительных знаков. Каждая из следующих фраз — «о праве розги и палки над солдатом» и о воспитании «палачей, а не начальников» — получает соответственно ещё по вопросительному знаку.
Царь очень и очень недоволен. Соображения Пушкина, человека, воспитывавшегося в Лицее, где никогда не было розог, естественно, напоминает Николаю декабристские сетования на мучение, избиение солдат.
Как известно, в отношении армии, палок и розог политика нового царя была всегда ясной, определённой и в конце концов породила известное прозвище «Николай Палкин».
Царь сердится на Пушкина, наверное, ещё и потому, что поэт, формально следуя заданной теме, всё же вторгся в область, о которой его решительно не спрашивают: штатский человек, притом отставленный от службы, делает рекомендации насчёт офицеров, солдат, кадетских корпусов!
Однако и следующие несколько строк, в которых речь идёт о гражданских учебных заведениях, таких, где Пушкин сам учился и в которых знает толк, отнюдь не улучшают расположения царя к автору записки:
В гимназиях, лицеях и пансионах при университетах должно будет продлить, по крайней мере, 3-мя годами круг обыкновенный учения, по мере того повышая и чины, даваемые при выпуске.
Поэт, как видим, не очень стесняется в откровенном разговоре и употребляет довольно категорические формулы, так что создаётся впечатление, будто он не советует, а «утверждает» (мелькают слова — «необходимо», «не должно», «требуется» и т. п.). Вероятно, царя раздражал этот недостаточно почтительный тон. Подчёркнутые Пушкиным слова оценены самым низким «баллом» — сразу тремя вопросительными знаками. По-видимому, царю не нравится сама идея об учёбе как выслуге, что, по понятиям власти, ставит просвещение и обучение на слишком высокую ступень.
Любопытно также, что вскоре последовало удлинение некоторых курсов, и это соответствовало видам правительства — повысить возраст вступающих в службу молодых людей; и тем не менее — три знака вопроса! Царское настроение определилось; идёт уже не столько чтение, сколько осуждение, распекание автора. Чуть ниже трёх вопросительных знаков в связи с чинами, даваемыми при выпуске, стоят ещё два. На этот раз император недоволен вот каким текстом (Пушкин добавил его в виде выноски уже после завершения переписки и тем снова «испортил» парадную форму рукописи):
Преобразование семинарий, рассадника нашего духовенства, как дело высшей государственной важности, требует полного, особенного рассмотрения.
Поэт развивает здесь ту мысль, которую неоднократно повторит, углубит в позднейших своих трудах. В «Путешествии в Арзрум» говорится о недостатке «христианских миссионеров» на Кавказе, ибо «легче для нашей лености в замену слова живого выливать мёртвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты» (VIII, 449).
В известном письме Чаадаеву от 19 октября 1836 года Пушкин напишет: «Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и всё. Оно не принадлежит к хорошему обществу» (XVI, 393, перев. с фр.).
Коротко касаясь в своей записке преобразования семинарий, Пушкин выступает как человек государственный, размышляющий о разных путях просвещения в рамках данной системы. Двойной вопросительный знак Николая, вероятно, означает, что он не видит здесь проблемы; очевидно — считает состояние духовенства и церкви вполне нормальным и совсем не требующим «полного, особенного рассмотрения» (хотя вскоре в секретном Комитете 6 декабря вопрос о духовенстве будет затронут). Слова Пушкина предоставляли высочайшему заказчику возможность спросить, в чём дело, что поэт подразумевал под словами об «особенном рассмотрении»? Ничего этого, конечно, не последовало.
Как знать, не рассердила ли царя на этот раз «дерзость» Пушкина и в связи с тем, что именно за атеистические строки в перехваченном письме 1824 года он находился в михайловской ссылке?
Пушкин заканчивает экскурс, касающийся разных типов учебных заведений.
В его записке царь не находил, между прочим, и намёка на одну из основных своих идей, которая отчётливо высказывалась в 1826—1830 годах, а затем — рьяно проводилась в жизнь министром просвещения С. С. Уваровым. Речь идёт об идее сословности, о разнообразных ограничениях «низших классов» в их стремлении получить образование.
11 июня 1844 года Николай I прямо напишет своему министру: «Надо сообразить, нет ли способов затруднить доступ разночинцам (в университеты)?»; однако ещё за семнадцать лет до того, в рескрипте от 19 августа 1827 года, царь требовал, «чтобы повсюду предметы учения и самые способы преподавания были по возможности соображаемы с будущим предназначением обучающихся, чтобы каждый <…>, не быв ниже своего состояния, также не стремился чрез меру возвыситься над тем, в коем по обыкновенному течению было ему суждено оставаться»[217].
Любопытно, что в тот период, когда Пушкин составил и подал свою «Записку», с идеей сословного образования ещё не соглашались даже весьма консервативные деятели. Так, будущий министр народного просвещения Ливен писал в 1827 году: «В Российском государстве, где нет среднего или гражданского состояния, где одно только купеческое сословие некоторым образом представляет оное, где ремесленник по всем отношениям равен земледельцу <…>, где достаточный крестьянин во всякое время может сделаться купцом, а часто бывает тем и другим вместе, где линия дворянского сословия толь необозримое имеет протяжение, что одним концом касается до подножия престола, а другим почти в крестьянстве теряется, где ежегодно многие из гражданского и крестьянского сословий, чрез получение военного или гражданского офицерского чина, поступают в дворянство, — в Российском государстве таковое <сословное> устройство училищ затруднительно»[218].
Эта характеристика русского общества находит параллель во многих рассуждениях Пушкина о судьбах народа, о том, что именно дворянство играет в стране роль «третьего сословия» и т. п.
Не «потрафив» царю при изложении общих идей российского просвещения, Пушкин переходит затем к предметам учения, характеру преподавания.
Первое же выдвинутое им положение как будто опять вполне соответствует точке зрения царя, подозрительно относившегося к «чрезмерной учёности»; однако, вытерпев спокойно несколько строк, царь сопровождает очередным вопросительным знаком последнюю фразу в следующем отрывке:
Предметы учения в первые годы не требуют значительной перемены. Кажется, однако ж, что языки слишком много занимают времени. К чему, например, 6-летнее изучение французского языка, когда навык света и без того слишком уже достаточен? К чему латинский или греческий? Позволительна ли роскошь там, где чувствителен недостаток необходимого?
Государственная политика в 1830—1840-х годах была как раз направлена к уменьшению роли классических языков и увеличению прикладных предметов, математики, физики, естествознания. Сам царь, С. С. Уваров и другие идеологи (снова вспомним А. Перовского) постоянно искали в гуманитарном образовании 1810—1820-х годов «корень зла», источник революционных идей. Как известно, к концу николаевского царствования было сведено на нет преподавание ряда «опасных гуманитарных дисциплин». Иначе говоря, в какой-то степени делалось именно то, что предлагал Пушкин; буквально через несколько дней после прочтения записки «О народном воспитании», 20 декабря 1826 года, Николай I утвердил необязательность преподавания греческого языка в гимназиях и при этом чуть ли не процитировал Пушкина: «Я считаю, что греческий язык есть роскошь, когда французский — род необходимости»[219]. Поэтому вопросительный знак — либо инерция недавнего раздражения, либо — недоумение: что же Пушкин считает необходимым преподавать?[220]
Пушкин продолжает свои рассуждения.
Во всех почти училищах дети занимаются литературою, составляют общества, даже печатают свои сочинения в светских журналах. Всё это отвлекает от учения, приучает детей к мелочным успехам и ограничивает идеи, уже и без того слишком у нас ограниченные.
Царский карандаш отчеркнул текст, начиная со слов «сочинения в светских журналах» и начертал вопросительный и восклицательный знаки («?!»).
Строчки, замеченные царём, очень любопытны: сжатое до одного абзаца воспоминание Пушкина о своей юности, о Лицее и других подобных учебных заведениях. Здесь подразумевалась, в частности, юношеская «метромания» и борьба честолюбий; шум и споры вокруг первых публикаций Кюхельбекера, Илличевского, Яковлева и, разумеется, самого Пушкина…
Странное, неожиданное на первый взгляд недовольство поэта литературными увлечениями учащихся, вероятно, дань подозрительному собеседнику.
Ведь, заказывая поэту «Записку», ему дали ясно понять, что он должен «на опыте своём» показать всё пагубное последствие «ложной системы» прежнего воспитания. Пушкин, тепло, ностальгически относившийся к Лицею, возможно, выбрал наиболее безобидную форму критики, указав на «борьбу честолюбий», действительно свойственную лицеистам. Как всегда, пушкинский «обман» замешан на истине: в Лицее и других заведениях учили «понемногу чему-нибудь и как-нибудь». Речь шла о частой подмене истинного просвещения — внешней формой…
Возможно, царь заметил скрытую «самокритику» поэта (кстати, в черновике, при перечислении честолюбивых юношеских занятий, упоминается, а потом вычёркивается — «печатают свои стихи»).
Впрочем, взгляд Николая на юных сочинителей формировался не без помощи Булгарина, который писал в ту пору: «Молодые люди, будучи не в состоянии писать о важных политических предметах, по недостатку учёности, и желая дать доказательства своего вольнодумства, начали писать пасквили и эпиграммы противу правительства, которые вскоре распространялись, приносили громкую славу молодым шалунам и доставляли им предпочтение в кругу заражённого общества»[221].
Записка Пушкина приближается к концу, «активность» же царя не слабеет. Он пропускает без замечания три строки, констатирующих:
Высшие политические науки займут окончательные годы. Преподавание прав, политическая экономия по новейшей системе Сея и Сисмонди, статистика, история.
Но как только Пушкин приступает к рассуждению о своём любимом предмете, истории, следует последний, кажется, самый резкий взрыв царского неудовольствия.
Вот пушкинский текст и царские пометы{1}:
История в первые годы учения должна быть голым хронологическим рассказом происшествий, безо всяких нравственных или политических рассуждений. К чему давать младенствующим умам направление одностороннее, всегда непрочное? Но в окончательном курсе преподавание истории (особенно новейшей) должно будет (?)[222] совершенно измениться. Можно будет с хладно- (???)[223] кровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не (??) хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесён- (??) ного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем. Вообще (?) не должно, чтобы республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и име- (?) ли для них прелесть новизны.
Этому тексту Пушкин придавал особое значение. Ни одно другое место «Записки» не отделывалось столь тщательно. Здесь был итог очень серьёзных размышлений последних лет (снова вспомним — «Бориса Годунова», «Замечания на Анналы Тацита», высказывания о шекспировском взгляде на историю). Царю предлагаются глубокие идеи, относящиеся, разумеется, отнюдь не только к преподаванию истории, но к истории вообще; предлагается чуждая односторонности высшая объективность (во фразе «К чему давать младенствующим умам направление одностороннее, всегда непрочное?» Пушкин приписал слово «одностороннее» уже в готовый беловой текст, стремясь резче подчеркнуть свою мысль!)[224].
Как известно, в черновом, и даже первоначально в беловом варианте записки, кроме Цезаря и Брута, было ещё и третье римское имя — Тацит. Пушкин советовал «не таить <…> республиканских рассуждений Тацита (великого сатирического писателя, впрочем, опасного декламатора и исполненного политических предрассудков)». Тацит в этом контексте выступал как фигура, типологически близкая декабристским «сатирикам и декламаторам» — недаром римского историка так почитали деятели тайных обществ. Однако в окончательном тексте Пушкин устраняет прямое упоминание о Таците, может быть, для упрощения своих рассуждений или для того, чтобы не слишком откровенно порицать одного из декабристских кумиров.
Главная мысль Пушкина была и осталась одновременно сложной и ясной: нужды и требования государственные отличаются у разных народов в зависимости от их духа, традиции, естественно сложившейся силы вещей; поэтому декабристы характеризовались Пушкиным как люди, не понявшие именно духа, своей истории, механически перенёсшие на русскую почву то, что, может быть, подходит французской, английской… С другой стороны, «погибшим» было отдано должное как людям искренним, верно назвавшим многие общественные недостатки, но не нашедшим органического способа для их исправления.
Иначе говоря, власть сильна исторической «силою вещей» — декабристы «высоким стремленьем».
Всё это, конечно, возникало в ходе разговора 8 сентября, где каждый полагал, что хорошо понимает другого, возникало быстро, изменчиво. Пушкин своё понимание закрепил в ряде формул записки. В особенности — только что приведённым текстом об истории.
Царь здесь решительно ничего не принимает, отчасти наверное не понимает и ограждается десятью знаками вопроса!
Хотя Николай, если верить Струтыньскому, соглашался, что самодержавие соответствует данному состоянию его народа (у других же народов столь же естественны другие политические системы!), однако в письменном виде формула о духе народов — «источнике нужд и требований государственных» отвергнута особенно решительно: сама мысль, идущая от Монтескьё, само звучание слов напоминало недавние показания декабристов, правда, требовавших, исходя из духа народного, решительных преобразований. Николая I не устраивала даже теоретическая зависимость собственной власти и политики от народа: предпочиталась прямо противоположная формула — о незыблемом, исконном праве царей, стоящих выше любых притязаний массы.
Пушкинская мысль была планом просвещения, которое как бы регулирует противоречия верхов и низов; царские вопросительные знаки этот план подвергают серьёзному подозрению.
Вряд ли Николай понял рассуждения о Кесаре и Бруте; меж тем Пушкин показывал, что, формально говоря, следовало бы царям видеть своё сродство с Брутом (как и они — сторонником сохранения старого режима) — нежели с Кесарем, бунтарём, «честолюбивым возмутителем».
Не уловив всей игры пушкинской диалектики, царь, однако, хорошо понял главное: поэт предлагает свободно, не боясь, писать о республиках, республиканских идеях, мотивируя это тем, что, во-первых, в России они «не имеют почвы», а во-вторых, чтоб всё это было лишено для молодёжи «прелести новизны».
Царь и Бенкендорф с этим решительно не согласны; никогда их учебники не станут хвалить Брута и свободно говорить о достоинствах республик. Пушкин, предлагая столь несбыточные вещи, мог сослаться на Монтескьё, Вольтера, Дидро, широко переводимых и популярных при Екатерине II, а также на несколько изданий Тацита, вышедших при Александре I. Шире говоря — был опыт просвещённой монархии, который Пушкин и предлагает Николаю в своей записке.
Николай I, вступивший на престол в момент далеко зашедшего кризиса его системы, классовым инстинктом улавливает, что положение, перспективы его куда более мрачны, чем это представляется Пушкину; что объективность, хладнокровие, милость, просвещение — не те рычаги, которыми можно удержать, направлять и подкреплять самодержавно-крепостническую систему в данную эпоху; что нужно быть именно односторонними, нужно — хитрить, искажать, позорить…
Всё это было закреплено практикой только что начавшегося царствования, поддержано соответствующими официальными теориями и, между прочим, подтверждено тридцатью пятью вопросительными знаками (при одном восклицательном), выставленными на полях записки «О народном воспитании».
Финал записки не вызвал царских возражений; впрочем, не исключено, что Николай его едва пробежал, как часто делал, если суть сочинения ему уже ясна.
Пушкин же и в последних строках записки не раз намекает на то, о чём говорилось в Чудовом дворце 8 сентября 1826 года.
Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину. История Государства Российского есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека. Россия слишком малоизвестна русским; сверх её истории, её статистика, её законодательство требуют особенных кафедр. Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве.
Сам от себя я бы никогда не осмелился представить на рассмотрение правительства столь недостаточные замечания о предмете столь важном, каково есть народное воспитание: одно желание усердием и искренностию оправдать высочайшие милости, мною не заслуженные, понудило меня исполнить вверенное мне препоручение. Ободренный первым вниманием государя императора, всеподданнейше прошу его величество дозволить мне повергнуть пред ним мысли касательно предметов, более мне близких и знакомых.
Мы видим в этой части письменного диалога, по меньшей мере, четыре «элемента» прежнего, устного.
Во-первых, Карамзин. Уже не раз говорилось, что историограф как бы незримо присутствует на царской аудиенции. Карамзин, официально признанный, прославленный Николаем и столь уважаемый Пушкиным, явился как будто той фигурой, которая и посмертно могла помочь первому поэту найти общий язык с царём; неслучайно именно здесь, в записке «О народном воспитании», Пушкин впервые обнародует свою излюбленную формулу об «Истории…» Карамзина как «подвиге честного человека» (см. об этом подробнее в главе V).
Во-вторых, Россия. Усиливавшийся в 1820-х годах интерес Пушкина к русской истории, народной стихии — всё это формально, чисто внешне, совпадало и с постепенным усилением «народности» в политической линии, агитационных приёмах власти. Николай I, по-русски демонстративно писавший чаще, чем его брат Александр, возможно, одобрил во время беседы «русское направление» Пушкина.
Третий отзвук «царской беседы» — слова Пушкина об искреннем и усердном соединении с правительством «в великом подвиге улучшения государственных постановлений»: это едва ли не прямая цитата из разговора, где царь призывал Пушкина и его друзей вместе с ним дело делать, а не «препятствовать», «безумно упорствовать» (слово «безумно» Пушкин вписал в уже готовую рукопись).
Поэт напоминал о соглашении, заключённом 8 сентября.
Наконец, четвёртое: царь, несомненно, сказал Пушкину, что «употребит его способности» в связи с обсуждением важнейших предметов. Собственно говоря, просьба-приказ написать записку «О народном воспитании» была первым опытом… Пушкин намекает, что обучение, воспитание не есть главное его занятие. Кроме литературы, журналистики, он, среди предметов «близких и знакомых», несомненно также числит историю. Это видно и по особой разработке «исторической части» в записке; это видно и по тому, что осенью следующего, 1827 года поэт поведает А. Вульфу о своих планах писать историю «настоящего времени»;[225] наконец, мы знаем, что с начала 1830-х годов Пушкин уже прямо и не раз предлагает царю — воспользоваться его историческими познаниями.
Поэт оканчивает записку. Он сам неоднократно апеллирует к двухмесячной давности аудиенции, повторяет на бумаге многое из того, что было сказано устно. Разумеется, понимает, что власть была бы довольна куда большим изъявлением верноподданности и смирения, нежели это проявилось в записке. Однако при том Пушкин не мог ожидать и столь раздражённой царской реакции — 35 знаков вопроса против 28-ми мест пушкинской рукописи, отрицающие почти всё, что он предлагал. И, разумеется, дело не в том, что сам поэт вряд ли когда-либо узнал о «царском карандаше» на полях его записки; дело в объективной сути вещей…
Исследуя пушкинскую записку, А. Цейтлин в своё время отметил общую резкость формулировок: «Нужно было обладать большой трезвостью суждения для того, чтобы сказать в 1826 году, что „чины сделались страстию русского народа“, что „в России всё продажно“, что окружённый „одними холопями“, дворянский ребёнок „видит одни гнусные примеры“»[226]. Справедливо оспаривая мнение ряда пушкинистов, видевших в «Записке» лишь уступку, компромисс, А. Цейтлин в то же время впал в противоположную крайность, утверждая, будто «ни в одном пункте своей записки Пушкин не соглашался с тем, что в его пору осуществлялось Николаем I»[227].
Сложность, своеобразие диалога были как раз в том, что царя не устраивали даже пушкинские строки, формально не противоречившие официальным планам и начинаниям: не устраивали подтекстом, общим духом, ясным ощущением, что собеседник — «не свой».
«Милостивая аудиенция» и «вопросительные знаки» обозначали предел, рамки возможных отношений с поэтом.
Глава III. «Снова тучи…»
Рок завистливый…
Противоречие между внешне благоприятной беседой 8 сентября и неблагоприятной реакцией царя на текст, близкий к той беседе: чтобы точнее разобраться во всём этом, необходимо обозрение некоторых событий, последовавших за окончанием записки «О народном воспитании».
Декабрь 1826-го
Отправив царю «Бориса Годунова» и «Записку», Пушкин первую половину месяца ещё отлеживается в псковской гостинице. По-видимому, здесь он получает сообщение Бенкендорфа (от 9 декабря), что «Борис Годунов» передан царю; последняя же фраза письма была ответом на вежливые пушкинские сомнения, следует ли «человека государственного» беспокоить «ничтожными литературными занятиями» (XIII, 308).
Шеф жандармов не менее вежливо просил Пушкина «сообщать мне <…> все и мелкие труды блистательного вашего пера» (XIII, 312).
Теперь Пушкин яснее понимал своё положение и степень высочайшего контроля.
Меж тем пометой «13 декабря, Псков» сопровождается самое раннее из нам известных потаённых пушкинских стихотворений, обращённых к декабристам,— «Мой первый друг, мой друг бесценный…»
Послание Пущину, где тёплые высокие слова были отданы «государственному преступнику», осуждённому по высшему, 1-му разряду, где автор желал «озарить заточенье» друга,— как видим, хронологически соседствует с документом, где о декабристах говорится как о «молодых людях», вовлечённых в «преступные заблуждения».
И в дальнейшем, в течение нескольких лет, сочинения, сочувственные к узникам, безусловно, нелегальные, вольные, перемежаются текстами внешне лояльными, комплиментарными в адрес высшей власти. Автору книги уже приходилось высказываться о том, что сам поэт с его широчайшим взглядом на сцепление вещей и обстоятельств не видел тут никакого противоречия; что оба полюса — «сила вещей» правительства и «дум высокое стремленье» осуждённых — составляли сложнейшее диалектическое единство в системе его поэтического и нравственного мышления, «дум высоких вдохновенья»[228].
Разумеется, сохранение этого единства нелегко давалось самому поэту; понимание его позиции было труднейшей задачей для старых друзей-декабристов — и совершенно невозможной для подозрительной власти.
Отношения с престолом, как будто столь улучшившиеся в сентябре 1826-го, в декабре явно продолжают осложняться. Возвратившись в середине месяца в Москву, Пушкин получил крайне огорчительное для него письмо Бенкендорфа от 14 декабря с замечаниями Николая I, делавшими невозможной публикацию «Бориса Годунова».
Пушкин не мог знать, разве — догадывался, что царский ответ опирался на подробную рецензию некоего «верного человека». В спорах — кто был анонимный рецензент — мы присоединяемся к мнению Б. П. Городецкого, назвавшего Н. И. Греча[229].
Правда, участие Булгарина отвергалось на том основании, будто журналист в конце 1826 года ещё не окончательно «сомкнулся» с III Отделением: меж тем представленная только что «погодинская история» свидетельствует как раз об активном сотрудничестве Булгарина с Бенкендорфом уже в ноябре 1826-го. Однако между «грачами-разбойниками», Булгариным и Гречем, было, как видно, определённое разделение труда. Во всяком случае, отмеченные Городецким почти буквальные совпадения фрагментов записки о «Борисе Годунове» с текстами Греча[230] достаточно убедительны. К тому же анонимную рецензию отличает определённый русский колорит, например, хорошее знание российских пословиц; вряд ли поляк, католик Булгарин мог бы столь определённо написать следующие строки, попавшие в записку о «Борисе Годунове»: «Характеристическая черта русского народа есть то, что он привержен вере и обрядам церковным и вовсе не уважает духовного звания, как тогда только, когда оно в полном облачении. Все сказки, все анекдоты не обходятся без попа, представленного всегда в дурном виде»[231].
Поскольку мы коснулись эпизода с царским цензурованном «Бориса», следует отметить, что и рецензент-аноним, и даже Бенкендорф не возражали против публикации комедии с некоторыми купюрами, однако царь не согласился и сам предложил Пушкину с «нужным очищением» переделать её в «историческую повесть или роман на подобие Вальтера Скотта» (XIII, 313). Чем вызвана именно такая формулировка?
Отмечалось, что царь опирался на суждение «рецензента» о драме Пушкина, напоминающей «состав вырванных листов из романа Вальтера Скотта»[232]. Однако, надо думать, куда более впечатляющим было для царя другое замечание Греча о пьесе: «Разумеется, что играть её невозможно и не должно, ибо у нас не видывали патриарха и монахов на сцене»[233].
Иначе говоря, отмечалась большая общественная опасность игры, представления, нежели просто чтения. К тому же вот как рецензент (впрочем, безо всяких прямых упрёков Пушкину) пересказывает завязку пьесы: «Она начинается со дня вступления Годунова на царство, изображает притворство и лукавство Бориса, отклоняющего сначала от себя великий сан царя, по избранию духовенства и бояр; возобновление усиленных их убеждений и, наконец, его согласие к принятию правления»[234].
Сопоставление этих фактов с событиями междуцарствия в ноябре — декабре 1825 года (отказ Николая — переговоры — уговоры — согласие) — всё это, конечно, было очевидным, актуальным и тем более вызывало желание «обезвредить» возможный эффект представления, сценического прочтения. Слухи о большом впечатлении, которое произвело на слушателей чтение Пушкиным своей драмы, только укрепили уверенность Николая в своей правоте. Иначе говоря, царю «виднее», чем начальнику полиции и потаённому эксперту, возможная, потенциальная опасность разрешения и немедленной публикации «Бориса Годунова». Пушкину предлагается переработать драму в повесть — поэт вежливо и твёрдо отказывается в письме Бенкендорфу от 3 января 1827 года: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное» (XIII, 317).
Примерно в те же дни, когда Пушкин переживал судьбу своего «Бориса», царь покрывал поля его записки «О народном воспитании» вопросительными знаками и затем диктовал Бенкендорфу, что ответить поэту. Письмо шефа жандармов от 23 декабря 1826 года точно передавало общее царское мнение о мыслях Пушкина, высказанных в записке: «Государь император с удовольствием изволил читать рассуждения ваши о народном воспитании и поручил мне изъявить Вам высочайшую свою признательность.
Его величество при сём заметить изволил, что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлёкшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения Ваши заключают в себе много полезных истин» (XIII, 314—315).
Это письмо и было той «головомойкой», о которой Пушкин рассказывал Вульфу. Вопросительные знаки слились в несколько строк «резолюции»: не просвещение и гений основа российского прогресса, а «прилежное служение», верноподданные идеи[235].
Пушкин считает просвещение главным путём обновления России; царь и Бенкендорф ставят его на второе, третье или более дальние места: сначала верноподданность и только потом — просвещение и «гений».
Кстати, насчёт последнего слова, попавшего в царский ответ, исследователи испытывали известное недоумение: о «просвещении» в записке поэта говорится много — но при чём тут гений? М. И. Сухомлинов полагал, что, «приписывая Пушкину поклонение гению, Бенкендорф находился, быть может, под влиянием тех лиц, которые внушили ему, что Пушкин чрезвычайно горд, самонадеян и придаёт чересчур большое значение своему поэтическому таланту»[236]. Меж тем во французском подлиннике слова «l’instruction et le genie» подразумевают просвещение и дух, то есть внутренний мир, внутреннюю свободу человека, народа. Царь как бы передавал своё отрицательное мнение насчёт любимой пушкинской мысли — «народная свобода — неминуемое следствие просвещения».
Выходило, что Николай уже знал ответ задачи, которую ставил Пушкину, и смысл записки — в проверке самого Пушкина.
Выходило, что Пушкин неверно понял разговор о просвещении, на котором будто бы поладил с царём 8 сентября.
Создавалось впечатление, что достигнутое прежде — теперь оспорено, берётся обратно.
Снова и снова у исследователей возникает соблазн — объяснить событие тем, что в сентябре Пушкина обманули, теперь обман открылся…
В самом деле, написаны, возможно, ещё в Пскове, но завершены в Москве пушкинские «Стансы» («В надежде славы и добра…»), очень комплиментарные в адрес царя и оспаривающие подозрение Бенкендорфа, будто поэт неблагодарен; эти стихи Пушкин перебелил накануне нового, 1827 года, но — не стал их пока отдавать в печать.
Поэту было неясно, понравятся ли Николаю строки, где ему, посредством похвалы Петру Великому, рекомендуется любовь к просвещению («Стансы» в этом смысле — явная параллель записке «О народном воспитании»); не поставит ли царь вопросительного знака против строк:
или:
Можно предположить, что Пушкин не торопился печатать уже готовые «Стансы» из чувства обиды.
«Борис Годунов» фактически запрещён, записка «О народном воспитании» встречена неблагосклонно; в конце декабря поэт провожает в сибирский путь Марию Волконскую, передаёт высокие, сочувственные слова декабристам, а вскоре, с другой декабристкой, А. Г. Муравьёвой, посылает в Читу послание «Во глубине сибирских руд…».
Д. Д. Благой справедливо отметил, что даже ссылка Пушкина формально, юридически не была прекращена — он как бы числился во временной отлучке: на просьбу матери поэта об официальном даровании её сыну прощения 30 января 1827 года «высочайшего соизволения не последовало». Царь отказывал тем самым Пушкину и в посещении Петербурга[237].
Меж тем всё тянется дело об «Андрее Шенье».
4 марта Пушкину сделан ещё один, правда, лёгкий выговор за то, что он не прямо представил свои стихи Бенкендорфу, но воспользовался посредничеством Дельвига (XIII, 322—323)[238].
Кажется, поэт и царь, мнимо сблизившись, удаляются; обращения к декабристам всё теплее…
Однако 3 мая 1827 года царь через Бенкендорфа всё же передаёт Пушкину разрешение приехать в Петербург, впрочем, напоминает о честном слове поэта — «вести себя благородно и пристойно» (XIII, 329). Здесь, в столице, Пушкин, уже искусившийся в тонкостях этикета, просит аудиенции у Бенкендорфа, шеф жандармов отправляется к Николаю, и на прошении появляется царская карандашная резолюция: «Пригласить его в среду, в 2 часа, в Петербурге» (XIII, 331).
6 июля 1827 года Пушкин посетил Бенкендорфа и, возможно, впервые познакомился с ним не только по письмам.
Эта аудиенция была как бы уменьшенным повторением кремлёвской встречи 8 сентября 1826 года.
Мы не имеем о ней сведений, кроме общего замечания Бенкендорфа: «Он всё-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно»[239]. Во всяком случае, в ближайшие месяцы Пушкин новых выговоров не получает; и очень знаменательно, что 20 июля, через несколько дней после аудиенции у Бенкендорфа, поэт пересылает шефу жандармов несколько своих последних сочинений, и в их числе «Стансы», написанные восемь месяцев назад.
22 августа Бенкендорф отвечает довольно милостиво и сообщает между прочим о разрешении «Стансов» (см. XIII, 333, 335).
Стихи «В надежде славы и добра…» появляются в январе 1828 года[240].
Итак, летом 1827-го Пушкина опять «простили», как это было почти годом раньше, в сентябре 1826-го.
Публикация «Стансов» имела немалые последствия для формирования общественного взгляда на Пушкина и его творчество.
По существу, это ведь была первая печатная декларация поэта о его примирении с новым порядком вещей.
Декабристы и связанные с ними круги, как известно, восприняли «Стансы» в общем враждебно или настороженно[241].
Довольно быстро, через несколько недель после публикации «Стансов», Пушкин уже пишет и представляет царю ответ на «левую критику» — стихотворение «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю//Хвалу свободную слагаю»). 5 марта 1828 года Бенкендорф сообщает Пушкину, что «государь <…> с большим удовольствием читал шестую главу Евгения Онегина.
Что же касается до стихотворения Вашего под заглавием „Друзьям“, то его величество совершенно доволен им, но не желает, чтобы оно было напечатано» (XIV, 6).
Царь, не допустив «Друзьям» к печати, выразил недвусмысленное желание насчёт рукописного распространения стихов: «Cela peut courir, mais pas être imprimé»[242].
Мы, наблюдаем, кажется, самый мирный период во взаимоотношениях поэта и власти. Вскоре после этого, 22 марта и 2 мая 1828 года, без всяких препятствий разрешено переиздание «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника». Царское «с удовольствием», «доволен» звучит как эхо кремлёвской аудиенции — «Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин». И тем острее, неожиданнее последующие события 1828 года, которые, однако, и по сути своей, и по некоторым чисто формальным признакам (новое прямое объяснение поэта с царём) также являются отзвуком сентябрьской беседы 1826 года и помогают «задним числом» ещё лучше её расслышать… «Кризис 1828 года» был завершением переломных месяцев пушкинской биографии; его разбор позволяет ещё ближе подойти к ответу на вопрос: что же происходило на самом деле между поэтом и верховной властью в 1826—1828 годах, под прикрытием внешних событий?
«Гавриилиада»
Весной и летом 1828 года дело об «Андрее Шенье» вдруг переплелось с событиями вокруг «Гавриилиады».
Смелая, преступная с точки зрения официальной церкви поэма, как известно, была написана Пушкиным задолго до рассматриваемых событий[243]. Однако прежде чем привести некоторые новые документы и соображения насчёт «Гавриилиады», напомним кратко о её судьбе. Без этого ряд важных событий 1828 года не может быть понят.
«Гавриилиада» сочинена в апреле 1821 года.
Автограф её не обнаружен и вряд ли когда-либо будет обнаружен: сочинитель в своё время принял меры предосторожности. До сих пор, между прочим, почти не изучено важнейшее и, конечно, авторитетное утверждение П. В. Анненкова (располагавшего не дошедшими до нас записками H. С. Алексеева), что первоначальный замысел «сатанинской» поэмы был много шире, затрагивал в богохульной сатирической форме разные стороны российской общественной и политической жизни[244].
В 1821—1822 годах Пушкин сообщает текст поэмы П. А. Вяземскому, А. И. Тургеневу и, может быть, ещё немногим доверенным лицам. В течение нескольких следующих лет число списков множится, поэма, естественно, распространяется в декабристской среде[245].
8 марта 1826 года, во время следствия над декабристами, жандармский полковник И. П. Бибиков (уже упоминавшийся в главе II в связи с доносом Булгарина на Погодина, Пушкина и Вяземского) между прочим писал Бенкендорфу из Москвы о массе мятежных стихотворений, которые разносят пламя восстания «во все состояния и нападают с опасным и вероломным оружием насмешки на святость религии, этой узды, необходимой для всех народов, а особенно — для русских (см. „Гавриилиаду“, сочинение А. Пушкина)»[246].
1828 год — дело о «Гавриилиаде», угрожающее Пушкину. Материалы секретного делопроизводства на долгие годы были спрятаны в архиве III Отделения и некоторых других хранилищах. Первые публикации стали возможны лишь с начала XX столетия[247].
О том, с каким трудом тайная полиция отдавала пушкинские секреты даже семьдесят — восемьдесят лет спустя, свидетельствуют любопытные рассказы редактора «Всемирного вестника» С. С. Сухонина, который в 1905 году с трудом добился от директора департамента А. А. Лопухина разрешения ознакомиться с делом Пушкина:
«В назначенный день я приехал в департамент полиции и с душевным трепетом прошёл через множество покоев в помещение архива.
Меня встретил начальник архива и, указывая на разложенные на столе дела, сказал, что я могу заниматься, сколько мне угодно времени.
— Я никак не думал,— сказал я не без смущения,— что документов так много… Списывание отнимет очень много времени, а я временем совсем не располагаю. Придётся привезти человека.
— Простите,— сухо возразил чиновник,— вам разрешено „заниматься“ делом Пушкина, а насчёт списывания ничего не говорится. Человека же вашего мы сюда не допустим. Впрочем, подайте прошение.
Я попросил проводить меня к директору. А. А. Лопухин меня сейчас же принял и, узнав, в чём дело, вспылил:
— Когда я только их всех повыгоню отсюда!
И приказал допускать моего человека беспрепятственно в помещение архива для снятия из дела о Пушкине нужных мне копий».
На этом, однако, трудности не окончились. Новый начальник департамента Н. П. Гарин потребовал для просмотра гранки подготавливаемой публикации, касавшиеся «давно минувших дней».
«Странно я себя чувствовал,— продолжает С. С. Сухонин, описывая встречу с Гариным.— Я сознавал, что нахожусь в кабинете директора департамента полиции, директора того учреждения, которое является не чем иным, как тем же самым страшным III Отделением, только под другим наименованием,— того учреждения, которое самому Пушкину причинило так много вреда, обиды и огорчения; и сегодня, в кабинете начальника этого учреждения, я сижу скорее не как у необычайного цензора, а у гостеприимного, любезного хозяина, и провожу время в литературном споре… Всё окружающее было так странно и, скажу откровенно,— мало понятно, что я иногда положительно забывал, что я в III Отделении, и только частые появления каких-то лиц в вицмундирах, которых Н. П. Гарин, отходя от стола в сторону, выслушивал и тихо им что-то говорил, указывали мне на действительное моё пребывание».
В феврале 1906 года Сухонину, однако, были запрещены новые посещения архива департамента со ссылкою на министра внутренних дел Дурново[248].
Разрешения-запреты на поиски секретных пушкинских дел привели, между прочим, к одному парадоксальному результату: Николай II, узнав из соответствующих публикаций, что Пушкин в 1828 году обратился с каким-то откровенным письмом к Николаю I, распорядился сыскать это письмо. Следы поиска сохранились в государственных архивах, однако самодержавие было уже «государственной тайной для самого себя», и пушкинское письмо царю по поводу «Гавриилиады» найти тогда не сумели[249]. Текст его был обнаружен в 1951 году в Государственном историческом архиве Московской области, в фонде Бахметевых. Длительные сомнения насчёт подлинности и достоверности этого документа были в конце концов разрешены в научном исследовании, опубликованном в 1978 году[250].
Эта последняя публикация, а также некоторые новые архивные изыскания и позволяют опять обратиться к событиям трудного для Пушкина 1828 года.
1828 год
В мае дворовые люди помещика, отставного штабс-капитана Митькова, Никифор Денисов и Спиридон Ефимов, в Петербурге, будто бы показывают «какому-то монаху» рукопись «богохульной поэмы» («Гавриилиады»), которую их хозяин переписал собственной рукой да ещё и читал вслух. Монах (как утверждали дворовые) составил за них текст письма на имя митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Серафима, причём Денисов и Ефимов особенно подчёркивали бескорыстие духовного лица, которое трудилось безвозмездно и даже не пожелало назвать своё имя. Разумеется, нет никаких доказательств, что дело обстояло именно так; вполне возможно, что крепостные люди сами сговорились, хорошо зная, что по закону им запрещено жаловаться на господина.
Так или иначе, митрополит Серафим получил донос вместе с поэмой и тут же дал делу ход[251]. Известна роль этого духовного иерарха в событиях 14 декабря 1825 года, когда он, вместе с другими священнослужителями, без успеха пытался увещевать восставших. Именно Серафим после казни декабристов составил «высочайше апробованный» документ: «Благодарственное молебное пение господу богу, даровавшему победу на ниспровержение в 14 день декабря 1825 года крамолы, угрожавшей всему русскому государству»[252].
Отметим, что в архиве Синода не осталось почти никаких следов дела о «Гавриилиаде», которое, казалось бы, прямо касалось церковных властей: всё делопроизводство сосредоточивается в III Отделении, а также, попутно, вторично — в делах II отделения императорской канцелярии и Военного министерства[253].
Меж тем в июне 1828 года, пока что независимо от дела о «Гавриилиаде», приближается к завершению давнее следствие по поводу «Андрея Шенье».
Сенат, а затем департамент гражданских и духовных дел Государственного совета нашли Пушкина «виновным за выпуск означенных стихов в публику прежде дозволения цензуры»[254], но поэт попадал под царскую коронационную амнистию (22 августа 1826 г.). Дело казалось для Пушкина оконченным. Однако затем ситуация осложняется. В начале 1828 года Николай I отправляется в действующую против турок армию; верховный надзор осуществляет Временная верховная комиссия (В. П. Кочубей, П. А. Толстой, А. Н. Голицын).
29 июня датируется первый официальный документ о привлечении к допросу виновных по делу о «Гавриилиаде»[255] — пока что вызывается лишь обладатель списка поэмы Митьков, но автор, Пушкин, конечно же «поставлен в очередь».
Накануне же, 28 июня, общее собрание Государственного совета сочло недостаточным заключение предшествующих инстанций насчёт «Андрея Шенье» и усилило «меру пресечения»: Пушкин был обвинён «в неприличных выражениях его в ответах своих…»
Речь шла об ответах годичной давности на заданные тогда вопросы.
Неприличные выражения, прежде не зафиксированные ни Сенатом, ни департаментом гражданских и духовных дел, вдруг замечены членами Государственного совета, собравшимися на общее собрание.
Среди высших персон, неблагоприятно отнёсшихся к поэту,— все три члена Временной верховной комиссии: Кочубей, Толстой, Голицын, разумеется, лучше всех осведомлённые и о движении дела насчёт «Гавриилиады». П. Е. Щёголев, констатируя враждебную позицию совета, не дал этому неожиданному повороту никаких объяснений. Меж тем близость дат (28 и 29 июня 1828 г.), «единство надзора» за обоими «сюжетами» («Гавриилиады» и «Андрея Шенье») — вот откуда внезапная на первый взгляд суровость Государственного совета.
Через месяц, 28 июля 1828 года, царь вдали от столицы утвердит решение петербургских сановников. Пушкина в это время уже собираются допросить о «Гавриилиаде», параллельно же оформляется система надзора и репрессий, рекомендованная Государственным советом.
18 августа 1828 года столичный генерал-губернатор П. В. Голенищев-Кутузов предписал обер-полицмейстеру: «Известного стихотворца Пушкина обязать подпискою, дабы он впредь никаких сочинений, без рассмотрения и пропуска оных цензурою, не осмеливался выпускать в публику под опасностью строгого по закону взыскания, и между тем учинить за ним безгласный надзор»[256].
Пушкин вынужден был дать унизительную подписку, ясно определившую его «новый статус»; подписку, завершавшую дело об одних стихах («Андрей Шенье»), но по сути, по смыслу открывавшую преследования за «Гавриилиаду».
Обозначим основные этапы дальнейшего следствия кратким напоминанием известных вещей.
Июнь — август 1828 года. Верховная комиссия призывает поэта несколько раз, требует ответить на вопрос Николая I, присланный с Балкан: «От кого получена Пушкиным „Гавриилиада“?»
Поэт не признаётся: мы догадываемся, что его раздражают подозрения в крайних революционных взглядах (за «Шенье»), в атеизме и богохульстве — за поэму.
Он объявляет, что «рукопись ходила между офицерами Гусарского полку, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомню. Мой же список сжёг я, вероятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное»[257].
В черновике этой же записки видна попытка Пушкина приписать авторство «покойному поэту кн. Дм. Горчакову», однако в окончательный текст этот способ оправдания не попал; зато о возможном авторстве Горчакова Пушкин в эти дни писал П. А. Вяземскому, явно надеясь, что письмо вскроют на почте (см. XIV, 26).
Снова и снова парадоксы: прощённый царём 8 сентября 1826 года, казалось бы, за все грехи предшествующих лет, Пушкин на недоверие власти отвечает недоверием к её милости; он помнит, что именно за подозрение в атеизме был сослан в Михайловское в 1824 году — и не желает «виниться» в сочинении 1821 года.
Осенью 1828 года царь, однако, велит спросить Пушкина «моим именем».
Положение поэта трудное; формальных доказательств его авторства следователи не имеют, но в то же время сочинитель «Гавриилиады», кажется, всем известен и по слухам, и по слогу — «по когтям»…
Возникает ситуация, предельно похожая на ту, что была во время разговора в Чудовом дворце, когда не генерал или министр, но сам царь спрашивал: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?»
В протоколе заседания Временной верховной комиссии от 7 октября 1828 года записано: «Главнокомандующий в С.-Петербурге и Кронштадте, исполнив выше помянутую собственноручную его величества отметку, требовал от Пушкина, чтобы он, видя такое к себе благоснисхождение его величества, не отговаривался от объявления истины, на что Пушкин по довольном молчании и размышлении спрашивал, позволено ли ему будет написать прямо государю императору, и, получив на сие удовлетворительный ответ, тут же написал к его величеству письмо и, запечатав оное, вручил его графу Толстому.
Комиссия положила, не раскрывая письма сего, представить оное его величеству»[258].
Сквозь официальный текст просвечивает очень многое: Пушкин в присутствии очень важных особ долго молчит и размышляет (что производит, очевидно, неблагоприятное впечатление и вносится в протокол); затем — спрашивает у министров, можно ли ему их «игнорировать»: он согласен беседовать только с государем и подчёркивает это запечатыванием письма. Комиссия, имевшая право читать в это время всё, что шло на имя Николая, в данном случае не решается своевольничать.
Письмо царю отправлено. Запись Пушкина 16 октября 1828 года «гр. Т… от государя» давно понята как дата прощения, переданного П. А. Толстым от имени императора[259]. Догадываемся, что при том последовало нравоучение, то ли от царя, то ли от члена Временной комиссии князя Голицына. Это видно по конспективной записи Ю. Н. Бартенева, сделанной за князем А. Н. Голицыным: «Управление князя Кочубея и Толстого во время отсутствия князя. Гаврильяда Пушкина. Отпирательство Пушкина. Признание. Обращение с ним государя.— Важный отзыв князя, что не надобно осуждать умерших»[260].
Возможно, что «умерший» — это А. С. Пушкин (запись сделана 30 декабря 1837 г.); но не исключено, что задним числом осуждается попытка поэта в 1828 году произвести в авторы «Гавриилиады» покойного к тому времени князя Дмитрия Горчакова.
31 декабря 1828 года. На докладную записку статс-секретаря H. Н. Муравьёва о новых распоряжениях к отысканию автора «Гавриилиады» царь наложил вполне самодержавную резолюцию: «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено»[261].
Письмо царю
Как уже отмечалось выше, текст пушкинского письма-признания царю (от 2 октября 1828 г.) был обнаружен 123 года спустя; а ещё через 27 лет последовала научная публикация.
Ровно полтора века документ отсутствовал: последняя резолюция Николая I по поводу «Гавриилиады» подчёркивала, что нет необходимости какой-либо огласки, углубления следствия и т. п. Самодержавие в течение двух-трёх лет после 14 декабря немного успокоилось и довольно ясно представляло, что в стране больше нет никакого серьёзного подполья; с другой стороны, ещё не был исчерпан правительственный курс на реформы; то, за что в 1826 году неминуемо последовали бы жестокие репрессии, длинная цепь арестов — теперь, в 1828-м, расследовалось более «спокойно». Кроме того, охранительный инстинкт во время процесса декабристов подсказывал власти — изымать, уничтожать тексты наиболее «соблазнительных» стихов и песен, а также какие-либо сведения о них: легко запоминающиеся строки могли быть распространены кем-либо из чиновников, канцеляристов и др. Таким же образом теперь обходились и с «Гавриилиадой». Список, изъятый у В. Ф. Митькова, был по этой логике уничтожен; вероятно, так же как — откровенное письмо Пушкина к императору.
Как сейчас выяснено, копию с подлинного пушкинского письма к царю (точнее, с его основной части) снял Алексей Николаевич Бахметев. Напомним вкратце основные обстоятельства, изложенные в статье В. П. Гурьянова[262].
Копия письма, как уже говорилось, обнаружена в составе обширного архива Бахметевых, поступившего в государственное хранилище в 1951 году[263].
А. Н. Бахметев родился в 1798 году; уже после смерти Пушкина он стал гофмейстером, попечителем Московского университета, скончался в 1861 году. 28 июля 1829-го, то есть через год после истории с «Гавриилиадой», Бахметев женился на Анне Петровне Толстой (1804—1884), дочери графа Петра Александровича Толстого — того самого, кто фактически возглавлял расследование насчёт «Гавриилиады». По всей вероятности, именно у П. А. Толстого его зять мог скопировать пушкинский документ: важный сановник, один из самых близких к царю людей, Толстой, разумеется, был знаком с содержанием письма, хотя и запечатанного в его присутствии. Располагал ли П. А. Толстой подлинником пушкинского послания от 2 октября или только копией, сказать невозможно. Заметим, однако, что семье генерала были не чужды литературные интересы и привязанности. Сын П. А. Толстого, Александр Петрович (сыгравший, как известно, заметную роль в жизни Н. В. Гоголя), был с Пушкиным коротко знаком, ходили слухи, что у него имеется собрание «хороших стихов» поэта[264]. Наконец, сам А. Н. Бахметев живо интересовался Пушкиным: в 1828 году он путешествовал за границей, возвратился оттуда не ранее 1829-го. Любопытно, что будущий тесть, П. А. Толстой, извещал его (1/13 января 1829 г. из Москвы): «Пушкин здесь — я его не видел». В том же архиве А. Н. Бахметева есть и другие письма, свидетельствующие о литературном и человеческом интересе Бахметева к Пушкину[265].
Таким образом, положение Бахметева, его интересы, а также «физическая невозможность» в XIX столетии скомпоновать, подделать подобный текст — всё это позволяет определить сделанную им копию письма к царю — как важнейший документ для изучения биографии и творчества поэта[266].
Текст письма к царю таков:
«Будучи вопрошаем Правительством, я не почитал себя обязанным признаться в шалости, столь же постыдной, как и преступной.— Но теперь, вопрошаемый прямо от лица моего Государя, объявляю, что Гаврилиада сочинена мною в 1817 году.
Повергая себя милосердию и великодушию царскому есмь Вашего императорского Величества верноподанный
Александр Пушкин.
2 октября 1828. С. Петербург».
Отсутствие обращения к царю и «непушкинская» орфография слов «верноподданный», «Гавриилиада» — обычный вид расхождения между подлинником и копией; основной смысл письма безусловно сохранён.
Первая фраза письма уже была оценена выше: поэт беседует только с царём. Как бы продолжая разговор в Кремле 8 сентября 1826 года, Пушкин смело признаётся в опасном поступке, в то же время поэт в сильных выражениях порицает свою «шалость»: здесь также перекличка с аудиенцией 1826 года, когда речь шла о стихах «Кинжал» и других прежних сочинениях, а Николай брал с автора слово — больше «не шалить».
Прямая откровенность Пушкина была его сильным оружием в диалогах с высшей властью: это неплохо понял П. И. Миллер, позже сопоставляя беседы поэта с царём, Милорадовичем и Бенкендорфом. Однако искренность Пушкина в эти моменты не переходила известного рубежа; он никогда не забывался и не считал даже дружески расположенных важных собеседников «своими людьми». Мы помним, что в 1820 году, когда Милорадович требовал признания в опасных стихах, Пушкин, записывая свои бесцензурные сочинения, в одном или нескольких случаях не рискнул представить доброжелательному генералу уж очень крамольные строки[267].
Во время первой беседы с Николаем поэт также не пускался, конечно, в слишком откровенную исповедь и ни словом не обмолвился о «Гавриилиаде».
Подобная же предосторожность — и в письме 1828 года по поводу этой поэмы.
Пока Пушкин «запирался» перед Временной комиссией и приписывал поэму умершему автору, он датировал своё знакомство с нею 1820 годом (то есть временем непосредственно перед высылкою из столицы). В письме же к царю, признавая собственное авторство, поэт всё же отодвигает его на четыре года от настоящей даты: действительно, если «Гавриилиада» сочинена в 1821 году — значит, ссылка на юг «не помогла». Зато сочинение 1817 года заслуживает снисхождения как «грехи юности»; к тому же за них автор уже и наказан в 1820-м!
Итак, признание, смелая откровенность — и при том недоверчивая осторожность. Всё та же неоднократно отмеченная двойственность: необходимая защита от двоедушия и двоемыслия власти!
Уже говорилось, что извинение, покаяние за «Гавриилиаду» Пушкину далось тем легче, что он в этот период и позже уже иначе, более сложно, осмыслял проблемы веры, религии, церкви.
Не углубляясь в непростой, пока ещё слабо изученный вопрос о вере или неверии поэта, отметим только, что явно не оправдались попытки некоторых дореволюционных авторов путём односторонней подборки фактов доказать глубокую религиозность Пушкина в конце жизни; неплодотворными были и выводы некоторых советских исследователей насчёт постоянного пушкинского атеизма. Вопрос этот, повторяем, требует осторожного, исторического подхода. Сам характер пушкинских общественных взглядов, которые окончательно сложились в последнее десятилетие его жизни, отличался глубоким, многосторонним историзмом, особой терпимостью к традиции, к давно сложившимся чертам народной идеологии. Известное свидетельство П. В. Нащокина о том, что Пушкин «не любил вспоминать Гавриилиаду»[268], доказывает отнюдь не только осторожность поэта, но более всего — эволюцию мировоззрения, иной взгляд, сквозь прожитые годы, на дела «мятежной юности».
Много лет спустя другой приятель Пушкина, С. Д. Полторацкий, также ссылаясь на нежелание Пушкина, осудит Герцена за его стремление опубликовать «Гавриилиаду»…[269]
Поэма, однако, уже жила и распространялась, не подчиняясь даже воле своего гениального создателя…
Мы прошли от начала до конца, насколько это было возможно, по той части дела о «Гавриилиаде», которая непосредственно касалась самого Пушкина и, естественно, привлекала основное внимание исследователей. Однако рядом, в соответствующих документах III Отделения и в ещё не опубликованных материалах военного ведомства были представлены факты, события, имевшие хотя и косвенное отношение к поэту, но очень важные как социально-исторический контекст всего происходящего.
Фамилия обладателя списка «Гавриилиады» сразу же встревожила правительство: ведь отставной штабс-капитан Валентин Фотиевич Митьков был родным братом «государственного преступника», который как раз той весной 1828 года был доставлен на читинскую каторгу: старший из четырёх братьев Митьковых, декабрист Михаил Фотиевич, родился в 1791 году, с шестнадцати лет участвовал в различных кампаниях; в его послужном списке последовательно перечислены все главные сражения кампании 1812—1814 годов: Бородино (за которое удостоен золотой шпаги), затем Тарутино, Малоярославец, Красное, Люцен, Бауцен, Дрезден, Кульм, Лейпциг, Париж[270]. Награждённый многими орденами, Митьков в возрасте тридцати лет был уже полковником лейб-гвардии Финляндского полка, и лишь тяжёлая болезнь, от которой он подолгу лечился за границей, задержала его служебное продвижение.
Из дела М. Ф. Митькова[271] видно, что он был принят в Тайное общество в 1821 году Николаем Ивановичем Тургеневым. Именно Тургенев, а позже Пущин были наиболее близкими к нему деятелями Тайного союза. Декабрист признался, что старался «споспешествовать к освобождению крестьян, в свете с высшими себя вести без низости, а с подчинёнными — как следует хорошо образованному человеку».
На следствии, формально раскаиваясь в конституционных разговорах (Митьков утверждал, что конституцию считал «ютопией»), отрицая сделанные на него показания — будто одобрял «истребление императорской фамилии до корня», декабрист твёрдо отстаивал свои убеждения насчёт освобождения крестьян; специально заявил, что «недавно бывши в деревне, видел, что слова <его> производили на слушателей сильное действие», повторял соображения о выгодности — «освободить крестьян и дворовых».
У следствия не было данных, будто младший брат был единомышленником старшего; однако донос о «Гавриилиаде», можно сказать, к этому вёл: полковник, а теперь «государственный преступник», Михаил Митьков стоял за крестьян и вёл с ними «разговоры»; его брат Валентин Митьков тоже ведёт опасные разговоры и читает «ужасные стихи» в присутствии крестьян, дворовых.
Митьков-декабрист признавался, что «свободный образ мыслей <…> заимствовал из чтения книг и от сообщества Николая Тургенева»; ссылка на Тургенева, находившегося за границей, для следствия была хорошо понятной маскировкой других, более близких вдохновителей, чтение же опасных книг опять вызывало ассоциации с чтением опасных рукописей другим Митьковым.
Следственное дело полковника Митькова вёл в 1826 году Бенкендорф; теперь его же ведомство займётся делом отставного штабс-капитана (правда, сам шеф жандармов пока что на Балканах, вместе с царём).
Прежде чем следствие затребовало Пушкина, оно получило другие имена — близких приятелей Валентина Митькова. Само его дело было озаглавлено: «О дурном поведении штабс-капитана Митькова, Владимира, Семёна и Александра Шишковых, Мордвинова, Карадыкина, губернского секретаря Рубца, чиновника Таскина, фехтовального учителя Гомбурова». Заключение следствия сводилось к тому, что «все сии молодые люди слишком погружены в разврате, слишком облегчены презрением, чтобы казаться опасными в политическом отношении <…> Если между ними распространены возмутительные безнравственные сочинения, то сие, конечно, сделано братьями Шишковыми»[272].
Подобная характеристика, вероятно, объясняет — отчего (как увидим) власть затем не слишком углубляется в жизненные обстоятельства младшего Митькова. Братья Шишковы, конечно, попали на заметку, приятель Пушкина Александр Шишков уже и до того побывал под арестом, находился под строгим надзором. Усердные же преследования других племянников министра и консервативного государственного деятеля А. С. Шишкова, видимо, не входили в планы правительства. Поэтому дела особенно расширять не стали, но потянули к ответу автора «Гавриилиады».
Прежде чем двинуться дальше, оценим парадоксальность, трагичность сложившейся ситуации.
Растёт дело, состоящее почти из тридцати документов, причём уже из опубликованных текстов III Отделения видно, что после доноса дворовых людей на своего хозяина возник очередной «российский парадокс»: брат декабриста, читатель запрещённого Пушкина, отставной штабс-капитан Валентин Митьков начал расправляться и «со своими людьми». В деле ничего нет о домашнем наказании, которое, вероятно, не замедлило; но после того Митьков послал Денисова (почему-то одного?) на съезжую, где его выдрало уже «само государство», а затем — отдал Денисова и Ефимова в рекруты (как увидим ниже, был наказан и третий подозреваемый барином крепостной человек).
Царь и верховная власть оказались в щекотливом положении. С одной стороны, Митьков — брат государственного преступника и сам преступник; но он дворянин, офицер, а дело ведётся по доносу дворовых людей, в то время как крепостным давно запрещено доносить на хозяина.
Митьков дважды наказывает своих «холопьев» по праву, предоставленному ему законом и властью, но при том именно просвещённое дворянство после восстания декабристов находится под максимальным подозрением, власть уже неоднократно и гордо подчёркивала верность, любовь к престолу простого народа (лозунг «самодержавие, православие, народность» ещё не сформулирован, но практика — уже заявлена!).
Николай I оказался перед дилеммой: необходимость контроля, поощрения доносов на «слишком грамотных», неблагонамеренных людей; но кто же будет доносить, если «благородному смутьяну» так легко расправиться с верноподданным из низшего сословия?
По ходу расследования о «Гавриилиаде» было сделано неясное указание, чтобы строптивые митьковские дворовые не пострадали; однако пушкинская часть дела обрывается осенью 1828 года, когда оба «инициатора» уже были забриты в рекруты…
Продолжение истории находится в недавно изученных автором этих строк материалах канцелярии дежурного генерала Главного штаба (теперь ведь оба рекрута числятся по военному ведомству!). Новое дело, на двадцати семи листах, охватывало период с октября 1828 года по 31 августа 1829 года[273].
Оказывается, что 4 октября 1828 года (то есть буквально в те дни, когда Пушкин писал и подавал «письмо к царю») рекрут Никифор Денисов сочинил новую жалобу: в этот момент он должен был находиться в Отдельном Финляндском корпусе, но попал в госпиталь из Санкт-Петербургского ордонанс-гауза «для излечения болезни, полученной ещё во время бывшего в Санкт-Петербурге в 1824 году наводнения».
Заметив ещё одно причудливое пересечение судеб (маленький, подневольный, озлобленный человек пострадал недавно от той стихии, которая столь занимает поэта и ведёт его к «Медному всаднику»), —заметив это, приведём (с попутными комментариями) биографические данные о несчастном доносчике, отсутствующие в других материалах: «От роду имеет 32-й год» (то есть 1797 г. рождения); «у исповеди и святого причастия бывает; поступил на службу 11 сентября с. г. из дворовых отставного лейб-гвардии Финляндского полка поручика <так!> Митькова Пензенской губернии Чембарского уезда из поместья Малощепотье» (как видим, он земляк Белинского и Лермонтова!). «Отдан в рекруты в здешнем рекрутском присутствии самим помещиком Митьковым, живущим близ Камерного театра в доме генерала Анненкова; он был поваром и камердинером, неграмотен»[274].
Образ Никифора Денисова делается яснее: не просто дворовый, но человек бывалый, тёртый, вероятно, немало развращённый столичным «холопским обиходом».
В госпитале Денисов излагал свои горестные обстоятельства, наверное, с помощью какого-нибудь грамотея из нижних чинов. Он напоминал, что «при прошении, которое сочинил ему какой-то монах, представил преосвященнейшему митрополиту Серафиму книгу, писанную собственной рукою помещика Митькова. Книга сея была по листам скреплена товарищем его дворовым же Митькова человеком Спиридоном Ефимовым, в одно с ним время отданным в рекруты и неизвестно где теперь находящимся. Содержание оного заключалось в богохульных суждениях о Христе-спасителе, Святом духе и Пречистой божьей матери. Помещик Митьков часто читал её при нём, Денисове, и товарище его Ефимове и, сколько припомнит,— офицеру Финляндского полка Сумарокову, у коего была таковая же своя, и один раз чиновнику инженерного департамента Базилевскому» (последний слушал «с ужасом» и советовал сжечь…).
Как видим, желая избавиться от рекрутчины, дворовый человек Митькова (повар, камердинер) припоминает новые имена и, между прочим, расширяет наши представления о распространении списков с пушкинской поэмы; замечание же, что рукопись, писанную собственной рукою Митькова, скреплял по листам Спиридон Ефимов, наводит на мысль, что именно этот, как видно, грамотный дворовый, и писал первоначальный донос, хитро приписанный «какому-то монаху».
Затем Никифор Денисов продолжает: «В отмщение за сделанный извет, как он, Денисов, так и товарищ его, Ефимов, были наказаны отдачей в рекруты, а прежде того он, Денисов, был высечен в съезжем дворе розгами, а третий его же, Митькова, человек, живущий в Царском Селе, Михайло Алексеев, получил от самого Митькова побои при расспросе, не знает ли и он обозначенной книги»[275].
Оказывается, Денисов, за неделю до своего обращения в рекруты, «4 сентября подавал лично государыне-императрице просьбу о доведении до сведения его императорского величества о безбожии помещика своего».
Причудливые, уродливые формы протеста, печально естественные при неестественных обстоятельствах! В отчаянии от того, что ни жалоба митрополиту, ни просьба императрице не возымели как будто никакого действия, Денисов припоминает ещё других злоумышленников из семьи бывшего барина (странно, что во всех доносах не фигурирует имя старшего Митькова, осуждённого на каторгу).
Дворовый-рекрут продолжает: «Подобную той книге, которую он, Денисов, представил митрополиту, имеет и родной брат помещика Митькова, находящийся в Москве в батальоне кантонистов, майор Платон Фотич Митьков. О сём последнем обстоятельстве узнал он, Денисов, от товарища своего Ефимова, который в 1827-м ездил с помещиком своим в Москву и видел оную у камердинера Платона Митькова, сказавшего, что господин его читает её многим его посетителям».
Документ заканчивается мнением Денисова, что «помещик Митьков, преследуя его за вышеупомянутые доказательства, настоит теперь об отправлении Денисова в Финляндию, куда по выписке из госпиталя, вероятно, он вскоре и должен будет следовать».
Новые сообщения Денисова были быстро оценены на самом верху государственной машины; о неграмотном поваре вскоре начнут переписку Чернышёв, Бенкендорф, Голенищев-Кутузов, наконец, сам царь.
13 октября генерал А. И. Чернышёв, фактический начальник Главного штаба, один из самых чёрных следователей по делу 14 декабря, лично допрашивает Денисова; 18 или 19 октября докладывает вернувшемуся с Балкан Николаю. Царь велит всё согласовать с другими материалами дела о «Гавриилиаде». 31 октября Бенкендорф извещает Чернышёва, что он опять докладывал царю, «имея в виду высочайшие повеления об обязательстве Митькова подпискою, чтобы он отнюдь не наказывал дворовых своих людей за сделанные ими показания касательно имевшегося у него богохульного сочинения и о воспрещении ему отдать в рекруты помянутого Денисова, которого представлено ему было отпустить по паспорту с тем, чтобы он платил господину своему неотяготительный оброк».
Николай I при том собственноручно написал: «Исполнить по решению, мною утверждённому, а в рекруты не принимать»[276].
Тогда-то петербургский генерал-губернатор П. В. Голенищев-Кутузов снова потянул к ответу Митькова — как смел он нарушить царское повеление и наказать своих бдительных дворовых? Митьков же оправдывался тем, что приказал высечь и отдать в рекруты Денисова и Ефимова, ещё не зная о высочайшем повелении; кроме того, помещик заверял (насчёт рекрутства), что «мера сия согласна была с собственным их желанием и что после сего он опасается взять их обратно к себе»[277].
Самодержавие неожиданно оказалось в роли заступника пострадавших крепостных от барского засилья — или защитника преданных престолу и вере дворовых — от вольнодумца, брата декабриста, но притом не забывающего о своих грубых помещичьих правах…
После всех приведённых объяснений дело продолжается в двух направлениях. Разумеется, Чернышёв и Бенкендорф не забыли о появлении в следственных бумагах ещё одного Митькова, майора Платона Фотиевича, но прежде — не без труда — разрешилось дело самого Денисова и его товарища.
1 декабря дежурный генерал Потапов от имени своего начальника Чернышёва извещает Бенкендорфа, что царское повеление о переводе дворовых на «неотяготительный оброк» запоздало: это трудно сделать, не задев интересов помещика[278].
Доносчики должны быть поощрены, но права крепостника не должны быть затронуты!
5 декабря 1828 года Бенкендорф находит, что он «отнюдь не в праве утруждать государя императора новым докладом»; шеф жандармов считает, что теперь это дело петербургского генерал-губернатора Голенищева-Кутузова. Однако Чернышёв, рьяно проявлявший активность и уже видевший впереди кресло военного министра (которое и получит через несколько лет), докладывает царю сам[279].
11 декабря следует окончательное царское распоряжение, которое Чернышёв передаёт Бенкендорфу: «Государь император высочайше повелеть соизволил оставить их <двух дворовых> в военном ведомстве, но с тем, чтоб не были употреблены во фронтовую службу, а в нестроевую в каких-либо заведениях, к чему по усмотрению военного начальства способными окажутся»[280].
Судьба Денисова и Ефимова решена: теперь им суждено окончить свой век на нижних ступенях военной иерархии — возможно, поварами, сторожами, мелкими служителями…
Меж тем ретивый Чернышёв уже распорядился и насчёт майора Платона Митькова и опять же — о поэме «Гавриилияда» (так! В последующей канцелярской переписке попадаются и другие наименования — «Гаврильада», «Гаврильяда»…).
Третий Митьков в конце 1828 года служил в 25-м егерском полку, в составе сводной дивизии 5-го пехотного корпуса, расположенной в Туле и её окрестностях. 8 декабря командиру дивизии «генерал-лейтенанту и кавалеру Набокову» был отправлен приказ Чернышёва — допросить майора Митькова, отобрать книгу «Гавриилияда», выяснить, от кого он её получил и нет ли ещё других списков. «В случае отказа г. Митькова, что он означенной книги не имеет и не имел, ваше превосходительство не оставите внушить ему, что он может быть уличён в противном, и тогда подвергнет себя законной ответственности. Спрос же его о сём приказать ему содержать в тайне во избежание строжайшей ответственности»[281].
Тайны, как видим, требуют с куда большей энергией, нежели признания…
19 декабря Набоков отвечал, что майор Митьков набирает рекрут в Саратове. Только 23 января 1829 года он был вызван к генералу и дал письменные показания. Предъявленный майору «вопросный пункт» генерал-лейтенанта Набокова, после перечисления того, чем интересуется Петербург, сразу завершался формулой: «При том подтверждаю, что, ежели вы отзовётесь неимением сей рукописи <„Гавриилиады“>, то можете быть уличены…» Как видим, Набоков действует совсем не так, как предписывает Чернышёв: последний хотел, чтобы Митькова сначала спросили по существу дела, и только потом, если не ответит,— пригрозить ему «уликами»; именно таким образом, кстати, строились последовательные допросы самого Пушкина насчёт «Гавриилиады». Если бы Митьков «заперся» и дал показания только под давлением, это ясно выявило бы для высшего начальства его облик, «опасные настроения». Однако командир дивизии как будто и не замечает плана Чернышёва, но сразу же, задавая вопросы, предостерегает майора от опасных запирательств и намекает на существование улик. Можно с большим основанием предположить, что прежде письменного допроса был откровенный устный, и генерал Набоков как-то предупредил подчинённого. Во избежание же новых вопросов и придирок Петербурга генерал вместе с присылкой митьковского ответа довольно прозрачно намекнул, что больше не будет исполнять полицейские функции, а предоставляет это самому Чернышёву: показания Митькова сопровождались рапортом, извещавшим, что майор «уволен по прежде поданной им по команде просьбе в отпуск в Санкт-Петербург на 20 дней», и теперь, когда Валентин и Платон Митьковы окажутся в одном доме, военные власти вольны задавать новые вопросы.
Предположение об особой роли генерала основывается и на том, что Иван Александрович Набоков был близким родственником декабриста И. И. Пущина: женат на любимой старшей сестре декабриста, Екатерине Ивановне. Набоков тепло относился к шурину; между прочим, именно от Набоковых из Пскова Пущин ехал в январе 1825 года в гости к Пушкину в Михайловское. Возглавляя по должности одну из следственных комиссий по делу южных декабристов, Набоков при том постоянно помогал осуждённому Пущину, присылал приветы и этим сильно отличался от других, куда более запуганных родичей[282].
Официальный запрос о поэме, вероятно, вызвал немалые волнения в семье Набокова и размышления — как окончить это дело с минимальным ущербом для всех подозреваемых, в том числе для Пушкина, столь близкого к осуждённому Пущину.
Ответ Платона Митькова на вопросный пункт генерала Набокова хорошо продуман и написан с немалым достоинством. Вот его текст:
«Во исполнение приказания вашего превосходительства и противу приложенного, имею честь объяснить, что действительно с давнего времени я списывал и собирал стихи А. Пушкина, каковые впоследствии собрал в одну книгу, в коей почти все были из напечатанных в журналах, что делал я по неимению возможностей их покупать и по любви к стихам; между ними были и стихи под заглавием Гаврилияда, каковые имели тут место единственно потому, что были Пушкина, и, не давая им никакой цены как очень дурным по тексту, они находились у меня до того времени, как был прислан адъютант Главного штаба его императорского величества по военному поселению для обыска бумаг двух учителей, унтер-офицеров, у меня в батальоне II-го учебного карабинерного полка состоявших; почему я, из оного видя, как начальство обращает внимание, чтобы даже нижние чины не имели рукописей, противных религии и нравственности, и считая Гаврилияду в числе таковых, я в то же время сжёг всю книгу, единственно потому, что в оной находились помянутые стихи, истребя и черновые.
От кого же я оные получил или списал, уверяю честным словом, что не помню, ибо, как я выше имел честь объяснить, что собирал стихи с очень давнего времени, и от разных лиц, и по службе моей находясь в разных местах, то от кого которые получил или списал, не могу припомнить,— как равно находятся ли экземпляры сей книги ещё у кого — не знаю»[283].
Текст, конечно, любопытный. Интересен и сам тип майора, служащего в провинции и собирающего рукописные стихи Пушкина; впрочем, невозможно представить, чтобы Бенкендорф или Чернышёв хоть на секунду поверили, будто П. Ф. Митьков не имел никогда других опасных сочинений Пушкина и действительно не помнил, у кого их заимствовал. Примечателен и мелькнувший в ответе мотив, что, если в поисках рукописей обыскивают даже нижних чинов (которые вроде бы не могут ни прочесть, ни понять), то это само по себе есть «указание» мыслящему офицеру — насколько опасно держать подобные бумаги.
Мы догадываемся, что по прибытии в столицу Платон Митьков был взят под наблюдение: это видно из того, что несколько месяцев спустя, когда майора снова отпустили в Петербург «для распоряжений насчёт имения, оставшегося после недавно умершей матери его»[284]. Главный штаб не хотел продлевать его отпуск, (П. Ф. Митькову помог командующий 1-й армией Сакен); меж тем Чернышёв распорядился держать его в Петербурге «под бдительным надзором»[285].
Так заканчивается эта сложная, странная история. Случайное обстоятельство, донос дворовых, выявило некоторые отнюдь не случайные закономерности.
Прежде всего главнейший из вопросов русской жизни — проблема народа. В этой истории два человека из крепостных (правда, уточним, из дворовых, испорченных барским домом, большим городом) — они прибегают к одной из форм народного протеста: доносят на барина и его брата (которые притом являются братьями декабриста, пожертвовавшего всем для освобождения этого народа); жалуются же простые люди главным, по их понятиям, народным заступникам — церкви и верховной власти; жалуются, в сущности, на первого народного поэта!
Печальный, характерный пример многократно доказанного «страшного удаления» декабристов и их друзей от народа…
Крепостные, кажется, не знали даже имени Пушкина, так же как Пушкин не был лично знаком с Митьковыми — отчего «типическое» значение всей истории увеличивается!
Формально весь эпизод оканчивается довольно благополучно: двое крепостных, получив побои и ожидая многолетней солдатчины, вдруг сделались вольными людьми; Валентин и Платон Митьковы не отправились вслед за старшим братом, чего вполне могли ожидать; царь и его министры ловко, почти без всякой огласки, погасили всю историю и уверены в достаточной прочности своего положения; Николай в конце концов доволен и Пушкиным, снова признавшимся и повинившимся.
Пушкин…— он, конечно, тоже доволен, что дело окончилось — осенью 1828 года с невиданной энергией и упоением работает над «Полтавой».
Поэт успокаивается; но гений, интуиция предостерегают.
Стихи, написанные во время неприятностей 1828 года, сохраняют «биографическое применение» и тогда, когда «Андрей Шенье» и «Гавриилиада» прощены:
Глава IV. «Беда стране…»
…где раб и льстец
Одни приближены к престолу
Аудиенция 8 сентября 1826 года, записка «О народном воспитании», предложение превратить «Бориса Годунова» в повесть, дело об «Андрее Шенье», дело о «Гавриилиаде»…
Чуть позже поэт заметит, что его отношения с правительством «поминутно то дождь, то солнце» (XIV, 111).
В XIX столетии широко распространились две полярно отличающихся «модели» интересующих нас событий: 1) царь — «благодетель поэта», 2) царь — «обманщик, обольститель».
Первый вариант, понятно, был представлен в консервативной, официальной печати. Для его сторонников было характерно едва ли не все конфликты поэта с верховной властью «списывать» на Бенкендорфа, выгораживая царя; идеализация же особого дружелюбия Николая I к Пушкину подкреплялась односторонним истолкованием сохранившихся документов, в частности — фальсифицированной версии записок А. О. Смирновой, опубликованной в 1895 году[286].
Противоположная мысль про обман, обольщение поэта высказывалась Мицкевичем, Герценом, автором «Письма из провинции», опубликованного в «Колоколе» (Добролюбовым или Чернышёвским?).
Герцен писал о Пушкине: Николай I «своею милостью… хотел погубить его в общественном мнении, а знаком своего расположения — покорить его»[287].
Н. П. Огарёв ещё раньше, в стихах на смерть Пушкина, вот что писал о царе:
Наконец, сам Пушкин — не о себе ли — в вариантах поэмы «Езерский»:
В нашем столетии подробное, научное исследование «1826 года» принадлежало П. Е. Щёголеву, который развил версию о Пушкине обманутом, обращавшемся не к Николаю, а к некоему «поэтическому образу царя». Учёный полагал, что «настоящих взглядов царя Пушкин не знал» и что мнения Николая I о Пушкине «оставались такими же при кончине поэта, как они сложились в момент первого свидания»[289].
Пройдёт ещё несколько десятилетий, и современный исследователь заметит: «Условия „договора“ Пушкина с правительством не были ни простыми, ни лёгкими. Николай I не „обманул“ его, „умнейшего человека России“, вероятно, и не пытался обмануть. Разгром заговора был исторической неизбежностью — и Пушкин понимал это. Но историческая неизбежность — слабое утешение в духовных драмах»[290].
Мы привели лишь малую часть суждений, высказанных в течение полутора столетий. Интереснейший спор, где много ещё неясного, противоречивого…
Попробуем разобраться не торопясь. Последуем методу С. М. Бонди, который реконструировал беседу Пушкина с царём, «сопоставляя, с одной стороны, задачи, стоявшие перед Николаем I в первые месяцы его царствования, и с другой стороны, основные моменты мировоззрения Пушкина в эту эпоху и политический опыт, накопленный им к этому времени…»[291].
С осени 1826 года отношения царя, властей к поэту — это переход от милости к «головомойке» и обратно. Важно понять — здесь только тактика, лицемерие или нечто более сложное? Без сомнения, правительство «воспитывало» Пушкина, сознательно переходя от поощрения к выговору,— но исчерпана ли этим сложная тема взаимоотношения столь разных миров?
Вопрос столь же любопытный, сколько трудный; там, «наверху» — только ли обманывали или сами колебались, а порою в известном смысле были «обманываться рады»?
Тем же, кто скажет — какое в конце концов значение имели тайные помыслы Николая, наше ли дело во всём этом разбираться,— тем ответим: без подобного анализа многого не понять в помыслах, надеждах, иллюзиях, творческих планах Пушкина в один из интереснейших, важнейших моментов его биографии.
1826—1830
Итак, чего в самом деле хотели верхи?
Общий политический курс: арестовано и сослано много людей — террор, страх… Но в то же время отставлены Магницкий, Аракчеев и некоторые другие одиозные фигуры прошлого царствования; свод декабристских показаний передан для серьёзного секретного рассмотрения. С начала 1826 года обозначился достаточно популярный поворот во внешней политике, вскоре приведший к войне с Турцией, поддержке восставших греков — тогда как прежде общественное мнение было раздражено безразличием Александра I к судьбе Греции и т. п.
Обращено внимание на крестьянский вопрос: царские рескрипты министру внутренних дел от 19 июля и 6 сентября 1826 года предписывали дворянам «христианское и сообразное с законами обращение с крестьянами»[292].
Крестьянский вопрос — один из главных в открывшемся 6 декабря 1826 года Секретном комитете (В. П. Кочубей, П. А. Толстой, И. В. Васильчиков, А. Н. Голицын, И. И. Дибич, М. М. Сперанский; производители дел Д. Н. Блудов, Д. В. Дашков, позже М. А. Корф). Царь приказал членам комитета выяснить, «что ныне хорошо, чего оставить нельзя и чем заменить. Какие материалы к сему употребить <…>. Еженедельно уведомлять меня при наших свиданиях об успехах дела, которое я почитаю из важнейших моих занятий и обязанностей. Успех, который оным докажется, будет лучшая награда трудящимся[293], а мне душевное утешенье»[294].
25 апреля 1827 года царь передал в Комитет одобренную им записку М. М. Сперанского[295]. Смысл идеи Сперанского и Николая заключался в некоторых частных узаконениях — прежде всего, в запрещении продавать крепостных без земли. Эта мера, по мнению автора записки, «прекратит личную продажу их в виде собственности или движимого имущества; уничтожит то унизительное понятие, какое внутри и вне России имеют о рабстве крестьян»[296].
Однако Сперанский и царь хорошо понимали, что «сии основные меры не разрешат всех затруднений, не установят ещё с твёрдостию крестьянского положения, не прекратят с одной стороны злоупотреблений худых помещиков, а с другой продерзостей и неповиновения крестьян»[297]. Поэтому на будущее предлагались и другие преобразования, смысл которых в том, что «отношения помещичьих крестьян к владельцам земли должны быть почти те же, как и крестьян казённых к казне»[298]. Притом предлагалось облегчить и порядок «увольнения крестьян». Сперанский заканчивал записку надеждою, что «прекращение всех сих и сим подобных стеснений послужило бы наилучшею мерою постепенного перехода из крепостного в свободное состояние. К сему надлежит токмо пересмотреть и расширить существующие ныне положения»[299].
Слова, как видим, весьма важные: крепостных крестьян хотят уравнять с казёнными (государственными), толкуют о переходе «в свободное состояние», и всё это не «болтовня для газет и иностранцев», но секретнейший, деловой разговор меж главными лицами империи!
Именно в те дни и недели, когда Пушкин в Петербурге был «прощён» вторично — 31 августа 1827 года,— на 46-м заседании Комитета началось обсуждение плана Сперанского — Николая I. Мы чуть позже вернёмся к результату этого обсуждения, пока же констатируем: Николай I в 1827-м, выступая как глава правящего класса, предлагал дворянству, в его же интересах, поступиться частью своих прав ради сохранения остального.
Разумеется, всё делается за плотно закрытыми дверями; но многое известно…
Кроме крестьянского дела, в этот же период обсуждались и многие другие важнейшие элементы общественной и политической жизни.
Николай I — апологет неограниченной власти, уверенный, что в обозримом будущем самодержавие единственно возможная для России форма правления. Ни о каких демократических, конституционных преобразованиях речь идти не может, и в этом одном уже существенное отличие от регулярных возвращений Александра I к идеям конституционного ограничения самодержавия. Однако после 1826 года делаются попытки укрепления законности; в течение нескольких лет группа дельных чиновников (возглавляемая Сперанским, Балугьянским, Корфом) проделывает огромную работу по кодификации, завершённую в начале 1832 года изданием «Полного собрания законов» и «Свода законов Российской империи».
Одновременно власть искала, как укрепить и расширить социальную опору режима: Комитет 6 декабря изыскивает способы для учреждения «среднего состояния», иначе говоря, определённого поощрения буржуазных элементов. Для этого разрабатывается проект (реализованный в начале 1830-х гг.) — о почётном гражданстве; параллельно были осуществлены и другие меры, стимулировавшие промышленное развитие и буржуазию; учреждение Мануфактурного совета, открытие Технологического и Лесного институтов, преобразование горного законодательства, поощрительная таможенная система.
Без сомнения, всё это было направлено не к ослаблению, а укреплению самодержавно-крепостнической системы; однако, во-первых, даже подобные меры объективно, независимо от воли их создателей, способствовали развитию капитализма, постепенному подтачиванию «незыблемых устоев»; а во-вторых, в 1826—1830 годах одни проекты подобных реформ даже у скептиков и «людей оппозиции» рождали надежды на «славу и добро»: ведь не было ещё известно, как пойдёт дело дальше,— в то время как революционных возможностей, революционных сил в стране уже не было. И ещё не было…
Неслучайно в конце 1820-х годов ряд лиц, находившихся в отставке, полуопале в связи с 14 декабря, немалое число людей, не желавших прежде «служить и прислуживаться», возвращается на службу.
Одним из первых николаевских секретных комитетов был учреждённый 14 мая 1826 года «Комитет устройства учебных заведений». Царь требовал, чтобы «дело шло поспешнее», и в 1828 году новый устав был утверждён.
В нём уже заметны те охранительные тенденции, что особенно расцвели в 1830—1850-х годах, однако в 1826—1830 годах отмена некоторых прежних александровских ограничений, гонений создала известное оживление и в области просвещения: был сильно ослаблен натиск мистического фанатизма, столь явный в 1821—1825 годах; увеличено число лет обучения в гимназиях, усилена практическая сторона обучения.
О цензуре уже говорилось. Напомним хронологическую канву главных событий в этой области[300].
1826 год, начало января. Николай I отдаёт повеление министру народного просвещения А. С. Шишкову «о скорейшем проведении и окончании дела об устройстве цензуры»[301].
10 апреля 1826 года. Шишковский («чугунный») цензурный устав утверждён царём; поспешная реакция испуганных верхов на декабризм. Смысл устава заключается в сильнейшем контроле власти над словесностью; не только «пресечение» вольных сочинений, но и проникновение в намерения авторов, прямое вторжение правительства в литературу.
Лето 1826 года. Появление ряда записок влиятельных верноподданных лиц, где выражается сомнение в эффективности подобного устава. Основная, наиболее часто повторяемая идея тех записок,— необходимость для правительства не столько пресекать, сколько действовать усилиями «приверженных к правительству писателей».
Один из создателей III Отделения, фон Фок, советует Бенкендорфу овладевать общественным мнением, которое «не засадишь в тюрьму, а прижимая, его только доведёшь до ожесточения»[302]. Прибалтийский генерал-губернатор маркиз Паулуччи предлагает царю (24 мая 1826 г.) составить особое литературное общество «для оппозиционного действия против революционных сочинений»[303]. Булгарин советовал действовать «ласковым обхождением и снятием запрещения писать о безделицах, например, о театре и т. п. Ласковый приём И. А. Крылова государем императором произвёл благоприятнейшее впечатление в умах литераторов и публики, нежели какое-нибудь важное пожертвование в пользу наук и учебных заведений <…> Неискусными мерами наша цензура не только не достигла сей цели и не произвела желаемой пользы, но только раздражила умы и повредила правительству странными своими поступками <…> Вместо того, чтобы запрещать писать противу правительства, цензура запрещает писать о правительстве и в пользу оного»[304].
Шишков, отвечая Булгарину, пугал правительство опасностью «соблазнительности слишком свободных суждений в печати»; напоминал, что, например, при Александре I «позволялось писать о свободе крестьян, и, кроме нарочно изданных о сём книг, все почти наши журналы наполнены были разными о сём рассуждениями. Что же из сего последовало? Обстоятельства сии не укрылись от простого народа, и беспрепятственное печатание подобных статей принято было несомнительным знаком желания правительства дать крестьянам свободу. Отселе произошло неповиновение их помещикам и частые бунты, которые даже и до сего времени пресечены быть не могут. Я очень помню, что одна взбунтовавшаяся большая вотчина, при всеподданнейшем прошении на имя блаженной памяти государя императора, представила книжку Вестника Европы, в которой рассуждаемо было о пользе освобождения крестьян, как доказательство, что само правительство подало повод к таковым с их стороны действиям, и что они, не повинуясь своему помещику, только входят в его виды»[305].
Главное же возражение Шишкова всем критикам — что его устав уже подписан царём: 15 июля 1826 года началась подготовка соответствующего устава цензуры иностранной.
Такова была «цензурная ситуация» перед отъездом царя в Москву на коронацию.
Затем вдруг происходят определённые перемены.
8 ноября. Проект цензуры иностранных книг неожиданно царём не подписан. Создан временный комитет для его рассмотрения.
15 ноября (в тот же день, когда Пушкин оканчивает записку «О народном воспитании») — смелая докладная записка Д. В. Дашкова «О цензурном уставе»[306].
21 ноября царь фактически соглашается на пересмотр «чугунного» устава: «В стране, где всё было регламентировано до последней запятой, произошло неслыханное событие: явочным порядком комитет приступил к пересмотру цензурного устава! Началась упорная и длительная борьба за отмену старого и введение нового цензурного устава»[307].
1827—1828 годы. Тайная выработка нового цензурного устава (возможные авторы-редакторы Д. В. Дашков, В. Ф. Одоевский, Н. И. Греч) [308].
22 апреля 1828 года. Царь утверждает новый цензурный устав, значительно более либеральный, чем прежний. На другой день Шишков уходит в отставку.
Итак, в течение двух без малого лет произошёл переход от крайне жесткой формы контроля над печатью к более гибкому, либеральному уставу 1828 года; согласно заключению Государственного совета отныне цензуре «не представляется уже в обязанность давать какое-либо направление словесности и общему мнению; она долженствует только запрещать издание или продажу тех произведений <…>, кои вредны в отношении к вере, престолу, добрым нравам и личной чести граждан. Она представляется как бы таможней, которая не производит сама добротных товаров и не мешается в предприятия фабрикантов, но строго наблюдает, чтобы не были ввозимы товары запрещённые»[309].
Позднейший николаевский цензурный зажим шёл уже в рамках устава 1828 года, а также — ряда инструкций и дополнений к нему. Но это уже события 1830—1850-х годов. В конце же 1820-х столь редкостное явление, как замена одного коренного установления другим в течение очень краткого времени, имело сильное влияние на «состояние умов».
М. И. Гиллельсон безусловно прав, отмечая, что «на первых порах отмена цензурного устава 1826 года возбудила надежды на торжество более либеральной литературной политики. Надо думать, что и Пушкин не избежал подобных иллюзий <…> Борьба вокруг цензурного устава в какой-то мере отразилась на творческих замыслах Пушкина»[310].
Таковы были в самом общем виде противоречивые российские политические обстоятельства конца 1820-х годов. Кроме ряда демагогических деклараций и приёмов высшей власти, направленных к усилению авторитета, популярности и страха в народе,— кроме обмана, нужно отметить довольно значительные колебания правительства в выборе курса. История цензурного устава — пример особенно наглядный, но подобные же качания наблюдались и в крестьянском вопросе, и в отношении гражданских прав, и даже в области террора и репрессий.
Ничто не может ярче продемонстрировать скрытые пружины тогдашней политики, нежели судьба наиболее серьёзной из предполагавшихся реформ — крестьянской.
Казалось бы, царское одобрение записки Сперанского — решающий аргумент для Комитета 6 декабря. Однако высшие сановники, связанные сотнями нитей с правящим дворянским классом-сословием, находят способы замедления и противодействия даже отнюдь не коренным, частным мерам ограничения крепостничества. Они мастерски топят проект, которым занимается сам царь!
На 46-м заседании Комитета (31 августа 1827 г.) по поводу записки Сперанского было записано в «журнале»: «Комитет, отдавая полную справедливость достоинству сего труда, но находя, что в деле, столь важном, надлежит действовать с величайшей осторожностью и предусмотрительностью, положил, что записка тайного советника Сперанского долженствует ещё быть внимательно и подробно рассмотрена каждым из членов в особенности, а потом снова внесена в комитет для общего рассуждения»[311].
28 сентября 1826 года на 52-м заседании (а позже — ещё и ещё раз) предлагалось при любом «послаблении» крепостным «для предупреждения лживых и неосновательных догадок о будущих отношениях крестьян и помещиков дать чувствовать, сколь священно и неотъемлемо пред правительством и законом право сих последних на собственность владеемой ими земли; и о сём сказать с некоторой осторожностью, положительно, но кратко и почти мимоходом как о праве, которое не может быть подвержено сомнению; при этом рекомендательно прибавить несколько слов и о крепостном праве помещиков на крестьян»[312].
Меж тем Комитет 6 декабря придумал план, который и был через Кочубея передан Николаю I[313].
Это ярчайший пример сопротивления со стороны могучего дворянского бюрократического аппарата, казалось бы, ничем не ограниченному самодержцу. Все соображения Николая как будто приняты (иначе нельзя — царю не возражают). В «Записке» Кочубея говорится об «унизительном, противоестественном торге людьми», с сожалением и даже презрением упоминаются «необразованные, закоснелые в грубых привычках» крепостники. Однако от согласия с монархом Комитет незаметно переходит к запугиванию: напоминает, что «класс закоснелых — к сожалению, ещё многочисленный»: они любую меру в пользу крестьян сочтут «стеснением», и хотя это «без сомнения» не должно остановить «мудрое и твёрдое правительство», но, с другой стороны, возможны «ропот, волнение умов, боязнь»: речь идёт, понятно, о сопротивлении правительству справа, со стороны реакционного дворянства; с другой стороны, крепостники не раз заявляли, что и крестьяне начнут волноваться, узнав о малейших свободах; наконец, дворянство и так взбудоражено ссылкою сотни декабристов, хотя и выступавших против своего сословия, но всё же — родственников, друзей…
Царя пугают, но в то же время — Кочубей отнюдь не ярый крепостник: он реальный политик, учитывающий злобу, потенциальное сопротивление помещиков. Поэтому предлагаются меры, которые бы резко ослабили впечатление от нового закона: нужно растворить его в обширном комплексе других законопроектов, в основном — благоприятных для дворянства; получив ряд новых прав и льгот (дворянские пансионы, пенсии, существенные препятствия разночинцам в получении дворянства) — получив всё это, «благородное сословие», по мысли Комитета, легче «проглотит» и закон о непродаже крестьян без земли[314].
И Николай I отступил. Согласился на подготовку большого, многосложного «закона о состояниях»; немедленные меры в пользу крепостных были таким образом отложены на длительный срок.
Сперанский хорошо знал предысторию крестьянского вопроса и потому писал, что ограничение крепостного права было и прежде, при Александре I, «многократно помышляемо», но «мера сия по разным уважениям всегда была отлагаема»[315].
«Разные уважения» — выразительная формула: это для власти прежде всего опасность народного бунта, революции, но также и сопротивление дворянства, бюрократии. В 1827 году угроза слева была, конечно, ослаблена, но постоянно держала власть в напряжении. 53 из 65 крестьянских волнений, зафиксированных в 1826 году, приходилось на вторую половину года, после коронационных манифестов. Правительство было сильно напугано повсеместным крестьянским «комментарием» к событиям, «начали дворян вешать и ссылать на каторгу, жаль, что всех не перевешали»[316].
Итак, в 1827-м «аппарат», реакционное дворянство добилось отсрочки, проволочки, взяло верх над скромными реформаторскими планами высшей власти; в дальнейшем главная оппозиция новым мерам была со стороны Государственного совета[317]. Кочубей утверждал, что новый закон будет готов к 6 декабря, «дню тезоименитства его императорского величества»[318], на самом же деле целых три года, с 1827-го по 1830-й, Комитет 6 декабря подготавливал «закон о состояниях», пока, наконец, текст его не был одобрен Государственным советом.
Трёхлетняя задержка! Но вот закон готов; не хватает царской подписи. Пушкин, о многом осведомлённый, 16 марта 1830 года писал Вяземскому: «…правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы» (XIV, 69).
Однако и в 1830 году Николай медлит, не подписывает; здесь не подходит традиционное объяснение — страх самодержавия перед европейскими революциями: ведь всё это было до получения известия об июльской революции 1830 года в Париже, за несколько месяцев до восстания в Польше. «Корень зла» — в противодействии со стороны бюрократии, дворянства. Не решившись утвердить важный акт, Николай I летом 1830 года посылает его на «апробацию» старшему брату Константину, в Варшаву. Надо думать, и здесь действовали тайные силы, могучие механизмы давления.
Константин отозвался быстро и определённо.
15/27 июля 1830 года в особой записке он решительно не советовал утверждать новый закон. Он полагал, что лучше было бы отдать его «на суд времени».
Мысль великого князя была формально прямо противоположной тому, что советовал в 1827 году Кочубей. Константину не понравилось, что сразу будет издан закон, касающийся многих отраслей. Иначе говоря — не нужно смешивать крестьянский вопрос с другими; Николай I, который и сам в 1827-м предлагал побыстрее запретить продажу крепостных без земли, отвечал брату: «Мысль сия была и моя; но причины, по коим я согласился на предположение вместе издать всё, столь уважительны, что я должен был уступить общему мнению»[319].
Снова — «разные уважения», «столь уважительны»…
Впрочем, отвергая общий закон, Константин отнюдь не поощрял брата и к изданию отдельного указа о непродаже дворовых. Вообще старший брат сообщает младшему свою «непреодолимую мысль, что касательно существенных перемен, лучше казалось бы отдать их ещё на суд времени, по крайней мере по главнейшим предметам. Правда, что наш Великий учредитель чинов <Пётр I> не ждал своего времени и предупреждал оное; но ему не пременять, ему назначено было творить и созидать»[320].
Сравнение николаевского царствования с петровским крайне любопытно — и прямо противоположно пушкинскому призыву к Николаю — «во всём будь пращуру подобен…»
Великий князь не упускал случая задеть самолюбие брата-императора.
Высказав некоторые общие идеи, Константин (вероятно, с помощью опытных экспертов) основательно разобрал «крестьянский закон», пугая Николая возможными последствиями. Он писал, что любое ограничение продажи крестьян и дворовых без земли или запрет переводить крестьян в дворовые «стесняет власть и права помещиков <…> Такое понятие о действиях нового положения не может иметь других последствий, как ропот и неудовольствие»; великий князь полагал, что запрет ударит более всего по самым бедным помещикам (которые-де и так многим недовольны, ожесточены); сверх того приводятся аргументы (довольно парадоксальные, но не лишённые определённого резона!), что крестьянам от нового положения, может быть, и хуже станет. «Цель закона, — резюмировал Константин, — заключается в уничтожении существующего в России рабства, а причины оного не содержатся в употреблении помещиком своих крестьян в личные прислуги»[321].
Иначе говоря, незачем делать отдельные послабления при сохранении крепостничества в целом: или всё — или ничего…
В условиях 1830 года Константин, явно выступая в унисон с многочисленным дворянством, уверенно советует не делать ничего.
Так могучий, придворный, бюрократический механизм, то предлагая издать общий закон (в 1827-м), то оспаривая его в пользу частного улучшения (1830), а затем и это опровергая,— замедлил, отложил в долгий ящик, утопил весьма серьёзный проект Сперанского, имевший, впрочем, дальний прицел на общую «эмансипацию» крепостных.
Не возражая, верноподданно кланяясь, бюрократия добивалась своего.
Царь испугался, отступил. И как раз после этого, в 1830—1831 годах — новый тур европейских революций, польское восстание: всё это для крепостнической оппозиции подарки, усиливающие эффект запугивания…
Отдельные элементы предполагавшегося большого «закона о состояниях» были, как известно, приняты в начале 1830-х годов (почётное гражданство, права дворянства и другие). Однако «по дороге» был потерян проект, чуть-чуть смягчавший крепостничество!
Надежды Пушкина, и, конечно, не одного его, на великие перемены не сбывались…
Следующая серьёзная попытка — снова приняться за крестьянский вопрос — была предпринята лишь в середине 1830-х годов (всего, как известно, в течение николаевского царствования сменилось одиннадцать секретных комитетов по крестьянскому вопросу)[322]. Царь довольно отчётливо понимал причины неудачи «крестьянских проектов» в Комитете 6 декабря. В начале 1834 года он обратился к своему любимцу П. Д. Киселёву со следующими словами насчёт «преобразования крепостного права»: «Я говорил со многими из моих сотрудников и ни в одном не нашёл прямого сочувствия; даже в семействе моём некоторые были совершенно противны; несмотря на то, я учредил комитет из семи членов для рассмотрения постановлений о крестьянском деле. Я нашёл противодействие <…> Помогай мне в деле, которое я почитаю должным передать сыну с возможным облегчением при исполнении, <…> и осуществлению мысли, которая меня постоянно занимает, но которую без доброго пособия исполнить не могу»[323].
Иллюзии
В этом мире явных и потаённых бурь, противоречий, надежд, разочарований и слухов прошли последние десятилетия николаевского царствования.
Но мы толкуем о первых годах. О Пушкине.
Мы должны ясно представлять, что Николай I, беседующий с поэтом 8 сентября 1826-го и выставляющий вопросительные знаки на записке «О народном воспитании» — это царь, только что подписавший «чугунный» цензурный устав, но уже готовый уступить; это правитель, ещё задумывающий улучшить чиновничество и суды; готовящий проект сначала некоторого обуздания, а в дальнейшем — ограничения крепостного права.
Разумеется, даже в самые «либеральные» свои минуты Николай сильно не совпадает с Пушкиным. Поэт верит в преобразующую роль просвещения; царь тоже хотел бы кое-что преобразовать, но просвещения побаивается, так как даже само это слово несколько отдаёт декабризмом.
Пушкин призывает царя «дерзать» — царь находит в этом дерзость.
Пушкин «глядит вперёд без боязни» — царь «с боязнью».
При всём при этом Николай I в 1826-м ещё не представляет и малой доли тех трудностей, тех «уважительных причин», «разных уважений», которые остановят, сведут на нет даже самые умеренные планы реформ.
Понадобятся потрясения Крымской войны, угроза новой «пугачёвщины», чтобы уже в следующем царствовании власть всё же пошла на освобождение крестьян.
В 1820—1840-х дворянство, высшая бюрократия были уверены: всё ещё «не так страшно», чтобы идти на большие уступки…
Исследователи не раз уже отмечали, как опасно судить о начале николаевского режима по всему царствованию, в частности, по его последним годам.
В. В. Пугачёв справедливо писал, что «многие русские прогрессивные деятели поверили в серьёзность реформаторских намерений нового царя. В это поверили даже некоторые декабристы, заключённые в Петропавловскую крепость <…> Следует отметить, что в николаевской политике было два аспекта: реальная политика и проекты. Эти линии отнюдь не совпадали. И если для потомков очевиднее были реальные результаты, то для современников гораздо важнее казались проекты. Именно они и порождали иллюзии о реформаторстве Николая I, создавали представление о нём как новом Петре Великом. Именно они оказывали наибольшее влияние на общественную мысль 30-х годов — в том числе и на Пушкина»[324].
Стремясь резче, определённее разоблачить Николая, историки и литературоведы, сами того не замечая, подчас наделяют его чертами столь яркой личности, какими он не обладал. Не станем отрицать известные актёрские данные Николая, умения при случае надевать разные маски; в зависимости от характера собеседника — угрожать, подкупать, льстить… Некоторые пушкинские иллюзии в отношении царя действительно объясняются доверчивостью — особенностями благородной души поэта, который ведь сам написал (через год после возвращения из ссылки): «Тонкость редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным» (XI, 55—56).
Почти век спустя пушкинист напишет, что во время беседы в Чудовом дворце «умный покорил мудрого. Младенчески-божественная мудрость гениального певца, человека вдохновения, уступила осторожной тонкости»[325].
Подобные объяснения — легки, соблазнительны, к тому же и не лишены смысла. Пушкин (это видно по некоторым его высказываниям) вообще часто наделял собеседника своими качествами (как Моцарт, который напоминает Сальери о Бомарше: «Ведь он же гений, как ты да я…»).
Всё это надо учитывать, но всего этого недостаточно чтобы объяснить всю психологическую противоречивость аудиенции 8 сентября, царского «прощения», последующих отношений.
Ю. Струтыньский, при всём его многословии и приписывании Пушкину собственных оборотов речи, всё же как-то пытался воссоздать сложнейшее состояние поэта 8 сентября; и, если мы даже не совсем поверим мемуаристу, будто он «сам слышал» всё это от Пушкина, то по крайней мере оценим его собственную гипотезу: Пушкин (согласно рассказу польского писателя) говорил о царе: «Не купил он меня ни золотом, ни лестными обещаниями, потому что знал, что я непродажен и придворных милостей не ищу; не ослепил он меня и блеском царского ореола, потому что в высоких сферах вдохновения, куда достигает мой дух, я привык созерцать сияния гораздо более яркие, не мог он угрозами заставить меня отречься от моих убеждений, ибо кроме совести и бога я не боюсь никого, не задрожу ни перед кем. Я таков, каким был, каким в глубине естества моего останусь до конца дней: я люблю свою землю, люблю свободу и славу отечества, чту правду и стремлюсь к ней в меру душевных и сердечных сил»[326].
Действительно, Пушкина, великого сердцеведа, можно было обмануть, наверное, только реальными идеями, которые поэт легко отличал от позы. Царь, говоря о будущем России, о реформах, которые он намерен осуществить, предлагая поэту участвовать в общем деле (а для того — «я буду твоим цензором»),— говоря всё это, Николай, мы теперь можем уверенно утверждать, был в немалой степени «сам обманываться рад».
Прогрессивный историк народнического направления В. И. Семевский, которого невозможно заподозрить в симпатиях к Николаю I, находил, что царь «искренне желал подготовить падение крепостного права в России, но, во-первых, встретил сильное противодействие со стороны своих ближайших сотрудников, а во-вторых, и сам был готов довольствоваться весьма маловажными мерами, из которых многие оставались без всякого результата»[327].
Опасно преувеличить мотив «искренности» — тогда царь может вдруг явиться слишком уж «либеральным»; но, отвергая факт собственных иллюзий Николая I, можно нарушить принцип историзма, судить о 1820-х годах сквозь призму 1840—1850-х и более поздних лет, переоценить талант царя-лицедея и не понять Пушкина-сердцеведа.
Переходы же от милостивого «8 сентября» к раздражённому чтению записки «О народном воспитании», а затем снова «к милости» («то дождь, то солнце») — всё это вряд ли следует объяснять одним двуличием верховной власти (хотя, повторяем, элементы лжи, лицемерия при сём, конечно, постоянно присутствуют).
Царский обман всё бы объяснял, если курс, политика были бы совершенно определёнными; на самом же деле, мы видим, в 1826—1830-м ещё очень многое оставалось неясным. Невозможно говорить о единой чёткой политической линии Николая I в первые годы его правления. Множество существенных фактов говорит о колебаниях нового правительства между репрессиями, жёстким курсом и попытками реформ.
Двойственность, качание политического курса Николая I были исходной причиной двойственного отношения к Пушкину (и, разумеется, не только к нему). Царь не раз сознательно применяет то меры поощрения, то «головомойку»; но надо постоянно иметь в виду неуверенность в выборе окончательного курса — без этого многое не понятно во взаимоотношениях поэта с «высокими опекунами».
Позже, когда правительственный курс станет более определённым (хотя двойственность, колебания полностью никогда не исчезнут, о чём несколько подробнее — в следующих главах книги), — позже некоторые суждения и оценки 1826—1827 годов покажутся «далёкой стариной», требующей нового осмысления и пересмотра. Любопытно, что Е. П. Ковалевский, биограф Д. Н. Блудова, сопоставляя много лет спустя начало и конец николаевского правления, стремился оправдать своего героя и других сравнительно либеральных министров Николая I ссылкой на Пушкина (в окончательный текст книги Ковалевского приводимые далее строки не вошли) :[328]
«Всякий, кто хотя немного был знаком с Пушкиным, знает, что, когда он хвалил царя, то уж точно „хвалу свободную слагал“; всякий, кто вспомнит двадцатые годы столетия, скажет, что точно добро и честно и деятельно Николай Павлович начал своё правление. Всё это умолчано или забыто, благодаря тем мерам строгости и особенно произвола, до которых довели, с одной стороны, беспрестанные мятежи и революции в Европе, с другой, благонамеренные и злонамеренные трусы и посредственные умы, окружавшие его и удалившие многих, в которых он сначала имел наиболее сочувствия. Один из них (сохранивший, впрочем, прежние отношения к государю), выходя из Сената после прений о цензуре в 1849 году, сказал графу Блудову: „Посмотрите на этих людей, как они используют революции! Говорят, будто их делают для них и их выгоды“».
Затем следует отрывок, зачёркнутый в рукописи его автором или редактором: «Графа Блудова Николай Павлович всегда искренне уважал и употреблял с охотой и доверием, но в личном к нему чувстве он охладевал, по мере того как уклонялся от прежнего направления, и только в последний год или два опять воротился к прежним отношениям и откровенно с сочувствием стал к нему обращаться вне формальных отношений по его службе. Но уже было поздно, вся приверженность, вся любовь к царю лично и к нему как к представителю России людей таких, как был граф Блудов, не могли изменить в несколько месяцев работу многих лет, тех мер, в которых так грустно являлась тёмная картина, описанная поэтом, когда он говорит:
Но этой печальной стороны ничто не предвещало в первые светлые годы царствования, и историческая истина требует, чтобы не смешивали вместе двух периодов, столь различных».
Разумеется, мы вовсе не собираемся принять концепцию двух периодов в той форме, как её предложил Ковалевский. Так же, как его упрощённую схему внутренней политики конца 1820-х годов и отношений Пушкина с Николаем (при этом цитируется пушкинское стихотворение «Друзьям»). В то же время записи Ковалевского об усилении произвола, трусости, о боязни революций,— записи, сделанные явно со слов важного государственного человека, министра Блудова, представляют определённую ценность. Тут, кстати, уместно вспомнить, что именно Блудову царь сообщил о беседе с «умнейшим человеком», Пушкиным; при всём огромном различии человеческих, общественных черт поэта и министра — фавор сравнительно либерального Блудова неслучайно совпал с «потеплением» к Пушкину. И, наоборот,— если уж столь верный слуга престола, как Блудов, почувствовал позже охлаждение царя, то что говорить о людях, далеко не столь близких, не столь приятных Николаю. Это неплохо видно по тому, как задним числом менялись царские впечатления и рассказы о первой встрече с поэтом.
Посмертный выговор
Теперь, когда мы проанализировали основные воспоминания и рассказы о той аудиенции, когда сопоставили с устной беседой — письменный диалог, записку «О народном воспитании» и ряд событий 1826—1828 годов,— теперь настало время обратиться к двум мемуарным свидетельствам, которые пока что в нашем рассказе упоминались лишь мельком.
Речь идёт о двух позднейших записях, восходящих к царю и его кругу.
Напомним, что царь сначала поощрял довольно идиллическую версию встречи («я буду твоим цензором», «Теперь ты… мой Пушкин», «Я… говорил с умнейшим человеком в России»). Никаких холодных, отрицательных нюансов современники, кажется, не слышат, не знают. Чуть позже, когда Пушкин передаёт друзьям, что ему «вымыли голову»,— всё равно впечатление от первой беседы остаётся неизменным: постоянно даже возникает контраст между «теплотой» кремлёвской аудиенции и последующим неудовольствием, холодом.
Однако пройдут годы, и осведомлённый чиновник III Отделения М. М. Попов сосредоточит своё внимание на подробности, которая прежде не казалась важной, почти не упоминалась в откликах современников; Попов запишет, что Пушкин, «ободренный снисходительностью государя, делался более и более свободен в разговоре; наконец, дошло до того, что он, незаметно для себя самого, припёрся к столу, который был позади его, и почти сел на этот стол. Государь быстро отвернулся от Пушкина и потом говорил: „С поэтом нельзя быть милостивым“»[329].
В 1826 году Попов был слишком незначительным лицом, слишком молод, чтобы получить сведения из первых и даже вторых рук; апогей его карьеры относится к 1840—1850-м годам[330]. В ту пору он был уже лицом, приближённым к Бенкендорфу и другим столпам высшей политики (впрочем, поддерживая старое знакомство и с Белинским). От кого бы непосредственно Попов ни слышал то, что записал, его версия, конечно, исходит не от Пушкина, а от Николая и движется «по служебной линии», через III Отделение.
В рассказе Попова обратим внимание на любопытные слова о государе, который «потом говорил», что «с поэтом нельзя быть милостивым». Потом — это позднейший, более неблагоприятный взгляд царя, уже укрепившегося, куда более уверенного в жёстком курсе и, кажется, забывшего свои же эффектные, «добродушные» формулы, произнесённые в беседе с Пушкиным в сентябре 1826 года.
Ясно, что поначалу царь не вспоминал, «забыл» нарушение Пушкиным этикета; однако позже, потом, почему-то к этому возвращается и, задним числом, всё больше раздражается…
Подобную же эволюцию царских воспоминаний мы находим в известной записи М. А. Корфа; отрывки из неё уже цитировались выше, однако некоторые очень важные особенности рассказа выявляются только при полном его воспроизведении, с учётом «соседствующих» строк, а также — исторического контекста. Очень полезным оказалось при этом обращение к автографу Корфа, сохранившемуся в рукописном собрании библиотеки Зимнего дворца[331].
Публикации текста Корфа в «Русской старине» не сопровождаются указаниями точной даты, когда царь вспомнил о встрече с Пушкиным. Меж тем это важно: 4 апреля 1848 года М. А. Корф занёс в дневник рассказ об очень существенных для него событиях, случившихся двумя днями раньше, 2 апреля.
В тот день Корф получил «золотую табакерку с бриллиантом и портретом государя» за подготовку труда «Восшествие на престол императора Николая I»[332], а также — был назначен членом особого комитета (так называемого «Бутурлинского» или Комитета 2 апреля), созданного для усиления, ужесточения цензуры. То было одно из самых реакционных цензурных учреждений николаевского царствования; Корф тайно посетовал в дневнике, «что не хочет быть доносчиком и останавливать умственное в отечестве своём развитие», однако принял назначение, характер которого ясно определил сам царь, сказавший в тот день председателю Комитета Д. П. Бутурлину: «Мне даже и совестно было обременить тебя с Корфом этим делом, но вы все видите в этом знак безграничной моей доверенности <…> Вы будете — Я, то есть как мне самому некогда читать всех произведений нашей литературы, то вы это станете делать за меня и потом доносить мне о ваших замечаниях, а потом уже моё дело будет расправляться с виновными»[333].
Награда и новое назначение Корфа имели ближайшим следствием приглашение на царский обед, где речь зашла о Пушкине; описание обеда Корф включил в ту же дневниковую запись 4 апреля 1848 года:[334] «Награда моя не ограничилась одною табакеркою. В тот же день, то есть 2 апреля, я был приглашён к столу государя. Обедали (в золотой гостиной императрицы), из посторонних только граф Орлов, Вронченко[335] (пятница — его докладной день) и я. Сверх того, сидели за столом государь с императрицею, невеста с женихом[336] и оба младшие великие князья. Перед обедом государь благодарил меня в коротких словах. После обеда перешли в кабинет императрицы, но уже не садились: государь стоял у камина, более с Орловым, но вводя иногда в разговор и нас, с которыми беседовали между тем императрица и великий князь Константин Николаевич. Разговор за обедом был, разумеется, наиболее о политических делах, но переходил и к другим предметам. Государь неоднократно обращался ко мне, расспрашивал о моих летних планах, говорил о прежнем и нынешнем Лицее, объяснял, что ему самому с великим князем Михаилом Павловичем предназначено было вступить в Лицей и что только Наполеон был причиною неисполнения этого проекта. Особенно интересны были рассказы о Пушкине, обращённые тоже ко мне как к прежнему его товарищу».
Далее следовал царский рассказ, представленный в дневнике несколько иначе, чем в последующих публикациях: «Я впервые увидел Пушкина, когда после коронации его привезли ко мне в Москву из его заключения совсем больного и в ранах (от известной болезни).— Что бы вы сделали, если б 14 декабря были в Петербурге? — спросил я его между прочим.— Был бы в рядах мятежников,— отвечал он.— Когда потом я его спрашивал, переменился ли его образ мыслей и даёт ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю[337], он очень долго колебался и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием — сделаться другим. И что же? Вслед за тем он, без моего позволения и ведома, уехал на Кавказ! К счастью, там было кому за ним наблюдать: Паскевич не любит шутить.
Под конец его жизни, встречаясь часто с его женою, которую я искренне любил и теперь люблю, как очень добрую женщину, раз как-то разговорился с нею о коммеражах[338], которым её красота подвергает её в обществе; я советовал ей быть сколько можно осторожней и беречь свою репутацию, сколько для самой себя, столько и для счастия мужа, при известной его ревности[339]. Она, видно, рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то со мною, он стал меня благодарить за добрые советы жене.— Разве ты и мог ожидать от меня другого? — спросил я его. — Не только мог, государь, — но, признаюсь, откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женою.— Через три дня потом был его последний дуэль».
Корф вслед за тем поясняет, что «разговор шёл то по-русски, то по-французски»[340] и что вообще, «несмотря на живость разговора, государь во весь обед казался пасмурным, даже мрачным, и я нахожу, что он очень переменился и постарел»[341]. О причинах «мрачности» Николая можно легко догадаться.
Царь и придворные толкуют о Лицее, Пушкине, посреди крайне тревожных известий о европейских революциях 1848 года; восстания уже начались в Италии, Франции, Австрии, Пруссии: царю приходится размышлять о возможных бунтах в России. (Во время обеда 2 апреля между прочим обсуждалось какое-то «английское письмо» к Николаю с просьбой — жёстче обходиться с толпою «в случае беспорядков»[342]). В стране принимаются жесточайшие меры против просвещения (возможно, разговор о Лицее как раз и возник в связи с обсуждением состояния учебных заведений).
Таким образом, у царя было много оснований для дурного настроения; и тем не менее — поражает неприязнь, злость, пожалуй, даже отвращение, с которым он говорит о Пушкине с его лицейским одноклассником; впрочем, Корф, как это видно по его воспоминаниям, смотрел на Пушкина примерно так же, как царь.
Итак, 2 апреля 1848 года царь более чем предвзят; он делает Пушкину, так сказать, посмертный выговор, трактует в самом дурном смысле (не имея для того никаких оснований, кроме гнусных слухов) даже внешний, физический облик доставленного к нему поэта; можно почти ручаться, что (как и в рассказе М. М. Попова) всё это было «замечено» и вдруг поставлено Пушкину в укор не сразу, а много времени спустя; легко уловить вероятную связь между первыми строками царского рассказа Корфу и темой Натальи Николаевны: смысл царского рассуждения, по-видимому, в том, что вот Пушкин, столь «нечистый», ещё осмеливался потом быть ревнивцем и подозревать самого Николая!
Как видим, взгляд на Пушкина, входящего в царский кабинет, здесь уже даётся сквозь призму последующих событий, сквозь дуэльную историю 1836—1837 годов.
Если отвлечься от частностей, то общая тональность Корфовой записи — что Пушкину нельзя было верить, что он царя обманул. Даже прямодушное признание, что он был бы 14 декабря на площади, здесь ставится поэту в обвинение; ведь сразу за этой сценой следует царское, — «и что же!» — а затем явно раздутый, неблагожелательно искажённый эпизод с поездкой поэта на Кавказ. Ответ насчёт 14 декабря задним числом кажется особенно дерзким и потому, что он сближен в этом рассказе с «непочтительной», смелой отповедью императору незадолго до последней дуэли поэта: «…признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал…»
Между непосредственной реакцией современников на «прощение» Пушкина и записью Корфа прошла целая эпоха. В 1848-м Пушкина давно нет, Николаю царствовать ещё семь лет. Царь ожесточён начинающимся новым туром европейских революций, исполнен губительной самоуверенности как во внутренней, так и во внешней политике, отказывается от последней попытки (1846—1847 гг.) продвинуть вперёд крестьянское дело.
Более того, практика царствования показала, что, воздерживаясь от преобразований, Николай I может расширять свои самодержавные прерогативы, не опасаясь того дворянского сопротивления, которое ясно ощущалось, как только речь заходила о реформах.
Подводя самый отрицательный итог своим отношениям с Пушкиным, царь, сам того не замечая, в известной степени отрицал и собственное прошлое, некоторые идеи первых лет своего царствования.
Несколько поколений прогрессивных российских мыслителей, учёных находили, что поэт был царём обманут.
Николай I же считал, что, наоборот, Пушкин его обманул, «не оправдал надежд».
Раздражение, злые слова о великом поэте, создавшем именно в николаевское время свои лучшие произведения, о гении, уже давно погибшем,— вся эта желчная тирада в беседе с Корфом прозвучала в устах Николая I как приговор самому себе, своей системе. Приговор, который вскоре был приведён историей в исполнение.
Но это после. Пока же Пушкину предстояло прожить своё последнее десятилетие — где главными собеседниками будут, конечно же, не те, к кому доставляли «свободно, но с фельдъегерем», но лучшие умы России и Европы.
Часть II. Собеседники
Глава V. Пушкин — Карамзин
Живой души благодаренье…
Задолго до 8 сентября, до возвращения в «большой мир», Пушкин, как и некоторые другие его современники, уже воспринимал эпоху как «переламывающуюся»[343]. Перемены некоторых взглядов поэта, обозначившиеся ещё в 1823—1825 годах, объясняются прежде всего художественной, исторической интуицией; ощущением и пониманием того, что старому времени («дням александровым»), его идеалам и ценностям приходит конец. Положит ли ему предел победоносная революция, торжествующая реакция или нечто иное — сказать было невозможно, однако духом предчувствия, пророчества насыщены «Борис Годунов» и «Андрей Шенье», некоторые фрагменты пушкинских записок и другие преддекабрьские сочинения.
С этих лет, и особенно после событий конца 1825-го — 1826 года, для Пушкина главная творческая задача — определить поэтическую, историческую «формулу» нового, с прошедшим же проститься («Дай оглянусь…» — в «Евгении Онегине»); проститься лучшим из возможных способов — уяснением, пониманием, воплощением. Требовалось заново исследовать проблемы проблем: революцию, государство, историю, власть, личность, народ.
Важнейшие мысли при этом часто выявлялись в диалоге с другими великими мастерами: разговоры, диспуты могли быть дружескими и антагонистическими, очными и заочными, прижизненными, а часто посмертными: суть дела от того не менялась. Ведь по самой природе своей талант диалогичен, исключительно восприимчив к другому таланту. Неслучайно многие пушкиноведческие наблюдения сделаны «на пересечениях»: Пушкин — Вяземский, Жуковский, Радищев, Вольтер, Шекспир…
Проблемы поэта и власти, «высокого стремленья» к свободе и «силы вещей» — то, что резко, по-новому обозначилось в первые годы пушкинского возвращения (1826—1828), ко всему этому очень интересно, полезно присмотреться на двух важнейших пересечениях:
Пушкин — Карамзин, Пушкин — Мицкевич.
Два пушкинских собеседника принадлежали разным народам, их судьбы, их идеалы очень различны; и тем существеннее прислушаться к диалогу, касающемуся «сходных предметов», попытаться приблизиться к истине, рождающейся в полемике таких спорщиков.
Смерть Карамзина для его друзей и почитателей слилась воедино с другими тяжкими событиями 1826 года. Вяземский писал Пушкину ещё в Михайловское: «Без сомнения, ты оплакал его смерть сердцем и умом: ибо всякое доброе сердце, каждый русский ум сделали в нём потерю невозвратную, по крайней мере для нашего поколения. Говорят, что святое место пусто не бывает, но его было истинно святое и истинно надолго пустым останется» (XIII, 284—285).
Оценить труды Карамзина, написать биографию, собрать воспоминания — эта задача становится в ту пору первостепенной для Пушкина и его друзей, хорошо понимавших опасность, невозможность прямо писать о революции, декабристах и в то же время отнюдь не желавших переходить в лагерь победителей. Карамзин в 1826 году был уникальной фигурой, почитаемой, уважаемой (разумеется, с разных точек зрения!) и властью, и её противниками. В то время как Николай I воспользовался болезнью и кончиной историка для особых, демонстративных милостей к нему и его семье,— Вяземский, летом 1826-го очень остро, оппозиционно настроенный, в своих письмах и дневниках помещал горячие, уничтожающие строки в адрес тех, кто судит и казнит. В одной из записей, где обосновывается право мыслящих людей на сопротивление, борьбу с деспотизмом, он прямо ссылается на Карамзина, и эта ссылка тем весомей, что отрицательное отношение историографа к революции было общеизвестно[344].
Можно сказать, что Вяземский в «Записных книжках» фактически начал составлять биографию Карамзина, резко обозначив самую острую и опасную тему — об историографе, русском обществе и власти. Однако более или менее цельных мемуарных текстов Вяземский долго не мог завершить, ряд важных его записей был сделан лишь много лет спустя[345]. Услышав однажды упрёк от дочери историографа, что он написал биографию Фонвизина, а не Карамзина, Вяземский отвечал: «Ведь не напишешь же биографии, например, горячо любимого отца»[346].
Не решаясь приняться за жизнеописание Карамзина, его друг, ученик и родственник при том постоянно хлопочет о сохранении карамзинского наследства; в январе 1827-го он убеждал А. И. Тургенева написать об историографе: «…ты, Жуковский, Блудов и Дашков должны бы непременно положить несколько цветков на гроб его. Вы более всех знали его, более моего <…> Вы живые и полные архивы, куда горячая душа и светлый ум его выгружали сокровеннейшие помышления. Право, Тургенев, опрокинь без всякого усилия авторство памяти и сердечную память свою на бумагу, и выльется живое и тёплое изображение»[347].
Позже Вяземский не раз просил Жуковского и Дмитриева: «Время уходит, и мы уходим. Многое из того, что видели мы сами, перешло уже в баснословные предания или и вовсе поглощено забвением. Надобно сдавать свою драгоценность в сохранное место»[348].
Пушкина как мемуариста друзья Карамзина как будто в расчёт не брали: знакомство молодого поэта с историографом было куда менее длительным, основательным, чем у них; к тому же — им было известно о периодах взаимного охлаждения Карамзина и Пушкина. В письме-реквиеме Вяземского от 12 июня 1826 года находились упрёки Пушкину, что он «шалун и грешил иногда эпиграммами против Карамзина, чтобы сорвать улыбку с некоторых сорванцов и подлецов» (XIII, 284).
Защищая декабристов ссылками на Карамзина, Вяземский одновременно резко аттестует «левых» за недостаток уважения к историографу: так обозначались границы сложного, противоречивого подхода к карамзинскому наследию,— и всё это предлагалось Пушкину в напряжённейшие дни суда и казни по делу 14 декабря.
Пушкин, отвечая Вяземскому 10 июля 1826 года, защищался против обвинений в злых эпиграммах на Карамзина: «Кого ты называешь сорванцами и подлецами? Ах, милый… слышишь обвинение, не слыша оправдания, и решишь: это Шемякин суд. Если уж Вяземский etc., так что же прочие? Грустно, брат, так грустно, что хоть сейчас в петлю» (XIII, 286).
Пушкин на расстоянии, кажется, не представляет всей сложности позиции Вяземского; воспринимает её только в виде критики на декабристов и намекает, что «если уж Вяземский etc., так что же прочие?» Следующие же строки письма показывают, что Пушкин ещё до получения послания от Вяземского размышлял о необходимости публично отозваться на кончину замечательного человека: «Читая в журналах статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они холодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесёт достойной дани его памяти? Отечество вправе от тебя того требовать. Напиши нам его жизнь, это будет 13-й том Русской Истории; Карамзин принадлежит истории. Но скажи всё; для этого должно тебе иногда употребить то красноречие, которое определяет Гальяни в письме о цензуре» (XIII, 286).
Как известно, поэт подразумевал следующие слова итальянского аббата Фердинандо Гальяни (написанные в 1774 г.): «Знаете ли Вы моё определение того, что такое высшее ораторское искусство? Это искусство сказать всё — и не попасть в Бастилию в стране, где не разрешается говорить ничего»[349].
Советуя Вяземскому, указывая даже на «то красноречие», которое необходимо, чтобы сказать всё, Пушкин по существу подразумевает собственные уже написанные мемуары о Карамзине, где о писателе-историке сказано самое главное (пока ещё в тайне от Вяземского и других единомышленников). Мемуары эти входили в автобиографические записки Пушкина, сожжённые им после событий 14 декабря, но отрывок о Карамзине уцелел и позже был опубликован в «Северных цветах на 1828 год» среди других пушкинских заметок, озаглавленных «Отрывки из писем, мысли и замечания»[350].
Чтобы понять историю возникновения мемуаров и весь пушкинский замысел, столь важный в трагическом 1826 году, надо подробно пройти его с самого начала, вникнуть во взаимоотношения Пушкина и Карамзина, а для того отступить на десять и более лет назад, в эпоху, предшествующую нашему повествованию.
В Лицее
Карамзин, старший Пушкина тридцатью тремя годами, был старше и Сергея Львовича, а в литературном смысле мог быть сочтён за «деда»: ведь его непосредственными учениками, сыновьями были Жуковский, Александр Тургенев и другие «арзамасцы», в основном появившиеся на свет в 1780-х годах.
В год рождения Пушкина Карамзин предсказывал, что в России «родится вновь Пиндар»;[351] хорошо знакомый с отцом и дядей Александра Сергеевича, писатель-историк знает будущего поэта с младых ногтей.
Круг общих знакомых будто сразу задан на всю жизнь: Екатерина Андреевна Карамзина, Карамзины-дети, Жуковский, Тургенев, Дмитриев, Батюшков, Вяземские… Кроме того, была Москва «допотопная и допожарная» (выражение П. А. Вяземского); московские впечатления и воспоминания, всегда важные для будущих петербуржцев. Разговоры о Карамзине, споры вокруг его сочинений и языка, ожидание «Истории…» — всё это постоянный фон пушкинского детства, отрочества и юности.
Как известно, с 1803 года Карамзин почти совсем оставил литературные занятия, получил должность историографа и «заперся в храм истории». Ему было в ту пору тридцать семь лет, и он начинал совершенно новую жизнь в том именно возрасте, в котором позже оборвётся жизнь Пушкина…
Пока Пушкин выходил из младенчества, учился читать по-русски и французски, слушал сказки Арины Родионовны и рассказы бабушки Марии Алексеевны Ганнибал, пока разыгрывал перед сестрою французские комедии, страдая от родительских придирок и равнодушия, пока удостоился первой настоящей похвалы учёного француза («чудное дитя! как он рано всё начал понимать! дай бог, чтобы этот ребёнок жил и жил, вы увидите, что из него будет!»), — пока подобные события чередовались в жизни Пушкина (Москва, Захарово) — в биографии Карамзина был безмерный труд историка, текст и примечания к первым томам, от славянских древностей до начала XVI столетия (в Москве, Остафьеве). Это время рождения у Карамзина первых детей — и первых детских смертей; время знакомства с царём Александром I, царской фамилией и период создания «Записки о древней и новой России».
С 1811-го Пушкин в Лицее; Карамзин в 1812 году перед вступлением французов одним из последних уходит из Москвы, переносит тяготы войны, московского пожара, теряет первенца-сына, болеет; в 1814 году вынашивает идею — написать историю нового времени, в 1816 году навсегда переезжает в Петербург; летом работает в Царском Селе…
25 марта 1816 года в Лицей приезжает шесть человек: Карамзин, Жуковский, Вяземский, Александр Тургенев, Сергей Львович и Василий Львович Пушкины.
Встреча длится не более получаса. Вяземский не помнил «особенных тогда отношений Карамзина к Пушкину», стихами юного лицейского поэта историк ещё не заинтересовался, однако сам визит носит «арзамасский» характер, как бы подчёркивает заочное участие «Сверчка» в литературном братстве. В этот или следующий день лицеисты узнают из объявления в «Сыне отечества» о завершении восьми томов «Истории государства Российского» и о том, что «печатание продолжится год или полтора». Именно к этому моменту — когда издание объявлено, но ещё не вышло — относится и первая из эпиграмм на Карамзина, нередко связываемая с именем Пушкина («Послушайте: я сказку вам начну//Про Игоря и про его жену…»).
Авторство Пушкина, которое долгое время почти не вызывало сомнений (см. II, 1025—1026), недавно было оспорено Ю. П. Фесенко, возвратившимся к давней идее об авторстве А. С. Грибоедова[352].
Не углубляясь в этот спор, заметим только, что общее благоговейное отношение к Карамзину, арзамасское единство взглядов — всё это не могло помешать весёлому лицейскому поэту «стрельнуть» эпиграммой и в самого Карамзина. Пушкин ведь ещё в Москве, а затем в Царском Селе не раз слышал скептические толки о писателе, который вряд ли сможет сочинить нечто серьёзное, научное, отличающееся от «сказки»…
Известны петербургские толки о будущей «Истории…», когда один только Державин верил в успех карамзинского начинания. К тому же неоднократно раздавались голоса о «слишком долгой» (с 1803 г.) работе без видимых плодов.
Между тем весной и летом 1816 года Карамзин выполняет обещанное, и Пушкин постепенно понимает, что присутствует при необыкновенном эпизоде российской культуры.
Так начинался первый, удивительный, особенно тёплый и дружеский «сезон» в их отношениях. Лицеист Пушкин, как «старый знакомый», представленный ещё в младенчестве, постоянно посещает Карамзина. Хотя старшему пятьдесят, а младшему семнадцать лет — взаимный интерес очевиден.
Зная (может быть, имея новые доказательства) непокорный нрав племянника, дядя Василий Львович 17 апреля 1816 года наставляет его в том, в чём «иных» и не надо было убеждать: «Николай Михайлович в начале мая отправляется в Сарское Село. Люби его, слушайся и почитай. Советы такого человека послужат к твоему добру и, может быть, к пользе нашей словесности. Мы от тебя многого ожидаем» (XIII, 4).
Неопределённое дядюшкино «мы» подразумевает, конечно, Арзамас, карамзинский круг. Как видим, с первых дней нового знакомства сразу обнаруживаются два начала будущих отношений: сближение идейное, «клановое», арзамасское — и некоторое отталкивание, ирония молодости над любым авторитетом (и, соответственно, старшие предупреждают — «люби его и почитай»).
24 мая 1816 года Карамзин с семьёй поселяется в Царском Селе и работает над окончательной отделкой и подготовкой для типографии восьми томов своей «Истории…». До 20 сентября (дата отъезда Карамзина в Петербург) — важнейший период общения, когда складываются некоторые главные черты будущих отношений.
Догадываемся, что Пушкину «сразу» понравился историограф. Позже он вспомнит и даже изобразит Погодину его «длинное лицо» и особое выражение за работою[353].
«Честолюбие и сердечная привязанность» — вот как однажды, десять лет спустя, поэт определит свои чувства во время тех встреч. Пушкин был настолько увлечён, что (по наблюдению Горчакова) «свободное время своё во всё лето проводил у Карамзина, так что ему стихи на ум не приходили…»[354].
Сам же Карамзин 2 июня (то есть через девять дней после приезда) уже сообщает Вяземскому, что его посещают «поэт Пушкин и историк Ломоносов», которые «смешат своим простосердечием. Пушкин остроумен»[355].
Молодой Пушкин замечен как поэт (не сказано талантлив, но — остроумен!). Карамзину, очевидно, всё же пришлись по сердцу некоторые поэтические сочинения лицеиста, может быть, остроумные эпиграммы. Вообще знакомство начинается с весёлости, простосердечия, равенства; этого не следует забывать, хотя столь жизнерадостное начало будет почти затеряно, сокрыто в контексте последующего серьёзного противоречивого отношения.
Именно уважением к дару юного Пушкина объясняется известный эпизод, случившийся буквально через несколько дней после возобновления знакомства.
Старый придворный поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий не может выполнить высочайший заказ — написать «приличествующие стихи» в честь принца Оранского, прибывшего в Петербург для женитьбы на великой княжне Анне Павловне. Нелединский бросается к Карамзину, тот рекомендует молодого Пушкина, лицеист в течение часа или двух сочиняет то, что нужно,— «Довольно битвы мчался гром…».
Впрочем, тут же идиллия «взрывается»: гимн приезжему принцу поётся на празднике в честь новобрачных, императрица-мать жалует сочинителю золотые часы, Пушкин же разбивает их «нарочно» о каблук. Верна эта лицейская легенда или нет, она сохраняет отношение Пушкина к событию, моральную ситуацию: стыдно получать подарки от царей!
Карамзин, только что получивший огромную сумму на издание своего труда, а также Анну I степени, вряд ли бы одобрил столь резкое действие; но одновременно — ценил подобный взгляд на вещи. Любопытно, что сам Пушкин позже опишет эпизод, по духу своему сходный (тем более что он связан с поездкой Карамзина в Павловск, то есть в гости к императрице-матери Марии Фёдоровне) : «Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались…» (XII, 306).
Пушкин и другие лицеисты, без сомнения, знали, пересказывали ещё немалое число подобных же эпизодов, которые определяли в их глазах карамзинскую репутацию.
«Один из придворных,— писал Вяземский,— можно сказать, почти из сановников, образованный, не лишённый остроумия, не старожил и не старовер, спрашивает меня однажды: „Вы коротко знали Карамзина. Скажите мне откровенно, точно ли он был умный человек?“ — „Да, — отвечал я, — кажется, нельзя отнять ума от него“.
„Как же,— продолжал он,— за царским обедом часто говорил он такие странные и неловкие вещи“.
Дело в том, что по понятиям и на языке некоторых всякое чистосердечие равняется неловкости».
Вяземский, впрочем, прибавил, что хозяева, «пресыщенные политикою», любили разговоры Карамзина, «свободные и своевольные»[356].
Ксенофонт Полевой вспоминал, что Пушкин и много лет спустя питал к Карамзину «уважение безграничное», что «историограф был для него не только великий писатель, но и мудрец,— человек высокий, как выражался он»; мемуарист воспроизвёл рассказ Пушкина: «Как-то он был у Карамзина (историографа), но не мог поговорить с ним оттого, что к нему беспрестанно приезжали гости и, как нарочно, всё это были сенаторы. Уезжал один, и будто на смену его являлся другой. Проводивши последнего из них, Карамзин сказал Пушкину:
— Заметили вы, что из всех этих господ ни один не принадлежит к хорошему обществу?»[357]
Наконец, на глазах Пушкина и лицейских тем летом 1816 года складываются удивляющие, не имеющие русских аналогий отношения историографа с царём. Александр I всё чаще заглядывает к Карамзину, рано утром они почти ежедневно прогуливаются, часами беседуют в «зелёном кабинете», то есть царскосельском парке. Историк, по его собственному позднейшему признанию, «не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой губернской системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о министерстве просвещения иль затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец, о необходимости иметь твёрдые законы, гражданские и государственные»[358].
Разумеется, о содержании потаённых бесед никто почти ничего не знал, но общий их дух скрыть было невозможно. Лицеисты вряд ли могли усомниться, что с царём Карамзин говорил свободно, как со всеми.
Равенство и достоинство; «честолюбие и сердечная привязанность».
Пушкин тем летом несомненно читал Карамзину свои стихи.
Карамзин же показал вступление к «Истории…», которое Пушкин считал позже «недооценённым». В письме к брату Льву (4 декабря 1824 г.) Александр Сергеевич припомнит, как Карамзин при нём переменил начало Введения. Было: «История народа есть в некотором смысле то же, что Библия для христианина». Опасаясь конфликта с церковью из-за сравнения гражданской истории со Священным писанием, историограф, как видно, поделился опасениями с молодым собратом и при нём сделал первую фразу такой: «История в некотором смысле есть священная книга народов»[359].
В Царском Селе, кроме Введения, без сомнения, были прочитаны в рукописи и другие отрывки «Истории…»: лицейский Горчаков сообщал дяде, что «Карамзин всё ещё торгуется с типографщиками и не может условиться <…> Некоторые из наших, читавшие из неё <„Истории…“> отрывки, в восхищении»[360].
«Некоторые» — это прежде всего Пушкин. Ему всё интересней в доме историографа, он там всё более свой. У Карамзина — знакомится и беседует с Чаадаевым, Кривцовым.
В разговорах о жизни Карамзин, как видно, абсолютно избегает нравоучительного тона (какой контраст, например, по сравнению с отношениями юного поэта с другим, вполне благородным человеком, лицейским директором Энгельгардтом: тот желает привлечь Пушкина к себе, но «естественный тон» не найден, и отношения ухудшаются)[361].
Так проходило примечательное лето 1816 года. В осеннем послании «К Жуковскому»[362] мы находим поэтический итог длительного общения поэта-лицеиста с Карамзиным, как бы первый, стихотворный «пролог» к будущим «Запискам»:
Обратим внимание на последовательность имён… После Жуковского на первом месте Карамзин, и в четырёх строках — основные впечатления минувшего лета: историк, но притом «священный судия», «страж верный…». Его высокий талант («наперсник Муз любимый») равен характеру («неколебим»). Его отношение к пушкинским опытам — это «ободрение»: «приветливое внимание».
После Карамзина идёт Дмитриев, однако тем летом он не приезжал из Москвы. Возможно, что старый поэт и бывший министр в одном из писем Карамзину присоединил какие-то лестные отзывы к мнению друга о талантливом лицейском поэте, а письмо было прочтено молодому Пушкину. К сожалению, все письма Дмитриева к Карамзину бесследно исчезли…
Затем следует «славный старец наш» Державин…
В стихотворных мемуарах Пушкин сообщает о важнейших для него событиях. Только теперь он утвердился в своём призвании, и роль старших друзей здесь огромна, необыкновенна.
Можно сказать, что за несколько месяцев до окончания Лицея юный поэт прошёл важнейший курс обучения в доме Карамзина; познакомился с высокими образцами культуры, литературы, истории, личного достоинства — и эти мотивы, конечно же, подразумевались десять лет спустя, когда Пушкин мечтал о Карамзине «сказать всё».
Догадываемся, что Пушкин скучал по Карамзину последней лицейской осенью и зимой, что из Царского Села в Петербург и обратно шли приветы, а на рождество Пушкин в столице и, конечно же,— наносит визит…
Карамзин занят типографией, корректурой восьми томов; Пушкин тяготится учением, всё чаще пропадает у царскосельских гусар, влюбляется.
Весною 1817-го начался второй «карамзинский сезон» в Царском Селе. В мае историограф между прочим присутствует на выпускном лицейском экзамене по всеобщей истории; ведомость о состоянии Лицея фиксирует, что в день рождения Пушкина, 26 мая 1817 года, его посещают примечательные гости: Карамзин, Вяземский, Чаадаев, Сабуров. Через четыре дня снова визит Карамзина и Вяземского.
Между тем именно в этот момент происходит эпизод, который подвергает испытанию сложившиеся как будто отношения.
Восемнадцатилетний Пушкин пишет любовное письмо тридцатисемилетней Екатерине Андреевне Карамзиной, жене историографа.
Как известно, Ю. Н. Тынянов видел в этой истории начало «потаённой любви» Пушкина к Е. А. Карамзиной, прошедшей через всю жизнь поэта[365]. Мы не берёмся сейчас обсуждать эту гипотезу во всём объёме. Заметим только, что Тынянов, вероятно, преувеличивая, всё же верно определил особенный характер отношений между Пушкиным и женой, а потом вдовой Карамзина.
Смертельно раненный поэт прежде всего просит призвать Карамзину. «„Карамзина? Тут ли Карамзина?“ — спросил он <…> Её не было; за нею немедленно послали, и она скоро приехала. Свидание их продолжалось только минуту, но когда Катерина Андреевна отошла от постели, он её кликнул и сказал: „Перекрестите меня!“ Потом поцеловал у неё руку»[366]. Е. А. Карамзина о том же: «Я имела горькую сладость проститься с ним в четверьг; он сам этого пожелал <…> Он протянул мне руку, я её пожала, он мне также, и потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: „Перекрестите ещё“; тогда я опять, пожавши ещё раз его руку, уже перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он её тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, и очень хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном лице»[367].
О совершенно особых отношениях Карамзиной и Пушкина свидетельствует между прочим и эпизод, случившийся уже после гибели поэта. В начале июля 1837 года в Баден-Бадене Дантес в разговоре с Андреем Карамзиным, сыном историка, всячески оправдывался, горячо доказывая свою невиновность; надеялся на понимание всех Карамзиных, за исключением одного человека, Екатерины Андреевны: «В её глазах я виновен, она мне всё предсказала заранее, если бы я её увидел, мне было бы нечего ей ответить»[368].
Говоря об отношении Пушкина к Екатерине Андреевне, Ю. Н. Тынянов подчёркивал, что «отношения с Карамзиным чем далее, тем более становятся холодны и чужды <…> Разумеется, расхождения между ними были глубокие.
Это нисколько не исключает и личных мотивов ссоры»[369].
Подобный взгляд представляется односторонним. Весьма важно и любопытно, что легко ранимый, возбудимый Пушкин был совершенно обезоружен тонким и точным поведением уважаемых и любимых им людей[370].
Самым же веским доказательством, что отношения отнюдь не прерывались после объяснения весной 1817 года, являются постоянные дружеские контакты. Это очень хорошо видно по «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина».
Сразу после окончания Лицея Пушкин переезжает в Петербург, затем отправляется в Михайловское, снова — в Петербруг, в то время как Карамзины почти безвыездно находятся в Царском Селе. В конце же 1817 года, когда историограф с семьёй возвращается в столицу, отношения легко возобновляются. С 16 сентября 1817 года поэт постоянно бывает у старших друзей на их петербургской квартире.
Именно в доме Карамзиных Пушкин «смертельно влюбился» в «пифию Голицыну», о чём хозяин не замедлил известить Вяземского[371].
В начале 1818 года общение прерывается длительной и тяжёлой болезнью Пушкина. В это время, 2 февраля, публикуется объявление о выходе в свет восьми томов «Истории государства Российского». Пушкин позже признается, что читал «в постели, с жадностью и вниманием». О том, что он был в восторге, можно судить не только по его позднейшим воспоминаниям об этом событии, но и по стихам, написанным под свежим впечатлением (послание «Когда к мечтательному миру…», о котором особая речь впереди).
Вслед за тем Пушкин выздоравливает, и все сохранившиеся сведения свидетельствуют о близких, добрых, безоблачных отношениях с Карамзиным весной и летом 1818 года. С 30 июня по 2 июля Пушкин гостит у Карамзиных в Петергофе, на праздниках по случаю дня рождения великой княгини Александры Фёдоровны; 1 июля на катере по Финскому заливу катается дружеская компания: Карамзин, Жуковский, Александр Тургенев, Пушкин.
В этот период Пушкин пером рисует портрет Карамзина.
Середина июля. Пушкин опять в Петергофе, с Карамзиным, Жуковским и Тургеневым; пишется коллективное, к сожалению, не сохранившееся письмо Вяземскому[372].
2 сентября Пушкин и Александр Тургенев гостят у Карамзина в Царском Селе. Тургенев жалуется Карамзину на образ жизни Пушкина. Точного смысла «жалобы» мы не знаем, но угадываем, что подобные сетования были в письме Тургенева — Батюшкову; Батюшков же из Москвы отвечал (10 сентября 1818 г.): «Не худо бы его (Пушкина) запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою… Как ни велик талант „Сверчка“, он его промотает, если… но да спасут его музы и молитвы наши!»[373]
Тем не менее «выволочка» была, кажется, не слишком суровой, потому что 17 сентября Пушкин опять у Карамзиных в Царском Селе, на этот раз в компании с Жуковским[374].
В эту же пору Сверчок воюет за честь историографа, сражаясь в одном ряду с Вяземским и другими единомышленниками против Каченовского — предвзятого, мелочного критика,— и Карамзин не мог не оценить преданности юного поэта: как раз в сентябрьские дни 1818 года по рукам пошла эпиграмма, которой Пушкин «плюнул» в Каченовского («Бессмертною рукой раздавленный Зоил…»).
Итак, в сентябре 1818-го отношения ещё прекрасные.
22 сентября Пушкин опять в Царском Селе с Жуковским и братьями Тургеневыми, Александром и Николаем. Карамзин читает им свою речь, которую должен произнести в торжественном собрании Российской академии («прекрасную речь», согласно оценке, сделанной А. И. Тургеневым в письме к Вяземскому)[375]. Декабрист же Николай Тургенев, восхищаясь в 1818 году многими страницами «Истории…», при том искал и находил у Карамзина «пренечестивые рассуждения о самодержавии», и в то же время подозревал историографа в стремлении «скрыть рабство подданных и укореняющийся деспотизм правительства»[376].
По дневникам и письмам Н. И. Тургенева видно, как несколько раз происходят прямые его столкновения с Карамзиным из-за вопроса о крепостном рабстве.
30 сентября — можно сказать, последний известный нам безоблачный день в отношениях историографа и поэта: Карамзин пишет Вяземскому в Варшаву, что 7 октября думает переехать в город и «пить чай с Тургеневым, Жуковским и Пушкиным»[377].
Действительно, с начала октября Карамзины поселяются в столице, в доме Екатерины Фёдоровны Муравьёвой на Фонтанке.
Это, можно сказать, одна из самых горячих точек Петербурга, где сходятся и сталкиваются могучие силы и сильные страсти. Дети хозяйки, Никита и Александр Муравьёвы,— члены тайных обществ, а Никита — один из главных умов декабристского движения. Среди родственников и постоянных гостей — братья Муравьёвы-Апостолы, Николай Тургенев и другие «молодые якобинцы»[378].
Первая известная нам встреча названных лиц «у беспокойного Никиты» состоялась около 10 октября 1818 года[379]. С того вечера из-за того чайного стола к нам доносятся только две фразы, записанные Николаем Тургеневым: «Мы на первой станции образованности»,— сказал я недавно молодому Пушкину. «Да,— отвечал он, — мы в Чёрной грязи»[380].
Реплики произносятся при Карамзине; историограф, вероятно, с ними согласен и может оценить остроту молодого поэта (Чёрная грязь — первая станция по пути из Москвы в Петербург). Однако согласие не могло быть прочным, как только начинался разговор о путях исправления, о том, куда и как отправляться с «первой станции»…
То ли на этом самом октябрьском вечере, то ли чуть позже, но между Пушкиным и Карамзиным что-то происходит. Ведь прежде переписка современников и другие данные свидетельствуют о постоянных встречах; имена Пушкин и Карамзин регулярно соединяются. Однако с октября 1818 года общение прерывается. Никаких сведений о чаепитиях, совместных поездках, чтении, обсуждении… Ничего. Только один раз, по поводу выздоровления Пушкина от злой горячки (8 июля 1819 г.), Карамзин замечает: «Пушкин спасён музами»[381].
Почти через год после охлаждения, в середине августа 1819-го, мелькает сообщение о поездке поэта в Царское Село, к Карамзину: «Обритый, из деревни, с шестою песнью <„Руслана и Людмилы“>, как бес мелькнул, хотел возвратиться <в Петербург> и исчез в темноте ночи как привидение»[382].
Эти строки из письма А. И. Тургенева к Вяземскому ясно рисуют какой-то новый тип отношений: краткое появление у Карамзиных, из вежливости, очевидно, под давлением Тургенева, и стремление скорее исчезнуть.
Около 25 августа — ещё один краткий визит А. И. Тургенева и Пушкина к Карамзиным, откуда ночью они отправляются к Жуковскому в Павловск[383].
Затем опять никаких сведенией о встречах, беседах; биографии Карамзина и Пушкина, можно сказать, движутся параллельно, не пересекаясь, и это длится до весны 1820-го, когда над Пушкиным нависает гроза.
Итак, полтора года отдаления после двух с половиной лет привязанности, очень важных для Пушкина отношений.
Что же случилось?
П. А. Вяземский в уже цитированном письме 1826 года напоминал Пушкину о его эпиграммах на Карамзина (радовавших «сорванцов и подлецов»).
Как видим, Вяземский, очень близкий и к Пушкину, и к Карамзину, прямо указывает на эпиграммы как на нечто, разделившее двух писателей (так и кажется, что «сорванцы и подлецы» — это не Вяземского слова, а кого-то другого, может быть, самого Карамзина).
Пушкин 10 июля 1826 года отвечал Вяземскому известными строками, единственным прямым признанием насчёт конфликта с Карамзиным: «Коротенькое письмо твоё огорчило меня по многим причинам. Во-первых, что ты называешь моими эпиграммами противу Карамзина? довольно и одной, написанной мною в такое время, когда Карамзин меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и моё честолюбие, и сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить. Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна, а другие, сколько знаю, глупы и бешены; ужели ты мне их приписываешь?» (XIII, 285—286).
Даже много лет спустя поэт не может «хладнокровно» вспомнить о том, что произошло, считает, что Карамзин неправ.
Из этого обмена письмами Пушкина и Вяземского, а также по другим источникам можно заключить, что ссора, разлад, недоумение были связаны с причинами политическими (эпиграмма, «сорванцы» и т. п.). Во всём этом полезно разобраться.
«И прелести кнута…»
Окончив Лицей и переехав в Петербург, Пушкин попадает в вулканическую атмосферу декабризма, в «поле притяжения» прежде всего такой могучей личности, как Николай Иванович Тургенев. Уже через несколько недель после своего переезда в столицу, на квартире декабриста, написана ода «Вольность». Вслед за тем сочиняется и быстро распространяется ещё немалое число вольных стихов, эпиграмм, политических острот. Пушкин, можно сказать, выходит из-под влияния Карамзина, столь сильного в 1816—1818 годах; он попадает в среду, где историографа хоть и ценят, но спорят, и спорят всё более ожесточённо[384].
Пушкин, очевидец и участник этих споров, напишет о них замечательные мемуарные строки (уцелевший из уничтоженной автобиографии отрывок «Карамзин»). Однако это случится несколько лет спустя, можно сказать, в другую историческую эпоху. Непросто отделить то, что поэт думал о Карамзине в 1825—1826 году и как понимал ситуацию в 1818—1820-м: не повторяя глубоких наблюдений В. Э. Вацуро, подчеркнём только, что пафос позднейших пушкинских записок о Карамзине — в пользу историографа, против тех, кто не оценил, «не сказал спасибо», не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина. Эти критические строки Пушкин довольно прозрачно адресует самому себе: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижений. Они забывали, что Карамзин печатал Историю свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностию историка, он везде ссылался на источники — чего же более требовать было от него? Повторяю, что „История Государства Российского“ есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека.
Некоторые из людей светских письменно критиковали Карамзина. Никита Муравьёв, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение: предисловие!.. Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале Истории не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, т. е. требовал романа в истории — ново и смело! Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие спасительной пользы самодержавия, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностию, конечно, были очень смешны. Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни» (XII, 306).
Давно замечена двойственность последней пушкинской фразы: слова «мне приписали» как будто вступают в спор с теми, кто приписал, ввёл в заблуждение общественное мнение и т. п. Однако признание — «не лучшая черта моей жизни» — как будто решает вопрос о том, что действительно Пушкин написал; да кому же ещё написать «одну из лучших эпиграмм»? Лучшей из дошедших к нам безусловно является —
Хлёсткой, нарочито несправедливой, но (как и положено в эпиграмме) — заостряющей смысл является, собственно говоря, последняя строка.
Разумеется, историк никогда не говорил о «прелести кнута» — да автор эпиграммы это отлично понимает, но сознательно доводит до некоторого абсурда исторический фатализм Карамзина.
Наиболее вероятно, что эпиграмма составлена под свежим впечатлением от первых восьми томов «Истории государства Российского», в том же 1818-м, может быть, в 1819 году[386], но ещё до того (согласно Пушкину) — «Карамзин отстранил… глубоко оскорбив».
Скорее всего, эпиграмма была лишь одним из элементов обострявшихся политических споров, которые всё больше и чаще переходили «на личность».
В отрывке «Карамзин» поэт опишет один из таких споров, когда отношения ещё не расстроены, но историограф уже гневается, когда Пушкин в разговоре с Карамзиным, можно сказать, прозаически излагает «острую эпиграмму»: «Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал: „Итак, вы рабство предпочитаете свободе“. Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменился. Скоро Карамзину стало совестно и, прощаясь со мною, как обыкновенно, упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности: „Вы сегодня сказали на меня то, чего ни Шихматов, ни Кутузов на меня не говорили“. В течение шестилетнего знакомства только в этом случае упомянул он при мне о своих неприятелях, против которых не имел он, кажется, никакой злобы; не говорю уж о Шишкове, которого он просто полюбил» (XII, 306—307).
Мемуарный текст, кажется, очень многое объясняет в истории разлада.
Карамзин написан здесь с теплотою, сочувствием; Пушкин стремится подчеркнуть его правоту и благородство в споре; но в то же время, с расстояния прожитых лет, сожалеет о слишком резких своих замечаниях («рабство предпочитаете свободе» — это ведь «прелести кнута»!); здесь ни слова об охлаждении — наоборот, говорится о шестилетнем знакомстве (на самом деле меньше четырёх лет, из которых последние полтора года «омрачены»; однако ошибка Пушкина очень показательна: контакты были столь богаты и насыщены, что позже представлялись более длительными, чем были в действительности!).
Размышляя о датировке запомнившегося Пушкину разговора (ясно, что поэт подразумевает определённый, а не «собирательный» диалог, ибо отмечает, что «только в этом случае» Карамзин упомянул о своих неприятелях), специалисты почти единодушно пришли к выводу, что беседа была после выхода «Истории государства Российского». Хотя Пушкин знакомился с её фрагментами и в 1816—1817 годах, но всё же мог представить общую концепцию Карамзина только тогда, когда прочитал восемь томов «с жадностию и со вниманием». Поскольку же с осени 1818 года отношения почти прерываются и Карамзин уже не станет извиняться «в своей горячности», надо думать, что разговор состоялся в 1818 году, во время одного из частых летних или осенних наездов бывшего лицеиста в Царское Село.
Б. В. Томашевский отметил и другую краткую пушкинскую запись (относящуюся примерно к тому же времени, что и эпиграмма, см. XII, 189), где, «возражая Карамзину, Пушкин именует самодержавие беззаконием»[387].
Ещё одна, две, три подобные стычки, и Карамзин, внешне сдержанный, отрицающий необходимость отвечать на критики, вспыхнет сильнее.
У нас есть прямые сведения о том, как портились личные отношения историографа с другими довольно близкими людьми.
Мы не знаем, до каких пределов доходили прямые споры Карамзина с Никитой Муравьёвым, но сам декабрист, перечитывавший в это время «Письма русского путешественника», оставил на полях книги весьма нелестные аттестации Карамзина;[388] жена Карамзина допускала, полушутя, полусерьёзно, что, может статься, близкий родственник П. А. Вяземской тоже вскоре будет избегать встречи.
Сталкивались горячие декабристские формулы и «любимые парадоксы» Карамзина. На фоне общих политических расхождений выглядели уже второстепенными, но, впрочем, для Карамзина закономерными «буйные шалости» Пушкина: 23 марта 1820 года Е. А. Карамзина писала Вяземскому, что «у г. Пушкина всякий день дуэли; слава богу, не смертоносные, т. к. противники остаются невредимыми»[389]. Даже в этих строках, вероятно, скрыта карамзинская ирония насчёт несерьёзности, неосновательности…
Пушкин же, огромными шагами идущий вперёд, завершающий в марте 1820 года «Руслана и Людмилу», внутренне созревающий, чувствует себя уязвлённым, обиженным; он не может и не хочет преодолеть «сердечной приверженности» к Карамзиным, но имеет основание считать, что историограф смотрит узко, односторонне.
Мы вычисляли причины расхождения в первую очередь по текстам самого Пушкина, а также по общему характеру «карамзинско-декабристских» противоречий.
Очень много объясняет задним числом и эпизод, завершающий целый период пушкинской биографии. История, восстанавливаемая гипотетически, по косвенным данным, но имеющая, полагаем, первостепенное значение для всего последующего: последняя встреча, последний прямой, непосредственный разговор Карамзина и Пушкина.
Весна 1820-го
В середине апреля 1820 года Пушкин был вызван на известную беседу петербургским генерал-губернатором Милорадовичем. Здесь, за шесть лет до аудиенции Николая I, поэт является перед властями в том же двусмысленном положении — «свободно, но с фельдъегерем»: к генерал-губернатору он приглашён, но с параллельным обыском.
«Откровенный поступок с Милорадовичем» — целая тетрадь запретных стихов, которую поэт заполнил в кабинете хозяина столицы, и последующее прощение: всё это как бы «репетиция» свидания с царём (между прочим, А. И. Тургенев находил, что в 1820-м с Пушкиным поступили «по-царски в хорошем смысле этого слова»[390]).
Милорадович хотя и объявил прощение, но, понятно, не окончательное, до царского подтверждения. Пушкин же, вернувшись от генерала, как известно, узнал от Чаадаева и других друзей о грозящей ссылке в Соловки.
Чаадаев, Жуковский, Александр Тургенев, наконец, сам Пушкин отправляются за помощью к влиятельнейшему из знакомых — Карамзину.
19 апреля 1820 года Карамзин сообщает новости своему неизменному собеседнику, Ивану Ивановичу Дмитриеву: «Над здешним Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами)»; историограф вкратце напоминает, что провинившийся написал много стихов, эпиграмм, и прибавляет важную подробность, относящуюся к острым беседам прежних лет и охлаждению: «Я истощил способы образумить несчастного и предал его року и Немезиде»; однако «из жалости к таланту» он берётся хлопотать, и тут-то следуют знаменательные строки: «Мне уж поздно учиться сердцу человеческому, иначе я мог бы похвалиться новым удовлетворением, что либерализм наших молодых людей совсем не есть геройство или великодушие»[391].
Позже Карамзин пишет Вяземскому в Варшаву:[392] «Пушкин, быв несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно поехал в Крым месяцев на пять. Ему дали рублей 1000 на дорогу. Он был, кажется, тронут великодушием государя, действительно трогательным. Долго описывать подробности, но если Пушкин и теперь не исправится, то будет чёртом ещё до отбытия своего в ад. Увидим, какой эпилог напишет он к своей поэмке»[393].
7 июня 1820 года Карамзин в очередном письме к Дмитриеву снова вспомнит о Пушкине: «Я просил об нём из жалости к таланту и молодости: авось будет рассудительнее; по крайней мере дал мне слово на два года»[394]. В приведённых письмах историографа сквозит мысль, что вот-де меня и мне подобных молодые якобинцы высмеивают, подозревают в приверженности к рабству, а как дело доходит до расправы, ищут спасения в мужестве и твёрдости именно старших и умеренных. Содержание последней беседы Пушкина с Карамзиным как будто легко вычисляется: Пушкин «кается», просит о помощи; Карамзин берёт с него слово уняться — и мы даже точно знаем, что поэт обещал два года ничего не писать противу правительства…
Однако всё это на поверхности и не затрагивает другой, куда более важной стороны этого примечательного разговора.
Даже если приглядеться к только что приведённой формуле — «два года не писать противу правительства», то и она кое-что открывает в потаённой части беседы. Ведь в «официальном смысле» Карамзин должен был взять клятву с Пушкина — вообще никогда не писать против власти. Смешно и невозможно представить, будто историограф сообщает царю про обещание на два года (а два года спустя, выходит, Пушкину можно снова дерзить?). Ясно, что тональность разговора была дружеской, снисходительной; Карамзин сказал нечто вроде того, что пусть Пушкин даст ему (и только ему) слово — хотя бы на два года, если иначе уж никак не может…
Проникнув благодаря одному намёку в самую интересную часть беседы, постараемся услышать её получше.
Пушкин во время своих будущих странствий (отнюдь не пятимесячных, как думал Карамзин, но многолетних), Пушкин в 1820—1826 годах будет постоянно вспоминать о Карамзине с теплотою, дружбою, благодарностью, благоговением. Как будто не было двухлетнего разлада, ссоры, оскорбления.
Не вызывает никаких сомнений, что Карамзин и Пушкин во время последней встречи помирились; точнее, Пушкин вернулся душой; кризис отношений изжит, произошёл катарсис…
Неужели всё это только потому, что Карамзин помог, ходатайствовал перед графом Каподистрия, а также, очевидно, перед императрицей Марией Фёдоровной и Александром I? Разумеется, Пушкин, отзывчивый и благородный, навсегда сохранит тёплые воспоминания о том, как Карамзин и другие друзья спасли его от участи, которая могла привести к надлому и гибели.
Недавно было опубликовано воспоминание М. И. Муравьёва-Апостола о высылке Пушкина, где рассказывается, что А. Тургенев хлопотал за Пушкина через Карамзина, Милорадовича, А. Ф. Орлова: «Я тогда был в Петербурге. Карамзин жил у тётушки Екатерины Фёдоровны (Муравьёвой). Помню, как Александр Иванович Тургенев приезжал сообщать, как идёт дело о смягчении приговора»[395].
Среди заступников поэта были также Жуковский, Чаадаев, Фёдор Глинка. Однако главной фигурой, способной переменить «царский гнев на милость», оставался Карамзин.
И всё же одна только «физическая помощь», спасение от ареста и крепости, ещё не вызвали бы у поэта такой гаммы горячих, глубоких чувств к историку.
Как в 1817 году (когда возник казус с любовным посланием Екатерине Андреевне), Карамзин, очевидно, сумел теперь с Пушкиным поговорить!
Кроме наставлений и оригинальной просьбы — два года не ссориться с властями, историограф коснулся очень важных для Пушкина вещей, и мы можем судить, по крайней мере, о трёх элементах той знаменательной беседы в апреле 1820 года.
Во-первых, без всякого сомнения, были произнесены особенно лестные в устах Карамзина слова о таланте, который нужно развивать и беречь (этот мотив повторяется в письмах к Дмитриеву).
Во-вторых, снова были «любимые парадоксы» Карамзина, известные нам, между прочим, по интереснейшей, позднейшей записи К. С. Сербиновича: «Довольно распространялись о мнениях молодых людей насчёт самодержавия и вольнодумства, которое проходит с летами. Николай Михайлович вспомнил о чрезмерном вольнодумстве одного из близких знакомых в молодости его, так что некто почтенный муж, слушая его речи, сказал ему: „Молодой человек! Ты меня изумляешь своим безумием!“
Николай Михайлович два раза повторил это с заметной пылкостью: „Но,— прибавил он,— опыт жизни взял своё“[396].
Говоря это, Карамзин, вероятно, подразумевал, в частности, беседы с Пушкиным, и в какой-то степени,— собственный опыт.
Карамзин не был в молодости столь радикален, как юный Пушкин, но всё же пережил немалый период увлечений и надежд, когда начиналась французская революция и победа разума, просвещения казалась уже близкой.
Позже, потрясённый крайностями якобинской диктатуры, Карамзин пришёл к выводу: „Долго нам ждать того, чтобы люди перестали злодействовать и чтобы дурачества вышли из моды на земном шаре“;[397] наконец, печально восклицал (и эти слова были полвека спустя оценены столь отличающимся от Карамзина мыслителем, как Герцен): „Век просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя!“[398]
Ни в коей мере не утверждая, будто именно эти примеры были приведены в последнем разговоре с Пушкиным, можно не сомневаться, что они в той или иной степени подразумевались, что, демонстрируя свой опыт, Карамзин создал обстановку разговора на равных, столь привычную по первым царскосельским встречам 1816—1817 годов. Нет никаких сомнений, что Карамзин не пытался лицемерить с юным проницательным гением, не старался идеализировать русскую действительность, которую собирались коренным образом переменить декабристы и о чём горячо писал бунтующий Пушкин. И положение крестьян, и самовластие, и военные поселения, и „подлость верхов“ — обо всём этом Карамзин говорил в те годы не раз, в том числе с самим царём; он хорошо знал, сколь взрывчата российская жизнь.
Много лет спустя одну фразу Карамзина, которую не найти в его сочинениях и письмах, Пушкин поставит эпиграфом к своей статье „Александр Радищев“ (1836): „Il ne faut pas qu’un honnête homme mérite d’être pendu“. Слова Карамзина в 1819 году» (XII, 30)[399]
Карамзин, действительно, мог произнести эти слова в спорах 1819 года, которые развели его с Пушкиным; однако мы вправе предположить, что именно эта фраза (или, шире говоря, именно эта мысль) была лейтмотивом последней беседы с Пушкиным. Смысл афоризма отнюдь не в том, что порядочному человеку должно избегать опасностей, беречь себя и т. п.: Карамзин хотел сказать (речь шла, разумеется, не о тиранических режимах, но о сколько-нибудь просвещённых),— что если честного человека тащат к виселице — значит, он не использовал законных, естественных форм сопротивления, изменил самому себе…
Пушкин далеко не сразу воспримет эти идеи; мы хорошо знаем, что в первые годы ссылки он ещё отнюдь не «исправился»,— но, может быть, его потряс не столько буквальный смысл карамзинских слов, сколько их дух, тональность… Позже, когда Пушкин своим путём, своим разумением придёт к сходным мыслям, завещание Карамзина (а ведь разговор 1820 г. по существу и был завещанием!) будет особенно оценено и значение последнего разговора будет всё возрастать.
Мы можем также догадываться и о роли Екатерины Андреевны в той апрельской встрече 1820 года, о каком-то её прощальном напутствии, которое, по-видимому, сильно утешило Пушкина и было частью той особой благодарности, которая облегчила поэту прощание со столь милым, привычным петербургским миром.
Сложные перипетии, взлёты, падения, новые взлёты карамзинско-пушкинских отношений — всё это отразилось в истории одного замечательного стихотворения, в котором видим «второй выпуск» поэтических мемуаров Пушкина о Карамзине и его круге.
«Смотри, как пламенный поэт…»
17 апреля 1818 года Жуковский сообщал Вяземскому в Варшаву, что получил от Пушкина послание — «Когда к мечтательному миру…» — и привёл его полный текст: 44 строки, из которых первые 23 — прямое обращение к Василию Андреевичу, а затем, в последних 21 строках, появляются ещё два художника:
Пламенный поэт — это друзьям было хорошо понятно — К. Н. Батюшков, один из самых горячих и преданных поклонников того «гения», который написал «повесть древних лет».
Теперь, в 1818-м, когда появились восемь томов «Истории…», Батюшков задумал написать сочинение в «карамзинском духе» — и Пушкин о том говорит в финале своего послания к Жуковскому:
Итак, в послании к Жуковскому — три героя: адресат, а также Батюшков и Карамзин. Прибавим четвёртого — Пушкина: сознательно или невольно, но, представляя поэта, воодушевлённого Карамзиным, в ком «трепещет вдохновенье», Пушкин говорит, конечно, и о самом себе.
Таким образом, перед нами первый поэтический отклик на только что (в феврале — марте 1818 г.) вышедшую и прочитанную «Историю…». Повторим, что известные воспоминания Пушкина о Карамзине записаны несколько лет спустя; стихи же «Когда к мечтательному миру…» сочинены сразу после первого чтения «Истории государства Российского», это живой дневник событий (в «Летописи жизни и творчества Пушкина» датируется мартом — началом апреля (до 5-го) 1818 г.).
Приведя весь текст послания Пушкина, Жуковский заключал письмо словами: «Чудесный талант! Какие стихи! Он мучает меня своим даром, как привидение!»[400]
25 апреля 1818 года Вяземский, в ответном письме Жуковскому, с восторгом отзывается о пушкинском послании, особенно же о его последней, «карамзинской» части: «„В дыму столетий!“ Это выражение — город: я всё отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестия! Надобно нам посадить его в жёлтый дом: не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы дыма столетий? О прочих и говорить нечего»[401].
Дым столетий, оказывается, было в начале XIX века дерзким, новаторским выражением: Державин, сам Карамзин так бы не выразились — то ли из почтения к минувшему, то ли из-за непривычного ещё ощущения быстроты, вихря; не река времён (Державин), а именно — «дым столетий».
Весной и летом 1818 года арзамасцы восторженно сообщали друг другу сочинение девятнадцатилетнего гения; более критически отозвался Денис Давыдов: «Стихи Пушкина хороши, но <…> не лучшие из его стихов»; в «карамзинской части» послания Давыдову особенно пришлись по сердцу «в дыму столетий» и «в нём трепещет вдохновенье»[402].
Разумеется, стихи становятся известными Карамзину, что совпало с очень тёплым, дружеским периодом общения весной и летом 1818 года[403].
Однако проходит немного времени, и в рабочей тетради Пушкина (так называемой «тетради Всеволожского») появляется вторая редакция стихотворения; редакция, коренным образом меняющая его структуру: вместо 44 строк остаётся 23. Вся вторая половина, начиная от строки «Смотри, как пламенный поэт», отброшена: ни Батюшкова, ни Карамзина в новой редакции нет.
Как объяснить такую переделку?
Возможны два ответа: либо Пушкин счёл послание Жуковскому поэтически не совершенным, слишком длинным или что-либо в этом роде; тогда — уменьшение стихотворения почти вдвое должно придать ему гармоничность, соразмерность; либо — дело не в поэзии, а в «политике», изменившихся обстоятельствах.
Полагаем, что второе объяснение вернее.
Как увидим, Пушкин вскоре вернётся к первой, «длинной» редакции; к тому же он отбрасывал строки, вызвавшие наибольшее восхищение у самых уважаемых ценителей; наконец, обратим внимание на дату второй редакции.
«Тетрадь Всеволожского» заполнялась с середины 1818 до конца 1819 года. Большую часть этого периода (с осени 1818 г.) отношения Пушкина и Карамзина резко охлаждались и ухудшались. Юный поэт, максимально сближаясь с декабристами, именно в эту пору склонен оценивать «Историю государства Российского» скорее эпиграммой, чем панегириком. Готовя несостоявшийся сборник своих стихотворений, Пушкин в новых обстоятельствах иначе перечитывал собственное послание, нежели весной 1818 года. Дело было не только в том, что не хотелось публично расхваливать гений Карамзина: вероятно, пафос ухода от «суеты земной» в конце 1818 года был не ко времени: поэт — в потоке горячей деятельности, чреватой дерзкими посланиями, опасными эпиграммами…
Итак, перемены в послании «Когда к мечтательному миру…» связаны не с эстетикой, но с тем «полевением» поэта, которое вызвало неудовольствие Карамзина.
Но вот наступает 1820 год: поэт мирится с Карамзиным и отправляется в Кишинёв.
Продолжая печататься в столичных журналах, Пушкин между прочим охотно посылал с юга стихи Н. И. Гречу для его «Сына отечества». Об этом свидетельствует и сохранившееся письмо Пушкина от 21 сентября 1821 года (XIII, 32—33), и косвенные сведения о нескольких других деловых письмах[404]. В «Сыне отечества» в 1821 году публикуется «Чёрная шаль»[405], «Послание Чаадаеву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет…»)[406], наконец, — в одной из последних книжек журнала за 1821 год — «Когда к мечтательному миру…»[407].
Мы уверенно утверждаем, что текст стихотворения был прислан автором с двумя указаниями: во-первых, насчёт заглавия; оно было слегка замаскированным, но понятным для читающего круга: «К Ж*** по прочтении изданных им книжек „Для немногих“».
Конечно, подразумевался Жуковский и его недавний поэтический сборник «Для немногих».
Таков же смысл и второго указания, присланного Пушкиным: в отличие от других своих стихов, напечатанных в журнале, здесь он просит не ставить его подписи. Греч, подчиняясь пушкинскому требованию, но заботясь при том, чтобы публика знала, какие имена печатаются у него, сопроводил стихи замечанием, которое, надо думать, не вызвало у Пушкина протеста: «Сочинитель не подписал своего имени, но кто не узнает здесь того поэта, который в такие лета, когда другие ещё учатся правилам стихотворства,— стал наряду с нашими первоклассными писателями. Издатели»[408].
На четвёртом году своего существования стихотворное послание к Жуковскому снова меняло свой вид.
«Сын отечества» печатал раннюю, «длинную» редакцию, те самые 44 строки (с двумя разночтениями), которые были сочинены весной 1818 года: добрые слова Жуковскому, гимн Батюшкову, Карамзину (см. II, 1035, коммент.).
Это был как бы эпилог того разговора с Карамзиным, что состоялся накануне высылки из Петербурга, в апреле 1820-го: чувство примирения, благодарности, восхищения.
В 1821-м Пушкин ещё не умерил свои крайне радикальные воззрения — это произойдёт года через два; отправляя полное послание Жуковскому — Батюшкову — Карамзину, Пушкин был одновременно автором «Кинжала», «Гавриилиады» и других потаённых сочинений, свидетельствовавших, что не было силы сдержать данное Карамзину слово и два года «помалкивать»… И тем не менее Пушкин, ещё очень «не карамзинский», адресует строки замечательной глубины и теплоты своим друзьям, и в их числе самому старшему; по существу, это единственное пушкинское печатное обращение к Карамзину ещё при жизни историографа.
Кроме личных чувств и нового сближения двух мастеров, публикация полного текста послания, очевидно, отражала общее восхищение оппозиционных и даже самых революционных кругов тем сочинением Карамзина, которое вышло в свет за несколько месяцев до публикации «Сына отечества».
Весной и летом 1821 года читающая Россия с изумлением ознакомилась с IX томом Карамзина, посвящённым самому тёмному, кровавому периоду, правлению Ивана Грозного.
Мы не имеем непосредственных откликов Пушкина на IX том; даже не имеем сведений, когда он его получил и прочитал (в то время как о следующих томах, X и XI, сохранились восторженные отзывы, пришедшие из Михайловского). Только несколько лет спустя в «Карамзине» Пушкин напишет уже упоминавшиеся нами строки, относящиеся и ко всей «Истории…» Карамзина, и к IX тому в особенности: «Несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий…» (XII, 306).
Есть все основания думать, что подобная оценка сложилась у поэта уже в 1821-м, при первом чтении IX тома. Для этого достаточно обратиться к откликам современников, к тому, что тогда говорилось или писалось вокруг Пушкина[409].
Работая над IX томом, Карамзин не становился ни якобинцем, ни декабристом; однако, без сомнения, насколько его критика имела известное воздействие на некоторые радикальные круги, в частности, на Пушкина,— настолько и страстные декабристские возражения не могли отчасти не запасть в душу Карамзина, честного человека, серьёзно размышлявшего над судьбами своей страны. Декабристы, искренне, невольно преувеличивая, увидели в описании Ивана Грозного свои мысли и чувствования. 20 июля 1821 года Рылеев радостно писал: «Ну, Грозный! Ну, Карамзин! Не знаю, чему больше дивиться, тиранству ли Иоанна, или дарованию нашего Тацита»[410].
Лорер радовался: «В Петербурге оттого такая пустота на улицах, что все углублены в царствование Иоанна Грозного»[411].
Позже, во время следствия, декабристы ссылались на Карамзина как на один из источников своих идей.
В. И. Штейнгейль писал царю из крепости: «Между тем, по ходу просвещения, хотя постепенно цензура делалась строже, но в то же время явился феномен небывалый в России — девятый том „Истории государства Российского“, смелыми и резкими чертами изобразивший все ужасы неограниченного самовластия и одного из великих царей открыто именовавший тираном, какому подобных мало представляет история»[412].
Такова была обстановка, атмосфера 1821 года, в то время, когда Пушкин отправлял Гречу 44 строки своего послания. Так же как создание пушкинского стихотворения в 1818 году было живым откликом на выход первых восьми томов «Истории…», так и его обнародование в 1821-м, полагаем, явилось эхом IX тома.
Любопытно, что Пушкин ещё три года назад увидел в «Истории…» Карамзина картины «мрачного злодейства» и «прямой доблести», то, что с особенной силой было обрисовано в IX томе.
Публикация «Сына отечества» — важнейшее событие в жизни стихотворения и очень существенный элемент в отношениях поэта с историографом.
Проходит ещё несколько лет; Карамзин публикует X и XI тома; Пушкин черпает из них материалы для своего «Бориса Годунова»; заочно отношения с историографом ещё больше теплеют (об этом скажем чуть ниже) — и вот, наконец, автор сдаёт в печать первый в жизни сборник своих стихотворений.
Как известно, по причудливому совпадению он вышел в свет 29 декабря 1825 года — через пятнадцать дней после восстания на Сенатской площади и в тот день, когда началось восстание на Юге. Томик, разумеется, был послан Карамзину. В том сборнике, в разделе «Послания», было снова перепечатано стихотворение «Когда к мечтательному миру…». На этот раз оно называлось «Жуковскому» и содержало 39 стихотворных строк[413].
Это была всё та же ранняя редакция «жуковско-батюшковско-карамзинская»; сокращение четырёх строк[414] придавало ей большую гармоничность. Именно в этом виде стихотворение было ещё раз прочтено H. М. Карамзиным за несколько месяцев до кончины.
Казалось бы, история послания ясна: она отражала колебания в личных отношениях Пушкина — отсюда две редакции. Однако вторая, «короткая», версия в течение многих лет оставалась в рукописи, в то время как первая утверждена двойным обнародованием — в «Сыне отечества» и сборнике стихотворений.
Высокие пушкинские слова, адресованные Карамзину, должны быть сочтены окончательными хотя бы потому, что их нельзя уже было менять после смерти Карамзина.
И тем не менее перемена происходит.
В 1829 году, через три года после книжной публикации, через три года после кончины Карамзина, послание Жуковскому печатается в сборнике пушкинских стихотворений 1829 года.
Теперь Пушкин совсем, навсегда откинул последние 17 строк, начиная со слов: «Смотри, как пламенный поэт…»[415]. Теперь единственный герой послания — Жуковский. Сравнение его с Батюшковым и Карамзиным снято.
Не странно ли, что Пушкин сократил именно те строки, которые вызывали особенное восхищение друзей; что снял самое лестное упоминание о Батюшкове и Карамзине в тот период, когда Батюшков пользовался всеобщим сочувствием из-за своей душевной болезни; когда сам Пушкин старался утвердить посмертную славу и подчеркнуть великие заслуги Карамзина?
На самом же деле произошло вот что: первая редакция прожила свою жизнь, сыграла свою роль. После 1826 года давно написанные стихи неожиданно приобрели новый, дополнительный смысл.
Как уже говорилось, и в 1818 году строки о «пламенном поэте» объективно были обращены не только к Батюшкову, но и к самому Пушкину. С течением времени пушкинское начало в образе «пламенного поэта» непрерывно возрастало. В самом деле, для читателя конца 1820-х годов неосуществлённый замысел Батюшкова — писать исторические стихи «по Карамзину» — был уже непонятен, требовал комментария: ведь Батюшков с 1822 года ничего не писал и писать не мог.
Кого же теперь узнавали в поэте, «читающем повесть древних лет»? Разумеется, самого Пушкина. Так было, очевидно, уже и в 1826 году. Но чуть позже, когда публика услышит о «Борисе Годунове», написанном «по Карамзину»; когда эта драма, хоть и не напечатанная, приобретёт известность благодаря авторскому чтению,— тогда уж не может быть сомнения, что «пламенный поэт, на свиток гения склонённый» — это Пушкин, и только Пушкин!
Сам же автор мог счесть такое толкование нескромным, слишком уж подчёркивающим его талант, его роль как наследника Карамзина. Любой комментарий не помогал бы делу, — только заострял «двусмысленность» ранней редакции.
Получилась уникальная ситуация; биография самого Пушкина, его новые поэтические успехи придавали старому сочинению такой смысл, что — делали новые его публикации невозможными, по понятиям Пушкина — нескромными; один писатель и историк оказывался неразделимым с другим! Длинное стихотворение в 1826 году автором не переиздаётся[416].
Пушкин, по-видимому, счёл достаточным то, что уже было дважды напечатано: живой «дневниковый» отклик на поэтическую деятельность Жуковского и Батюшкова, на выход восьми томов «Истории…» Карамзина:
Послание 1818—1826 года — важный элемент прижизненных отношений Пушкина и Карамзина. Одновременно с формированием и публикацией этих стихов происходили и другие события, касавшиеся обоих мастеров, приближавшие пушкинскую попытку — «сказать всё…».
В ссылке — и столице
Пушкин — в Кишинёве, Одессе, Михайловском. Огромное, быстрое созревание поэта происходит вдали от «северных друзей», и, хотя они могут судить по тем сочинениям, что приходят с Юга, многое в умственном, политическом, поэтическом развитии Пушкина непонятно или не совсем заметно Жуковскому, Вяземскому, А. Тургеневу и другим спутникам прошедших лет. Вдали от Пушкина находится и Карамзин, работающий над последними томами «Истории государства Российского», и можно уверенно сказать, что историограф куда хуже различает поэта, нежели поэт историографа…
Вообще значение «карамзинского мира» для Пушкина этих лет часто недооценивается исследователями. Отношения двух писателей за огромный в сущности период почти не проанализированы; жадное внимание Пушкина к Карамзину обычно отмечается в связи с «Борисом Годуновым» и последующими событиями.
Между тем, даже если сложить, расположить в хронологическом порядке известные отзывы и упоминания Пушкина о Карамзине и Карамзина о Пушкине (а ведь сколько подобных сведений исчезло или ещё не найдено!), получится довольно впечатляющая картина.
Огромная роль Пушкина для его современников и последующих поколений, случается, приводит к известному искривлению наших исторических представлений, когда на прошедшие времена накладываются впечатления и суждения более поздних десятилетий: действительно, Пушкин — «крупнее», «главнее» Карамзина в привычной для нас иерархии значительных деятелей русской культуры. Однако в начале 1820-х годов роль Карамзина была исключительной, и мы обязаны исходить при анализе тогдашних отношений из пушкинской убеждённости в величии, гениальности историографа. Формула, употреблённая поэтом в одном из писем декабристу А. Бестужеву,— «высокий пример Карамзина» (XIII, 244), — определяет очень многое в пушкинском взгляде на своего предшественника.
Как известно, сохранилось очень много пушкинских писем южной поры, особенно — за первые годы жизни в Причерноморье. Прямых писем Карамзину, вероятно, не было. Тут сказывались особые отношения, закреплённые именно апрельской беседой 1820 года. Однако Пушкин более или менее регулярно переписывался с ближайшими к историографу людьми: Вяземским, Жуковским, А. Тургеневым, и хорошо знал, что Карамзины многое о нём знают, постоянно справляются.
При том, конечно, совсем не нужно представлять Пушкина перед Карамзиным в эту пору как некоего «виноватого мальчика», стремящегося «искупить проступки» и т. п. Признательность, благодарность, интерес к словам и делам Карамзина сочетаются в поэте с самостоятельностью, растущим пониманием своего особого пути, с желанием и умением возразить маститому историографу.
Карамзин же со своей стороны доволен последней беседой, удачными хлопотами за Пушкина, но отнюдь не верит в быстрое его «перевоспитание» и далеко не всё в нём понимает…
24 марта 1821 года — первое из сохранившихся южных писем, где появляются Карамзины. Посредником избран Н. И. Гнедич: «Кланяюсь всем знакомым, которые ещё меня не забыли,— обнимаю друзей. С нетерпеньем ожидаю 9 тома Русской Истории. Что делает Николай Михайлович? здоровы ли он, жена и дети? Это почтенное семейство ужасно недостаёт моему сердцу» (XIII, 28).
7 мая, А. И. Тургеневу: «Как мне хочется недели две побывать в этом пакостном Петербурге: без Карамзиных, без вас двух <А. И. и Н. И. Тургеневых>, да ещё без некоторых избранных, соскучишься и не в Кишинёве, а вдали камина княгини Голицыной замёрзнешь и под небом Италии. В руце твои предаюся, отче! Вы, который сближены с жителями Каменного острова, не можете ли вы меня вытребовать на несколько дней (однако же не более) с моего острова Пафмоса?»[418] (XIII, 29).
Письмо адресовано Карамзиным в не меньшей степени, чем Тургеневу: именно историограф, особенно близкий «с жителями Каменного острова», то есть с обитателями царского Каменноостровского летнего дворца, мог бы попросить если не о прекращении пушкинского изгнания («острова Пафмоса»), то хотя бы о кратком отпуске (ведь уже год минул со времени его отъезда, а Карамзин толковал о «пяти месяцах»).
Тургенев наверняка передал просьбу поэта по адресу, но что было дальше — можем лишь гадать: то ли Карамзин намекнул, но Александр I велел «ещё послужить»; то ли дело «испортил» сам Пушкин. Ведь буквально в следующих строках того же письма он извещал Тургенева и других близких петербуржцев: «Я привезу вам за то сочинение во вкусе Апокалипсиса и посвящу вам, христолюбивому пастырю поэтического нашего стада» (XIII, 29). Речь шла о «Гавриилиаде», в столице многие знали, что Сверчок не унялся. Так или иначе, отпуска не последовало.
В том же 1821 году поэт, как уже отмечено, получает ожидавшийся с нетерпением IX том Карамзина, преисполняется ещё большим уважением к историку и публикует в «Сыне отечества» послание «Когда к мечтательному миру…».
Осень 1821-го — первая половина 1822-го. Пушкин работает над потаённым трудом «Некоторые исторические замечания» («Заметки по русской истории 18 века»).
Нам уже довелось в другой книге говорить, что сочинение это насыщено декабристским духом и полемикой с Карамзиным. Пушкин кратко обозревает новейшую русскую историю после Петра Великого — то, о чём мечтал, но не успел написать Карамзин. Многие формулы Пушкина, особенно уничтожающая характеристика царствования Екатерины II, противоположны тому, что писал и говорил автор «Истории государства Российского»[419].
Последние строки пушкинских «Замечаний» — о царствовании Павла, «современных Калигулах» и «славной шутке г-жи де Сталь» («правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою») — являются прямой полемикой с формулами Карамзина о «необходимости самовластья», о том, что если трон захватывает деспот, то — «снесём его, как бурю, землетрясение, язву — феномены страшные, но редкие: ибо мы в течение 9 веков имели только двух тиранов <…> Заговоры да устрашают народ для спокойствия государей! Да устрашают и государей для спокойствия народов!»[420]
Пушкин, не читавший ещё «Записки о древней и новой России», тем не менее хорошо знал «любимые парадоксы» её автора по многочисленным беседам-спорам в Царском Селе и Петербурге…
В 1822 году Карамзины в столице получают не только приветы Пушкина и его напечатанные стихи, но и разные сведения о вольных «выходках». 13 июня 1822 года Карамзин пишет Вяземскому в Москву: «Пушкин написал Узника: слог жив, черты резкие, а сочинение плохо; как в его душе, так и в стихотворении нет порядка»[421].
Как видно, именно в эти дни Карамзин прочитал какие-то особенно рассердившие его пушкинские слова или строки (кстати, весной 1822 года кончился срок двухлетнего запрещения на выступления поэта против правительства). По этому поводу, видимо, возникли разногласия между Карамзиным и близкими ему людьми. 20 июня 1822 года Вяземский, посылая А. Тургеневу какое-то бесцензурное стихотворение Пушкина, воспользовался посредничеством И. И. Дмитриева (отправлявшегося в столицу, в гости к Карамзину): «Вот тебе ещё стихи Сверчка; только не говори Дмитриеву, что он их привёз: он умрёт со страха задним числом»[422].
Вполне возможно, что Дмитриев, сам того не ведая, вёз пушкинское «Послание цензору» (1822) — образчик вольной поэзии, где между прочим были такие строки:
Карамзина вряд ли устраивала собственная роль героя запретных стихов: не поэтому ли чуть позже, в ответ на восторги И. И. Дмитриева по поводу «Кавказского пленника», историограф отвечал сухо и сурово: «В поэме либерала Пушкина слог живописен: я недоволен только любовным похождением. Талант действительно прекрасный: жаль, что нет устройства и мира в душе, а в голове ни малейшего благоразумия»[423].
Пушкин далеко, на юге, обо всём этом почти не знает, в лучшем случае догадывается. Примерно к этому времени относится едва начатый фрагмент: «Вопрос, чья проза лучшая в нашей литературе. Ответ — Карамзина. Это ещё похвала не большая — скажем несколько слов об сём почтенном…» (XI, 19).
Очевидно, далее должны были идти какие-то рассуждения, а может быть, воспоминания «об сём почтенном…»— писателе, историографе, человеке. В первых числах января 1823 года Пушкин спрашивает брата: «Видишь ли ты Тургенева и Карамзина?» (XIII, 54).
В литературной полемике, нравится это Карамзину или нет, всё чаще и чаще его имя сопрягается с пушкинским. В одной из статей Вяземский критикует враждебного Каченовского, «который воюет против одних изящных писателей наших — Карамзина, Дмитриева, Жуковского, Пушкина»;[424] в другой раз сам Пушкин, размышляя, конечно, о своём месте в словесности, собирается писать «о влиянии Ломоносова, Карамзина, Дмитриева и Жуковского» (XIII, 91).
К тому же сближает и давление политических обстоятельств. Карамзин, споря с декабристами, проповедуя «умеренность», в то же время (как это видно из его писем и бумаг) всё более и более разочаровывается в возможности тех постепенных реформ, которых он ожидал от Александра I.
В 1822 году он пишет царю: «Здесь либералисты, там сервилисты. Истина и добро в середине: вот Ваше место, прекрасное, славное»[425].
Позже историк подведёт итог многолетним отношениям с монархом: «Я всегда был чистосердечен, он всегда терпелив, кроток, либерален неизъяснимо, не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им большей частию и не следовал <…> Не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца: ибо эти милость и доверенность бесплодны для любезного Отечества»[426].
Итак, Карамзин в последние годы всё критичнее, печальнее глядит на историю, прогресс. Пушкин же с 1823 года, под влиянием крушения европейских революций и углублённых размышлений о России, всё больше склоняется к медленным путям просвещения. 1 декабря 1823 года, в откровенном письме из Одессы А. И. Тургеневу, приводит строфы из стихотворения «Наполеон», оканчивая отрывок словами:
А затем пишутся примечательные слова: «Эта строфа ныне не имеет смысла, но она писана в начале 1821 года — впрочем, это мой последний либеральный бред, я закаялся и написал на днях подражание басни умеренного демократа Иисуса Христа…» (XIII, 79).
Следуют известные стихи «Свободы сеятель пустынный…».
Без сомнения, слова о «либеральном бреде» и «я закаялся» в немалой степени адресованы Карамзину (как было не раз в письмах Пушкина к Александру Тургеневу): это как бы продолжение разговора 1820 года; в письме есть строки: «Благодарю вас за то, что вы успокоили меня насчёт Николая Михайловича и Катерины Андреевны…» (XIII, 80).
Тургенев успокоил Пушкина насчёт здоровья Карамзиных: летом 1823 года историограф столь серьёзно заболел, что некоторое время его считали безнадёжным. Сама возможность потери такого современника, как видно, поразила Пушкина.
7 апреля 1824 года Карамзин несколько теплее, чем прежде, отзывается о новой пушкинской поэме: «Полюбился ли тебе Фонтан Пушкина? Слог жив, черты прекрасные, но в целом не довольно силы и связи. О евнухе слишком много; речь Заремы слаба, кроме пяти или шести стихов; окончание хорошо»[427].
В связи с появлением этой поэмы Вяземский и Тургенев затевают интригу, цель которой вернуть Пушкина в столицы. Предполагалось через Карамзина поднести «Бахчисарайский фонтан» царице и на этом основании просить о милости. Карамзин, судя по всему, соглашался, но всё дело испортил будущий враг Пушкина Сергей Уваров, который, по словам А. Тургенева, «впутался» не в своё дело и отдал императрице экземпляр «Фонтана» прежде Карамзина[428].
Ничего не вышло из придворной попытки помочь Пушкину; куда вернее действовали силы, враждебные поэту,— и вот уже в августе 1824 года он оказывается в глухой ссылке, в Михайловском.
Карамзин, узнав об этом, гневно пишет в Москву, Вяземскому (17 августа 1824 г.): «Поэту Пушкину велено жить в деревне отца его — разумеется, до времени его исцеления от горячки и бреда. Он не сдержал слова, им мне данного в тот час, когда мысль о крепости ужасала его воображение: не переставал врать словесно и на бумаге, не мог ужиться даже с графом Воронцовым, который совсем не деспот!»[429]
Ответа Вяземского мы не знаем, но легко догадываемся, что на этот раз историограф получил резкие возражения. Вяземский хорошо знал ход одесских событий, приведших к высылке Пушкина, и вот что писал А. И. Тургеневу 13 августа 1824 года (на четыре дня раньше карамзинского послания): «Скажите, ради бога, как дубине Петра Великого, которая не сошла с ним в гроб, бояться прозы и стишков какого-нибудь молокососа? Никакие вирши не проточат её! <…> Как правительству этого не знать? Как ему не чувствовать своей силы?»[430]
Не успел Карамзин решить, где истина в деле Пушкина, как внезапные гонения обрушились уже на Александра Тургенева, человека, занимавшего важную государственную должность и смотревшего на вещи сходно с историографом; Карамзин писал по этому поводу Дмитриеву: «Добрый и любезный Тургенев спокоен в чувстве своей правоты; а я, любя его, как брата родного, любя искренно и доброго царя, был грустен, и всё ещё жалею, очень жалею»[431].
Отставка и опала Тургенева, отставка друга-родственника Вяземского, возможно, заставили Карамзина по-другому взглянуть и на пушкинскую ссылку. Пушкин же, находясь теперь в Михайловском, довольно близко от столицы, ещё теплее отзывается об историке, очень на него надеется и, видимо, не поддерживает Дельвиговой насмешки над Карамзиным и его единомышленником Жуковским: «Карамзин теперь в отчаянии,— писал Дельвиг 28 сентября 1824 года.— Для него одно счастие наслаждаться лицезрением нашего великодушного и благословенного монарха. А он путешествует! Жуковский, я думаю, погиб невозвратно для поэзии. Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте и, не шутя говорю, всё время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для складов картинки. Как обвинять его! Он исполнен великой идеи: образовать, может быть, царя. Польза и слава народа русского утешает несказанно сердце его. Но я заболтался…» (XIII, 110).
Письмо Дельвига писано в декабристском духе, с пониманием опасности («я заболтался»); в начале этого письма Дельвиг писал о всеобщем сочувствии Пушкину в его конфликте с Воронцовым и, видимо, для контраста рисует благонамеренные чувства Карамзина, Жуковского. Пушкин, однако, утешался не насмешками и критикой в адрес старших друзей. Он вступал в михайловский период — годы, когда были созданы «19 октября», «Андрей Шенье», «Зимний вечер», «Пророк», когда было закончено несколько глав «Евгения Онегина» и создан «Борис Годунов». «Я могу творить»,— эти слова в известном письме H. Н. Раевскому скромно и просто выражают самоощущение гения.
При таких достижениях, таких победах, казалось бы, должны вызывать грустную насмешку несправедливые, даже нелепые упрёки Карамзина — о «неустройстве души», «несдержанном слове», «горячке и бреде».
Между тем Пушкин, по собственной логике, приходит всё к большему признанию его труда, его личности. Недаром в конце 1824 года поэт опять рисует профиль Карамзина;[432] время этого рисунка точно совпадает с первыми подготовительными заметками к «Борису Годунову».
Так, в «михайловские месяцы» сходятся воедино любовь и уважение Пушкина к Карамзину, надежда, что тот поможет выбраться из неволи; а с другой стороны, ворчливое непонимание самого Карамзина, впрочем, постепенно отступающего под «натиском» Вяземского, Жуковского, А. Тургенева.
Михайловская хроника
В ноябре 1824 года поэт просит брата поговорить с Жуковским и Карамзиным: «Я не прошу от правительства полумилостей <…> Надеюсь на справедливость» (XIII, 121).
1 декабря 1825 года — в гостях у Карамзиных Лев Пушкин.
2 декабря Карамзин — Вяземскому: «Вчера молодой Пушкин читал нам наизусть „цыганскую“ поэмку брата и нечто из Онегина. Живо, остроумно, но не совсем зрело…»[433]
Историограф, однако, понимал, что надо воспользоваться случаем, и в феврале прислал новую поэму императрице; та благодарила за удовольствие, но дальше дело не продвинулось[434].
Несколько позже, услышав пение графа Виельгорского на слова Пушкина, Карамзин возмущён и рассержен переложением на музыку «таких ужасов… как „Режь меня, жги меня“»[435].
Решительно не привык литератор старой школы к новой словесности. Не веря в гений Пушкина, Карамзин, кажется, оттого и вяло за него просит: его всегдашняя искренность вдруг становится недостатком.
В конце декабря Пушкин просит брата: «Напиши мне нечто о Карамзине, ой, ых…» (XIII, 130).
В эту пору выходит и распространяется первая глава «Евгения Онегина», где одно из примечаний — очередная пушкинская любезность Карамзину: цитируется речь историографа в Российской академии и между прочим его слова, очень полюбившиеся Пушкину: «Мы зреем не веками, а десятилетиями…» (VI, 652).
Меж тем начался 1825 год. Карамзин трудится над последним томом своей «Истории…». Пушкин — над «Борисом Годуновым».
23 февраля в письме Гнедичу — знаменитая фраза: «История народа принадлежит Поэту» (XIII, 145). Пушкин шутя и всерьёз вмешивается в знаменитый спор Карамзина с декабристами. «История народа принадлежит царю»,— написал Карамзин во введении к своему труду; «История народа принадлежит народу»,— отвечали Николай Тургенев и Никита Муравьёв.
Пушкинский афоризм подразумевает, что народ, конечно, главное действующее лицо истории, не может осознать своей роли, своего места без лучших сынов, без Пророка, Поэта. Именно такова, между прочим, роль самого Пушкина, который в своей драме открывает народ иначе, много глубже, нежели и Карамзин, и декабристы.
28 апреля Александр Тургенев возмущается вдруг «эпиграммами Пушкина на Карамзина»[436]: мелкий, частный пример того, как плохо представляют друзья нового Пушкина, отличающегося от Пушкина 1818 года! Тургенева успокоили.
25 мая Пушкин пишет Вяземскому тёплые строки о Жуковском, не догадываясь, что они будут использованы для «согревания» сурового Карамзина: А. И. Тургенев выпишет для историографа пушкинские слова: «Но ты слишком бережёшь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик его, и только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду просёлочной. Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его. В бореньях с трудностью силач необычайный. Переводы избаловали его, изленили; он не хочет сам созидать, но он <…> гений перевода. К тому же смешно говорить об нём, как об отцветшем, тогда как слог его ещё мужает. Былое сбудется опять, а я всё чаю в воскресении мёртвых» (XIII, 183).
Приведя этот длинный текст, Тургенев поясняет: «Ни один стих Пушкина так не полюбился мне, как эта проза, и я готов многое простить и перу его, и даже его сердцу за эту прекрасную исповедь. Это признание гения. Не все имеют право так поступать и уступать»[437].
В начале июня Пушкин — Дельвигу: «Видел ли ты Николая Михайловича? идёт ли вперёд История? Где он остановится? Не на избрании ли Романовых? Неблагодарные! Шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту! Да двое руку приложили за неумением писать! А я, грамотный потомок их, что я? где я…» (XIII, 182).
Время шло… 1825-й вступил во вторую половину, приближаясь к роковому 14 декабря.
5 августа Плетнёв писал Пушкину: «Напрасно ты мизантропствуешь. Карамзин и все твои прежние друзья остались к тебе расположены по-прежнему. Ты только люби Поэзию, а тебя все не перестанут и любить, и почитать. Ты, верно, живее каждого чувствуешь: чего здесь и желать можно кроме славы, спокойствия самодовольной души и добрых друзей?» (XIII, 202—203).
17 августа Пушкин — Жуковскому: «Трагедия моя идёт, и думаю к зиме её кончить; вследствие чего читаю только Карамзина да летописи. Что за чудо эти 2 последние тома Карамзина! какая жизнь! c’est palpitant comme la gazette d’hier[438], писал я Раевскому. Одна просьба, моя прелесть: нельзя ли мне доставить или жизнь Железного Колпака, или житие какого-нибудь юродивого. Я напрасно искал Василия Блаженного в Четьих-Минеях — а мне бы очень нужно» (XIII, 211—212).
По-прежнему, хваля Карамзина, по сути к нему обращаясь за справкою о «юродивом» и «железном колпаке», Пушкин пишет через Жуковского (или Тургенева, Вяземского), но опять — не прямо: отношения так сложились; Карамзин столь болен и занят, что его стараются не тревожить.
Однако, в связи с вопросом Пушкина, вдруг начинается очень любопытный заочный диалог.
6 сентября историограф отвечает Пушкину, так же не прямо, а через П. А. Вяземского: «Карамзин очень доволен твоими трагическими занятиями и хотел отыскать для тебя Железный Колпак. Он говорит, что ты должен иметь в виду в начертании характера Бориса дикую смесь: набожности и преступных страстей. Он беспрестанно перечитывал Библию и искал в ней оправдания себе. Эта противоположность драматическая! Я советовал бы тебе прислать план трагедии Жуковскому для показания Карамзину, который мог бы тебе полезен быть в историческом отношении <…> Карамзин говорит, что ты в колпаке немного найдёшь пищи, то есть, вшей. Все юродивые похожи!» (XIII, 224).
Крайне любопытная беседа через «друзей-переводчиков»!
Карамзин даёт советы, которые Пушкин отчасти уже воплотил в характере Бориса (стремление к оправданию своего права на злодейство), но отчасти — учитывать не станет: историк говорит как историк, Пушкин же не желает «дикой смеси» и делает Бориса человеком куда более приближенным к современному мироощущению, нежели в «Истории…» Карамзина («злободневен, как вчерашняя газета»); набожность царя также представлена в драме весьма умеренно… Характерно и другое, насмешливое, карамзинское замечание насчёт «колпака» и «вшей». Упрощённо говоря, историограф недоумевает, зачем Пушкину юродивый и стоит ли углубляться в столь низкую материю. По одной этой реплике хорошо видна разница подхода: Пушкин старается проникнуть в самые глубины народной жизни, «народного мнения», которое своеобразно выражено в восклицаниях юродивого; Карамзин же хотя много и подробно пишет о народе в X и XI томах своей «Истории…», но не видит необходимости опускаться столь «низко» (а на самом деле столь глубоко!).
Соглашаясь и не соглашаясь, Пушкин охотно поддерживает заочную дискуссию о Борисе: в середине сентября пишет довольно хитрое письмо Вяземскому (отчасти для сообщения Карамзину). Поэт благодарит историографа «за Железный колпак, что он мне присылает; в замену отошлю ему по почте свой цветной, который полно мне таскать» (XIII, 226).
Довольно прозрачный намёк на красный, революционный «фригийский» колпак, от которого молва не избавляет Пушкина. Затем следует благодарность Карамзину за его замечания о характере Бориса, причём Пушкин (чтобы сделать приятное историку) явно преувеличивает свою готовность воспользоваться его советами,— в то время как «Борис Годунов», в сущности, уж готов. «Я смотрел на его с политической точки, не замечая поэтической его стороны; я его засажу за евангелие, заставлю читать повесть об Ироде и тому подобное. Ты хочешь плана? возьми конец десятого и весь одиннадцатый том, вот тебе и план» (XIII, 227)[439].
Легко заметить, что последние строки, кроме лестного для Карамзина пушкинского признания насчёт «плана», в косвенной форме содержат отказ прислать своё сочинение на рассмотрение историографу.
Обмен любезностями Карамзина и Пушкина (пусть и непрямой) вызвал прилив воодушевления у друзей, искавших способа использовать влияние историка на императора.
Обсуждение исторических сюжетов в 1825 году, видимо, окончательно убедило историографа в том, что Пушкин переменился. Именно с этого времени начинается новый тур ходатайств, впрочем, сильно замороженных декабрьскими событиями. Трагедию «Борис Годунов» друзья, ещё её не читавшие, сочли как раз тем произведением, которое можно представить верхам в качестве «оправдательного документа».
Пушкин, однако, уж давно не имеет особых надежд. Около 7 ноября 1825 года пишет Вяземскому весело и печально: «Трагедия моя кончена; я перечёл её вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын! <…> Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (XIII, 239—240).
Колпак юродивого: Пушкин недавно убеждал Карамзина, что надевает его взамен цветного, «фригийского», да вот «никак не упрятать ушей…».
Последние полгода
А затем ударило 14 декабря. Событие, потрясшее Россию, Пушкина, Карамзина, многих друзей и приятелей — как «замешанных», так и незамешанных.
Несколько лет спустя, рассуждая о IX томе Карамзина, обличавшем Ивана Грозного, Вяземский доказывал, что историк вовсе не призывал к бунту и был верен самому себе: «И самое 14-е декабря,— спрашивал Вяземский, — не было ли впоследствии времени так сказать критика вооружённою рукою на мнение, исповедуемое Карамзиным, то есть Историею государства Российского, хотя, конечно, участвующие в нём тогда не думали ни о Карамзине, ни о труде его».
На полях против этой записи Пушкин написал «Не лишнее ли?» (XII, 285).
Дело в том, что поэт опасался упрощённых аналогий (Иван Грозный и самодержавие, с которым сражались декабристы). Разве не записал Пушкин, что «несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия» у Карамзина были опровергнуты «верным рассказом событий»? Разве сам Карамзин не говорил о заблуждениях восставших, как о «заблуждениях века»?
Нет, Пушкин иначе, сложнее смотрел на связь таких людей с общественным движением; непосредственно после страшных событий писал: «Не будем ни суеверны, ни односторонни <…> Взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (XIII, 259).
Потянулись страшные месяцы арестов и следствия над сотнями друзей и приятелей. Обстановка была столь нервно-напряжённой, что Карамзин, как известно, испугался, прочитав в только что вышедшем сборнике стихотворений Пушкина латинский эпиграф — «Первая молодость воспевает любовь, более поздняя смятение». Издатель Пушкина Плетнёв успокоил, объяснив, что подразумевается смятение душевное; после того Плетнёв писал Пушкину: «Карамзины поручили очень благодарить тебя за подарок им твоих Стихотворений. Карамзин убедительно просил меня предложить тебе, не согласишься ли ты прислать ему для прочтения Годунова. Он никому его не покажет, или только тем, кому ты велишь. Жуковский тебя со слезами целует и о том же просит. Сделай милость, напиши им всем по письмецу» (XIII, 255).
Таких тёплых, душевных слов от Карамзиных ещё не приходило никогда. Наверное, слились воедино разные чувства: и радость, что Пушкин уцелел, и размышления о «заблуждениях века», в которых, по сути, не виноват никто, и благодарность за присылку томика стихов с восторженными строками о «свитке гения» и «дыме столетий». Никогда ещё Карамзин столь прямо не просил прислать труд, и Пушкин волен был угадывать, не хочет ли историограф проверить «лояльность» драмы при настоящих обстоятельствах и поднести её новому царю для вызволения узника.
Но и в 1826-м Пушкин не хотел посылать трагедии Карамзину. И всё стеснялся писать на его имя. Судя по тому, что в следующем письме, 6 февраля 1826 года, Плетнёв повторял, что Пушкину «не худо бы <…> навестить его <Карамзина> письмом» (XIII, 261),— поэт так и не прибегнул к прямому почтовому разговору с семьёй историографа.
Это объясняется двумя обстоятельствами.
Во-первых, около 20 января Пушкин уже послал очень откровенное письмо Жуковскому о своей «вине» и надеждах на освобождение, а к тому письму приписал: «Прежде чем сожжёшь (…), покажи его Карамзину и посоветуйся с ним» (XIII, 258).
Вторая же очень серьёзная причина, помешавшая прямому диалогу, вот-вот готовому начаться, — это тяжёлая болезнь Карамзина. Историк простудился на Сенатской площади, наблюдая события, и следующие несколько месяцев смертельная болезнь то наступала, то несколько отступала.
Получив известие об этой болезни, Пушкин чрезвычайно встревожился, и его взволнованные строки открывают, сколь многое связывало поэта с историком все эти годы, несмотря на несогласия и недоразумения: «Карамзин болен — милый мой, это хуже многого — ради бога, успокой меня, не то мне страшно вдвое будет распечатывать газеты» (XIII, 264).
Болезнь историка, впрочем, даёт Пушкину повод не присылать «Бориса» в столицу (очень уж ему не хотелось!); Плетнёву пишет: «Не будет вам Бориса, прежде чем не выпишете меня в Петербург» (XIII, 264—265).
В следующие недели с волнением ожидаются новые сведения о болезни Карамзина, о шансах на выздоровление в случае поездки в Италию (см. XIII, 272, 276).
27 мая 1826 года из Пскова Пушкин пишет Вяземскому (тот отправился в столицу, чтобы проститься с Карамзиными, собирающимися за границу). Поэт пишет и в этот раз всё-таки не прямо Карамзиным, а через Вяземского: «Грустно мне, что не прощусь с Карамзиными — бог знает, свидимся ли когда-нибудь» (XIII, 280).
Пушкин не знал, что за пять дней до того, как он написал эти строки, 22 мая 1826 года, Карамзин скончался в Петербурге.
Через несколько недель Пушкин просит Вяземского — написать жизнь Карамзина: «Но скажи всё…»
13-й том
Что же означало в ту пору сказать о Карамзине всё?
О его близости к Александру I, умеренно-консервативных взглядах, критике революционеров — об этом писать было можно, и в этом направлении старались «холодно, глупо, низко» различные российские журналы.
Понятно, Пушкин говорит о необходимости осветить и другую сторону — смелость Карамзина с любым, даже высочайшим собеседником, частую критику господствующего порядка, сложный взгляд на соотношение рабства и свободы, наконец, художественную логику, «верный рассказ событий» в «Истории…», особенно в томах, посвящённых концу XVI — началу XVII столетия.
Наш рассказ возвратился к лету 1826 года, когда разговор о «13 томе» Карамзина, то есть биографическом очерке, мемуарах Пушкин вёл, как мы помним, уже располагая замечательным фрагментом собственных записок.
При том, что образ Карамзина постоянно присутствует за строкою пушкинских писем и творческих рукописей «Бориса Годунова», подготовлен двумя стихотворными пушкинскими воспоминаниями — нет ничего удивительного, что наступает черёд мемуаров.
Как известно, старая, традиционная датировка этих мемуарных страниц — «1826 июнь — декабрь» (см. XII, 471, коммент.) — основывалась на уверенности нескольких поколений пушкинистов, что поэт приступил к этому своему труду после получения известия о смерти Карамзина. Датировка была, однако, оспорена И. Л. Фейнбергом, заметившим: «…содержание этих страниц <…> показывает, что они являются бесспорно сохранёнными при сожжении, а не вновь написанными после смерти Карамзина страницами „Записок“ Пушкина»[440].
После появления работы Фейнберга время создания очерка о Карамзине было сначала определено как «1821—1825 годы» (XVII, 63): действительно, именно в этот период Пушкин трудился над своими автобиографическими записками. Позже, однако, дата была уточнена: «1824 ноябрь — 1825»;[441] основанием для уточнения явилось, во-первых, исследование бумаги, на которой писал Пушкин («1823 год»), а во-вторых, известные признания поэта в двух письмах к брату от ноября 1824 года — об интенсивной работе над автобиографическими записками в Михайловском (см. XIII, 121, 123). Более ранних сообщений о постоянной работе над записками в письмах к близким людям не сохранилось; зато в корреспонденции Пушкина за 1825 год «Записки» упоминаются постоянно (см. XIII, 143, 157, 159, 225…).
В задачу И. Л. Фейнберга не входил подробный текстологический анализ пушкинского отрывка; важное наблюдение покойного учёного, что само содержание этих страниц свидетельствует об их рождении ещё при жизни Карамзина,— заслуживает детализации.
До трагедии
В знаменитом пушкинском отрывке «Карамзин» нет ни слова, ни намёка о 14 декабря, а также о кончине историографа. Более того, текст, при всей его серьёзности и значительности, отличается той «лёгкой весёлостью», которая несёт на себе печать более ранних месяцев и лет: «пред грозным временем, пред грозными судьбами…» — но гроза ещё не разразилась…
Трудно, невозможно представить, чтобы Пушкин сразу после 14 декабря принялся иронизировать над «молодыми якобинцами» (см. XII, 306); чтобы начал полемику с арестованным, приговорённым к смерти и «помилованным» каторгой Никитой Муравьёвым («Никита Муравьёв, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение: предисловие!», XII, 306); чтобы декабриста-генерала Михаила Орлова, арестованного и чудом отделавшегося ссылкой в деревню, Пушкин (пусть и в тиши михайловского кабинета) теперь упрекнул, и довольно ядовито: «Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале Истории не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян…» (XII, 306).
Вдобавок заметим, что во фразе о Карамзине «государь, освободив его от цензуры…» не сказано «государь Александр Павлович» или «покойный государь», что было бы естественно, если бы «Записки» составлялись в 1826 году.
Мы привели доводы, вероятно, подразумевавшиеся И. Л. Фейнбергом, когда он говорил о датировке отрывка по его содержанию. Однако необходимо ещё объяснить, почему многие из отмеченных характерных признаков раннего (до 14 декабря) рождения текста сохранились в отрывке, подготовленном для первой печатной его публикации (в «Северных цветах на 1828 год»).
На этот вопрос ответим не сразу, но — приглядимся к последовательности главных событий в жизни интересующей нас рукописи. Материалов слишком мало для каких-нибудь новых открытий, но, как всегда, вполне достаточно для размышлений и гипотез[442].
«Переписываю набело…»
В сентябре 1825 года Пушкин сообщал Катенину: «Пишу свои Mémoires, то есть переписываю набело скучную, сбивчивую, черновую тетрадь» (XIII, 225).
Сама идея писать мемуары (об этом уже говорилось выше) была связана с обострившимся чувством истории, чувством итога. Среди тех, кто в эту пору также был полон разнообразных предчувствий,— сам Карамзин. Достаточно прочесть его последние письма к нескольким близким людям, чтобы обнаружить там печальное, фаталистическое, профетическое начало: «Странные изменения в свете и душах! Но всё хорошо, как думаю, в почтовой скачке нашего бытия земного…»[443]
Карамзин ощущает приближение конца своей жизни, своего времени. Пушкин же торопится начать «групповой портрет» уходящей эпохи, где почётнейшее место отдаётся Карамзину…
Среди сохранившихся фрагментов пушкинских сожжённых мемуаров некоторые, вероятно, являются остатком «черновой тетради»;[444] другие же страницы — беловые…
Одна из немногих надёжных дат — 19 ноября 1824 года: этим днём помечены известные строки, уцелевшие на обрывке листа;[445] «Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в Псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но всё это нравилось мне недолго. Я любил и доныне люблю шум и толпу и согласен с Вольтером в том, что деревня est le premier…»[446] (XII, 304).
Запись, легко убедиться, относится к совершенно определённой главе пушкинской биографии: в июне 1817 года поэт выходит из Лицея, 8 июля получает паспорт на отъезд в Псковскую губернию; в конце августа возвращается в столицу (1 сентября в письме Вяземскому — «Я очень недавно приехал в Петербург»)[447].
После строк о том, что деревня «нравилась недолго» и что молодой человек любит «шум и толпу», естественно, должны были идти следующие страницы или главы записок, где рассказывалось о возвращении Пушкина в Петербург и последних месяцах 1817 года. Этот раздел, однако, не сохранился. Нетрудно догадаться, отчего: именно там было особенно много опасных, горячих страниц, тех самых, которые пришлось сжечь, ибо — «могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв»[448].
Летопись жизни и творчества Пушкина за осень и зиму 1817 года может явиться сегодня своеобразным оглавлением, «аннотацией» исчезнувших глав: бурная театральная и литературная жизнь Петербурга; левые, вольнодумные, декабристские идеи; «Арзамас», заседания которого Пушкин может теперь посещать свободно. Николай Тургенев 6 сентября 1817 года призывал к занятиям политическим. Вообще, осенью 1817 года общение Пушкина со старшим десятью годами Н. И. Тургеневым самое тесное. В то же время более умеренный брат декабриста, Александр Тургенев, ежедневно бранит Пушкина за его «леность и нерадение о собственном образовании, к чему присоединились и вкус к площадному волокитству и вольнодумство, также площадное, 18 столетия»[449].
Вольность, вольнодумство в конце 1817 — начале 1818-го, как видим, основной пушкинский тон, черта многих поступков.
И тут наступает время, о котором сохранилось два листа из записок: беловая рукопись № 825, о Карамзине, начинающаяся «с полуслова», так как начало первой фразы осталось на сожжённой странице: «…лены печатью вольномыслия.
Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною. Я занемог гнилою горячкой» (XII, 305).
«Полусожжённая фраза», завершившая предыдущий лист, вероятно, говорила о словах, стихах или поступках Пушкина (его друзей?), которые были «запечатлены печатью вольномыслия». Во всяком случае, речь шла об определённом образе жизни (о котором недоброжелательно писал Александр Тургенев).
Пушкин тяжело заболевает около 20 января 1818 года[450]. Значит, «время действия» «карамзинских страниц» отделено всего несколькими месяцами от более раннего листка «Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в Псковскую деревню…»
По-видимому, и написан был карамзинский фрагмент (№ 825) вскоре после «деревенского отрывка» (рукопись № 415): в конце 1824-го — начале 1825-го… Тогда, наверное, были набросаны черновые страницы — а позже, может быть осенью 1825 года (вспомним признание Пушкина Катенину), — текст был перебелён, опять с некоторыми поправками: именно такой беловой характер имеют два листа, на которых поместились пушкинские воспоминания о Карамзине и самом себе, выздоравливающем, ожидающем весны: «Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов „Русской истории“ Карамзина вышли в свет…» (XII, 305).
Далее в карамзинском отрывке (№ 825) личное начало повествования как будто ослабевает: идёт яркий, страстный «очерк нравов», воспоминание не столько о Карамзине-человеке, сколько о его времени, его мире; в рассказ, однако, вторгается всё же первое лицо: «когда по моему выздоровлению…», «ничего не могу вообразить»; «одна дама… при мне», «повторяю», «мне приписали одну из лучших русских эпиграмм». Ненавязчивое присутствие того, кто только что подробно рассказывал о своей болезни, о стремлении на волю, выздоровлении,— это присутствие скрепляет многослойный рассказ, придаёт ему единый определённый тон. Повествование обрывается почти столь же резко, как началось — словами об эпиграмме на Карамзина («это не лучшая черта моей жизни»).
Исписан до конца второй лист автографа № 825. Но что же дальше? Следующего листа нет… Очевидно, там продолжалось объяснение насчёт эпиграммы и, может быть,— о реакции на неё Карамзина, об охлаждении, расхождении поэта с историографом (тут Пушкин, конечно, особенно не хотел непрошеных читателей); или совсем иначе: возможно, на следующем листе брошен взгляд со стороны на отношения Карамзина с царём, взгляд достаточно вольный, чтобы запись стала для автора опасной…
Невозможно определить, говорилось ли уже на прежних, сожжённых страницах о первых царскосельских встречах, беседах с Карамзиным… Или только теперь, после рассказа о триумфе «Истории государства Российского», мемуарист счёл возможным «кстати» рассказать о своих личных отношениях с историографом.
В академических изданиях более вероятной сочтена вторая версия. Если так, то после двух листов «о 1818 годе» следовали ещё одна или несколько позже исчезнувших страниц. А затем — лист, начинающийся словами: «Кстати, замечательная черта. Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы…» (XII, 306).
Кстати… Первое слово соединяло этот эпизод с каким-то другим, где, очевидно, говорилось о разных спорах и нападениях на историка. По смыслу — близко к тому, чем кончается главный отрывок (насмешки над Карамзиным, непонимание), но всё же меж двух текстов чего-то не хватает. Во всяком случае, если они по смыслу столь близки, значит — скорее всего создавались в одно время…
Однако второй отрывок (№ 416) внешне очень непохож на отрывок (№ 825): это текст с рядом поправок, писанный чрезвычайно бледными чернилами. Среди пушкинских рукописей есть ещё одна (и только одна!), поражающе сходная по внешним признакам с листом № 416: лист точно такой же бумаги[451], исписанный очень похожими бледными чернилами: это беловая редакция пушкинского перевода «Неистового Роланда» Ариосто (по нумерации Пушкинского дома — № 78)[452].
Черновики этого перевода датируются довольно точной пометою самого Пушкина («3 и 4 января 1826 года»)[453], интересующий же нас беловой текст (понятно, более поздний) датируется в академическом собрании «1826 январь — июль (?)» (III, 1126).
Опираясь на сходство рукописей № 78 («Роланд») и № 416 (О парадоксах…), можно датировать, разумеется условно, второй «карамзинский» отрывок Пушкина тем же временем — началом 1826-го; тогда получается, что Пушкин продолжал и после восстания писать свои записки о Карамзине; или — переписывать «из тетради».
Следуя за этой гипотезой, можно, конечно, предположить, что появление второго карамзинского текста (№ 416) связано со следующей, более поздней стадией существования «карамзинских страниц», когда возникла идея их опубликования: вряд ли Пушкин описывал бы свой диалог с Карамзиным («итак, вы рабство предпочитаете свободе») в первые, страшные месяцы после восстания. Если в 1826-м — то уж после смерти историографа, в июне, июле…
Таким образом вчерне воспоминания о Карамзине начаты примерно в конце 1824-го; беловик — в 1825-м, даже, может быть, отчасти в 1826-м.
«Современные записки»
В письме от 10 июля 1826 года Пушкин, призывая Вяземского писать о Карамзине, умолчал о собственном труде, возможно, из конспирации. Письмо шло по почте в дни приговора и казни…
Через несколько дней поэт отправил (вероятно, с оказией) в Петербург, в родительский дом, письмо к сестре, Ольге Сергеевне, но письмо не застало её в столице — она присоединилась к семьям Вяземских и Карамзиных, которые на лето отправились в Ревель. Мы точно знаем, что Лев Сергеевич Пушкин переправил послание старшего брата в Ревель, куда оно прибыло 30 июля (см. XIII, 290). Хотя письмо не сохранилось, но известно, что именно в нём поэт впервые сообщал о возможности извлечь из своих записок фрагменты о Карамзине; на другой день, 31 июля, Вяземский отвечал и на письмо Пушкина от 10 июля, и на сообщение Ольги Сергеевны: «Сестра твоя сказывала, что ты хотел прислать мне извлечения из записок своих относительно до Карамзина. Жду их с нетерпением <…> Ты советуешь писать мне о Карамзине: рано! Журнальную статью, так! Но в этом случае: поздно! Карамзин со временем может служить центром записок современных вроде записок Garat, но гораздо с большим правом, чем Suard. Всё русское просвещение начинается, вертится и сосредотачивается в Карамзине. Он лучший наш представитель на сейме европейском. Ты часто хотел писать прозою: вот прекрасный предмет! Напиши взгляд на заслуги Карамзина и характер его гражданский, авторский и частный. Тут будет место и воспоминаниям твоим о нём. Можешь издать их в виде отрывка из твоих записок» (XIII, 289).
«Современные записки вроде Гара» — это книга «Mémoires historiques sur la vie de M. Suard sur ses écrits et sur le XVIII-e siècle par D. J. Garat»[454]. И автор этого труда Доменик-Жозеф Гара, и его герой, Жан-Батист Сюар, были литераторами, политиками, публицистами. Они пережили много бурных приключений, взлётов, падений, как до Великой французской революции, так и во время неё, при Директории, Консульстве, империи, реставрации[455]. Хотя Гара был хорошо знаком с Сюаром (и между прочим располагал его мемуарными заметками), но, как видно уже по заглавию труда, стремился написать историю века; пытался представить в Сюаре характерные черты «современного героя».
Любопытно, что вскоре после того, как Вяземский дал Пушкину совет — писать в духе Гара,— он признавался А. Тургеневу, что сам собирается со временем написать о Карамзине и веке Карамзина записки «как Garat писал о Suard»[456].
Иначе говоря, Пушкину предлагалась идея, которую лелеял сам Вяземский, в то время как Пушкин советовал Вяземскому, исходя из собственного опыта и подразумевая тип воспоминаний, уже писавшихся в Михайловском.
Позже друзья объяснились; двухтомник Гара находился в библиотеке Пушкина, и Вяземский, десять лет спустя, весною 1836 года именно у Пушкина попросит эти книги для своей работы (см. XVI, 128). Однако в июле 1826 года Вяземский, по-видимому, не очень представляет характер пушкинских записок; он боится, что поэт сообщит в основном свои воспоминания об историографе, и советует — увеличить, усилить общественную сторону рассказа, обрисовать характер Карамзина, «гражданский, авторский и частный».
Летом 1826 года, в один из самых трагических моментов русской истории, два поэта-мыслителя, глубоко ощущающие этот трагизм, считают настоящее слово о Карамзине одним из лучших дел, которым в этих обстоятельствах можно и должно заниматься…
Через несколько недель после «карамзинских писем» Пушкина и Вяземского михайловского узника увозят в Москву — для свидания с царём. Однако при всех переменах — общих и личных — карамзинский вопрос всё равно оставался злободневным.
9 ноября 1826 года в Михайловском Пушкин, освобождённый и завершающий записку «О народном воспитании», продолжает с Вяземским разговор, начатый ещё в июле: «Сей час перечёл мои листы о Карамзине — нечего печатать. Соберись с духом и пиши. Что ты сделал для Дмитриева <…>, то мы требуем от тебя для тени Карамзина — не Дмитриеву чета» (XIII, 305).
Вяземский в 1821 году написал и в 1823-м напечатал «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева»[457].
Фраза Пушкина, что ему «нечего печатать», видимо, имела двойной смысл: во-первых, многое не подходило для цензуры; во-вторых, поэт мог считать свои воспоминания слишком фрагментарными, своё знакомство с Карамзиным слишком кратким для рассказа об историографе. Позже Пушкин отыщет великолепную эссеистическую форму — «Отрывки из писем, мысли и замечания» — и сумеет среди разных фрагментов и размышлений поместить важный отрывок о Карамзине, завершавшийся указанием — «извлечено из неизданных записок» (см. XI, 57). Пока же, перечитывая свои страницы о Карамзине, он оканчивает записку «О народном воспитании». В черновике её сохранились следы напряжённого поиска лучших определений, и как не отметить, что на этот раз факт недавней кончины историка стимулировал панегирическую фразеологию: «…его творения,— записал Пушкин,— есть не только вечный памятник, но и алтарь спасения, воздвигнутый русскому народу» (XI, 316). Пушкин ещё попробовал, но зачеркнул фразу — «его подвиг есть не только вечный памятник»; образы «вечного памятника и алтаря спасения» отвергнуты как слишком громкие, риторические, но они ясно обозначают направление пушкинских поисков; Карамзин среди репрессий, крушений, разочарований как бы указывает возможный, верный путь, спасение; помогает людям круга Пушкина, Вяземского найти честную позицию меж двух «соблазнов» — уйти в подполье или проситься «во дворец».
Горячие, но мелькнувшие лишь в черновике определения были близки, даже текстуально подобны ряду высказываний пушкинских друзей (сделанных и задолго до 1826 г., и после). Жуковский писал Александру Тургеневу: «Я гляжу на Историю нашего Ливия как на моё будущее: в ней источник для меня славы и вдохновения»[458]. Адресат письма, А. И. Тургенев, в своё время надеялся, что «История…» Карамзина «послужит нам краеугольным камнем для <…>, русской возможной конституции»;[459] Вяземский называл труд Карамзина «эпохою в истории гражданской, философической и литературной нашего народа»[460]. Много позже он же создаст прекрасный эквивалент пушкинской мысли об «алтаре спасения»: «Карамзин наш Кутузов, 12 год, он спас Россию от нашествия забвения, воззвал её к жизни, показал нам, что у нас Отечество есть, как многие узнали о том в 12-м году»[461].
Вот в каком контексте, среди каких мнений набирает силу пушкинское стремление — сказать об историографе всё.
Отвергнув панегирические эпитеты, поэт заменяет их в записке «О народном воспитании» формулой из тех, прежних своих «листов о Карамзине», которые только что перечитывал и откуда — «нечего печатать!»: «История государства Российского есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека». Тот факт, что Пушкин не сразу внёс эту фразу в записку «О народном воспитании», а прежде попробовал несколько вариантов, может, конечно, вызвать подозрение — не сочинена ли знаменитая строка именно теперь, в ноябре 1826 года, в Михайловском?
В. Э. Вацуро, отвергнув подобную возможность в первом издании своей работы, пересмотрел свой взгляд во втором: воспоминания о Карамзине здесь датируются временем после 15 ноября 1826 года[462]. Не имея возможности рассмотреть аргументацию В. Вацуро в данной книге, автор продолжает отстаивать свою версию. Действительно, достаточно посмотреть на рукопись пушкинских записок о Карамзине (документ № 825), чтобы убедиться: во-первых, фраза о «подвиге честного человека» там уже имеется, причём внесена поэтом сразу, без всяких поправок, вариантов; во-вторых, поскольку эти листы заполнялись, по всей видимости, в 1824—1825 годах (напомним опять, что они открываются полуфразой, начало которой «подверглось аутодафе» после 14 декабря),— значит, и сама знаменитая формула записана тогда же[463].
Выходит, Пушкин в ноябре 1826 года сначала пытался найти новые слова, приличествующие посмертному разговору о Карамзине (тем более в полуофициальной записке, представляемой царю!). Однако после нескольких проб поэт возвращается к старой формуле, выработанной ещё при жизни историографа.
В этом быстром движении пушкинской мысли мы видим и начало ответа на тот вопрос, который был поставлен несколько страниц назад: отчего первая печатная публикация «карамзинского фрагмента» имеет, при всех различиях, столько общего с рукописью 1824—1825 годов? Разделяющие их три-четыре года — это ведь целая эпоха, стоящая иных десятилетий: между появлением на свет записки о Карамзине и альманахом «Северные цветы» на 1828 год произошло восстание, затем — следствие, приговор, казнь; за это время умер Карамзин и был возвращён Пушкин. Казалось бы, рукопись устарела, но вышло наоборот. Как старая формула «подвиг честного человека» оказалась вернее всяких новаций, точно так же автор печатного текста 1828 года не очень стремится к обновлению рукописной основы. Ещё раз повторим, что в истории и текстологии пушкинских страниц о Карамзине ещё не всё ясно, ряд важных проблем находится на уровне гипотез; например, нельзя с излишней категоричностью отрицать возможные поправки и дополнения, внесённые Пушкиным в старый мемуарный текст уже после смерти Карамзина, в 1826 году.
Кажется неоспоримым, что созданные главным образом в 1824—1825 годах записки о Карамзине уже через несколько месяцев стали важным документом; в новых, суровых обстоятельствах они представляли ушедшую, «приговорённую» эпоху.
Включая переработанный текст своего фрагмента в «Отрывки из писем, мысли и замечания» (1828 г.; см. XI, 57), Пушкин решил сохранить общий характер «лёгкой серьёзности», столь заметной в «карамзинском отрывке»; правда, фрагменты, относящиеся к светским женщинам и острякам, пародирующим Карамзина, сокращены, поскольку полемический задор, иронию рукописного отрывка следовало несколько умерить при нынешних трагических обстоятельствах. Кроме официальной цензуры, Пушкин подвергал себя и строгой автоцензуре, и молодых якобинцев, понятно, в печатном тексте нет. Однако сокрытые под инициалами остались Никита Муравьёв, Михаил Орлов (впрочем, реплика Орлова сильно смягчена)[464].
Обычно при анализе этого печатного отрывка отмечается стремление Пушкина напомнить о декабристах, о трудной борьбе поэта с официальной цензурой, запрещавшей какие бы ни было упоминания об осуждённых. Всё это, конечно, верно, но следует также учитывать, что и спор с декабристами (пусть сильно замаскированный) был теперь делом деликатным, щекотливым.
И всё же, достаточно прочитать один за другим оба очерка о Карамзине, рукописный и печатный, чтобы убедиться: общий дух, тон пушкинской рукописи в печати сохранён — и сохранён, конечно, нарочито. Наверное, так же, как специально не уточнено, какой государь освободил Карамзина от цензуры: старая фраза, во-первых, приобретала дополнительный смысл теперь, когда и Пушкину сказано — «я буду твоим цензором»; а во-вторых, поэт вообще склонен бережно относиться к некогда написанному.
Если бы Пушкин сочинял свои воспоминания о Карамзине действительно в 1826 году, он бы написал их, конечно, иначе: страшные потрясения 1825—1826 годов многообразно отразились бы, запечатлелись в тексте.
Но поэт уже располагал страницами, сочинёнными до трагедии.
Размышляя позже, в 1830-х годах, о своих уничтоженных автобиографических записках, Пушкин заметил: «Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностию дружбы или короткого знакомства. Теперь некоторая театральная <?>[465] торжественность их окружает и, вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей.
Зато буду осмотрительнее в своих показаниях, и если записки будут менее живы, то более достоверны» (XII, 310).
Пушкин ясно сознавал неповторимую ценность того описания, которое является живым отпечатком определённого, промелькнувшего времени. Именно «откровенность, живость, короткое знакомство» — характерные черты сохранившихся мемуарных страниц о Карамзине. Редактируя текст для публикации, с огромными трудностями и опасностями проводя его в печать[466], поэт стремился не столько приспособить старый текст к новому времени, сколько максимально сохранить его во всём многообразии и неповторимости.
Не слишком осовременивая уже написанное, Пушкин был особенно современен.
Верным писательским, общественным инстинктом он угадал, что свободный, живой, горячий, иронический дух недавнего прошлого более необходим «людям 1828-го года», нежели они сами подозревают…
В 1828 году Пушкин выполнил «задание» Вяземского: Карамзин был представлен как гражданин, автор и личность.
Воспоминаниями об историке поэт с ним прощался. И одновременно начинал ту кампанию за карамзинское наследие, которую будет вести до конца дней.
«Светлое развитие…»
С тех пор историограф часто упоминается в пушкинских стихах, статьях, заметках, письмах: набрасывается предисловие и другие пояснительные заметки к «Борису Годунову» и, разумеется, не раз благодарно упоминается Карамзин, его «бессмертное творение» (см. XI, 68). Когда в 1830 году, после нескольких лет запрета и проволочек, Пушкину наконец разрешат публикацию комедии, он напишет тот текст посвящения, который отныне всегда будет её открывать: «Драгоценной для россиян памяти НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностию посвящает Александр Пушкин».
Ещё и ещё раз поэт обрушивается на Каченовского, Полевого и других «отрицателей» Карамзина, толкует о языке, прозе, научном методе историографа. При этом мы ещё не можем учесть большого числа встреч, разговоров с людьми, хорошо знавшими Карамзина, не станем здесь касаться и постоянной близости Пушкина с его семьёй. Когда академик М. Е. Лобанов сетовал (1836), что в русской словесности «имя Карамзина <…> предано глумлению», то Пушкин имел полное право возразить (не называя себя, но, конечно, подразумевая): «Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России, и ни один писатель с истинным талантом, ни один истинно учёный человек, даже из бывших ему противниками, не отказал ему дани уважения глубокого и благодарности» (XII, 71—72).
После 1826—1828 годов можно отметить два периода особенно интенсивного пушкинского «карамзинизма», в 1830—1831 и 1836 годах. В обоих случаях поэт имел трибуну: в первом — «Северные цветы» и «Литературную газету», во втором — собственный журнал «Современник». Кроме того, важные суждения о Карамзине остались в рукописях, при жизни Пушкина не опубликованных.
Покойный писатель-историк занимает поэта как гражданин, автор, личность.
В нашей работе мы обращаемся преимущественно к первому и третьему образу. Все три карамзинские «ипостаси» имели в той или иной степени общественный, для Пушкина же духовный смысл. Академическая с виду полемика вокруг Карамзина-автора[467] (язык, история и другие чисто творческие мотивы — то, что в данной работе затрагивается лишь в самом общем виде) легко и постоянно выводила к Карамзину — гражданину, личности.
Когда Пушкин (в 1835 г.) записывает: «Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова» (XI, 249),— то легко заметить, что, толкуя об языке, поэт затрагивает проблему проблем — народ, народность. Понятия эти у Пушкина не карамзинские, но свои и связаны с новым историческим подходом к России; однако поэт сейчас обходит то, что разделяет его с покойным историографом; ему важно, что Карамзин был народен, пусть и далеко не в тех пределах, как необходимо в 1830-х годах.
Набрасывая в Болдине предисловие к «Борису Годунову», поэт признавался: «Не смущаемый никаким светским влиянием, Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении типов, Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени» (XI, 140).
Светлое развитие происшествий — прекрасный образ карамзинского и, разумеется, также пушкинского творчества. Светлый — значит естественный, нравственный…
Белинский, рассуждая много лет спустя об «Истории государства Российского», заметит: «Пушкин до того вошёл в её дух, до того проникнулся им, что сделался решительно рыцарем „Истории Карамзина“»[468].
Обратившись к прошлому, автор «Истории Пугачёва» (1833—1834) и «Петра» (1834—1837) становится прямым наследником Карамзина (остановившегося в своём труде у 1612 г.), историографом той эпохи, куда Карамзин залетал лишь мечтами, чтением «секретной литературы» и некоторыми острыми политическими записками.
Когда Н. А. Полевой подверг «Историю…» Карамзина суровому разбору, доказывая, что «идея истины была недоступной Карамзину», что его труд — «это летопись, написанная мастером, художником таланта превосходного, убедительного в статье, а не История»[469],— тогда Пушкин отвечал горячо: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами хронике» (XI, 120).
Пафос пушкинской критики Полевого был в том, что наследие Карамзина ещё не исчерпано; что, действительно, сближаясь в ряде своих приёмов с методом летописцев, уходящим безвозвратно в прошлое («последний летописец»), Карамзин в то же время принадлежит настоящему и будущему, исповедуя подход научно-художественный, нравственный, «светлое развитие происшествий».
Спор Пушкина с Полевым нельзя оценивать только по силе таланта каждого из полемистов: сталкивались серьёзные идеи, каждая со своею правотою. Полевой — более со стороны строгой науки; подход Пушкина — более исторический, общественно-художественный[470]. Каждая из этих позиций, как известно, имела позже довольно богатую историю, была представлена многими яркими фигурами. Не углубляясь в подробности, заметим здесь, что Пушкин, споря с Полевым, отнюдь не утверждал, будто следует остановиться на Карамзине. При том, мы знаем, Пушкин глубже, резче вникал в проблему истории и нравственности, нежели Карамзин; наряду с панегириком историографу поэт развивал и критический взгляд, но в 1830-х годах своё несогласие почти не выносил в печать, дабы не поощрять журнальных противников…
Тем интереснее присмотреться к этим «потаённым страницам», имеющим прямое отношение к политической, государственной позиции поэта.
«Самое обыкновенное занятие…»
«Когда Алексей Петрович Ермолов жил в отставке в Орле, Пушкин был у него три раза <…> Между прочим, говоря о Карамзине, он сказал: „Меня удивляет его добродушие и простосердечие: говоря о зверствах Иоанна Грозного, он так ужасается, так удивляется, как будто такие дела и поныне не составляют самого обыкновенного занятия наших царей“». Цитируется запись племянника Ермолова, Н. П. Ермолова, опубликованная Г. П. Штормом; достоверность записи подкрепляется сходными версиями Дениса Давыдова и О. М. Бодянского[471].
Мы не часто находим подобные мотивы у Пушкина, из чего, конечно, отнюдь не следует, что он не придавал им большого значения. Описывая встречу с Ермоловым во время путешествия в Арзрум в 1829 году, поэт вот что записал насчёт Карамзина: «Ермолов <…> недоволен Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу» (VIII, 445).
Любопытно, в какой степени Пушкин соглашался с опальным генералом. Общий тон рассказа о Ермолове доброжелателен, к тому же, как мы только что видели, Пушкин добавил к ермоловским замечаниям — свои: насчёт историографа, «по-детски» изумляющегося жестокости царей…
И всё же есть основания считать, что требования, которые предъявлял Ермолов к истории, были сродни тому, что желали в своё время декабристы; «пламенное перо», которое должно изобразить переход России «из ничтожества к славе и могуществу»,— ведь об этом, например, писал в 1818 году Михаил Орлов: «Зачем же (Карамзин) в классической книге своей не оказывает того пристрастия к Отечеству, которое в других прославляет? <…> Зачем ищет одну сухую истину преданий, а не преклоняет все предания к бывшему величию нашего Отечества?»[472]
Пушкин с годами всё менее принимал пламенную, односторонне пристрастную историческую концепцию; иронизировал над Орловым, который «требовал романа в истории — ново и смело!». В записке «О народном воспитании» поэт выступал против «опасной декламации», противопоставляя ей «хладнокровный» анализ духа народа и считая в данном случае образцом Карамзина (см. XI, 316). Чрезмерная объективность, хладнокровие — вот что Ермолов, очевидно, считал недостатком историографа; Пушкин же, наоборот, полагал, что нужно быть ещё объективнее; даже в самых жестоких царских деяниях находить не столько мораль, сколько закон истории, «природу вещей».
Генерал был недоволен Карамзиным с одной стороны, Пушкин критиковал с другой, и, парадоксальным образом, внешне они могли кое в чём согласиться. Мысль же о страшных, но притом «обыкновенных» деяниях была Пушкиным многократно повторена в черновых «Замечаниях на Анналы Тацита» (1825—1826)[473].
Через несколько месяцев после разговора с Ермоловым Пушкин выскажет М. П. Погодину замечания, сходные с тем, что говорилось про «обыкновенные» преступления правителей.
Погодин в своей статье «Об участии Годунова в убиении царевича Дмитрия» сомневается, что Годунов мог пойти на такое преступление. Пушкин на полях той статьи возражает: «А Наполеон, убийца Энгенского, и когда? ровно 200 лет после Бориса» (XII, 248).
Погодин пишет: «Неужели Шуйский явно заставлял граждан подписываться под готовыми ответами?
Как Борис решался до такой степени обнаруживаться пред тысячами своих подданных?»
Пушкин на полях: «Как мудрено! И очень!» (XII, 253).
Естественный ход истории, отчасти сходный с «равнодушною природой»,— это Пушкин понимал и чувствовал очень глубоко, сильно, и тут не раз оказывался в противоречии с морализаторским подходом Карамзина. Впрочем, отдадим справедливость историографу, который часто выходил за пределы им же выставленных рамок; при анализе отдельных событий, как художник, он порою приближался к тому хладнокровию, которое так ценил Пушкин. И тем не менее Карамзину было легче: он не забирался столь глубоко, в такие исторические пучины, как его наследник и продолжатель. Народ, народное сознание, народный бунт — всё это, повторим, по-настоящему ещё не было открыто в двенадцати томах «Истории государства Российского», хотя масса, толпа, народное мнение присутствуют там постоянно. Пушкин не упрекал Карамзина, справедливо полагая, что тот сделал максимум возможного для своей эпохи, но при том заметил Погодину в связи с падением Новгорода, что здесь требовалось представить «два великих лица»: «Первое — Иоанн, уже начертанный Карамзиным, во всём его грозном и хладном величии, второе — Новгород, коего черты надлежало угадать» (XI, 181).
Мысль о том, что в «Истории села Горюхина» (1830) Пушкин, между прочим, своеобразно спародировал манеру Карамзина, полагаем, имеет основание[474]. При всём уважении к «бессмертной памяти историографа» поэт обладал даром иронической критики, которого даже сам побаивался (в 1830-м была написана и тут же густо зачёркнута эпиграмма «Крив был Гнедич поэт…»). Высокая мораль, необходимость нравственных оценок — и жизнь в глухой деревне, ужасная и смешная; всё это Пушкин нарочито соединил, столкнул для размышления, читательского и собственного (вспомним заочный спор о «колпаке юродивого»).
Трудно улавливаемая полемика с Карамзиным о закономерности и нравственности в истории отразилась и в немногочисленных, но важных суждениях Пушкина о Никколо Макиавелли. Автор «Государя» и «Истории Флоренции» как бы врывается в диалог с автором «Истории государства Российского».
Среди нескольких десятков кратких пушкинских новелл Table-talk (1835—1836) — в трёх упоминается Макиавелли[475].
Напомним тексты:
<III>
Divide et impera[476] есть правило государственное, не только махиавеллическое (принимаю это слово в его общенародном значении).
<IV>
Езуит Посвин, столь известный в нашей Истории[477], был один из самых ревностных гонителей памяти макиавелевой. Он соединил в одной книге все клеветы, все нападения, которые навлёк на свои сочинения бессмертный флорентинец, и тем остановил новое издание оных. Учёный Conringius, издавший «Il principe»[478] в 1660 году, доказал, что Посвин никогда не читал Макиявеля, а толковал о нём по наслышке.
<V>
Человек по природе своей склонен более к осуждению, нежели к похвале (говорит Макиявель, сей великий знаток природы человеческой)… (XII, 156—157).
Далее Пушкин развивает мысль о том, что «глупость осуждения не столь заметна, как глупая хвала…».
Итальянскому мыслителю и политическому деятелю здесь посвящено совсем немного строк, но обратим внимание на их общий тон, явно заинтересованный. В первой из заметок по существу повторено то, что некогда говорилось Ермолову в связи с Карамзиным: насчёт «обыкновенности» многих жестокостей и злодеяний для государственной практики; «разделяй и властвуй», подчёркивает поэт,— правило государственное, то есть обычное для всех правителей,— в том числе и для тех, кто пишет трактаты против Макиавелли или не желает о нём слышать. Сама оговорка Пушкина, что он считает принцип divide et impera правилом «не только махиавеллическим», если употреблять последний термин «в его общенародном значении», свидетельство, что поэт имеет свой взгляд на достижения флорентийца и как раз не принимает общенародного значения. (Когда Макиавелли рисуют неким злонамеренным злодеем, главная мысль которого: «цель оправдывает средства».)
Два других замечания тоже комплиментарны по отношению к «одиозной» фигуре итальянского мыслителя; взгляд Пушкина на Макиавелли и «махиавеллические правила» можно уточнить и лучше представить, если обратиться к источнику его сведений, лишь в незначительной степени отражённому в Table-talk.
Как известно, в библиотеке Пушкина сохранилось 12-томное собрание сочинений Никколо Макиавелли, вышедшее в Париже в 1823—1826 годах[479].
Пушкин счёл нужным зафиксировать на титуле 1-го тома, что собрание «куплено при публичной распродаже с глупыми карандашными заметками»[480].
Б. Л. Модзалевский отметил, что далеко не все книги 12-томника разрезаны. Особое внимание владельца было явно обращено на 3-й том, включавший как книгу «Le prince» <«Государь»>, так и возражения Фридриха II — «Antimachiavel».
Отмеченная Б. Л. Модзалевским закладка, вероятно, пушкинская, относится к тексту между 28 и 29-й страницами 3-го тома, где начинается IV глава «Государя»[481].
Заметки Пушкина о Макиавелли в Table-talk, кроме общей осведомлённости поэта, доказывают его пристальное внимание к предисловию, открывающему первую книгу 12-томного собрания[482]. Автор «предисловия переводчика» Жан-Винсент Периес — согласно данным французских биографических словарей, известный в своё время знаток поэзии и переводчик[483].
Ж. Периес не скрывает своего интереса и сочувствия к дерзким мыслям Макиавелли и подробно пересказывает всю историю гонений на его книги, внесения их в индекс (перечень запрещённых книг) и тому подобное. Парижская публикация в начале 1820-х годов, в период особенных преследований вольных идей со стороны Священного союза, была достаточно заметным явлением и, конечно, сохраняла свою актуальность и в 1830-х годах (невозможно точно указать дату приобретения Пушкиным 12-томника, но понятно, что это произошло не ранее 1826 года).
В своём предисловии Периес подробно описывает причудливую судьбу трудов Макиавелли; сообщает, что, за исключением «Военного искусства», при его жизни ничего не было напечатано. Мы имеем право угадывать те места предисловия, которые могли особенно заинтересовать Пушкина: Периес иронически отмечает, что ни папа Климент VII, известный своей просвещённостью, ни другие видные прелаты не находили ничего предосудительного в «Государе» и других книгах Макиавелли, и всё же в 1559 году «Государь» попал в индекс: это объяснялось контрреформацией, но (как замечал Периес) «Слишком поздно было бороться с книгой, уже столько раз напечатанной»[484].
В то время как папский престол в своём отношении к «флорентийскому секретарю» колебался и позже отменил свои запреты, ряд писателей и церковных деятелей проявили большое усердие: «они обходились с Макиавелли как греки с трупом Гектора, но в то же время осыпали оскорблениями, как если бы он был жив»[485]. Католики между прочим обвиняли флорентийского мыслителя в компрометации церковнослужителей, протестанты же считали, что именно «по принципам Макиавелли Карл IX и Екатерина Медичи устроили Варфоломеевскую ночь».
Периес доказывал, что «толпа обвинителей ни в малейшей степени не руководствовалась любовью к истине, морали и религии».
Между прочим, один из обвинителей, некто Жентиле, желая скомпрометировать противника, доказывал, что Макиавелли был изгнан из родной страны, поскольку долго жил во Франции (в то время как на самом деле он был послом Флоренции в Париже)[486]. Далее Периес сообщает:
«Одним из самых ярых противников Макиавелли был Антонио Поссевино, который в 1592 году опубликовал маленькую книжку, в двух главах которой Макиавелли являлся главным объектом нападения <…>. Однако Поссевино, составитель или автор книги, дал очевидные доказательства того, что он не читал те сочинения, с которыми пытался сражаться: не говоря уже о том, что он приводит выдержки, упоминает принципы, которых невозможно найти у Макиавелли,— но он цитирует сочинение „Государь“, разделённое на три книги, тогда как этот труд всегда составлял одну-единственную книгу. Учёный Конрингус, с большой тщательностью публикуя „Государя“ в 1660 году в Гельмштадте, обнаружил этот грубый обман и продемонстрировал его абсурдность»[487].
После того Периес продолжает разоблачать посредственность, «которая стремится низвести до своего уровня недостижимую для неё репутацию»[488].
Пушкин, читая эти строки, естественно, находил многое, характерное и для его собственной судьбы; вряд ли он также прошёл мимо примечательного наблюдения Периеса, что два таких знаменитых недруга, как Вольтер и Фридрих II, «сошлись в нападках на Макиавелли»[489].
Перечисляя немногих защитников флорентийца, автор предисловия заключил, что «сам Макиавелли лучший защитник самого себя»[490].
Подводя итоги своим размышлениям, Периес писал: «Сегодня, когда истинное значение сочинений Макиавелли может быть легко оценено; сегодня, когда политические материи становятся одной из первых общественных потребностей,— сегодня будет интересно узнать, что думал о политике тот человек, чьё имя представлено пугающим призраком, кого ночная мгла делала ещё ужаснее,— но чьё существование есть знамение наступающего дня»[491].
Судя по цитированию, Периес Пушкина во многом убедил. Поэт почти буквально переложил сведения, взятые из предисловия, от себя добавив только подробность, маловажную для француза (и, очевидно, заимствованную из «Истории…» Карамзина), что иезуит Посвин (Поссевино) — человек, «известный в нашей истории». «Известность» Поссевино заключалась в том, что он ездил в Россию в 1581—1582 годах, при Иване Грозном, был знаменитым интриганом, яростным сторонником католического проникновения в Россию, автором тенденциозных и в то же время любопытных трудов о «Московии»[492].
Пушкина, конечно, занимала и столь болезненная для него тема клеветы, преследования мастера («бессмертного флорентинца») со стороны ревностных гонителей, которые при том толкуют о гонимом «по наслышке».
Сильные эпитеты, относящиеся к Макиавелли, — «бессмертный», «великий знаток природы человеческой» — должны были обратить внимание будущих читателей не только на личность, но и на существенные мысли флорентийского секретаря; то, что о нём говорится всего в нескольких строках, не должно уменьшать значения сюжета, который был для русской печати достаточно трудным, а в течение николаевских десятилетий — как бы не существующим.
Не можем не коснуться и скрытого обсуждения некоторых «махиавеллизмов» в творчестве поэта, например, в маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» (1830). Размышления Моцарта о «гении и злодействе», попытки Сальери найти оправдание в легенде о Микеланджело Буонарроти, который будто бы «для высшей цели» приказал распять раба и таким образом запечатлел распятого Христа,— всё это вело к рассуждению о «цели и средствах», главной мысли «Государя» и других книг Макиавелли[493].
Итак, полагаем, Пушкина в этих книгах трёхсотлетней давности особенно интересовала именно проблема обыкновенных государственных правил, вопрос о совместимости политики и морали.
Карамзин, который, повторим, в практическом изображении исторических событий был шире своих же концепций; Карамзин, у которого можно найти и отдельные свидетельства уважения к уму и знаниям Макиавелли[494],— он всё же исповедовал правила «антимахиавеллические». Вот одна из его ярких деклараций: «Суд истории — единственный для государей кроме суда небесного — не извиняет и самого счастливого злодейства, ибо от человека зависит только дело, а следствие от бога»[495].
Пушкин подобные свои взгляды излагал особенно осторожно: ведь общественное мнение привыкло к так называемой «ораторской истории», разделявшей лица и события на благие и дурные, добродетельные и греховные. Пушкин не раз убеждался, как опасно предлагать читателям слишком сложную мысль; резонно опасался, что какой-нибудь Булгарин легко представит его «махиавеллистом в общенародном значении», то есть сторонником аморальной политики[496].
Меж тем Пушкин думал об истории и историзме. Он верно толковал главную мысль Макиавелли, что нелепо рассуждать о благородстве или неблагородстве тех или иных исторических деятелей, не уяснив характера общих законов[497].
Было время, в юности, когда поэт разделял пламенный односторонний взгляд на историю, отыскивая в ней тиранов и жертв; затем, с середины 1820-х годов, в мышлении, творчестве Пушкина усиливается историзм, иногда доходящий до некоего «фаталистического взгляда»[498]. В эту пору поэт прославляет (даже преувеличенно) именно «хладнокровие», объективность Карамзина, противопоставляя его «историкам-декламаторам». Про себя же, в беседах с некоторыми друзьями и знакомыми, «в тиши черновиков», Пушкин продолжает размышлять и углублять главную мысль — о морали и политике, гении и злодействе. Размышление это причудливым образом движется в двух внешне противоположных направлениях. С одной стороны, Пушкин всё крепче придерживается историчного взгляда на события как естественный процесс, результат «силы вещей»; отсюда, между прочим, интерес к Макиавелли в Table-talk, написанном незадолго до гибели. Подобный подход очень помогал Пушкину в работе над «Историей Петра»: он избавлял от двух возможных крайностей — восторженного панегирика или тираноборческого обличения…
Итак, усиливающийся историзм, особенно заметный в публицистике, в «разговорах», то есть — текстах, формально «не художественных»…
С другой же стороны, в творчестве Пушкина происходило постоянное усиление «моральной линии», моральных оценок; утверждение добра, «чувств добрых»… Выходило, что Пушкин как бы возвращался к «высокому морализаторству», с которым столь энергично боролся. Возвращался, однако, не к прямолинейным оценкам своей юности; сначала глубокий историзм поэта взял верх над прежним «ораторским подходом», а затем этот историзм обогатился высшей моралью.
В пушкинских «Замечаниях на Анналы Тацита» между прочим доказывалась естественность, историческая необходимость Тибериевых «злодейств»; но в то же самое время пишется «Борис Годунов», где злодейство оспорено исторически и морально. Историческое «оправдание» крови у Макиавелли как будто принято, признано Пушкиным, но — «…гений и злодейство две вещи несовместные. Не правда ль?»
Уходя от примитивного, первичного морализаторства, Пушкин хоть и спорил, но притом нередко опирался на Карамзина. Такое же одновременное «уподобление» и «несогласие» с историографом обнаруживается и в гражданской позиции Пушкина.
Гражданин, личность
После публикации своих записок о Карамзине и обнародования формулы «Подвиг честного человека» Пушкин как будто не очень развивает и углубляет обозначенные там гражданские и личные черты историографа. Порою даже вспоминаются прежние противоречия, столкновения. В письме к Плетнёву 21 января 1831 года Пушкин признается: «Карамзин под конец был мне чужд…» (XIV, 147).
Исключение представляет не публиковавшаяся при жизни Пушкина запись одного из карамзинских парадоксов (включённая в незаконченную статью «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений»): «Один из великих наших сограждан сказал однажды мне (он удостоивал меня своего внимания и часто оспоривал мои мнения), что если у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь» (XI, 167).
Речь шла об ограждении литературы от клеветы, о журнальных и литературных противниках.
Карамзин, никогда не отвечая на критику, находил в том наиболее подходящую, естественную форму личного достоинства. Пушкин, постоянно отвечая на критику, реализовал свою личность, свой темперамент.
Создаётся впечатление, что поэт не пропускает в 1830-х годах ни одного серьёзного повода для принципиальной полемики — с Булгариным, Надеждиным, Каченовским, Полевым, Орловым, Лобановым и многими другими журнальными оппонентами,— а по существу, косвенно ведёт диалог, подчас очень острый, и с куда более значительными персонами, в журналах не пишущими.
Карамзин был самим собою, публично не споря. Пушкин был Пушкиным, споря постоянно; в частности, споря — за Карамзина и его наследие. Эта борьба Пушкина имела огромное значение для судеб русской словесности.
Вот как об этом сказано в недавно написанной биографии поэта: «Пушкин прекрасно понимал, что будущее русской литературы непосредственно зависит от усилий его и его друзей. И если мы можем утверждать, что на всём протяжении существования русской литературы ей была свойственна атмосфера нравственной чистоты… Если литература сохранила в обществе свой нравственный авторитет, а читатель XIX века смотрел на писателя как на свою совесть, то в этом бесспорная историческая заслуга Пушкина, в этом значение его эпиграмм и полемических статей <…> Это не только блестящие произведения Пушкина-художника, но и „подвиг честного человека“, одна из великих заслуг Пушкина перед историей русской культуры»[499].
Вопросы критики, «контркритики» — лишь одна из форм борьбы за независимость, достоинство.
Готовя во время болдинской осени ответы Булгарину и другим недоброжелателям, Пушкин не раз ссылается на свой интерес к прошлому, к традициям, в частности,— к истории своего рода, и гордится упоминанием Пушкиных на страницах «Истории…» Карамзина.
В 1832-м стихотворные строки о предках героя появляются в «Езерском» (V, 100), откуда, в 1833-м, переходят в «Медный всадник» (V, 138):
Одна из постоянных пушкинских тем — упадок достоинства, дворянского, человеческого; забвение прошлого, как форма потери самого себя (вспомним хотя бы фразу из неоконченной повести, написанной незадолго перед тем: «Карамзин недавно рассказал нам нашу историю, но мы едва ли вслушались» (VIII, 42).
Ряд обращений к имени и делу Карамзина, как уже отмечалось, совпал у Пушкина с последним годом жизни; в 1836-м тема автора несколько отходит в тень: на первом плане — гражданин, частный человек, и это, конечно, неслучайно.
Поэт в ту пору сочиняет, но цензура запрещает статью «Александр Радищев» (1836) с тем интереснейшим эпиграфом, о котором уже говорилось: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице. Слова Карамзина в 1819 году».
В статье «Российская академия» (1836) Пушкин впервые проводит в печать важнейшие сообщения о неопубликованной работе историка: «Пребывание Карамзина в Твери ознаменовано ещё одним обстоятельством, важным для друзей его славной памяти, неизвестным ещё для современников. По вызову государыни великой княгини, женщины с умом необыкновенно возвышенным, Карамзин написал свои мысли о древней и новой России, со всею искренностью прекрасной души, со всею смелостию убеждения сильного и глубокого. Государь прочёл эти красноречивые страницы… прочёл и остался по-прежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному» (XII, 45).
Этот текст, с трудом пропущенный цензурою, был началом далеко задуманного пушкинского плана обнародовать хотя бы часть потаённой карамзинской записки «О древней и новой России», сокращённого карамзинского курса всей русской истории с IX по XIX столетие — острой, хотя и с консервативных позиций, критики режима.
С этого эпизода начиналась длительная борьба за эту публикацию, продолжавшаяся и после смерти Пушкина. Поэт не дожил до первого печатного фрагмента записки, опубликованного в 5-й книге «Современника» (1837)[500].
Легко заметить в последних пушкинских строках о Карамзине и его «Записке…» очень сильные выражения. В тяжкой обстановке 1836 года поэт будто обращается за моральной поддержкой, помощью к тени старинного заступника Карамзина.
Прежний царь, который «прочёл и остался по-прежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному»; попытка провести в печать мысль о порядочном человеке, не подвергающем себя виселице,— всё это было достаточно прозрачно: Карамзин — Александр I; Пушкин — Николай…
Карамзину многое дозволялось и прощалось; и записка «О древней и новой России», и IX том «Истории государства Российского» с описанием злодейств Ивана Грозного.
Пушкину внешне оказана подобная же милость; царь Николай сказал — «я буду твоим цензором», что сразу же напомнило о подобной мере Александра, освободившего «Историю государства Российского» от всякой цензуры, кроме царской. Формы совпадают, но Пушкину регулярно делаются выговоры. Разрешённая «История пугачёвского бунта» соседствует с запрещённым «Медным всадником», со многими текстами, изъятыми из «Современника»,— в том числе с материалами о Карамзине!
Карамзин, равнодушно относившийся к почестям и чинам, тем не менее был сделан действительным статским советником, камергером, награждён Анной I степени и другими орденами.
Пушкин, пребывая с 1833 года в не соответствующем его годам придворном чине камер-юнкера, по табели о рангах (титулярный советник) отставал от Карамзина на пять классов, никогда, разумеется, не получал ни одного ордена и, презирая всё это не меньше, чем Карамзин, ясно чувствовал унизительный, пренебрежительный, «воспитательный» смысл дарованного статуса.
Александр I, подозрительный почти ко всем, тем не менее включил историографа в число друзей и наперсников, постоянно с ним беседовал, был неслыханно откровенен.
Отношение Николая к Пушкину было, разумеется, иным; другим было и время, царствование. Между Карамзиным и Пушкиным пролегла целая эпоха, прошли 1825-й, 1826-й.
Пушкин косвенно, а порою и прямо советует нынешнему царю для его же блага, для улучшения стиля царствования вспомнить Карамзина, карамзинский стиль.
Эпилогом подобных попыток была, как известно, история, случившаяся в дни пушкинских похорон. Жуковский тогда напомнил Николаю I: «Так как Ваше Величество для написания указов о Карамзине избрали тогда меня орудием, то позвольте мне и того же надеяться». Царь отвечал: «„Я во всём с тобою согласен, кроме сравнения твоего с Карамзиным. Для Пушкина я всё готов сделать, но я не могу сравнить его в уважении с Карамзиным, тот умирал как ангел“. Он дал почувствовать Жуковскому, что и смерть и жизнь Пушкина не могут быть для России тем, чем был для неё Карамзин»[501].
На этой ноте легко было бы окончить: Пушкин временами надеялся играть при Николае ту же просвещающую, умиротворяющую роль, что Карамзин при Александре; но у него нет карамзинского «добродушия и простосердечия»: он не способен по-карамзински удивляться многим стыдным и жестоким вещам — «как будто такие дела и поныне не составляют самого обыкновенного занятия наших царей». Однако мысль гения обладает свойством охватывать явления со многих сторон, и мы очень хорошо понимаем, что поэт, надеясь, не надеялся; что о государстве, о месте поэта-историографа и тому подобном он имел соображения резкие, ясные, трезвые, в том числе и такие, до которых Карамзин не додумывался.
Может быть, Пушкин слишком гениален для карамзинской гармонии, «слишком много» знает…
Карамзин и Пушкин… Тривиальный взгляд, обычно расставляющий мастеров по степени таланта, конечно, сосредоточится на пушкинской несравнимости — и постарается преуменьшить разные литературные и человеческие воздействия на гения, который всегда «сам по себе».
Между тем к главнейшим чертам великого человека как раз относится восприимчивость, великое умение — у многих заимствовать многое, постоянно оставаясь самим собою.
С Карамзиным связаны — «Борис Годунов», мемуарные, исторические страницы, важные политические размышления Пушкина.
Слова П. В. Анненкова (высказанные в связи с поэтическими отношениями Веневитинова и Пушкина) прекрасно определяют и роль Карамзина в жизни великого поэта: «Он имел свою долю влияния на Пушкина, как почти каждая замечательная личность, встречавшаяся ему на пути»[502].
Глава VI. «В одном из лучших своих стихотворений…»
…Прояснились
В нём страшно мысли.
Во время второй болдинской осени (1833 г.), когда создаётся «История Пугачёва», «Пиковая дама», «Медный всадник», происходит известный диалог с Адамом Мицкевичем, посвящённый всё тем же главным общественным вопросам (да иных и нет!) — но притом диалог совсем другой, нежели с Карамзиным: спор, где «разность потенциалов» огромна, масштаб европейский…
О том, что отношения Пушкина с Мицкевичем — одно из самых важных событий в предыстории «Медного всадника», известно давно, закреплено многими исследованиями[503]. И тем не менее пересечения двух гениев, столь насыщенные и многообразные, стимулируют новые наблюдения, гипотезы.
Одно из таких наблюдений связано с обращением к прозаическому «постскриптуму» пушкинской поэмы.
«Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений Oleszkiewicz. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нём и нет ярких красок польского поэта».
Это 3-е примечание к «Медному всаднику» — после строк:
К стихам же:
следует примечание 5-е (и последнее): «Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана — как замечает сам Мицкевич».
Казалось бы, гениальная поэзия не требует прозаических комментариев, но если они всё же появляются, значит, несут в себе нечто очень существенное для автора; такое, что дополняет даже лучшие стихи. Пушкин тщательно отделывает 44 примечания к «Евгению Онегину» и 34 — к «Полтаве». К «Медному всаднику» примечаний много меньше; но, если прибегнуть к статистике, то получится, что в поясняющих строках, замыкающих «стиховое пространство» поэмы, 60 процентов текста связано с Адамом Мицкевичем.
Начав размышлять над частностью — несколькими строчками примечаний,— можно, кажется, приблизиться к «предметам сокровенным».
«Полтава» и «Медный всадник»
В десятках работ сравнивались две пушкинские поэмы о Петре, и всё же — не устанем удивляться… В обоих сочинениях, естественно, имеется ряд совпадений, созвучных мотивов; и в одном, и в другом — высочайший уровень мастерства; однако если бы две поэмы, вдруг, пришли к далёким потомкам «анонимно» (как «Слово о полку Игореве»), то их, возможно, сочли бы творениями двух разных гениев. В 1828 году «Полтава» — апофеоз Петра, в 1833-м «Медный всадник» — столкновение трагических «за» и «против»…
Разумеется, «своя правда» (как всегда у Пушкина) есть у всех героев «Полтавы»; и в этой поэме личное, частное уже раздавлено, перемолото историческими жерновами, а несчастная дочь Кочубея сходит с ума; да и последние строки «Полтавы» внешне близки к будущему финалу «Медного всадника».
В 1828-м — летучая память о страданиях и гибели Марии…
В 1833-м — гибель Евгения; «…похоронили ради бога».
Но тем более отчётливо видна разница авторского взгляда. В «Медном всаднике» две правды, которые не поддаются законам сложения, вычитания: нет итога; в «Полтаве» же всё-таки общий итог существует:
Памятником как главным положительным аргументом истории заканчивается «Полтава»; «Медный всадник» — с памятника только начинается…
Будто оспоривается, «взрывается» финал первой петровской поэмы.
Памятник воздвигнут… Но что же дальше?
Пять лет всего разделяют две поэмы, но какие годы!
Посередине этого периода — 1830—1831 — революции и восстания во Франции, Бельгии, Италии, Польше, нашествие холеры, бунты в Петербурге и военных поселениях… .
«Чему, чему свидетели мы были…»
Страшные, кровавые, горячие годы. Для Пушкина эти события равны опыту многих десятилетий; поэтическая интуиция отыскивает там итоги прошедшего, контуры грядущего.
Всё это объясняет новые мысли, новое ощущение истории в начале 1830-х; но ещё прямо не объясняет замысла «Медного всадника» — поэтической идеи, которая является как будто внезапно.
Разумеется, Пушкин много лет говорит, пишет, думает о Петре — мы находим у самого поэта, его современников важные свидетельства, относящиеся и к предыстории «Медного всадника». 16 сентября 1828 года, в разговоре с А. Вульфом, Пушкин впервые говорит о своём намерении — непременно написать историю Петра I[504]. В 1831 году царю (через Бенкендорфа) Пушкин сообщает про своё «давнишнее желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III-го» (XIV, 256).
Царь даёт согласие (см. XIV, 382); Пушкин начинает работу — но и это ещё не поэзия: можно сказать, что ближайшие подступы к Медному всаднику сокрыты от нас особенно глубоко, и возможно, до поры до времени, сам творец ещё не ведает, к чему дело идёт.
Лишь совсем незадолго до того, как «стихи свободно потекут», мы замечаем, наконец, несколько явных предвестников и, конечно, обращаемся к ним, иногда забывая, сколь многое совершилось уже прежде…
20 августа 1833 года Пушкин сообщает жене о начале дороги из Петербурга в Москву, а оттуда — в Болдино, на вторую осень. «Приключения мои начались у Троицкого моста. Нева так была высока, что мост стоял дыбом; верёвка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Чёрную речку. Однако переправился через Неву выше и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись, я насчитал их с пятьдесят. В лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами. По счастию ветер и дождь гнали меня в спину, и я преспокойно высидел всё это время. Что-то было с вами, петербургскими жителями? Не было ли у вас нового наводнения? что, если и это я прогулял? досадно было бы» (XV, 72).
В Болдине за двадцать пять дней будет сочинён «Медный всадник», и, конечно, очень соблазнительно вывести поэму из любопытнейшего предзнаменования — нового наводнения (вспомним чуткость суеверного Пушкина ко всякого рода знакам и приметам на дороге, особенно при выезде).
Однако куда более важный эпизод разыгрался ещё до отъезда из столицы, до августовского наводнения.
22 июля 1833 года из-за границы в Петербург возвратился С. А. Соболевский; он преподнёс Пушкину объёмистый том в 285 страниц, а на внутренней стороне обложки написал: «А. С. Пушкину, за прилежание, успехи и благонравие. С. Соболевский».
То была книга, которую Пушкин не мог бы получить ни в одной из российских библиотек: IV том Собрания сочинений Мицкевича, вышедший в Париже в 1832 году:[505] в библиотеке Пушкина сохранились также и первые три тома (Париж, 1828—1829 гг.), но страницы их, в отличие от последнего, не разрезаны[506].
Пушкин не только прочитал наиболее важные для него стихотворения IV тома, но, более того, три из них переписал в тетрадь, прямо с подлинника, по-польски[507]. Располагая книжкой Мицкевича, Пушкин делает обширные выписки, конечно, с творческой целью — переводить, отвечать… Важно выяснить с достаточной точностью, когда именно делались извлечения из Мицкевича.
Тетрадь, куда Пушкин карандашом внёс тексты польского поэта (бывшая № 2373, ныне, по нумерации Пушкинского дома, № 842), заполнялась в 1829—1830 и 1833 годах. Начиная с 42-го по 26-й лист Пушкин вёл записи в обратном порядке. Польские строки занимают листы с 41-го по 36-й; им предшествуют черновики пушкинских писем И. Г. Спасскому (июнь — июль 1833 г.) и Бенкендорфу, от 22 июля 1833 года (см. XV, 68; последняя дата, кстати, точно совпадает с днём возвращения Соболевского из Парижа и доставкой новых трудов Мицкевича).
Нетрудно датировать и те произведения, которые попали в тетрадь вслед за польскими выписками: черновик стихотворения «Плетнёву», записи двух народных песен, черновики «Воеводы», «Истории пугачёвского бунта» — всё это сочинено или записано в сентябре — октябре 1833 года. Можно попытаться ещё точнее определить даты: обе народные песни («Один-то был у отца у матери единый сын…» и «Сокол ясный, сизокрылый мой орёл…»), по всей видимости, были записаны во время пребывания Пушкина на Урале, то есть в сентябре 1833 года; во всяком случае, все другие известные записи песни «Один-то был у отца у матери…» сделаны именно на Урале[508].
Таким образом, по положению в тетради можно заключить, что «польские конспекты» попали туда между концом июля и серединой сентября 1833 года, то есть до «второго Болдина». Вполне возможно, что Пушкин стал переписывать стихи Мицкевича ещё в Петербурге, сразу после первого ознакомления,— и это ещё одно свидетельство его быстрой, нетерпеливой, творческой реакции (ведь книга польского поэта — собственность Пушкина и, казалось бы,— зачем копировать?).
Адам Мицкевич, высланный в 1824 году из Вильны в Россию и несколько лет тесно общавшийся с Пушкиным и другими русскими друзьями, оказался после событий 1830—1831 годов в вынужденной эмиграции; вскоре он сочинил знаменитый цикл из семи стихотворений — «Ustęp» («Отрывок»),—петербургский раздел из III части поэмы «Дзяды». Тема цикла — Россия, Пётр Великий, Петербург, гигантское наводнение 7 ноября 1824 года, Николай I, русские друзья…
Едва ли не в каждом стихотворении — острейшие историко-политические суждения, которые не просто волновали, но, уверенно говорим, потрясли Пушкина…
Напомним несколько отрывков и осторожно попытаемся угадать пушкинские чувства при их чтении и копировании[509].
В стихотворении «Олешкевич» художник-прорицатель накануне петербургского наводнения 1824 года предсказывает «грядущую кару» царю, который «низко пал, тиранство возлюбя» — и за то станет «добычей дьявола»; Мицкевич (как известно, прибывший в Петербург 9 ноября 1824 г., через день после «потопа») устами своего героя жалеет, что удар обрушился, «казня невиноватых… ничтожный, мелкий люд»; однако наступающая стихия напоминает другую волну, сметающую дворцы:
Петербург для автора «Олешкевича» — город погибели, мести, смерти, ещё резче о том в других стихотворениях цикла, где легко угадываются потенциальные антитезы к ещё не написанным страницам «Медного всадника»…
В стихотворении «Петербург»:
Затем строфы — о «ста тысячах мужиков», чья стала «кровь столицы той основой»; ирония по поводу европейских площадей, дворцов, каналов, мостов:
В стихах «Смотр войска» — злейшая сатира на парады, «военный стиль» самодержавия, на всё то, что Пушкин вскоре представит как
Пётр Первый — один из главных «отрицательных героев» всего отрывка:
Целое стихотворение цикла, упомянутое в примечаниях к «Медному всаднику» и переписанное (не полностью) русским поэтом по-польски,— «Памятник Петру Великому»: здесь сам Пушкин, можно сказать, действующее лицо:
У русского читателя не могло быть сомнений, что описана встреча Мицкевича и Пушкина.
Но вот, по воле автора, «русский гений» произносит монолог, относящийся к «Петрову колоссу», Медному всаднику.
Памятник «венчанному кнутодержцу в римской тоге» явно не по душе этому Пушкину, который предпочитает спокойную, величественную конную статую императора-мудреца Марка Аврелия, ту, что около двух тысячелетий украшает одну из римских площадей:
«Монолог Пушкина» заканчивается вопросом-предсказанием:
Настоящий Пушкин, кажется, впервые встречается с самим собою — как с героем другого великого поэта: Н. В. Измайлов совершенно справедливо полагал, что именно со стихотворением Мицкевича «Памятник Петру Великому» связан известный пушкинский рисунок (рукопись «Тазита») — вздыбленный конь Медного всадника — но без царя! Возможно, это уже сцена после рокового прыжка: «растаявший водопад», гибельный для седока…[510]
Все толкования рисунка, конечно, гипотетичны; некоторые же предположения о текстах можно высказать более уверенно.
Пушкина взволновало не только появление его собственного образа, его «речей» в эмигрантском издании, но и то обстоятельство, что он подобных слов о Петре не говорил.
Прежние дружеские беседы, споры с первым польским поэтом не раз касались Петра; Ксенофонт Полевой, например, помнил, как «Пушкин объяснял Мицкевичу план своей ещё не изданной тогда „Полтавы“ (которая первоначально называлась „Мазепою“) и с каким жаром, с каким желанием передать ему свои идеи старался показать, что изучил главного героя своей поэмы. Мицкевич делал ему некоторые возражения о нравственном характере этого лица»[511].
Иначе говоря, Мицкевич в ответ на увлечение Пушкина указывал на тёмные, безнравственные стороны бурных преобразований начала XVIII века.
И вдруг в стихах «Памятник Петру Великому» Пушкин говорит как… Мицкевич.
Точнее — как Вяземский.
Т. Г. Цявловская опубликовала письмо П. А. Вяземского П. И. Бартеневу (1872 г.): «В стихах своих о памятнике Петра Великого он <Мицкевич> приписывает Пушкину слова, мною произнесённые, впрочем, в присутствии Пушкина, когда мы втроём шли по площади. И хорошо он сделал, что вместо меня выставил он Пушкина. Оно выходит поэтичнее»[512].
В другой раз Вяземский вспомнил и сказанные им слова, которые, видимо, понравились Мицкевичу: «Пётр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнал её вперёд»[513].
Вяземский в конце 1820 — начале 1830-х годов был настроен в отношении ряда внутренних и внешних проблем во многом иначе, чем Пушкин: так в 1831 году он отрицательно отзовётся о пушкинских стихах «Клеветникам России», «Бородинская годовщина»[514].
Вяземский и в спорах о Петре был действительно в 1830-х годах куда ближе к Мицкевичу, чем к Пушкину. Однако поэтическая фантазия польского поэта приписывает именно Пушкину «вяземские речи»; желаемое (чтобы Пушкин именно так думал) Мицкевич превращает в поэтическую действительность[515].
И Вяземский, возможно, был прав «на историческом расстоянии», в 1872 году, когда утверждал, что «оно выходит поэтичнее»; однако любопытно было бы услышать, как Пушкин и Вяземский обсуждали именно этот эпизод сорок пять лет назад?
В общем, можно сказать, что каждое стихотворение «Отрывка» (из III части «Дзядов») — вызов, поэтический, исторический, сделанный одним великим поэтом — другому.
Оспорены Петербург, Пётр, убеждения самого Пушкина.
В одном же из семи сочинений, составляющих «Отрывок», Мицкевич произносит самые острые, предельно обличительные формулы, которые Пушкин, по всей вероятности, принял и на свой счёт; стихи, переписанные русским поэтом на языке подлинника от начала до конца (мы напоминаем их в сокращённом виде) :
Мицкевич высказался о Петре, Петербурге, России, русских друзьях. Пушкин находит в «Дзядах» строки, с которыми не согласится, не сможет промолчать.
Он — отвечает «Медным всадником».
Почти всё, что сказано пока в этой главе, хорошо известно; уже довольно давно видные пушкинисты описали противостояние «Ustęp» — «Медный всадник».
М. А. Цявловский отмечал, что «Медный всадник», написанный тогда же, в Болдине, был ответом Пушкина на памфлет польского патриота. Сатирическому изображению северной столицы России в стихотворениях «Петербург», «Смотр войску» и «Олешкевич» Пушкин во вступлении к поэме противопоставил свой панегирик в честь Петербурга, а описанию наводнения 1824 года у Мицкевича в стихотворении «Олешкевич» — своё описание в первой части «Медного всадника»[516].
Г. П. Макогоненко: «Субъективизм не позволил Мицкевичу понять исторический смысл петровской политики <…> Пушкин не мог принять подобную философию истории»[517].
Н. В. Измайлов: «Получив издание „Дзядов“ от Соболевского и бегло ознакомившись с ним, Пушкин тотчас должен был понять и почувствовать соотношение „Петербургского“ цикла Мицкевича со своим собственным замыслом, ощутить противоположность их концепций, требующую ответа»[518].
Он же: «Изданная Мицкевичем в 1832 году в Париже третья часть поэмы „Дзяды“ с её приложением „Ustęp“, где в гневных и беспощадных сатирических строках семи стихотворений предавалась проклятию русская государственность, царская самодержавная власть и её воплощение — основанный Петром Петербург,— вызвала своеобразный ответ Пушкина в виде Вступления к „Медному всаднику“»[519].
Всё это безусловно верно и важно; но — ответ Пушкина всё же представлен преимущественно как результат, как ясное, простое решение (Мицкевич пишет «Дзяды», Пушкин отвечает поэмой).
Действительно, между первым знакомством с «Отрывком» Мицкевича (июль — август 1833 г.) и завершением «Медного всадника» («1 ноября 5 часов 5 минут утра») — времени вроде бы немного. Но именно тогда Пушкин пережил, преодолел одну из самых сложных, мучительных коллизий своей внутренней биографии, и кое-что здесь кажется доступно исследованию.
«Он вдохновен был свыше…»
Зная характер Пушкина, его гордость, ранимость, вспыльчивость (вспомним, как он разгневался из-за «камер-юнкерства»: пришлось водою отливать!), легко вообразить, как поэт был задет «атакой» Мицкевича. Задет как личность, как патриот, общественный деятель. И он, конечно, станет отвечать, гневно и резко.
Пушкин гневается и, думаем,— переписывает в рабочую тетрадь польские тексты не только для того, «чтобы их тут же переводить» (так полагал М. А. Цявловский, заметивший, что Пушкин списывал польские стихи, оставляя половину листа чистою, как обычно делал при переводах[520]). Зачем переводить, если публикация в России абсолютно невозможна, если книга, откуда взят текст, категорически запрещена иностранной цензурой ко ввозу в страну? Очевидно, текст (или перевод) нужен либо для ответа в заграничном издании, либо для какого-нибудь другого возражения.
Русский поэт сердится — и, кажется, вот-вот из-под его пера вырвутся новые гневные строки — контрудар, памфлет…
1 октября 1833 года Пушкин прибывает в Болдино и хотя с первых дней занимается Пугачёвым, но одновременно начинает отвечать Мицкевичу. Сперва — не поэмой, а стихотворением.
Обычно стихи «Он между нами жил…» связываются с финальной датой, завершающей беловой текст, 10 августа 1834 года[521]. Однако мы говорим не о конце — о начале работы над этими стихами!
Анализируя рабочую тетрадь Пушкина[522], Н. В. Измайлов справедливо указывает именно на первые дни болдинской осени, когда поэт набрасывает жестокие, гневные черновые строки:
Меж этими строками пушкинское перо нарисовало профиль Мицкевича, сильно отличающийся от портрета «Мицкевича вдохновенного», набросанного Пушкиным в 1829 году[524].
Исследователь, впервые определивший второй пушкинский портрет Мицкевича, находил, что «здесь черты лица Мицкевича полны острой выразительности, здесь и вражда, и тот „яд“, которым поэт „наполняет стихи свои в угоду черни буйной“, и вместе с тем „безнадёжно-мрачное чувство любви к отечеству“»[525].
Однако начатое стихотворение «Он между нами жил…» в октябре 1833-го не было продолжено.
Очень интересно наблюдать, как вдруг на обороте листа со злыми уколами Мицкевичу возникает: «Люблю тебя, Петра творенье…» Здесь, можно сказать, физически ощутимо, как осенними болдинскими днями (5—6 октября 1833 г.) Пушкин в титаническом единоборстве побеждает самого себя, «убивает» готовую сорваться или уже сорвавшуюся обиду — и вместо слов «отравляет», «безумный», «озлобленный» пишет: «люблю», «строгий, стройный», «красивость».
Медный всадник
Разумеется, и здесь с первых же строк вступления — прямая «конфронтация» с мыслями и образами польского мастера.
Мицкевич (о Петре):
Пушкин:
«Медный всадник», как хорошо показал Н. В. Измайлов, создавался в напряжённой борьбе замыслов; прежняя петербургская поэма «Езерский» становится частью строительного материала для нового сочинения, «однако коренным образом изменился тон, характер произведения: из сатирического и полемического он стал объективным и трагическим. Следы борьбы между прежним и новым замыслом явственно видны в черновиках <…> Поэт тотчас увидел, что включение в „Медный всадник“ этих элементов (из „Езерского“) неправомерно расширяет вступительную часть новой поэмы и нарушает её композицию, а кроме того, их полемический и сатирический характер, полный иронии, никак не соответствует самой сущности замысла, нарушает его сдержанно-трагический тон, заявленный в заключительных стихах вступления, открывавших „повествование“ об „ужасной поре“ и обращённых к „сердцам печальным“, то есть к читателям, быть может, и далёким от литературно-общественной полемики, но умеющим глубоко и по-человечески чувствовать „горестный рассказ“ о наводнении. Вместо данной от автора, с оттенком иронии, характеристики „ничтожного героя“ он предоставил сделать это самому Евгению в виде размышлений ночью, накануне наводнения»[526].
Это общее направление работы над «Медным всадником» — строгость, объективность, печаль,— очевидно, коснулось всех элементов создаваемой поэмы; в том числе и полемики с сатирами Мицкевича, значение которых, как замечает Н. В. Измайлов, «не нужно преувеличивать для построения „Медного всадника“ <…>, но нельзя с этим и не считаться»[527].
Начало ответа Пушкина Мицкевичу мы можем угадать в ранних черновых строках «Он между нами жил…».
Затем — «Медный всадник»; «теневой», необъявленный диспут с Мицкевичем в тех строках, где воздаётся хвала Петру, Петербургу.
И, наконец, главное — спор-согласие!
Даже без специальных изысканий вот что легко заметить: главный пушкинский спор с польским поэтом — во вступлении к «Медному всаднику»; но ведь апофеоз Петербургу завершается строками:
Это уже близко к ужасу, печали «Олешкевича»; а затем — Пушкин будто «берёт назад» немалую часть своей полемики и рисует страшную картину, почти согласную со многими образами III части «Дзядов». Потоп, город погибели, ужасный кумир,
Ещё раз повторяем, что основное направление работы над текстом «Медного всадника» шло именно в сторону печальной, высочайшей объективности.
Поэма движется вперёд — прямая же «отповедь» Мицкевичу как будто отложена, замирает; так же, как в начатом, но оставленном стихотворении «Он между нами жил…».
Зато вдруг появляются примечания.
Поэма и без того на грани (оказалось, за гранью!) дозволенного — имя же Мицкевича, не говоря уже о его эмигрантском «Отрывке»,— всё это с 1830—1831 годов под строгим запретом.
И тем не менее, заканчивая в октябрьском Болдине 1833 года главную поэму, Пушкин сопровождает её двумя, с виду справочными, а на самом деле весьма и весьма многозначительными примечаниями о польском поэте.
Слова: «Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествующий петербургскому наводнению…» — относятся ведь к «Олешкевичу», главная идея которого (ещё раз напомним!): наводнение — это месть судьбы, месть истории за все «петербургские ужасы».
Мало того, позже, в 1836 году, перерабатывая поэму в надежде всё же пробиться сквозь цензуру, Пушкин добавляет к этому примечанию слова, которых в начале не было: «Мицкевич… в одном из лучших своих стихотворений Oleszkiewicz».
Русский поэт явно желает обратить внимание соотечественников на эти практически недоступные, неизвестные им стихи. Он как бы призывает — добыть, прочесть…
Последнее же примечание к «Медному всаднику» — просто «знак согласия»!
Примечание к этим строкам, внешне нейтральное,— «смотри описание памятника у Мицкевича». Но ведь Пушкин здесь как бы ссылается… на самого себя! То есть на «русского гения» (в стихотворении Мицкевича «Памятник Петру Великому»), упрекавшего царя, который «сметает всё, не зная, где предел», и вопрошавшего:
Так говорил Пушкин, герой стихотворения Адама Мицкевича. Но Пушкин, автор «Медного всадника», разве согласен с этим?
Разве он может присоединиться к отрицательному, суровому приговору, который Мицкевич выносит этому городу, этой цивилизации?
Польский поэт всеми стихами «Отрывка» восклицает: нет! Петербургу.
А Пушкин?
Не раз за последние годы, и более всего — во вступлении к «Медному всаднику», он говорил: да! Он обладал, по словам Вяземского, «инстинктивной верой в будущее России!».
И вот в самом остром месте полемики — каков же пушкинский ответ на вопрос Мицкевича о будущем; вопрос — что станет с водопадом тирании?
«Властелин судьбы» выполнил свою миссию, однако же будущее его дела, будущее страны — всё это неизвестно и вызывает тревожное:
На вопрос — отвечено вопросом же! Ни Пушкин, ни кто-либо из его современников не могут ещё дать ответа…
Однако Мицкевич хоть и спрашивает, но не верит. Пушкин спрашивает и верит.
Мицкевич — нет!
Пушкин — может быть!
Для того чтобы достигнуть такой высоты в споре, чтобы не поддаться искушению прямого, резкого ответа, не заметить даже того, что касается его лично, Пушкин должен был, говорим это с абсолютной уверенностью, преодолеть сильнейший порыв гнева, пережить бурю куда большую, чем многие его житейские потрясения.
Личной неурядице, ссылке, царскому выговору мы постоянно придаём неизмеримо большее значение, чем, например, такой огромной внутренней победе, как доброжелательные слова в примечаниях к «Медному всаднику»; слова, появившиеся после того, как прочтён и переписан страшный «Отрывок»! В тогдашнем историческом контексте, политическом, национальном, инвективы Мицкевича справедливы, убедительны. В них нет ненависти к России — вспомним само название послания «Русским друзьям»…
Однако горечь, гордость, чувство обиды ведут автора «Дзядов» к той крайности отрицания, за который истина слабеет… Пушкин же «Медным всадником» достиг, казалось бы, невозможного: правоте польского собрата противопоставлена высочайшая правота спора-согласия!
Только так; всякий другой ответ на «Ustęp» был бы изменой самому себе!
Только так, ценой таких потрясений и преодолений рождается великая поэзия.
Польский исследователь В. Ледницкий более полувека назад точно и благородно описал ситуацию,—хотя и в его труде всё-таки представлен уже готовый результат конфликта — не сам процесс: «Пушкин дал отповедь прекрасную, глубокую, лишённую всякого гнева, горечи и досады, она не носила личного характера, не была непосредственно направлена против Мицкевича, но Пушкин знал, по крайней мере, допускал, что польский поэт всё, что нужно было ему в ней понять, поймёт. Поэма исполнена истинной, чистой поэзии, автор избег в ней всякой актуальной полемики, дал только искусное оправдание своей идеологии и не побоялся, возбуждённый Мицкевичем, коснуться самого больного места в трагической сущности русской истории. В „Медном всаднике“ Пушкин не затронул русско-польских отношений и тем самым оставил инвективы Мицкевича без ответа»[528].
Ещё раньше В. Я. Брюсов заметил, что «Пушкин не мог смолчать на подобный укор и не захотел ответить великому противнику тоном официально-патриотических стихотворений. В истинно художественном создании, в величавых образах высказал он всё то, что думал о русском самодержавии и его значении. Так возник „Медный всадник“»[529].
Величайшая победа Пушкина над собою, победа «правдою и миром» достигнута и поэмой, и примечаниями; наконец, ещё и переводами…
Той же болдинской осенью, из того же IV парижского тома Мицкевича Пушкин переводит две баллады — «Три Будриса» (у Пушкина — «Будрыс и его сыновья») и «Дозор» (у Пушкина — «Воевода»). Знак интереса, доброжелательства, стремления найти общий язык.
«Правдою и миром»
Примирение было столь же нелёгким, как и вражда. Пушкин знает цену Мицкевичу.
Однажды, уступая дорогу польскому поэту, восклицает: «С дороги, двойка, туз идёт!»
Мицкевич отвечает: «Козырная двойка туза бьёт!»
«Во время одной из таких импровизаций в Москве Пушкин, в честь которого был дан этот вечер, вдруг вскочил с места и, ероша волосы, почти бегая по зале, восклицал: „Quel génie! quel feu sacré! que suis — je auprès de lui?[530]“ — и, бросившись Адаму на шею, обнял его и стал целовать как брата. Я знаю это от очевидца. Тот вечер был началом взаимной дружбы между ними…»[531]
В шутках, эмоциональных восклицаниях конца 1820-х годов не следует искать буквальной истины, но можно найти отзвук, эхо действительного отношения.
Такие беседы с таким человеком для Пушкина неизмеримо выше, важнее обыденных объяснений, в них, повторим, может быть, главная мудрость эпохи.
И вот Пушкин в «Медном всаднике» говорит с собратом, как вершина с вершиной…
Однако первые черновые строки стихотворения «Он между нами жил…», строки резкого ответа, отодвинутые «Медным всадником»,— они всё-таки существуют; пусть спрятанные пока что в черновике, в глубине тетради, «прикрытые» «Медным всадником»,— живут, жгут, беспокоят.
Как знать, если бы поэма появилась в том виде, в каком Пушкин подал её высочайшему цензору, если бы поэма вышла, а Мицкевич прочитал, то, возможно, не потребовались бы новые стихотворные объяснения.
Но поэма не вышла.
В конце ноября 1833 года Пушкин возвращается в Петербург; «Медный всадник» тщательно переписан на одиннадцати двойных листах и в начале декабря представлен через Бенкендорфа царю. Ответ был довольно скорым[532] — фактический царский запрет поэмы не удивляет: размышления о трагическом противостоянии государства и личности в самодержавной России были достаточно актуальны. К тому же они концентрировались вокруг образа Петра, на который в немалой степени ориентировалась официальная идеология: то, что двенадцатью годами ранее сошло Карамзину с Иваном Грозным, XVI веком, теперь не проходило с XVIII…
Ещё в 1829 году цензура обратила внимание на комедию Н. И. Хмельницкого «Арзамасские гуси», где один из персонажей обвинял Петра Великого в наводнении 1824 года. Там происходит следующий диалог:
Побродяжкин
Лихвин
Побродяжкин
Тем не менее пьеса была разрешена[533]. Однако за четыре года «цензурная погода» ухудшилась. Это отразилось на судьбе пушкинской поэмы.
В царской семье, по-видимому, с этого времени сложилось мнение, будто Пушкин не понимает Петра: Андрей Карамзин сообщал родным (10/22 XII 1836 г.) отзыв великого князя Михаила Павловича. «Он утверждал, что Пушкин недостаточно воздаёт должное Петру Великому, что его точка зрения ложна, что он рассматривает его скорее как сильного человека, чем как творческого гения; и тут, со свойственной ему лёгкостью речи, он начал ему панегирик, а когда я приводил в параллель императрицу Екатерину II, он посылал меня подальше»[534].
Царское вето, наложенное на «Медного всадника», было одним из сильнейших огорчений, подлинной трагедией, постигшей Пушкина. В России даже близкие люди, почитатели заговорили о том, что поэт «исписался». Стоит ли удивляться, что Мицкевич, живший за границей, заметит о Пушкине 1830-х годов: «Он перестал даже писать стихи, опубликовал лишь несколько исторических сочинений»[535].
При жизни Пушкина его поэма не появляется[536].
Заочный разговор с Мицкевичем продолжается.
Через несколько месяцев после запрещения Пушкин возвращается к оставленным строкам «Он между нами жил…»: беловой автограф сопровождается датой 10 августа 1834 года.
В своё время специалисты задумались над тем, для чего же столь поздно, через год после знакомства с «Отрывком», Пушкин возобновляет спор?
М. А. Цявловский полагал, что толчком, «снова поднявшим из глубины сознания образ Мицкевича и его стихи, вероятно, было получение Пушкиным от гр. Г. А. Строганова 11 апреля 1834 года заметки неизвестного из „Франкфуртского журнала“ о речи Лелевеля»[537].
Один из вождей восстания 1830—1831 годов И. Лелевель в Брюсселе 25 января 1834 года говорил о Пушкине как противнике власти, вожде свободолюбивой молодёжи.
Пушкин, действительно, крайне отрицательно отнёсся к «объятиям Лелевеля» (см. XIV, 126), однако всё же остаётся неясным, как этот эпизод, довольно далёкий от Мицкевича, мог существенно повлиять на возобновление диалога. Даже если получение заметки от Строганова действительно стимулировало пушкинский замысел, то всё равно — главные причины надо искать в другой плоскости.
Повторим, что фактическое запрещение «Медного всадника» оставляло «Отрывок» Мицкевича без пушкинского ответа, и в этом, вероятно, главная причина возвращения к стихотворению.
Весь 1834 год, вообще очень тяжёлый для Пушкина, можно сказать, проходит под тенью «Всадника». В октябре с поэмой знакомится А. И. Тургенев: «Пушкин читал мне новую поэму,— пишет он,— на наводнение 824 г. Прелестно, но цензор его, государь, много стихов зачернил, и он печатать её не хочет»[538]. В декабре публикуется отрывок («Вступление») в «Библиотеке для чтения».
Работа же над стихами «Он между нами жил…», как прекрасно показал М. А. Цявловский, шла в сторону смягчения прямой полемики, большего спокойствия, объективности; так же как несколько месяцев назад — при создании «Медного всадника».
После упрёков «злобному поэту» Пушкин в послании Мицкевичу восклицает:
Мы видим в этих строках (независимо от субъективного намерения поэта) важнейшее автобиографическое признание. Это он, Пушкин, год назад победил в себе «злобного поэта»; сумел подняться на уровень правды и мира, и наградою явился «Медный всадник», лучшая поэма.
Впрочем, стихи «Он между нами жил…» также нужно отнести к тем бурям, что разыгрывались под внешней житейской оболочкой.
Пушкин в 1833-м начал послание Мицкевичу — но не кончил, а там мелькали злые слова. В 1834-м — завершил, перебелил рукопись, но не напечатал!
Возможно, оттого, что всё же не смог в стихах «Он между нами жил…» найти должной дозы «правды и мира» — как в «Медном всаднике». Или — всё дело в том, что снова возникли надежды на выход поэмы? В 1836-м Пушкин предпринял новую попытку — переделать рукопись, как-то учесть царские замечания. Попытался даже серьёзно ухудшить текст: вместо «кумир на бронзовом коне» — попробовал «седок на бронзовом коне»[539]. Попытался — но не сумел… Переделка не была завершена. Пушкин погиб.
Пятый, посмертный, том пушкинского «Современника» после вступления-некролога открывается «Медным всадником».
Поэма была исправлена Жуковским по царским замечаниям: сняты самые резкие осуждения «горделивого истукана»; однако оба примечания о Мицкевиче остались.
Изучив историю высочайшего цензурования «Медного всадника», Н. В. Измайлов высказал очень справедливое предположение, что царь, сделав множество отчёркиваний, «возможно, не стал смотреть последних страниц, не обратил внимания и на имя Мицкевича в 3 и 5-м примечаниях, почему оно позднее осталось и в печати, хотя вообще было запретным»[540].
Мицкевич, как известно, весной 1837 года написал и опубликовал свой некролог-воспоминание о Пушкине. Ещё не зная ни «Медного всадника», ни стихов «Он между нами жил…», польский поэт создал такое сочинение, будто догадывался…
Он писал с той же нравственной высоты, которая достигнута в споре-согласии «Медного всадника».
«Я знал русского поэта весьма близко и в течение довольно продолжительного времени; я наблюдал в нём характер слишком впечатлительный, а порою лёгкий, но всегда искренний, благородный и откровенный. Недостатки его представлялись рождёнными обстоятельствами и средой, в которой он жил, но всё, что было в нём хорошего, шло из его собственного сердца»[541].
Пройдёт ещё несколько лет, и в руки Мицкевича попадёт посмертный выпуск пушкинских сочинений. .
11 февраля 1841 года А. И. Тургенев записал: «На лекцию Мицкевича. Собирался отдать ему стихи Пушкина, как голос с того света, но не положил на кафедру». 15 февраля Тургенев вновь записал: «С Мицкевичем встретился: он не знает стихов к нему Пушкина, ни 3-х последних частей его; обещал их ему». 25 февраля 1842 года А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Сообщаю вам извлечение из трёх (а, может быть, и четырёх) лекций Мицкевича, мною слышанных. В последнюю — положил я на его кафедру стихи к нему („Голос с того света“) нашего друга поэта»[542].
Так впервые в 9-м томе посмертного собрания пушкинских сочинений (где публиковались прежде не печатавшиеся его труды) польский поэт прочитал «Он между нами жил…» и «Медного всадника»! Мицкевич, прекрасно владевший русским языком, конечно, многое понял даже и по испорченному тексту пушкинской поэмы; нашёл он и своё имя в пушкинских примечаниях к «Медному всаднику», так же как Пушкин некогда встретился с самим собою в стихах «Памятник Петру Великому».
В будущем, возможно, удастся найти в западных архивах отклик польского поэта на пушкинский «голос с того света»…
Вулканические вспышки спора-согласия двух гениев остались в немалой части «вещью в себе»: «правду и мир» Мицкевич возвестит Пушкину в некрологе, ничего не зная о «Медном всаднике»; поэма и стихи Пушкина дойдут к польскому мастеру позже, не полно.
Спор гениев, не состоявшийся в прямом смысле, тем не менее важнейшее событие в развитии их духа.
Потаённое сродство душ; великий спор-согласие.
Часть III. Уход
Глава VII. «Хвалу и клевету…»
И не оспоривай…
«Медный всадник», «Анджело» (1833) — последние поэмы Пушкина; широта, объективность мысли, требовавшие большого «стихового пространства», всё больше реализуются в лирических циклах; последний из них — «цикл 1836 года из шести произведений, род стихотворного пушкинского завещания…»[543]. Поэт как бы прощался с читателем последней сказкою «Золотой петушок» (1834)[544], прозою «Капитанской дочки» (1836), публицистическими историко-документальными трудами. Постоянно размышляя над тем, что происходит, меняется, он в 1830-х годах, кроме взгляда на сегодняшнее через петровскую эпоху («Прошло сто лет…»), более или менее постоянно прибегает к двум сравнениям. Во-первых, как и прежде, отступает к временам своего детства и юности, к периоду до 1825 года. При том, однако, у пушкинского круга всё яснее ощущение, что сейчас, в 1830-х, только становятся виднее контуры разрушенного и созданного великими взрывами 1789-го и следующих лет. Отсюда являлась вторая область для сравнения: 1830-e и 1770-е; эпоха дедов, что предшествовала революции. То расстояние, с которого особенно важно понять смысл происходящего сегодня… Пройдёт немного лет, и сойдут со сцены люди, вроде московского генерал-губернатора Д. В. Голицына, который (по словам Вяземского) «видит во французских делах (1830) второе представление революции (1789). Смотрит он задними глазами. Денис <Давыдов> говорит о нём, что он всё ещё упоминает о нынешнем как об XVIII веке»[545].
Пушкин сопоставляет нынешние, завтрашние мятежи с пугачёвскими временами, великим бунтом 1773—1775 годов. Однако изучаются, художественно осваиваются и перемены в народе, народной стихии, и в жизни общества, света, грамотного меньшинства.
А в ненастные дни…
Один из самых интересных опытов Пушкина в этом роде мы наблюдаем в «Пиковой даме», завершавшейся в ту же вторую болдинскую осень 1833 года, что и «Медный всадник», «История Пугачёва».
Разумеется, опасно и поверхностно было бы находить параллели различных пушкинских произведений только на том основании, что они написаны в одно время, в одном месте; но всё же — не можем игнорировать то обстоятельство, что «Пиковая дама» создавалась «по соседству» с теми сочинениями, где воплощались главнейшие исторические раздумья поэта; где представлены петровский Петербург и пугачёвские крестьяне, вся Россия…
Творческая история пушкинской повести столь же таинственна, как и её глубинный смысл, — поэт будто нарочно «спрятал от нас» почти все её рукописи. Тем не менее даже немногие сохранившиеся черновики позволяют сделать любопытные наблюдения. Недавно была опубликована очень интересная работа, посвящённая сопоставлению «Пиковой дамы» и «Медного всадника»[546], где истоки «повести об игроке» прослеживаются с 1828 года[547]. В дальнейшем, постоянно опираясь на соображения H. Н. Петруниной, выскажем несколько наблюдений.
В той самой пушкинской тетради, куда поэт вписал осенью 1833 года польские стихи Мицкевича (бывшей № 2373, ныне № 842), сначала идут листы с 1-го по 14-й, на которых находятся некоторые сочинения конца 1829-го — начала 1830 года. Затем следует одна чистая страница, отделяющая ранние записи от более поздних; на листах же с 15-го по 26-й наибольшее место занимают наброски поэмы «Езерский» — того описания «омрачённого Петрограда», что через несколько месяцев будет использовано Пушкиным в «Медном всаднике».
Однако непосредственно перед «Езерским», буквально с ним «сталкиваясь», мелькают строки другого сочинения. На 15-м листе тетради № 842 находится эпиграф:
Вслед за эпиграфом Пушкин записал: «года 2», затем попробовал — «лет 5», «года 3», всё зачеркнул и продолжал: «Года четыре тому назад собралось нас в Петербурге несколько молодых людей, связанных между собою обстоятельствами. Мы вели жизнь довольно беспорядочную. Обедали у Андрие без аппетита, пили без весёлости, ездили к Софье Астафьевне побесить бедную старуху притворной разборчивостью. День убивали кое-как, а вечером по очереди собирались друг у друга». И далее зачёркнуто: <и все ночи проводили за картами) (VIII, 834).
Начало «Пиковой дамы»: эпиграф к первой главе повести уже почти тот, что будет в печати (о нём — чуть позже); впрочем, первые строки не совсем те: вместо медленного, постепенного повествования в окончательном тексте явится стремительная фраза, сразу завершающая действие: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». В той же тетради, на 18-м листе, появляется Герман (пока что в его имени одно н); правда, он увлекается ещё не Лизаветой Ивановной, а некоей Шарлоттой Миллер: немецкий «колорит» в черновике куда сильнее, чем в окончательном тексте, однако сюжетная ситуация с самого начала предвосхищает то, что «случится» с Германном и Лизой. Черновой текст завершается характеристикой Германна. «Отец его, обрусевший немец, оставил ему после себя маленький капитал, Герман оставил его в ломбарде, не касаясь и процентов, а жил одним жалованием.
Герман был твёрдо etc».
А затем «оборвавшаяся» строка повести как бы продолжается карандашной записью стихов:
и уже проза оставлена, а поэма пошла «над омрачённым Петроградом». Это «Езерский», многие строки и образы которого позже перейдут в «Медный всадник».
Эпиграф и первые строки «Пиковой дамы», а также «воющий ветер» из «Езерского» точно датируются концом 1832 — началом 1833 года[548]. В ту пору возникла и позже сохранилась удивляющая связь текстов, бури и дождя, ополчающихся против бедного Евгения, и такой же непогоды, преследующей Германна близ дома графини: H. Н. Петрунина указала на ряд параллелей, смысловых и фразеологических, в стихотворных строках «Медного всадника» и прозе «Пиковой дамы».
В начале 1833-го Пушкин многого не оканчивал: «Дубровского», «Пиковую даму», «Езерского»… Но вот проходит несколько месяцев; поэт открывает «тетрадь № 842» и заполняет её осенними строчками 1833 года — русскими, а также польскими — о которых шла речь в связи с ответом Мицкевичу, перед началом «Медного всадника» и завершением «Пиковой дамы»[549].
Два века
«Пиковая дама» начинается не только заглавием: один за другим следуют два эпиграфа. Сначала ко всей повести — «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга».
Невнимательный читатель не увидит здесь ничего особенного: «Повесть о карточной игре, и эпиграф о том же!» На самом же деле автор, с лёгкой улыбкой, ненавязчиво, впервые представляет важнейшую мысль, одну из основных в повести… «Снижающим эпиграфом» назвал эти строки В. Б. Шкловский: ясно, что главная смысловая нагрузка эпиграфа — на слове новейшая «Гадательная книга, да ещё новейшая, изданная на серой бумаге, в лубочном издательстве — это мещанская книга, а не тайный фолиант на пергаменте»[550]. Попробуем взглянуть на текст и в несколько ином ракурсе: дремучая, из дальних веков, карточная примета — это ведь знак суеверия, непросвещённости; и тут же ссылка на новейшее издание, «последнее слово». Для читателей 1830-х годов пушкинский эпиграф звучал примерно так, как в наши дни ссылка на квантовую механику в книге о привидениях. Пушкина мало занимает борьба с суевериями: неизмеримо важнее проблема — новейшее — это лучшее ли? умнейшее? Или — всего лишь старое заблуждение, вытесняемое новейшим?.. Ведь Германн немец, представитель образованнейшей нации, да ещё инженер; новейшая профессия! В XIX веке подобные люди не веруют, «не имеют права» верить в чудеса, что являлись дедам и прадедам. Зато простодушный предок, веривший в духов и ведьм, находил естественным разные невероятные совпадения (вроде появления Пиковой дамы и т. п.); привидение пятьсот лет назад было куда менее страшным, чем теперь, просвещённый же потомок, твёрдо знавший, что духов нет, часто их боится поэтому куда больше. Слишком уверовав во всесилие новейшей мудрости, он вдруг теряется перед непонятным, страшным — тем, что обрушивается на него из большого мира и чего вроде не должно быть… Правда, «для вольнодумцев XVIII века именно отказ от идеи божественного промысла выдвигал на первый план значение случая, а приметы воспринимались как результат вековых наблюдений над протеканием „случайных процессов“»[551]. Однако эта система далеко не всегда утешала, приходилась «по сердцу».
Пушкин не раз писал о распространённом грехе полупросвещения, то есть незрелого самообмана… «Новейшая гадательная книга» — одна из формул этого состояния ума и духа…
После эпиграфа ко всей повести читатель сразу находил эпиграф к I главе, где также полускрыто сопоставление времён. Печатный текст несколько отличался от прежнего, рукописного:
Пушкин заменил «озорные слова» во втором куплете на «бог их прости», а также снял отсылку («Рукописная баллада»), отчего эпиграф к I главе — единственный в повести — остался без обычного авторского указания, откуда он взят.
«Рукописная баллада», возможно, породила бы опасные ассоциации. Всего за несколько лет до того, примерно в 1824-м, точно таким же редким, хорошо запоминающимся размером были записаны знаменитые нелегальные стихотворения — песни Рылеева и Александра Бестужева («Ах, где те острова,//Где растёт трин-трава»)[552]. Пушкин, живший в Одессе, довольно быстро узнал тогда эти опасные куплеты: в одном из писем 1824 года брату Льву поэт цитирует: «А мне bene[553] там, где растёт трин-трава, братцы» (XIII, 86).
Понимал ли Пушкин, что современники догадаются о созвучии его эпиграфа с крамольнейшими строками, «рукописными балладами» декабристов? Несомненно. Разве мог он сомневаться, например, что свой стихотворный размер узнает один из авторов запретных стихов Александр Бестужев (Марлинский), находившийся в ту пору в кавказской ссылке? Примечательно и стремление Пушкина в черновике хронологически отдалить события: молодые люди, «связанные… обстоятельствами», собирались в столице сначала два, потом пять, три, наконец, «четыре года назад». Сознательно или невольно, такой расклад сближал историю игроков совсем с другими событиями, случившимися несколько лет назад. И Пушкин в окончательном тексте отменяет всякую хронологию: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова».
Тем не менее современники уловили «странные сближения». Через двадцать пять лет в герценовской «Полярной звезде» под заглавием «Стихотворения Рылеева и Бестужева» будут напечатаны 18 трёхстиший, начинавшихся строками:
Последние же стихи:
И вслед за тем, как часть того же рылеевско-бестужевского стихотворения, Герцен и Огарёв публикуют весь пушкинский эпиграф к «Пиковой даме»[554].
Понятно, что в предыдущих куплетах речь шла о свержении Петра III, восшествии на престол его жены Екатерины II, затем — о правлении и гибели «курносого злодея» Павла I.
О чём же — текст, начинающийся со строки «А в ненастные дни»? Если следовать за хронологией, то «собирались часто» после того, как «господь русский бог бедным людям помог», то есть в царствование Александра I; выходит, что речь идёт о декабристах, о тех, кто «занимался делом» в 1816—1825-м годах… Так, во всяком случае, должны были читаться строки «А в ненастные дни», присоединённые к предыдущим.
Издатели лондонской «Полярной звезды», конечно, не сами «сложили» сочинения разных авторов: они пользовались списками, ходившими по России; так, запрещённые стихотворения Пушкина и других поэтов, попавшие во II книгу «Полярной звезды» (1856), были почерпнуты из богатейшего собрания, составленного московскими друзьями Герцена. Публикация же 1859 года, куда вошли и строки «А в ненастные дни…», была, вероятно, прислана И. С. Тургеневым и П. В. Анненковым[555]. В старинных рукописных собраниях постоянно встречаются стихи Рылеева и Бестужева с прибавлением строк о тех, кто «в ненастные дни… занимались делом»[556]. Без сомнения, многие владельцы и распространители потаённого текста помнили, что он включает хорошо знакомый, не раз читанный в печати эпиграф к I главе «Пиковой дамы». Помнили это также Герцен и Огарёв, но вслед за своими корреспондентами присоединили пушкинский эпиграф к рылеевско-бестужевским строкам: выходило, что тем самым признаётся единство текстов; что I главе пушкинской повести предшествовал фрагмент опаснейшей «песни», некогда пропетой Рылеевым и Бестужевым; а ведь «Пиковая дама» задумана через два года и напечатана через семь лет после казни Рылеева и ссылки Бестужева!
Некоторые исследователи позже склонялись к мысли о потаённом присутствии декабристов в пушкинской повести. Любопытно, что В. Е. Якушкин в своём описании пушкинских рукописей, приведя эпиграф «Пиковой дамы» «А в ненастные дни…», комментирует: «Это отрывок из известной песни „Знаешь те острова“, принадлежащей многим авторам»[557].
Такой взгляд, однако, не встретил поддержки; слишком неуместным было бы пародировать строки погибших опальных друзей; слишком весомым документом в пользу авторства самого Пушкина остаётся его письмо, от 1 сентября 1828 года, где, между прочим, впервые цитировались строки «А в ненастные дни…»: текст тот самый, что позже, в конце 1832 или начале 1833 года появится на 15-м листе тетради № 842: «Успокоился ли ты? — спрашивал Пушкин Вяземского.— Пока Киселёв и Полторацкие были здесь, я продолжал образ жизни, воспетый мною таким образом —
Итак, стихи сочинены Пушкиным («воспетый мною»), но очень похожи на рылеевско-бестужевские; сходство, замеченное многими современниками, конечно, использовано поэтом сознательно… Н. О. Лернер писал, что «Пушкин просто воспользовался лёгким, весёлым размером для своей шутки»[558]. Полагаем, однако, что поэт не шутил. Трудно, может быть, и невозможно полностью развернуть мелькнувшую пушкинскую мысль; следует, конечно, избегать слишком прямых комментариев, которые подчёркивали бы здесь, в «Пиковой даме», «потаённую связь», «знак единомыслия» Пушкина и декабристов. Однако нельзя и совсем игнорировать «эхо» 1825-го в повести 1834-го… В ненастные дни 1833 года в Болдине, трудясь над «Пиковой дамой» (а также «Медным всадником» и «Пугачёвым»), Пушкин вспоминал и тех, которые некогда «собирались часто», а потом за своё дело, за один декабрьский, ненастный день, пошли в Сибирь, на Кавказ — игра же (человеческая, историческая) «пошла своим чередом…».
Главный смысл этого дальнего, мимолётного художественного воспоминания (так же как и других, более прямых разговоров о 14 декабря) мы видим в стремлении Пушкина — понять таинственный ход, «черёд» истории и судьбы.
Лет шестьдесят назад
Разные времена, эпохи сопоставляются в «Пиковой даме» везде, от первого эпиграфа до последних фраз. Говоря о бабушке, графине Анне Федотовне Томской, её ветреный внук описывает события, случившиеся с нею в Париже «лет шестьдесят тому назад». Это число встречается в повести не раз. «Лет шестьдесят назад,— думает Германн после гибели графини,— в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причёсанный à l’oiseau royal[559], прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться…»
Шестьдесят лет назад, 1770-е годы: как уже отмечалось, для Пушкина это великая веха, с которой ведётся счёт его времени: эпоха накануне, когда вот-вот взорвётся мир, когда
В России же — Пугачёв: ретроспективный рассказ о молодости графини — как бы «изнанка» той истории великого бунта, которую Пушкин завершает в Болдине одновременно с «Пиковой дамой».
Париж, герцог Ришелье, Сен-Жермен, дамы, играющие в «фараон»,— всё это заставляло русского образованного читателя между прочим вспомнить хорошо, «наизусть» известные строки из «Писем русского путешественника».
В главе, сопровождаемой авторской датой «Париж… апреля 1790», Карамзин писал: «Аббат Н* <…> признался мне, что французы давно уже разучились веселиться в обществах так, как они во время Лудовика XIV веселились <…> Жан Ла (или Лас),— продолжал мой аббат,— Жан Ла[560] несчастною выдумкою банка погубил и богатство, и любезность парижских жителей, превратив наших забавных маркизов в торгашей и ростовщиков; где прежде раздроблялись все тонкости общественного ума, где все сокровища, все оттенки французского языка истощались в приятных шутках, в острых словах, там заговорили… о цене банковых ассигнаций, и домы, в которых собиралось лучшее общество, сделались биржами. Обстоятельства переменились — Жан Ла бежал в Италию,— но истинная французская весёлость была уже с того времени редким явлением в парижских собраниях. Начались страшные игры <…>. Все философствовали, важничали, хитрили и вводили в язык новые странные выражения, которых бы Расин и Депрео понять не могли или не захотели,— и я не знаю, к чему бы мы наконец должны были прибегнуть от скуки, если бы вдруг не грянул над нами гром революции»[561].
Карамзинские и пушкинские страницы сопоставляются очень любопытно.
Внешне лёгкая, шутливая ситуация (скука — революция) применена Карамзиным к очень серьёзным, кровавым обстоятельствам: ведь «Письма русского путешественника», посвящённые сравнительно умеренному периоду французской революции (1790 год ещё не 93-й!), публиковались уже после якобинской диктатуры и термидора; по версии «аббата Н.», предыстория краха старого режима во Франции, между прочим, связана с тем, что французы «разучились веселиться», стали «торгашами и ростовщиками», предались «страшной игре». Сегодняшний, строгий исследователь сказал бы, что аббат («устами Карамзина») с печалью констатировал «глубочайший кризис феодальных устоев во Франции, неизбежное приближение нового, буржуазного мира».
Прогресс, но неминуемо связанный с жертвами, утратами…
В «Пиковой даме» молодая графиня (будущая бабушка) как будто сходит с карамзинских страниц (где в предреволюционном Париже «молодые дамы съезжались по вечерам для того, чтобы разорять друг друга, метали карты направо и налево и забывали искусство граций, искусство нравиться»):[562] «Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он её боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принёс счёты, доказал ей, что в полгода она издержала полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощёчину и легла спать одна, в знак своей немилости.
На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь и что есть разница между принцем и каретником. Куда! дедушка бунтовал» (VIII, 228).
Бабушка, прожившая в Париже за полгода полмиллиона, и «бунтующий дедушка» — это как бы пародия на бунт, который зреет в это время в России и вскоре дойдёт до саратовских имений графа и графини. Бабушка снисходительно объясняет дедушке, что есть «разница между принцем и каретником» — но ведь лет через двадцать каретники возьмутся за принцев: партнёр бабушки по картам герцог Орлеанский не доживёт нескольких лет до падения Бастилии, но его сын Филипп вступит в якобинский клуб, будет именоваться «гражданин Эгалите», проголосует за смертную казнь своего близкого родственника Людовика XVI и потом сам сложит голову на эшафоте; внук же бабушкиного партнёра и сын гражданина Эгалите за три года до написания «Пиковой дамы» взойдёт на французский престол под именем короля Луи-Филиппа (чтобы в 1848-м быть свергнутым очередной революцией).
Сегодня эти сопоставления далеко не очевидны; в пушкинскую пору — едва ли нетривиальны…
Итак, автор «Пиковой дамы» размышляет и сопоставляет: что безвозвратно утрачено с XVIII столетием, что несёт новейшее время, новейшие гадательные книги?
В сцене, где Германн идёт в спальню престарелой графини, его снова окружают «призраки» 1770-х годов: Монгольфьеров шар, Месмеров магнетизм, мебель, которая стоит около стен «в печальной симметрии», портреты работы старинных мастеров, фарфоровые пастушки, старые часы… Обрисовав в предшествующих главах отвратительный образ старой, равнодушной графини и, кажется, грустно посмеявшись над её временем, Пушкин затем постепенно ведёт «партию» против Германна и отчасти за графиню. На стене незваный гость видит портрет румяного и полного мужчины в мундире со звездой и «молодую красавицу с орлиным носом, с зачёсанными висками и с розою в пудреных волосах». Очевидно, это молодая графиня и её муж. Германн, требующий секрета трёх карт, всё больше утрачивает человеческое; Пушкин пишет, что он «окаменел». Между тем в лице графини — «живое чувство», она вызывает всё большее сострадание. Германн убивает её из корысти, в то время как некогда она щедро открыла свой секрет, по-видимому, повинуясь живому чувству…
Разумеется, Пушкин далёк от примитивной идеализации старины, он мыслит исторически, понимая безвозвратность прошедшего. Если он сожалеет о старинном рыцарстве, чести, некоторых сторонах прежнего просвещения, то хорошо помнит, какой ценой всё это достигалось и какая «пугачёвщина», какие «гильотины» явились возмездием за всю эту роскошь…
Но что же несёт в себе новый, торопливый, суетящийся мир «прихода и расхода»?
Вопрос важнейший; за три года до «Пиковой дамы» уже провозглашённый в стихах, создавая которые Пушкин, возможно, не подозревал, что и «отсюда» уже зарождается будущая повесть!
Князь Юсупов, герой стихотворения «К вельможе» (1830), в юности видит те же салоны и балы, что графиня-бабушка Томская (а также карамзинский аббат Н.):
Не ведая — как не ведала и «бабушка», резвятся, шумно забавляются. Но Пушкин уже ведает…[563]
Затем вельможа — свидетель великих событий, переменивших историю Европы:
Пушкин далёк от того, чтобы подвести итог, разъяснить окончательный смысл всех этих событий. В черновике появляются, правда, сильные, определяющие слова: «союз кровавых фурий», «и пьяным ужасом сменённые забавы»; но тут же заменяются более сдержанными, историческими: «союз ума и фурий» и «мрачным ужасом…»; двор же Людовика XVI и Марии-Антуанетты сперва — «сей пышный двор, слепой и дерзновенный» (III, 808), после «ветреный двор»…
Пушкину ясно, что «преобразился мир при громах новой славы»,— но преображение породило новый, спешащий, нервный тип, к которому относится и Германн: о нём ведь нельзя даже сказать — «разучился веселиться», ибо, кажется, никогда не умел…
В мире Германна всё меньше шутят, всё больше «сводят с расходом приход», шутка, юмор, смех — вообще знаки прежнего «роскошного», «беспечного» мира; «Это была шутка»,— говорит престарелая графиня о «трёх картах».— «Этим нечего шутить»,— сердито возражает Германн (VIII, 241); скучная, жадная, «страшная» карточная игра и рядом — предчувствие: неясное, неявное, но зловещее, как в «Медном всаднике»; предчувствие грядущего взрыва не слабее французского, взрыва, что похоронит уже и эту торопливую цивилизацию, как прежний похоронил «Версаль и Трианон». Однако ещё неизвестно, скоро ли новый катаклизм, а пока что Германны приближаются, наступают; их всё больше среди читателей журналов, книг.
П. А. Вяземский писал (2 мая 1833 г.): «Всё не то, что было. И мир другой, и люди кругом нас другие, и мы сами выдержали какую-то химическую перегонку…»[564]
Павел Вяземский, сын пушкинского друга, заметит: «Для нашего поколения, воспитывавшегося в царствование Николая Павловича, выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула той эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя. Пушкин как будто дорожил последними отголосками беззаветного удальства, видя в них последние проявления заживо схороненной самобытности жизни»[565].
Отец же только что цитированного мемуариста, Пётр Андреевич Вяземский, 3 ноября 1830 года записал мнение, в общем близкое к пушкинскому (судя по Дневнику поэта за 1833—1835 гг.): «Как мы пали духом со времён Екатерины <…> Царствование Александра <…> совершенно изгладило личность. Народ омелел и спал с голоса. Теперь и из предания вывелось, что министру можно иметь своё мнение. Нет сомнения, что со времён Петра Великого мы успели в образовании, но между тем как иссохли душой»[566].
Кто это мы, которые «успели… иссохли»? «Мыслящее меньшинство», в том числе читатель поэм, повестей, статей Пушкина. Этот читатель был загадочен. Ему как будто «Пиковая дама» даже понравилась. В своём дневнике 7 апреля 1834 года поэт, видимо, не без иронии записывает: «Моя „Пиковая дама“ в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семёрку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной и, кажется, не сердятся…» (XII, 329). Но успех этот был поверхностным. Глубокое философское и социальное содержание маленького пушкинского шедевра до читателя не дошло. Не дошло оно и до литературной критики, которая и при Пушкине, и после него не находила в «Пиковой даме» серьёзного общественно-политического содержания. Много позже Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой указали на неизмеримые глубины этого «простого и ясного» произведения[567].
Отсутствие истинного понимания очень беспокоило поэта. Сопоставление времён в «Пиковой даме» и других произведениях начала 1830-х годов — это стремление проникнуть в сокровенную тайну сего дня, в сравнении с эпохой уходящей, ушедшей.
Много писано о тяжких придворных обстоятельствах Пушкина, немало — о «светской черни» 1830-х годов. Часто говорилось о равнодушной публике, реже — о критике, которой поэт подвергался «слева»…
Масса многолика, но главные её группы, конечно, представлены характерными фигурами. Сам Пушкин, его современники сохранили в своих сочинениях немало зарисовок российского общества, российской публики 1830-х годов — в «сём омуте», «грядущего волнуемое море»…
Российская статистика (впрочем, ещё очень неразвитая) свидетельствовала о медленном, но неуклонном расширении читающего круга — в 1830-х годах число грамотных увеличивается, хоть и постепенно: приносят плоды несколько университетов, десятки гимназий, училищ, открытых преимущественно за первую четверть столетия; расширяется государственный аппарат; за пол века, с 1796-го по 1847-й, число чиновников увеличивается с 15—16 тысяч до 61 548 человек (бюрократия росла примерно в три раза быстрее, чем население страны[568]); всё заметнее роль разночинцев, грамотного купечества; промышленность, даже сильно заторможенная крепостным правом, за тридцать лет всё же примерно удваивается (английская экономика за этот период, правда, вырастает примерно в пятьдесят раз).
В общем, так или иначе, число читающих увеличивается…
Отношения же поэта со своей аудиторией усложняются. Та популярность, что сопровождала стихи первых лет, особенно южные поэмы, теперь, в куда более зрелую пору, сильно уменьшилась, видоизменилась. По данным московского Музея Пушкина, на 221 список южных поэм и стихотворений поэта в альбомах современников оказывается всего 15 списков сочинений 1830-х годов[569].
Первым значительным произведением Пушкина, не имевшим того отзвука, к которому он привык, была «Полтава». Поэт сам написал об этом в 1830-м: «„Полтава“ <…> не имела успеха. Может быть она его и не стоила; но я был избалован приёмом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим произведениям» (XI, 158).
Далее последовали другие неудачи; разумеется, относительные: и «Полтава», и «Онегин», и «Борис Годунов», сборники стихотворений, «Повести Белкина» были раскуплены, читались; поэт, конечно, оставался высшим авторитетом для многих — и довольно легко подобрать немалое число комплиментарных откликов за любой год. Однако даже тогда, когда конъюнктура была формально благоприятной, поэт всё равно ощущал «неладное».
Этот относительный спад читательского интереса в 1830-х годах ещё требует специального изучения; в некоторых же случаях неуспех был и прямым: «В публике очень бранят моего Пугачёва, а что хуже — не покупают» (XII, 337).
«Современник» — журнал, украшенный лучшими именами (Пушкин, Гоголь, Тютчев, Жуковский, Вяземский, В. Одоевский, А. Тургенев и много других) — «Современник» расходился неважно и далеко не оправдал возлагавшихся на него «финансовых» надежд[570]. Долги, составившие под конец жизни поэта 138 тысяч рублей,— факт достаточно красноречивый…
То, что Пушкин почти «не жаловался» друзьям на холодность публики,— может быть, одно из сильнейших доказательств тягостного положения. Избегая лишних разговоров, поэт главное высказал в стихах. Начиная с 1830 года постоянной становится тема «поэта и черни», «поэта и толпы»: не раз будет писано о коммерческой журналистике 1830-х годов как «вшивом рынке», пришедшем на смену высокой «аристократической словесности» минувшего.
При объяснении причин ослабления пушкинской популярности отмечалось, в частности, что «лишённый политической остроты „Современник“ не получил должной поддержки в кругах передовой интеллигенции. Провинциальному же читателю, воспитанному „Библиотекой для чтения“ с её установкой на энциклопедичность и развлекательность, с её балагурством и буржуазной моралью и модными картинками, журнал Пушкина был чужд и неинтересен»[571].
Затронутая тема не раз исследовалась[572]. Подробности же насчёт общественного сочувствия и несочувствия «позднему Пушкину» помогают составить «портрет поколения», восстановить ту общественную атмосферу, что окружала поэта.
Иначе говоря, мы попытаемся представить разные категории «публики», читателей 1830-х годов. Почти не имея, как уже говорилось, статистики, попробуем заменить её отысканием фигур, типичных для разных общественных групп; пройдём по разным этажам российского просвещения, наблюдая тех, кто любил и не любил, читал и не читал, знал и знать не желал Пушкина…
Самые близкие
М. И. Гиллельсон в ряде своих работ обосновывал существование «арзамасского братства» и после формального прекращения дружеского литературного общества; показал, что, за вычетом нескольких лиц, решительно порвавших с прошлым, существовало идейное единство «старых арзамасцев» и в 1830-х годах[573]. К пушкинскому кругу писателей исследователь отнёс Жуковского, Вяземского, Александра Тургенева, Владимира Одоевского, Дениса Давыдова и некоторых других постоянных корреспондентов, собеседников, сотрудников, доброжелателей поэта. Значение этого сообщества несомненно; эта численно небольшая группа играла немалую роль и как могла очищала «литературную атмосферу» 1830-х годов…
Признавая серьёзность наблюдений М. И. Гиллельсона об этих людях, отметим, однако, два обстоятельства, которых исследователь, конечно, касается, но, на наш взгляд, недостаточно. Во-первых, всё тот же относительный неуспех: литераторы «пушкинского круга» и сообща не смогли завоевать читателя 1830-х годов, в той мере, в какой бы хотелось; после же смерти Пушкина эти писатели, признаемся, всё меньше задают тон в словесности, явно уступая эту роль молодым «людям сороковых годов» (но об этом позже).
Во-вторых, сосредоточиваясь на том, что соединяло,— порою идеализируем ситуацию, недооцениваем то, что разделяло литераторов пушкинского круга. Маловажные с виду оттенки были на самом деле довольно существенны в отношениях близких, хорошо знающих и любящих друг друга людей; преувеличивать их единство или видеть исключительно их разногласия — означало бы уйти от истинных, тонких и деликатных обстоятельств… С. Б. Рассадин верно заметил, что «внутренняя свобода <Пушкина> в духе стихотворения „Из Пиндемонти“ сохранялась не только по отношению к властям, но и к друзьям, с которыми он сходился во мнениях, а такая свобода даётся мучительно»[574].
Идейная, литературная и человеческая близость Пушкина и Жуковского, как известно, осложнялась рядом противоречий, несогласий насчёт господствующего порядка вещей. Здесь мало сказать, что Пушкин был «левее» друга-поэта: речь шла о коренных внутренних установках, идейных и художественных: несколько подробнее этот вопрос будет затронут в следующих главах.
Другой ближайший к поэту человек — П. А. Вяземский. Биографические, идеологические обстоятельства у обоих очень сходны. В 1825 году оба в «оппозиции», в отставке; политические суждения Вяземского в период суда и казни над декабристами выглядят куда резче и острее, нежели у кого-либо из оставшихся на свободе современников; и Пушкин, и Вяземский страдали от серии булгаринских доносов; Вяземский ещё долгое время остаётся в опале; 10 января 1829 года он пишет Жуковскому: «Целую за твоё „Лазурное море“, которое читали мы с Баратынским <?> с большим удовольствием, только сохрани меня и защити от лазурной души» (подчёркнутые слова откомментировал сам Вяземский, «то есть голубого жандармского мундира»[575]).
Желая вернуться на службу, Вяземский осенью 1829 года отправил довольно смелое письмо-объяснение Николаю I; вместе с тем разозлённый необходимостью таскаться по передним Бенкендорфа и получать довольно обидные, холодные ответы от другого наперсника царя, П. А. Толстого, он наставлял Жуковского: «Ради бога, не прикладывайте тут, если вы мне хотите помочь, неуместные осторожности. Я не ищу уловок, чтобы пробраться вдаль <…> Я боюсь вашей пугливой дружбы <…>Я не могу писать ни говорить об этом, у меня кровь кипит и рука костенеет»[576].
6 ноября 1829 года, очевидно получив от Жуковского сообщение о «неважной репутации» в столице вчерашних вольнодумцев, Вяземский отвечал: «Как не беситься от мысли, что я игралище какого-нибудь Булгарина оттого, что писал в журналы статьи, которые читались публикой <…> В некоторых шутках могу повиниться: тут ответственность меня не страшит. Предосудительного в последствии или по последствиям своим какой-нибудь неблагонамеренной связи в словах своих с поступками, вредного наития за собою не знаю. Готов дать всего себя, словесного, письменного и внутреннего на исследование»[577].
С конца 1829 года Вяземский снова на службе, но и после того, на многие годы, сохраняет недовольство, оппозиционность. Однако можно констатировать, что в 1830-х годах правительственный взгляд на Вяземского в целом снисходительнее, благоприятнее; там, наверху, он представлялся куда более «своим», нежели Пушкин. Разумеется, играл роль возраст (Вяземский на семь лет старше), княжеский титул; камер-юнкером Вяземский стал восемнадцати лет, теперь же — камергер. Сложная, двойственная ситуация — Вяземский более смело демонстрирует свою оппозицию, но в то же время власть к нему относительно более расположена…
Как мы помним, в 1831 году Вяземский был недоволен пушкинскими стихами «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», опасался, что «наши действия <…> откинут нас на 50 лет от просвещения европейского», не соглашался с пушкинскими восторгами перед российскими пространствами и писал, что «у нас от мысли до мысли пять тысяч вёрст»[578]. Согласно дневнику Н. А. Муханова, Пушкин (5 июля 1832-го) говорил о Вяземском, что он «человек ожесточённый <…>, который не любит России, потому что она ему не по вкусу»[579].
Служебная, политическая позиция Вяземского неплохо иллюстрируется его письмами из Москвы в Петербург своему родственнику и начальнику по департаменту торговли и мануфактуры Д. Г. Бибикову (Вяземский участвовал в подготовке промышленной выставки в Москве, на которую ожидали императорскую семью). Особенно любопытно письмо от 4 ноября 1831 года: «Слава богу, слава Вам, выставка наша прекрасно удалась. Государь был ею отменно доволен, и не только на словах, но и на лице его было видно, что ему весело осматривать своё маленькое хозяйство. Он с пристальным вниманием рассматривал все предметы, говорил со всеми купцами, расспрашивал их и давал им советы. Суконных фабрикантов обнадёжил он, что им уже нечего будет опасаться польского совместничества. Со мною государь был особенно милостив, обращал много раз речь ко мне, говорил, что очень рад видеть меня в службе, что за ним дело не станет, и отличил меня самым ободрительным образом. Со вступления моего в службу я ещё не имел счастья быть ему представленным, и тут, на выставке, первое слово его обращено было ко мне: так представление и сделалось <…>»[580].
18 ноября 1831 года, в своём отчёте, Вяземский повторяет любимую мысль: «Все знают, что Россия ростом велика, но этот рост не добродетель, а обязанность. Следовательно, говорите, проповедуйте о том, что должно России делать, чтоб нравственный и физический рост её были ровесниками»[581].
Наконец, последнее письмо, от 14 декабря 1831 года: «Сделайте одолжение, не толкуйте предосудительно пребывания моего здесь <…> вы же знаете, как туги здешние пружины. Надобно их маслить да маслить <…> Сделайте одолжение, приготовьте мне поболее работы к приезду моему и засадите за дело. Рука чешется писать под вдохновением вашим»[582].
Эти письма комментировать не просто: в них мелькают острые зарисовки, откровенные мысли; было бы неисторично «порицать» Вяземского за его восхищение царём (не забудем, что это пишется всё же в полуофициальном отчёте); также с осторожностью должно разбирать отношения князя-писателя к своему начальнику, — в будущем одному из столпов николаевского режима, печально знаменитому киевскому генерал-губернатору. Вяземский человек довольно независимый; в конце концов, он пишет то или примерно то, что думает… Нельзя укорять его, конечно, за «непушкинский» тон посланий, и всё же нам нелегко вообразить великого поэта столь близким, «своим» с подобными собеседниками. Из всего этого можно только заключить, что Вяземский — другой; что уже тогда, в 1831 году, в этом глубоком мыслителе, эрудите, острослове, вольнодумце угадываются некоторые черты будущего сановника, товарища министра, того, кто через несколько десятилетий определит европейские идеи как «лже-просвещение, лже-мудрость, лже-свободу»[583].
Все наши рассуждения сводятся к тому, что один из ближайших к Пушкину людей всё же сумел в начале 1830-х годов как-то «адаптироваться» к российской действительности и был в ряде отношений умереннее Пушкина — конечно, при общей близости, союзе, немалом единомыслии… Современный исследователь справедливо констатирует: «Вопрос о позициях Пушкина и Вяземского очень сложен. Но факт их расхождения бесспорен»[584]. Недаром, после гибели поэта, Вяземский писал: «Пушкин не был понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь, и прошу в том прощения у его памяти…»[585]
Наш разговор, в сущности, сводится к тому, что даже в кругу друзей Пушкин в последние годы был более одинок, чем часто представляется. Уверенность нескольких близких людей (например, Пущина, Соболевского и других), что они не допустили бы дуэли и смерти поэта, если б находились в Петербурге,— эти чувства, понятно, не могут быть подтверждены или оспорены, но ещё и ещё раз подчёркивают инертность, равнодушие, недостаточность чувства опасности у тех, кто был рядом с Пушкиным…
Не устанем повторять, что — относимся с глубоким признанием и уважением к выводам исследователей о положительной роли друзей, единомышленников в жизни и творчестве Пушкина последних лет: предостерегаем лишь против чрезмерно оптимистических оценок возможностей, результатов этого союза.
«Хороший читатель»
Теперь выйдем за пределы ближайшего Пушкину дружеского литературного мира и взглянем на его «периферию» — более широкий круг знакомых и полузнакомых, безусловно сочувствующих читателей,— чтобы убедиться, сколь трудным и сложным стали взаимоотношения поэта и аудитории.
Вот один из примеров: Мария Муханова, молодая дама из обширного и влиятельного рода, между прочим, родственница декабриста Петра Муханова… Она регулярно пишет из Москвы, иногда из деревни — в Петербург, своему прежнему учителю Михаилу Евстафьевичу Лобанову, литератору, переводчику, позже академику. Хотя Пушкин относился к Лобанову весьма неважно (а в 1836 г. заслуженно высек его в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной»), но между учителем и ученицей о пушкинских сочинениях идёт живой обмен мнений[586]. Писем учителя мы не знаем, ученица же впервые называет Пушкина 9 ноября 1822 года:
«Очень много благодарю Вас за Кавказского пленника: прекрасное сочинение и прекрасный талант. Ни одного стиха ученического или вставного! Столько же мыслей, сколько слов! Это Гений величественный и дикий, как горы Кавказа, оригинальный в нашей литературе. Он имеет что-то азиатское, роскошное и, если смею сказать, свирепое. Воображение богатое, свободное и своевольное, избыток силы и таланта! Пусть обстоятельства благоприятствуют Пушкину, пусть дарования его образуются чтением и опытностью, и он, конечно, станет наряду с лучшими поэтами. Видите, сколько я с Вами искренна; иначе я не смела бы так утвердительно своего мнения сказать».
Литературные симпатии и антипатии девушки сложны и трудно адресуются какому-либо определённому литературному или политическому течению. 31 декабря 1823 года она сообщает, что довольна «Полярной звездой» А. Бестужева и Рылеева, но находит, что «Бестужев слишком много сочиняет слов». Перевод «Илиады» Гнедича ей кажется более важным литературным событием, чем «Горе от ума». 10 апреля 1824 года по поводу литературной полемики Вяземского с Каченовским вокруг пушкинского «Бахчисарайского фонтана» написано следующее:
«У нас заводится спор о классиках и романтиках, но, к счастию, война не кровопролитная…»
«Байрон, которого знаю только по слуху, и Пушкин, которого сочинения только отчасти мне известны, конечно, украшают школу, к которой принадлежат своими дарованиями, но бесчестят употреблением оных, и вместо того, чтобы возвышать душу ко всем добродетельным чувствам, растравляют и страсти, опасные и мучительные, скрытые в человеческом сердце».
Проходит несколько лет; декабрь 1825-го в письмах никак не отражён — время бежит для Марии Мухановой вольно, счастливо, хотя чтение и раздумье сопутствуют ей всё время.
Из писем 1830 года мы узнаем, что Муханова читает «Литературную газету» Пушкина и Дельвига, находит, что «Московский телеграф» «упал после ухода Вяземского», знакомится и часто встречается с М. П. Погодиным, пытается завести школу[587].
М. Е. Лобанов, очевидно, раскритиковал в своём письме (февраль 1831-го) пушкинского «Бориса Годунова» (позже он решил продемонстрировать поэту, как следовало разработать эту тему, и написал довольно посредственную драму того же названия). Муханова не согласна с наставником и 25 февраля 1831 года отвечает:
«Борис Годунов, кажется, не нравится Вам — при больших и многих недостатках я нахожу большие красоты, о которых буду говорить с Вами в другом месте».
25 декабря 1835 года Муханова тонко замечает, что язык философии в России беднее языка поэзии: «Правда, у нас нет ни Бэкона, ни Мильтона, ни Шекспира; но язык наш в поэзии и прозе почти установился: мы верим Карамзину, Дмитриеву, Жуковскому, Батюшкову, Крылову, Пушкину, Филарету. И тем более верим нашим учителям, что их у нас мало».
В письме от 13 февраля 1837 года мы находим отклик Марии Мухановой на гибель Пушкина:
«Меня очень огорчила смерть Пушкина: от него можно было ещё ожидать многого, а теперь жизнь и смерть его сделались сами предметом страшной, в новейшем вкусе, драмы. Жаль, что он ещё при жизни был свидетелем умаления своей славы. Я ещё живо помню эпоху фанатизма, когда Пушкин был настоящим идолом нашей непостоянной публики. Она восхищалась его поэмами, но не поняла Бориса Годунова! <…> Прискорбно в смерти Пушкина ещё то, что скверная, корыстолюбивая и безнравственная шайка литературная торжествует. Если ей не удалось убить поэта, то по крайней мере она отравила горечью многие из последних его дней… На сём слове получила я копию с письма к. Вяземского к Булгакову, невозможно без слёз читать его. Но каким является тут великий монарх наш! Он достоин любви и благословений всех русских. Он, почтивший Карамзина и покровительствующий вдове и сиротам Пушкина!..»
Муханова, как видим, в течение многих лет внимательно следит за Пушкиным, пушкинским кругом. Ею отмечено «умаление славы» поэта и объяснено «непостоянством публики». Сочувствие, довольно квалифицированное чтение легко, однако, сочетаются с тем, что Муханова видит в Пушкине фигуру значительную, но не выше нескольких других; что она сильно увлечена «монаршей милостью».
Таков облик хорошей читательницы 1830-х годов…
Лицеисты
Близкими Пушкину читателями, естественно, должны быть лицеисты первого выпуска, друзья-одноклассники поэта. Однако «социологический анализ» этой группы — известия, которыми они регулярно обменивались, особенно подробно информируя тех, чья служба протекала вдали от столиц, — Вольховского, Матюшкина, Малиновского и других, — даёт нам достаточно сложную картину.
К концу 1829 года из двадцати девяти лицеистов — один статский советник (Корф), семь полковников и коллежских советников (гражданский чин, соответствующий полковнику), одиннадцать подполковников (и надворных советников), двое — в VIII классе (коллежские асессоры, майоры).
Это в среднем тридцатилетние люди, достигшие приличного «штаб-офицерского уровня»: и конечно, имеющие надежду на генеральство через несколько лет. Их домашние обстоятельства тоже как будто неплохи: Яковлев сообщает разные занятные подробности — о том, что у Корфа уже есть сын, Фёдор Модестович; что он сам, Яковлев, «холост по-прежнему, но паяс du beau monde[588], ибо в прошлую зиму ездил каждый вечер на бал и проч., шил себе модный фрак с длинным лифом и повязывает галстук à la papillon»[589]. О Юдине («которому, единственному, пишет Горчаков») сообщается, что увидеть его можно «в бюргер-клубе, где за стаканом пива, с цигаркою во рту, он в дыму табачном декламирует стихи Шиллера». Гревеница, оказывается, «можно видеть токмо на Невском проспекте, где, гуляя, он вам расскажет, а может быть и солжёт, разные анекдоты…»; Илличевский — «жалуется на несчастие по службе, огорчается особенно тем, что даже Яковлев его обошёл, но сильно надеется на будущую протекцию Модеста Андреевича»; Комовский — «на всех публичных гуляньях является верхом в светло-гороховом сертуке с орденской лентою в петлице, а обыкновенно ездит в кабриолете на монастырской водовозной лошади»; Стевен «несколько постарел, но впрочем совершенно таков же, как и был прежде. Всё хорошо и лучшего не желает». О военных, которые служат в разных краях, Яковлев знает меньше и сообщает только о Корнилове: «Был под Варною и с своим батальоном из первых вступил в крепость; получил две лёгкие контузии, одну, кажется, в грудь, а другую в нос; к счастью, от сей последней никаких следов не видел…»
Из письма Яковлева видно живое участие лицейских в крупных событиях того времени: «Данзас был против турок <…> под Браиловом он отличился и получил, если не ошибаюсь, шпагу за храбрость. Матюшкин, возвратившись с Врангелем из путешествия вокруг света, получил Анну II степени <…>, а в прошедшее лето отправился в Средиземное море, где, как слышно, он ныне командует бригом».
Даже «господа отставные», в перечне Яковлева, выглядят совсем не худо: «Малиновский живёт по-прежнему в деревне; был недавно сильно болен горячкою, но теперь поправляется»; «Бакунин живёт в деревне близ Москвы, женат и, кажется, имеет детей. Тырков новгородский помещик, летом живёт в деревне, где строит дом, и разводит сад, а к зиме является сюда, где молча угащивает приятелей хорошими обедами и винами. Мясоедов в Туле; поставил за долг всех, чрез сей город проезжающих лицейских, у заставы встречать шампанским. Пушкин, возвращаясь из Арзрума, где-то на дороге позамешкался, ибо к 19 октября сюда не явился. — Теперь же он уже здесь, но я его ещё не встречал».
Пушкин завершает яковлевский список отставных, а затем следует всего одна фраза: «О графе Броглио и о покойниках никаких известий не имеется»[590]. Понятно, что известия могут ожидаться только от покойников здравствующих, то есть от политических — от Пущина и Кюхельбекера, осуждённых по первому разряду и уж четвёртый год пребывающих «в мрачных пропастях земли». А сверх того десятый год, как никто из лицейских, слава богу, не умирал; в 1817-м — Ржевский, в 1820-м — Корсаков, судьба Броглио неведома…
Как видим, молодость, «надежды славы и добра», которые были порождены началом нового царствования,— всё это позволяло к 1830 году сохранить те ранние ощущения, связанные с окончанием Лицея, когда все жили «легче и смелей», когда —
14 декабря как будто не очень изменило судьбу большинства. В общем они довольны жизнью, тридцатилетние подполковники. «Дела кипят и сердце радуется», — сообщал Корф Малиновскому 25 июля 1834 года[591] (именно в те дни, когда у Пушкина разыгрался острый конфликт с властью по поводу вскрытия его семейных писем!).
При этом большинство лицейских Пушкина любит, «земляком» гордится. (Впрочем, в их письмах почти не отражено читательское восприятие его творчества.) Среди младших курсов успел выработаться своеобразный культ Пушкина. Одно из свидетельств тому — воспоминания Павла Ивановича Миллера (уже упоминавшегося в начале данной работы в связи с анализом беседы Пушкина с Николаем) и его переписка с поэтом (подлинники некоторых ранее уже опубликованных записок Пушкина к Миллеру обнаружились в 1972 г.)[592].
Любопытное «раздвоение личности» этого человека было по-видимому характерной чертой всей его биографии, где обнаруживаются многие эпизоды, связанные с его официальным положением, и в то же время — ряд смелых, «конспиративных» действий совсем другого направления (в 1862 г., между прочим, П. И. Миллер несомненно сотрудничал с Вольной печатью А. И. Герцена).
Известное раздвоение (сознаваемое или неосознанное) — заметная черта и первого, пушкинского курса: служба, карьера, тон и «ритм» николаевских 1830-х годов («им некогда шутить, обедать у Темиры»); и в то же время идеалы лицейские, дух и стиль «дней александровых…» — то, о чём позже вспомянет Кюхельбекер — «лицейские, ермоловцы, поэты…».
Поэтому длинная «сводка» Яковлева, оптимистически провозглашавшая вступление лицейских в 1830-е годы, на самом деле по своему «звучанию», лёгкости, особой шутливости была прощанием с 1820-ми…
В письмах следующих лет появляется всё больше строк о службе, крестах, чинах — и всё меньше радости от их достижения; каждый успех Пушкина — их успех, но бывший лицейский директор Е. А. Энгельгардт, между прочим, не без злорадства передаёт Матюшкину известие о поэте в связи со слабым приёмом «Бориса Годунова»: «В Пушкине только и было хорошего, что его стихотворный дар, да и тот кажется исчезает»[593].
Трудность раздвоения, соединения разных эпох для многих оказалась не последней причиной упадка духа, здоровья, раннего ухода из жизни.
Проходит меньше двух лет после весёлого яковлевского письма, и Пушкин в лицейском послании 19 октября 1831 года говорит уже о шести друзьях, которых «не узрим боле»: за краткий срок ушли из жизни Дельвиг, Есаков, Саврасов, Костенский. Следующие годы рассеяли много надежд.
Разумеется, меньшая весёлость новых «обзоров» лицейского братства в письмах Яковлева, Энгельгардта и других объяснялась и просто движением времени. Однако сопоставление сводки Яковлева 1829 года с соответствующим перечнем Корфа (1839 г.[594]) открывает поразительную разницу общего духа, настроения, которую никак не объяснить только тем, что тридцатилетние стали сорокалетними. За десять лет многие иллюзии потерпели крушение.
Чуть позже Яковлев запишет о себе и Вольховском, что служба им была «мачехой».
Именно тогда, в 1830-х годах, впервые появляется тип, позже осмысленный как «лишний человек»: тип Онегина, Печорина, Бельтова в литературе; тип офицера, чиновника, отставного, человека из декабристского круга, не нашедшего себя в новом поколении; тип литератора, мыслителя, о котором четверть века спустя будет сказано: «Чаадаев <…> умел написать статью, которая потрясла всю Россию и провела черту в нашем разумении о себе <…> Чаадаева высочайшей ложью объявили сумасшедшим и взяли с него подписку не писать <…> Чаадаев сделался праздным человеком. Иван Киреевский <…> умел издавать журнал; издал две книжки — запретили журнал: он поместил статью в „Деннице“, ценсора Глинку посадили на гауптвахту,— Киреевский сделался лишним человеком…»[595] .
В XVIII — первой четверти XIX столетия «лишних» не было, общая положительная идея просвещённой империи ещё многих увлекала; теперь — иное: из людей пушкинского круга лишь некоторые приспособились, другие — представляли разнообразные, любопытные вариации «лишнего человека» (впрочем, не всегда это понимая).
Пушкин, и в труднейшие годы искавший положительного выхода, был во многих отношениях духовно близок «лишним людям». Однако поэту было с ними трудно: его действенная активность порою встречала у тех непонимание, апатию, раздражение.
От современников, читателей, более или менее разделяющих идеалы, надежды, иллюзии поэта, мы переходим к тем, кто бесповоротно, решительно перешёл к «сильным мира», в лагерь Николая и Бенкендорфа.
Подобную эволюцию проделали, между прочим, некоторые из вчерашних вольнодумцев, когда-то зачитывавшихся запрещёнными стихами Пушкина. Присмотреться к этим людям для пушкинского биографа полезно, во-первых, потому, что некоторые из них становятся пушкинскими читателями, так сказать, по долгу службы и, во-вторых, они иллюстрируют определённую тенденцию общественного развития; то, что было почти невозможно до 14 декабря, но становилось вполне «типическим» после.
У трона
Такова, например, эволюция Леонтия Васильевича Дубельта — офицера, в 1820-х годах близкого с М. Ф. Орловым, С. Г. Волконским и другими декабристами — приятелями Пушкина,— «одного из первых крикунов-либералов» (по словам многознающего Н. И. Греча). После 14 декабря 1825 года полковник Дубельт попал под следствие и хотя сумел избежать суда, но был внесён в «Алфавит», а в июне 1828 года вынужден подать в отставку. Прежний начальник Дубельта генерал Желтухин, тип ухудшенного Скалозуба, 24 марта 1829 года беспокоился, как бы в связи с отставкою полковника не исчезла возможность контроля — «не имеет ли он с кем-либо тайных сношений»[596].
Меж тем в этот период шеф жандармов искал новых, опытных сотрудников.
Ещё до 1825 года, по свидетельству С. Г. Волконского, «Бенкендорф вернулся из Парижа при посольстве и, как человек мыслящий и впечатлительный, увидел, какую пользу оказывала жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смышлёных, введение этой отрасли соглядатаев может быть полезно и царю, и отечеству, приготовил проект о составлении этого управления и пригласил нас, многих своих товарищей, вступить в эту когорту, как он называл, добромыслящих, и меня в их числе; проект был представлен, но не утверждён. Эту мысль Александр Христофорович осуществил при восшествии на престол Николая…»[597]
Авторитет нового могущественного карательного ведомства был подкреплён царским именем: не «министерство полиции», а III Отделение собственной Его императорского величества канцелярии.
«В вас всякий увидит чиновника,— гласила инструкция шефа,— который через моё посредство может довести глас страждущего человечества до престола царского, и беззащитного гражданина немедленно поставить под высочайшую защиту государя императора»[598].
Бенкендорф звал в своё ведомство едва ли не «всех» и особенно рад был вчерашним вольнодумцам. Почти незамеченным остался красочный эпизод — приглашение в сотрудники III Отделения не кого иного, как… Пушкина! И его отказ от этой милости[599].
Этот разговор с Пушкиным происходил в 1828 году.
Подобное же предложение вскоре получит и примет Дубельт.
В ответ на сомнения жены, Анны Николаевны, Дубельт отвечал весьма примечательным письмом:
«Ежели я, вступя в корпус жандармов, сделаюсь доносчиком, наушником, тогда доброе моё имя будет, конечно, запятнано. Но ежели, напротив, я, не мешаясь в дела, относящиеся до внутренней полиции, буду опорой бедных, защитою несчастных; ежели я, действуя открыто, буду заставлять отдавать справедливость угнетённым, буду наблюдать, чтобы в местах судебных давали тяжебным делам прямое и справедливое направление,— тогда чем назовёшь ты меня? Не буду ли я тогда достоин уважения, не будет ли место моё самым отличным, самым благородным? Так, мой друг, вот цель, с которою я вступаю в корпус жандармов; от этой цели ничто не совратит меня, и я, согласясь вступить в корпус жандармов, просил Львова, чтобы он предупредил Бенкендорфа не делать обо мне представление, ежели обязанности неблагородные будут лежать на мне, что я не согласен вступить во вверенный ему корпус, ежели мне будут давать поручения, о которых доброму и честному человеку и подумать страшно…»[600]
В этих строках легко заметить применённую к новой обстановке старую, декабристских времён, фразу о высокой цели («опора бедных…», «…справедливость угнетённым», «прямое и справедливое направление в местах судебных…») и в то же время демагогическую фразеологию Бенкендорфа.
Вскоре Дубельт попытался привлечь в III Отделение другую, куда более причастную к декабризму фигуру, Михаила Фёдоровича Орлова (сосланного в деревню и избежавшего Сибири только благодаря заступничеству перед царём родного брата, Алексея Орлова, влиятельного вельможи и будущего преемника Бенкендорфа). В архиве тайной полиции сохранилась жандармская копия ответного письма Орлова к Дубельту из деревни Милятино от 12 апреля 1830 года. Поскольку переписка чиновников III Отделения не перлюстрировалась, то весьма вероятно, что сам Дубельт представил следующий текст:
«Любезный Дубельт. Письмо твоё от 30 мая получил. Я уже здесь, в Милятине, куда я возвратился очень недавно. После смерти Николая Николаевича[601] я жил с женой и детьми в Полтаве, где и теперь ещё недели на три оставил жену мою, а детей привёз сюда. Очень рад, мой друг, что ты счастлив и доволен своей участью. Твоё честное и доброе сердце заслуживает счастья. Ты на дежурном деле зубы съел, и, следственно, полагаю, что Бенкендорф будет тобою доволен. Воейкову я отвечаю нет! Не хочу выходить на поприще литературное и ни на какое! Мой век протёк, и прошедшего не воротишь. Да мне и не к лицу, и не к летам, и не к политическому состоянию моему выходить на сцену и занимать публику собою. Я счастлив дома, в кругу семейства моего, и другого счастья не ищу. Меня почитают большим честолюбцем, а я более ничего как простой дворянин. Ты же знаешь, что дворяне наши, особливо те, которые меня окружают, не великие люди! Итак, оставьте меня в покое с вашими предложениями и поверьте мне, что с некоторою твёрдостию души можно быть счастливым, пахая землю, стережа овец и свиней и делая рюмки и стаканы из чистого хрусталя <…>
Твой друг Михаил Орлов»[602].
Письмо декабриста написано спокойно и достойно. Дубельт и Воейков, понятно, хотели и его вытащить на «общественное поприще», очевидно, апеллируя к уму и способностям опального генерала, однако получают решительный отказ.
При этом, правда, Орлов верит в чистоту намерений старого товарища и радуется его счастью: очевидно, Дубельт в своём письме объяснил мотивы своего перехода в жандармы примерно так, как и в послании к жене. Возможно, декабрист на самом деле допускал в то время, что Дубельт сумеет облагородить свою должность, однако не исключено, что деликатный Орлов умолчал о некоторых появившихся у него сомнениях: заметим несколько раздражённый тон в конце послания — «оставьте меня в покое с вашими предложениями…».
Через несколько месяцев, 12 мая 1831 года, Михаилу Орлову разрешили жить в Москве под надзором: Бенкендорф вежливо просил «Михаилу Фёдоровичу… по прибытии в Москву возобновить знакомство с генерал-майором Апраксиным» (одним из начальников московских жандармов). Какая-то связь между перепиской 1830-го и послаблением 1831-го, очевидно, имеется. Может быть, не теряли надежды уловить Орлова? Вскоре после того Пушкин виделся со старинным «арзамасским» знакомцем[603].
Эволюция Дубельта — любопытное социальное явление; начало его новой карьеры и соответствующие идеологические оправдания хорошо прослеживаются по сохранившимся многочисленным письмам А. Н. Дубельт к мужу[604].
Пушкин, по-видимому, прямо не знакомый с Дубельтом до 14 декабря, оказывается под его особым наблюдением в 1830-х годах, так как в III Отделении новый сотрудник считается одним из самых просвещённых, причастных к литературе.
24 июля 1833 года А. Н. Дубельт писала мужу: «Благодарю тебя, дружочек, за письма твои из Гатчины и Красного села. Описание кадетского праздника, которое вы сочинили с Гречем, прекрасно…»[605]
Дубельт, как видим, попал в сочинители, да ещё выступая совместно с таким профессионалом, как Николай Греч.
«Многие упрямые русские,— запишет позже Дубельт в дневнике,— жалуются на просвещение и говорят — „Вот до чего доводит оно!“ Я с ними не согласен. Тут не просвещение виновато, а недостаток истинного просвещения <…> Граф Бенкендорф, граф Канкрин, граф Орлов, граф Киселёв, граф Блудов, граф Адлерберг люди очень просвещённые, а разве просвещение сделало их худыми людьми?»[606]
«Ложное просвещение» Дубельт не принимал ни за какие красоты и достоинства.
По-видимому, Пушкин не шёл на сближение с Дубельтом, последний же вместе с Бенкендорфом не любил поэта, уверенный в его «ложном направлении». Когда Николай Полевой попросил разрешения работать в архиве, чтобы заняться историей Петра I, ему было отказано, так как над этим трудился в ту пору Пушкин. Утешая Полевого, Дубельт косвенно задел Пушкина (25 января 1836 г.): «Не скрою от вас, милостивый государь, что и по моему мнению посещение архивов не может заключать в себе особенной для вас важности, ибо ближайшее рассмотрение многих ваших творений убеждает меня в том, что, обладая в такой степени умом просвещённым и познаниями глубокими, вы не можете иметь необходимой надобности прибегать к подобным вспомогательным средствам»[607].
Особая роль генерала Дубельта в «посмертном обыске» у Пушкина известна; своеобразным эпилогом «отношений» явилась сцена, описанная А. А. Краевским, которого Дубельт однажды вызвал по поводу посмертных публикаций некоторых пушкинских текстов: «Чай, весело, что давненько не зову Вас к себе? А? Ведь весело, не правда ли? Что это, голубчик, вы затеяли, к чему у вас потянулся ряд неизданных сочинений Пушкина? Э-эх, голубчик, никому-то не нужен ваш Пушкин; да вот и граф Алексей Фёдорович[608] недоволен, сердится и приказал вам передать, что-де довольно этой дряни сочинений-то вашего Пушкина при жизни его напечатано, чтобы продолжать и по смерти его отыскивать „неизданные“ его творения да и печатать их! Не хорошо, любезнейший Андрей Александрович, не хорошо!»[609]
Наш экскурс о Дубельте предпринят только ввиду типической характерности его биографии, его «превращения из вольнодумца в жандарма»; особенно любопытны подобные же события, случившиеся с несколькими старыми приятелями Пушкина, вольнодумными собеседниками минувших лет.
Один из них — Иван Петрович Липранди, о котором подробно рассказано нами в других работах[610].
Пример такого же рода — Яков Николаевич Толстой: путь этого человека — от декабристского вольнодумства до секретной службы Бенкендорфу — не раз освещался в литературе (работы Б. Л. Модзалевского, М. К. Лемке и др.). Повторяя, по необходимости, уже известное и прибавляя кое-что, прежде не замеченное, выделим в следующей хронологической канве несколько характерных подробностей, так или иначе связанных с Пушкиным.
1818—1819. Поэт в Петербурге знакомится с гвардейским офицером, участником войны 1812 года, критиком, поэтом, членом декабристского Союза благоденствия Яковом Николаевичем Толстым.
1819—1820. Толстой, председатель легального декабристского общества «Зелёная лампа», где сближается с Пушкиным (встречи на квартире Н. В. Всеволожского. Затем на квартире самого Я. Толстого).
Июль 1819 года. Стихотворное послание Я. Толстого Пушкину — «О ты, который с юных лет…», где автор напоминает, что Пушкин обещал написать ему послание, когда они ехали однажды поздно ночью по Фонтанке домой с какой-то дружеской пирушки:
Конец 1819-го. Пушкин, может быть, начинает выполнять обещание и приступает к «Стансам», обращённым к Якову Толстому; однако до высылки из столицы не только не успел вручить их, но, в лучшем случае, едва начал…
Июль 1822 года. Я. Н. Толстой из Петербурга пишет Пушкину на юг (письмо доставлено в Кишинёв 25 сентября 1822 года; оно не сохранилось, но «вычисляется» по ответному посланию). Толстой передал предложение князя Лобанова — напечатать стихи Пушкина в Париже. Вместе с письмом несомненно пришёл сборник стихотворений Я. Толстого «Моё праздное время», вышедший в 1821 году (цензурное разрешение — 30 апреля). В этой книжке между прочим находилось и «Послание А. С. Пушкину»[612], которое звучало теперь уж как «печатный упрёк» за ненаписанное послание Пушкина.
26 сентября 1822 года Пушкин отвечает Толстому (см. XIII, 46—48); благодарит за то, что он один из всех «товарищей, минутных друзей минутной младости, вспомнил обо мне» (XIII, 47).
За предложение публиковаться во Франции поэт благодарит, но пока воздерживается: «Может быть, к новому году мы свидимся, и тогда дело пойдёт на лад».
В том же письме — пушкинское стихотворение:
Одна из последних фраз письма — «до свиданья и до посланья» (XIII, 48) — намекала на ещё не выполненное обещание 1819 года.
Конец 1822 или начало 1823 года. Второе (несохранившееся) письмо Я. Толстого Пушкину, о котором мы знаем по собственному, позднейшему признанию автора, что он отвечал в Кишинёв:
1823 год. К Толстому доходят слухи, будто обещанные ему для издания стихи Пушкин передал Гнедичу.
Вследствие этого (как сообщал Пушкин А. Бестужеву 12 января 1824 г.) «Толстой написал мне письмо пресухое, в котором он справедливо жалуется на моё легкомыслие, отказался от издания моих стихотворений, уехал в Париж, и мне об нём нет ни слуху, ни духу. Он переписывается с тобою в Сыне Отечества; напиши ему слово обо мне, оправдай меня в его глазах да пришли его адрес» (XIII, 84).
Толстой уехал из России 23 апреля 1823 года. Бестужев выполнил просьбу Пушкина и 3 марта 1824 года писал Толстому в Париж: «Ещё, если вам не хочется издавать Пушкина — то продайте его нам, мы немедля вышлем деньги. Он говорит, что Гнедич на сей раз распустил ложные слухи»[614].
1824—1825 годы. Скорее всего, именно в эту пору Пушкин, чувствуя известную вину перед приятелем, завершает своё послание к нему. Традиционно «Стансы Толстому» датировались 1819 годом на том основании, что сам Пушкин в Собрании стихотворений 1829 года отнёс их к стихам 1819 года (в так называемой «тетради Капниста» послание «К Т…» сопровождается датой 1820 г.). Вдобавок сохранилась копия первых 16 строк послания (из 24-х) рукою Льва Пушкина на бумаге с водяными знаками 1818 года:[615] как правило, бумага ненамного старше записанного на ней текста. Тем не менее есть веские основания для того, чтобы считать работу лишь начатой в 1819—1820 годах, но не оконченной.
Главное доказательство — интересное, полностью не публиковавшееся свидетельство самого Я. Н. Толстого. Много лет спустя, прочитав публикацию М. Н. Лонгинова об адресате пушкинских «Стансов»[616], Я. Н. Толстой написал автору статьи: «Прочтя в „Библиографических записках“ Ваших статью, касающуюся до меня, я долгом считаю сообщить Вам по сему предмету некоторые пояснения. Стансы Пушкина, действительно, написаны были для меня, но я находился в то время уже за границей и сообщения мои с незабвенным поэтом нашим были прекращены. В 1837 году приехал я на время в Петербург и при свидании моём с Пушкиным, за неделю до его плачевной кончины, я спросил: исполнил ли он обещание, о котором упоминал в письме своём ко мне из Кишинёва, где сказано: „прости, до свидания или до послания“. Он взял со стола тетрадь, показал мне вышеупомянутые стансы, я взял перо и списал их»[617].
Трудно представить, чтобы Толстой перепутал столь важные для него подробности. Снова подчеркнём, что, выпуская в свет в 1821 году сборник своих стихов, Толстой явно не знает пушкинского послания, которое если было бы завершено, то, конечно, имелось бы у адресата: в 1822-м Пушкин ведь ещё свидетельствует — «…до свиданья и до посланья».
Стансы начинались:
Пушкин уговаривает старшего друга:
Поэт предсказывает (угадывая грядущую судьбу Толстого!):
29 декабря 1825 года вышел в свет первый стихотворный сборник Пушкина, где в отделе «Разные стихотворения» напечатаны (без даты) «Стансы Толстому». Любопытно, что стихи сопровождались примечанием, по-видимому, от издателя П. А. Плетнёва: «Как здесь, так и в других местах поэт шутит над философией эпикурейцев. Читатель без сомнения не будет смешивать чистых душевных наслаждений с удовольствиями чувственными» (II, 1062, коммент.). Примечание, конечно, было сделано для цензуры, изгонявшей в 1820-х годах из словесности «эпикурейство», как непристойность, разврат.
И, наконец, 1829 год, «Стансы Толстому» снова напечатаны в пушкинском сборнике стихотворений[618]. На этот раз никакого примечания не было; зато возможные нападки предвосхищались пушкинской датировкой — 1819 год.
Передвижение назад даты «Стансов», по-видимому, маскировало (нередкий пушкинский приём!) время завершения стихов — датой первоначального замысла (1819). К тому же в 1829 году Пушкину было хорошо известно, что Я. Н. Толстой, сильно замешанный по делу декабристов, не торопится с возвращением на родину. Неизвестно было, как в дальнейшем сложатся его отношения с властью и не будет ли он объявлен вне закона, как Н. И. Тургенев.
Толстой, однако, выбрал путь Липранди и Дубельта. В 1830-х годах Толстой выпускает в Париже несколько работ, которые привлекли благосклонное внимание царя и Бенкендорфа. Особенно повысились «акции» полуэмигранта после публикации панегирической биографии Паскевича (той, которую николаевский фельдмаршал ожидал именно от Пушкина после его путешествия на Кавказ!)[619]
Осенью 1836 года в правительственных кругах окончательно созревает мысль — использовать вчерашнего вольнодумца как постоянного агента III Отделения за границей. Лучшей формой, маскирующей подобную роль, сочтён пост корреспондента министерства народного просвещения во Франции[620]. Толстого вызывают в Петербург для получения инструкций.
1 января 1837 года. Прибытие Я. Н. Толстого в Россию, после почти четырнадцатилетнего отсутствия. Бенкендорфу он подал тогда же подробную, неглупо составленную записку о способах подкупа западной прессы и необходимых методах пропаганды. Толстой, в частности, советовал «проявлять большую сдержанность в полемике: статьи, имеющие целью отражать памфлеты наших противников, должны быть основаны на фактах и должны быть написаны без всяких колкостей и самовосхваления, с лёгкой и приличной шуткой, и подкреплены энергичной аргументацией и разумными убедительными доводами»[621].
22 января. Свидание с Пушкиным. Кроме уже приведённого эпизода со «Стансами», Я. Н. Толстой припомнил, что «тут же, по желанию его <Пушкина>, я продиктовал переведённые мною на французский стихи Чёрную шаль, в которых я сохранил амфибрахический размер»[622]. Надо думать, во время этой встречи Толстой поднёс Пушкину две своих недавно вышедших книги, которые сохранились в библиотеке поэта: биографию Паскевича и ответ на памфлет герцогини д’Абрантес[623].
29 января 1837 года, день смерти Пушкина; и день, когда Я. Н. Толстой написал из Петербурга в Варшаву знаменательное письмо (П. Б. Козловскому), недавно обнаруженное в Парижском архиве[624]. Письмо мажорное, полное надежд на будущее: «Могу Вам сказать, что я был совершенно доволен приёмом, который мне был оказан…» Посетовав (в духе своего секретного доклада Бенкендорфу) на узость и примитивность «пропагандистских приёмов» Булгарина в полемике с Западом, Толстой продолжал: «Моё пребывание здесь было для меня очень полезно, и я имел случай разубедиться во многих вещах, которые мне представлялись с преувеличенной точки зрения, люди и вещи много лучше, чем их представляли и, главное, люди прекрасные, тот, с которым у меня были самые непосредственные отношения, преисполнен чести и порядочности. Я не испытывал никакой трудности получить то, что я просил, теперь мне остаётся преодолеть одну, ту, которая происходит от перемены моего положения, трудность иерархическую и которую такой философ, как я, презирал бы, но так как я должен поступить на службу, то мне надо также подумать и о чине, который мне дадут; иначе говоря, дело идёт о том, чтобы сделать меня надворным советником вместо коллежского; впрочем, Вы можете себе представить, что я не буду браниться из-за такого пустяка, таким образом Вы можете считать моё дело законченным»[625].
Оптимистический взгляд Я. Толстого на его собственные обстоятельства легко подтверждается материалами дела канцелярии министра народного просвещения «О назначении отставного гвардии штабс-капитана Якова Толстого корреспондентом министерства народного просвещения в Париже»[626].
Дело начато за два дня до цитируемого письма Толстого, 27 января 1837 года, в день последней дуэли Пушкина. Оно открывается отношением Бенкендорфа к министру народного просвещения Уварову, где сообщается «высочайшее повеление о назначении Толстого корреспондентом министерства народного просвещения»: согласия министра не спрашивали, и это подчёркивало прямую связь нового чиновника с III Отделением, в то время как «народное просвещение» — не более чем маскировка (напомним, что окончательное прощение за «левые грехи» Булгарина в 1826 также выразилось в его причислении к министерству народного просвещения…)[627]. В письме Козловскому от 29 января 1837 года лишь один абзац посвящён гибели Пушкина; строки крайне сдержанные, скорее сочувственные противникам поэта («наш поэт, у которого был вспыльчивый, ревнивый характер, продолжал преследовать Дантеса, который, доведённый до крайности, кончил тем, что дрался с ним»[628]).
Толстой, конечно, учитывал мнение своих хозяев, которые могли «вдруг» прочесть письмо, и в то же время, очевидно, и сам (недавний читатель и почитатель погибшего поэта) был уже близок к их точке зрения.
Чтобы подвести итоги этих отношений, нужно вспомнить, что, как ни старался «человек Бенкендорфа» забыть своё прошлое, оно, можно сказать, преследовало его. В 1855—1857 годах, в период наступившего общественного «потепления», когда Я. Толстой пытался энергично противодействовать Вольной печати Герцена за границей[629],— в это самое время в разных изданиях почти одновременно появилось несколько публикаций о Толстом и Пушкине. Сначала П. В. Анненков привёл большие выдержки из известного письма поэта к Я. Толстому от 26 сентября 1822 года и вместе с ними текст пушкинского стихотворения, обращённого к приятелю;[630] вслед за тем несколько русских журналов опубликовали материалы, которые не попали на страницы анненковского издания. Толстой, надо думать, был этим не очень доволен: предавалось гласности то прошлое, те связи и «шалости», о которых он не хотел помнить. Особенно поразило его, что Анненков печатал пушкинское письмо по копии, в то время как Я. Толстой хранил подлинник у себя или даже успел его уничтожить[631].
Так, на закате бесславной жизни Яков Толстой в последний раз вынужден «общаться» с Пушкиным, мир которого он давно отверг и предал.
Трагедия поэта, разумеется, не в утрате таких друзей, но в увеличении числа им подобных…
Здесь уместно напомнить, что, кроме откровенных «ненавистников» Пушкина, в последние годы его окружали и доброжелатели «без понимания», снисходительные к поэту либо «из моды», либо именно потому, что ознакомились с его творениями поверхностно; либо не отличавшие привязанности личной от литературной. С годами подобные читатели легко остывали к поэту[632].
«Толпа слепая»
В начале этой главы «Пиковая дама» позволила сопоставить век нынешний и минувший, сосредоточиться на героях-«шутниках» и тех, которым «некогда шутить». Это дало повод для «социологических наблюдений» над пушкинским окружением, читателями 1830-х годов. От близких к поэту литераторов мы перешли к более широкому кругу друзей, доброжелателей, всё более распространяющемуся типу «лишних людей»; наконец, к ренегатам, сделавшим те шаги, которых власть напрасно ждала от Пушкина. Во многих случаях мы наблюдали общественную усталость, гибельное раздвоение, угасание молодого задора, которым отличались разные поколения прежней, «додекабрьской» России, что, конечно, имело прямое отношение к тому ослаблению читательского интереса, которое Пушкин стал замечать с 1828 года.
Однако это ещё не объясняет: кто же «уловил» многих читателей (ибо число их несомненно росло)? Чья словесность «вытесняла» пушкинскую в 1830-х годах?
Ответ известен давно: коммерческая литература Булгарина, Греча, Сенковского и им подобных. В то время, когда Пушкин почувствовал первые признаки читательского охлаждения, в 1829 году, Булгарин издал своего «Ивана Выжигина»; затем «Петра Выжигина», «Дмитрия Самозванца», другие романы и повести. Спрос оказался больше обычного: за 5 дней разошлось 2000 экземпляров «Ивана Выжигина», в течение двух лет до 7000[633].
В то время, как Пушкин своими сочинениями и журналистскими предприятиями не мог поправить собственных дел, Булгарин и Греч, продолжая надавать «Северную пчелу» и «Сын отечества», получали в год чистого дохода около 20 тысяч рублей серебром (около 80 тысяч ассигнациями: между прочим — вдвое больше, чем весь капитал, поставленный несчастным Германном на первую карту и не намного меньше пушкинских посмертных долгов).
Причина временного успеха булгариных довольно понятна — об этом говорилось не раз: потакание примитивным вкусам тех, кто выучился грамоте, но не чтению, кому Пушкин, другие лучшие литераторы чужды, «трудноваты». Примитивные авантюрно-нравоучительные сюжеты, с умелым заимствованием некоторых достижений «большой литературы» (развёртывание действия в современной России, бытовые подробности, мнимый интерес к «жизни народа» и т. п.), нравились.
Усилия Булгарина можно определить (условно употребляя позднейшие термины) как попытку создания подобия «массовой культуры» в «домассовый» её период.
Большую активность Пушкина и его друзей в осмеивании Булгарина, обстрел его эпиграммами, презрительными прозвищами объясняли по-разному: и тем, что Пушкин был задет лично (прямые и косвенные доносы Булгарина, намёки, вызвавшие «Мою родословную», и т. п.).
Конечно, это объяснение необходимое, но недостаточное: ничтожность Булгарина, литератора и человека, контрастировала с энергией противобулгаринских ударов. Высказывалось мнение об огорчении пушкинского круга удачами Булгарина на книжном рынке. Да, разумеется, и это было — поэт преимущественно писал о нечистых приёмах «грачей-разбойников» (Булгарина и Греча) в их борьбе с конкурентами; пытался «доказать правительству, что оно может иметь дело с людьми хорошими, а не с литературными шельмами, как досель сие было»[634]. И всё же чего-то не хватало при разборе причин,— зачем Пушкин, а вместе с ним и за ним несколько литературных поколений так много внимания уделяли лицу, как будто совсем того не заслуживающему[635].
Несколько лет назад Д. А. Гранин выдвинул гипотезу, что Пушкин видел в Булгарине тип, во многом сходный с образом Сальери[636].
Ряд несомненно совпадающих черт у Булгарина и героя «маленькой трагедии», однако, не перекрывали уж слишком разительных отличий; сам автор гипотезы отмечает, что «Сальери велик, Булгарин мелок, Сальери боготворит искусство — Булгарин торгует им бессовестно и корыстно <…> Пушкин относится к Сальери с интересом, сатанинская философия Сальери — достойный противник; Булгарина Пушкин презирает»[637].
Согласимся только с тем, что Пушкин действительно видел в Булгарине тип; но не столько художественный, человеческий, сколько исторический.
Главное, что вызвало необходимость серьёзной антибулгаринской войны, было — народ.
Булгарин и его круг всячески подчёркивали свою народность, понятно, противопоставляя её «аристократизму» Пушкина, Вяземского, Карамзина…
Проблема народа была первейшей для Пушкина, открывавшего народную стихию в «Борисе Годунове», «Дубровском», «Истории Пугачёва». О народе размышляли декабристы, Чаадаев, завтрашние западники, славянофилы, Белинский, Герцен.
Наконец, именно в начале 1830-х годов народ был замечен правительственными идеологами, среди которых Булгарин не последний…
Народ, по словам Герцена, представлялся в ту пору «спящим озером, которого подснежные течения никто не знал <…>»[638], — «не люди, а материал, ревизские души, купленные, всемилостивейше пожалованные, приписанные к фабрикам, экономические, податные — но не признанные человеческими».
На другом же общественном полюсе Л. В. Дубельт заносит в дневник свои довольно откровенные суждения о мужике, без сомнения, сходные с подобным же взглядом его «коллег»: «Отчего блажат французы и прочие западные народы <…>? Оттого, что у них земли нет, вот и вся история. Отними у нас крестьян и дай им свободу, и у нас через несколько лет то же будет…
Мужичку же и блажь в голову нейдёт, потому что блажить некогда <…>
Нет, не троньте нашего мужичка, только подумайте об том, чтобы помещики с ним были милостивы <…> Тогда мужичок наш будет и свободен, и счастлив».
Дубельт находит, что в России «все от царя до мужика на своём месте, следовательно, всё в порядке <…> Пусть наши мужички грамоте не знают <…>, они ведут жизнь трудолюбивую и полезную, они постоянно читают величественную книгу природы, в которой бог начертал такие дивные вещи, с них этого довольно!»[639]
Итак, народ, живущий своей жизнью, сохраняющий старинный образ существования и мыслей,— необходимое условия самодержавной власти. Откровенная версия так называемой теории официальной народности в изложении одного из главных её практиков.
В работах о Пушкине (в частности, по поводу борьбы с Булгариным) ещё недостаточно учитывается влияние на всю общественную, политическую, литературную атмосферу 1830-х годов нового идеологического курса, который был провозглашён министром народного просвещения С. С. Уваровым: формула «самодержавие, православие, народность».
В декабре 1832 года Уваров во всеподданнейшем отчёте по поводу «искоренения крамолы» в Московском университете восхвалял «истинно русские охранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего отечества»[640]. В 1834 году сходные рекомендации были повторены в циркуляре попечителям учебных округов. «30-е годы XIX века,— отмечает современный историк,— время оформления „теории“ официальной народности как цельной идеологической доктрины самодержавия, ставшей с тех пор вплоть до 1917 года его идейным знаменем»[641].
Понятно, мы не имеем цели подробного освещения всей этой проблемы[642], но ограничимся лишь некоторыми общими соображениями, не слишком уводящими от пушкинской темы.
В IV главе нашей книги говорилось о попытках Николая I и части высшей бюрократии (Сперанский, Блудов) осуществить некоторые реформы, в частности, начать освобождение крестьян облегчением участи дворовых. Пушкин (и, конечно, не он один) ещё в начале 1830 года считал близкими существенные перемены («великие предметы») — те самые, на которые царь намекнул в кремлёвской беседе с поэтом 8 сентября 1826 года (см. XIV, 69).
Сопротивление консервативной бюрократии, дворянства заставило отступить даже весьма умеренных реформаторов, крестьянский вопрос практически не сдвинулся с места, верх взяла уже упоминавшаяся формула великого князя Константина: «Что касательно существенных перемен, лучше <…> отдать их ещё на суд времени». Бунты, восстания, революции 1830—1831 годов в пределах Российской империи и в Европе ещё больше охладили реформаторский пыл высшей власти. Теперь царю, правительству приходилось примирять непримиримое: реформы, прежде всего крестьянские, нужны (им наверху это довольно ясно),— но провести реформы, по их понятиям, невозможно, смертельно опасно. «Бунтовщиков» боятся поощрить одним намёком на свободу,— и одновременно обозлить могущественных крепостников.
Основой внутренней политики 1830-х годов объявляется уваровская триада: «самодержавие, православие, народность». В этой формуле, как легко заметить, «просвещение» отсутствует (а ведь её объявляет министр народного просвещения!).
Отныне в идеологию с особой силой вторгается идея о «единстве монарха с верным, покорным народом», единстве, противостоящем возможной крамоле со стороны просвещённого меньшинства.
То, что не прошло, было отвергнуто дворянской элитой в 1801 году (непросвещённую систему Павла с радостью заменяют просвещённым абсолютизмом Александра) — теперь на новом витке исторической спирали возрождается и утверждается.
Между 1801 и 1830 годами пролегла целая историческая эпоха. За это время менялись взгляды основной массы дворянства, напуганного перспективой краха всего крепостнического уклада; развивались и воззрения правящего слоя на народ, на самодержавие. Только при таких условиях могла утвердиться и затем достаточно долго продержаться система, идеологически близкая к тому, что в начале века было энергично отвергнуто отцами и дедами «николаевских дворян».
Уваровская «триада» была обрамлена массой лживых слов о народе и царе («квасной патриотизм»,— заметит Пушкин, беседуя с П. А. Мухановым 5 июля 1832 г.)[643]. Однако, кроме слов, были и дела: если курс взят на то, чтобы мужичок «не блажил», не читал, не получал воли (и тогда он будет «свободен и счастлив»!), значит, роль просвещения меняется.
Пушкинская записка «О народном воспитании», как мы помним, предлагала в 1826 году просвещение как основной способ улучшения, оздоровления, освобождения; теория официальной народности в 1830-х годах предписывает не торопиться… Отсюда, между прочим, следует ряд известных мер по сокращению «ненужных предметов» (естественного права и др.), ограждению университетов от «неблагородных сословий»[644].
Разумеется, в государственном механизме всякое движение достаточно сложно, неоднолинейно: курс на «народность», сословность, идеологическое и финансовое ограничение просвещения не мог отменить известного минимума цивилизованности, необходимого, для самой закоснелой системы. Промышленность, пусть в десятки раз медленнее, чем на Западе, — но всё же развивалась, разные технические новшества, научные и учебные заведения естественно продолжали появляться, но куда медленнее, менее эффективно, нежели это было бы при иной системе.
Влияние уваровского курса широко выходило за пределы, прямо «подведомственные» Министерству народного просвещения. Новый курс способствовал выработке определённого официального взгляда на литератора, интеллигента, просветителя, мыслителя, как на фигуру в той или иной степени опасную: это человек «второго сорта», чья задача должна сводиться не к инициативе, а к исполнению (Герцен позже заметит, что Николаю нужны были «вестовые, а не воины»). Отсюда начиналась и целая цепь практических действий, планов, идей, касавшихся и общих политических вопросов, и личного достоинства.
Решался и вопрос, будут ли реализованы планы, на которые царь намекал 8 сентября 1826 года,— просвещение, стимулированное сверху.
Если всё это не сбудется, тогда ход событий будет связан «с тиранией или, вернее, с низким и дряблым деспотизмом» (XII, 204; перев с фр.)[645].
Просвещённая система была бы повторением (не буквальным, но историческим, на «новом витке спирали») петровских реформ. Второй вариант — система официальной народности,— как уже говорилось, был бы своего рода повторением Павла.
Пётр или Павел…
Что означала для Пушкина и его круга формула «православие, самодержавие и народность», очень хорошо видно по одной дискуссии, разгоревшейся в середине 1830-х годов. Спор зашёл, в сущности, о том, кто выиграл войну 1812 года. Николай I куда больше, чем его брат Александр, поддерживал официальный культ Отечественной войны с точки зрения новой идеологической системы[646].
Спор о главных героях войны возник в связи с пушкинским стихотворением «Полководец» (1835) и другими сочинениями (статья Ксенофонта Полевого о книге В. Скотта «Жизнь Наполеона Бонапарта» и др.)[647].
Пушкинский взгляд на 1812 год был высок, патриотичен и очень сложен; для царя и «официальной народности» — слишком сложен. Обсуждая усилия миллионов и роль великих единиц, поэт говорил о таинственных механизмах судьбы, истории. Он понимал как огромный подвиг народа, так и его слепоту; о Барклае будет сказано: «Народ, таинственно спасаемый тобою…» Теория Пушкина некоторыми положениями предвосхищала рассуждения Льва Толстого в романе «Война и мир».
За свои взгляды поэт подвергся нападению «справа», в частности, был заподозрен в недооценке царской роли.
Ортодоксально монархическая точка зрения на 1812 год перешла в новое время из прежнего царствования, когда вопрос о роли Александра I в победе над Наполеоном был достаточно щекотливым; русские успехи в Европе 1813 и 1814 годов (при непосредственном участии царя) тогда были официально более желаемой темой, чем народная война 1812-го с царём в Петербурге.
Согласно рьяным монархистам, главнейший герой войны — царь, иначе и быть не может…
Казалось бы, сторонники этой версии могли рассчитывать на успех у Николая I. Однако на этом стихийно возникшем конкурсе «приз» достался… Булгарину. Вот что было напечатано в «Северной пчеле» 11 января 1837 года (за восемнадцать дней до кончины Пушкина): «Земные спасители России суть: император Александр и верный ему народ русский. Кутузов и Барклай де Толли велики величием царя и русского народа; они первые сыны России, знаменитые полководцы, но не спасители России! Россия спасла сама себя упованием на бога, верностью и доверенностью к своему царю».
Итак, войну выиграл союз царя и народа, полководцы же — исполнители воли этого союза.
Булгарин высказался именно в том духе, который требовался, в духе официальной народности. За пятнадцать — двадцать лет до этого подобная позиция вряд ли была бы столь оценена наверху, как теперь…[648]
Пушкину и его кругу в 1830-х годах предлагался взгляд на Россию и народ в свете новейших уваровских, булгаринских понятий — взгляд псевдопатриотический, «квасной», подразумевающий недоверие к просвещению, интеллигенции, литературе. Ещё в 1826 году, «предвосхищая» завтрашние откровения Уварова, Булгарин советовал «магическим жезлом матушки России»[649] привлекать «нижнее состояние» (то есть мелких подьячих, грамотных крестьян и мещан, деревенское духовенство и раскольников).
О народе, народности, лженародности спорили, разумеется, без всякого участия 96 процентов населения, грамоты не знавших. Пушкин отлично понимал относительность для 1830-х годов таких понятий, как народный поэт, «мнение народа»: эта стихия исследована в «Борисе Годунове» и только что — в работах о Пугачёве.
«Народ безмолвствует», но во глубине этого безмолвия имеет мнение, нравственное убеждение, только поняв которое можно уловить законы перехода от самой рабской покорности к самому неистовому бунту.
Любопытно, что примерно в это время (сентябрь 1838 г.), на другом конце России, в восточносибирской ссылке, другой прогрессивный мыслитель пришёл к заключению, что «народ мыслит, несмотря на своё глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушивать мнения, которые мешают ему выразить»[650].
Как влияло на мышление народа существование литературы, общественной мысли?
Пушкин издавал свои книги тиражами 1200, в лучшем случае 2400 экземпляров; за всю его жизнь его произведения (включая и журнальные публикации) были напечатаны общим тиражом не более ста тысяч экземпляров; поэт, твёрдо уверенный, что 9 из 10 жителей в столицах и 99 из 100 жителей провинции никогда о нём не слыхали: как смотрел он на это роковое противоречие между широчайшим смыслом и узким распространением своего слова?
В 1830-х годах быть «не народным» означало опасное расхождение с официальным курсом. Успехи Булгарина, Греча, Сенковского шли в унисон с правительственной официальной народностью, и «демократическая» литература булгаринского толка вроде бы начинала выполнять поставленную правительством задачу — завоевания народа, просвещения большинства в официальном духе.
Не раз уже отмечалось, что и Пушкин понимал необходимость расширения сферы воздействия высокой словесности: для того мечтал о политической газете, начал выпускать «Современник»…
И в то же время — решительно отказывался от быстрых, «верных» способов завоевания читателя. Вяземский восклицает: «Век Карамзина и Дмитриева сменяется веком Сенковского и Булгарина»[651]. Булгарин, в свою очередь, ехидно объявляет: «Пусть уверяют, что пушкинский период кончился, что теперь наступает новая эпоха. Это может быть справедливо в отношении к столицам, но в Саратовской губернии царствует и продолжается ещё пушкинский период»[652].
Пушкин же идёт к читателю своим путём — зачастую путём удаления от него; «не зарастёт народная тропа», «и долго буду тем любезен я народу…»: для того чтобы это осуществилось, нужно не к ним спуститься, а их к себе поднять; муза послушна не велению толпы, а «веленью божию».
В принципе в «теории» всё было ясно — что Булгарин и что Пушкин; но в жизни — тяжко.
Мы взглянули, пусть бегло, на основную массу российских читателей и нашли, что великий писатель имел серьёзные, горькие основания говорить о «слепой толпе», «смехе толпы холодной».
Декабристы
Теперь обратимся к численно небольшой, но исторически важной части российских читателей: стариков, главное своё дело совершивших.
«Я помню, что когда я не умел ещё читать, то знал уже на память некоторые стихи из 1-й главы „Евгения Онегина“, так часто эту главу при мне читали. Лет тринадцати я мог уже без ошибки прочесть на память большинство мелких стихотворений, я знал, конечно, всё напечатанное и многое, обращавшееся в рукописях. Мою страсть к Пушкину наследовали мои сыновья.
У меня здесь есть внучка лет девяти, которая много знает из Пушкина не хуже меня — и даже иногда меня поправляет, если я ошибусь. Надеюсь, что и правнуки будут иметь такую же страсть к Пушкину».
Это отрывок из письма Евгения Ивановича Якушкина к своему другу-пушкинисту и библиографу Петру Александровичу Ефремову (от 20 февраля 1887 г.). Сын декабриста родился в 1826-м, когда отец, Иван Дмитриевич Якушкин, был уже в тюрьме; его назвали Евгением в честь другого декабриста — Оболенского. «Когда я не умел ещё читать» — это конец 1820-х годов; отец на каторге, мальчика воспитывают мать и бабушка; частый гость и друг — П. Я. Чаадаев. «Лет тринадцати» — это время после смерти Пушкина.
Затем Е. И. Якушкин оканчивает Московский университет, участвует в общественном движении 60-х годов и делает в ту пору необычайно много для сохранения и публикации — в России и у Герцена — декабристских мемуаров, запретного, «потаённого» Пушкина. Евгений Якушкин фамилией, возрастом, политическими воззрениями был человеком декабристского круга и демократом 40-х годов; его «страсть к Пушкину» разделяли многие из старших — отец, Пущин, Волконский, Кюхельбекер… Однако ещё в 1830-х годах давнее признание сменяется серьёзной «левой критикой».
Отношения декабристов и Пушкина в 1830-х годах рассматривались многократно; свой взгляд автор данной книги развил в другом труде[653]. Поэтому здесь уместен сравнительно короткий обзор. Несколько сот человек приговором суда или административно отправленные в 1826 году в Сибирь, на Кавказ, по дальним гарнизонам, в имения под надзор, лишённые гражданских прав и слова,— декабристы тем не менее объективно составляли «незримое сообщество», чьё мнение и суждение просачивались разными каналами на свободу, и весомо участвовали в главных российских разговорах.
Период диалога Пушкина с ссыльными декабристами относится к 1826—1827 годам: тогда были написаны главные послания поэта заточённым друзьям, появились их отклики.
Позже разговор замирает, очевидно, более всего из-за неприятия декабристами опубликованных пушкинских «Стансов» и других его «знаков примирения» с властью.
Незнание, непонимание, физическая невозможность, иногда и нежелание понять сложную позицию поэта — всё это отражалось в некоторых сохранившихся «репликах» И. И. Горбачевского, Д. И. Завалишина, И. И. Пущина и других «государственных преступников». М. С. Лунин в своих потаённых трудах, создававшихся в 1837—1840 годах, совершенно не упоминает Пушкина. В одном из последних «наступательных» сочинений, «Общественное движение в России в нынешнее царствование» (1840 г.), декабрист рассматривает пятнадцатилетнее правление Николая и делает заключение, конечно, несправедливое, но хорошо понятное в общем контексте лунинских идей: «За этот период не появилось ни одного сколько-нибудь значительного литературного или научного произведения. Поэзия повесила свою лиру на вавилонские ивы…»[654]
На «периферии» декабристской критики в ту пору возникают отдельные односторонние суждения, легенды, порою и сплетни; и тогда А. А. Бестужев восклицает (26 января 1833 г.): «Я готов, право, схватить Пушкина за ворот, поднять его над толпой и сказать ему: „Стыдись! Тебе ли, как болонке, спать на солнышке перед окном, на пуховой подушке детского успеха? Тебе ли поклоняться золотому тельцу, слитому из женских серёг и мужских перстней — тельцу, которого зовут немцы „Маммон“, а мы, простаки, Свет?“»[655]
Тогда же возникали вдруг и сплетни о Пушкине, будто бы проигравшем в банк письма Рылеева: об этом рассказывалось в примечании к первой, лондонской публикации (1861) писем Рылеева к Пушкину: неизвестный автор, сообщая тексты, списанные «с копии, находящейся у С. Д. П. и сделанной сим последним с самого оригинала», затем утверждал, ссылаясь на самого С. Д. П. (т. е. известного библиографа С. Д. Полторацкого), что «П<олторацкий> ставил 1000 р. асс. и предлагал Пушкину против этой суммы поставить письма Рылеева. В первую минуту Пушкин было согласился, но тотчас же опомнился, воскликнув: „Какая гадость! Проиграть письма Рылеева в банк! Я подарю вам их!“ Но Пушкин всё откладывал исполнение своего обещания, так что Полторацкий решился как-то перехватить их у него и списал. После этого Пушкин всё ещё не отступался от намерения подарить их ему. Но, как говорит Полторацкий, вероятно, всё забывал»[656].
Пятнадцать лет спустя, 19/31 октября 1876 года, С. Д. Полторацкий писал «о неверных, вздорных, сверх того, бестолковых строках в VI книге герценовской Полярной звезды <…>, о метании будто бы в банке (вместо денег) подлинных писем Рылеева к Пушкину; это относилось в конце 1826 года к одной главе Онегина, которой Пушкиным тогда не было ещё написано ни одного стиха…»[657].
Усилившееся непонимание со стороны осуждённых друзей было, конечно, поэтом замечено; такие исключения, как Кюхельбекер, и во глубине Сибири тонко чувствовавший Пушкина,— очень редки. Откровенно объясниться было практически невозможно.
«Критика слева» по отношению к Пушкину шла не только из «сибирских руд». Высказывалась молодёжь, преимущественно московская, отношения которой с великим поэтом (при его жизни и после гибели) представляются особенно важными.
«Юная Москва»
Так называлась одна из глав герценовского «Былого и дум».
Герцен родился 25 марта 1812 года — в тот день, когда лицеист I курса Илличевский записал о своём однокласснике, что «Пушкин, живши между лучшими стихотворцами, приобрёл много в поэзии знаний и вкуса», и о том, что он (Илличевский) пишет с Пушкиным стихи «украдкою», так как лицеистам «запрещено сочинять»[658].
Несмотря на тринадцать лет разницы, сходство многих «детских обстоятельств» у Пушкина и Герцена огромно. И у старшего, и у младшего — детство московское, дворянское. Отец Герцена, Иван Алексеевич Яковлев, — ровесник Сергея Львовича и Василия Львовича Пушкиных, верно, встречался с ними в обществе. У них у всех один и тот же тип иронии, свободомыслия — дух XVIII столетия, с которым они родились и были молоды. Со страниц «Былого и дум» мы узнаем, как отец Герцена всё ожидал, что смертный приговор пяти декабристам не будет исполнен; в отличие от Пушкиных он, правда, не прочитал ни одной русской книги, но был просвещённо умён.
«Наш век,— писал Герцен,— не производит более этих цельных, сильных натур; прошлое столетие, напротив, вызывало их везде, даже там, где они не были нужны, где они не могли иначе развиться, как в уродство. В России люди, подвергнувшиеся влиянию этого мощного западного веяния, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными»[659].
Более того — «влияние философских идей XVIII века оказалось в известной мере пагубным в Петербурге. Во Франции энциклопедисты, освобождая человека от старых предрассудков, внушали ему более высокие нравственные побуждения, делали его революционером. У нас же Вольтерова философия, разрывая последние узы, сдерживавшие полудикую натуру, ничем не заменяла старые верования и привычные нравственные обязанности. Она вооружала русского всеми орудиями диалектики и иронии, способными оправдать в его глазах собственную рабскую зависимость от государя и рабскую зависимость крепостных от него самого»[660]. Герценовские строки концентрированно определяют и его, и пушкинских старших современников.
В «Былом и думах» мы не находим прямых рассказов о встречах с Пушкиным, но там есть множество важных наблюдений о пушкинском времени, пушкинских сочинениях, о личности поэта. Мы вправе говорить о пушкинских страницах герценовских мемуаров, и по возможности их проанализируем…
Итак, детство и юность Герцена проходят в Москве, в то время, как Пушкин — в Лицее, Петербурге, на юге. Однако в доме Ивана Алексеевича Яковлева рано знакомятся со стихами, разрешёнными и запретными: ещё около 1824 года учитель Иван Евдокимович Протопопов приносил своему ученику Александру Герцену «мелко переписанные и очень затёртые тетрадки стихов Пушкина: „Ода на свободу“, „Кинжал“, „Думы“ Рылеева…»[661], а десять лет спустя, в июле 1834-го, титульный советник Александр Герцен, арестованный по обвинению в «поношении государя императора и членов императорского дома злыми и вредительными словами», сообщает между прочим на следствии: «Лет пять тому назад слышал я и получил стихи Пушкина „Ода на свободу“, „Кинжал“, Полежаева не помню под каким заглавием <…>, но, находя неприличным иметь таковые стихи, я их сжёг, и теперь, кажется, ничего подобного не имею»[662].
Наступает лето и осень 1826 года. Пушкин томится в Михайловском, затем — прибывает в Кремлёвский дворец…
Много лет спустя Герцен вспомнит о том времени: «Мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чём дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи»[663].
Самоанализ важен и точен: «ребяческий сон души», в котором всё «очень смутно»,— но уже в этом полусне многое готово к пониманию.
Во всей тогдашней России людей, думавших так,— наперечёт.
У исследователей биографии Герцена порою рождался соблазн счесть революционные, антикрепостнические взгляды двух юношей, Герцена и Огарёва, едва ли не сложившимися в момент клятвы на Воробьёвых горах. Сам Герцен, между прочим, очень точно обрисовал степень как достигнутого, так и ещё не осмысленного к четырнадцати — пятнадцати годам: «Несмотря на то, что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной проницательностью; они были до того сбивчивы, что я воображал в самом деле, что петербургское возмущение имело между прочим целью посадить на трон цесаревича <Константина>, ограничив его власть. Отсюда — целый год поклонения этому чудаку»[664].
«Светлая искренность», возвышенность мечты — при том, что сцена на берегу Москвы-реки «может показаться очень натянутой, очень театральной»; что «мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли»[665].
Пушкин всё это время оставался для молодых москвичей важнейшей фигурой, но преимущественно автором вольных, дерзких, запрещённых стихов. Нового, «последекабрьского» поэта знали куда меньше; к тому же вызывали недоумение его стихи, обращённые к Николаю…
Много лет спустя в «Былом и думах» и «Колоколе», особенно в дни польского восстания 1863—1864 годов, Герцен снова и снова возвращался к событиям 1830-х годов — и его воспоминания тем интересней, что они принадлежат очевидцу, современнику, одному из тогдашних девятнадцатилетних.
В 1850 году (О развитии революционных идей в России): «В России все те, кто читают, ненавидят власть; все те, кто любят её, не читают вовсе или читают только французские пустячки. От Пушкина — величайшей славы России — одно время отвернулись за приветствие, обращённое им к Николаю после прекращения холеры, и за два политических стихотворения»[666].
В 1859 году (статья «Very dangerous!!!») : «Сам Пушкин испытал, что значит взять аккорд в похвалу Николаю. Литераторы наши скорее прощали дифирамб бесчеловечному, казарменному деспоту, чем публика; у них совесть притупилась от изощрения эстетического нёба!»[667]
В 1869 году («Былое и думы»): «Негодование…, которое некогда не пощадило Пушкина за одно или два стихотворения»[668].
И, может быть, самое резкое (статья «1831—1863»): Белинский, «искушаемый змием немецкого любомудрия, увлёкся разумностью всего сущего <…> Какую страшную чистоту надобно было иметь, какую самобытную независимость и бесконечную свободу, чтоб напечатать что-нибудь вроде оправдания Николая в начале сороковых годов.
Эту чистоту ошибки поняли те самые люди, которые не могли простить двух стихотворений Пушкину…»[669]
«Чистоты ошибки» в пушкинских стихах 1831 года, выходит, не было?..
«Юной Москве» содержание стихов не понравилось. Эти молодые люди ещё не очень хорошо знали — что надо делать, но имели довольно ясное мнение о том, чего делать не следует. Их не очень занимали важные тонкости, и поэтому они не стремились вникать в то обстоятельство, что стихи Пушкина всё же отличались от громких патриотических виршей какого-нибудь Рунича, что Пушкин призывал оказать «милость падшим», что в русско-польской вражде он хотел видеть «семейное дело» — спор славян между собою… Всё это молодые люди прочли, но не захотели понять.
Если отнюдь не «красный» П. А. Вяземский был недоволен стихами 1831 года, можно представить, что говорилось в аудиториях Московского университета, какие колкости по адресу петербургских одописцев отпускали на своих сходках «девятнадцатилетние нахалы». И Пушкин, наезжая во вторую столицу, это отлично почувствовал.
В 1830-м—1831-м молодость Пушкина кончилась. Немолодым прожил он ещё семь лет. Молодые люди 1831 года за это время стали менее молодыми людьми 1837-то. И он, и они едва знали друг друга, хотя им казалось, что — знают, хотя у них были общие знакомые, и юноша Герцен захаживал к тем людям, откуда Пушкин только что выходил: Чаадаев, Михаил Орлов, «Вельможа» — Николай Юсупов…
Летом 1834 года, в то самое время, когда Пушкин был взбешён вскрытием его семейных писем и пытался подать в отставку,— в это самое лето Герцен и его друзья были арестованы, а затем сосланы в Вятку, Пензу, на Кавказ. Пушкин же вряд ли о том и узнал. К удалению внутреннему прибавлялось удаление географическое. Пушкину и ссыльным почти не оставалось шансов коротко познакомиться.
В своих письмах, записях, статьях молодые люди Пушкина почти не вспоминали. По мнению молодых людей, сейчас — в 30-е годы — поэт занимается не тем или не совсем тем, а впрочем, вообще — мало занимается, ибо мало печатается.
Белинский — один из несосланных молодых людей — отзывается, например, в 1835-м на новые сочинения («Будрыс…», «Гусар», «Подражание древним» и др.) : «Их с удовольствием, даже с наслаждением прочтёт семья, собравшаяся в скучный, длинный зимний вечер у камина; но от них не закипит кровь пылкого юноши, не засверкают очи его огнём восторга <…> Осень, осень, холодная, дождливая осень после прекрасной роскошной весны, благоуханной весны, словом —
<…> Будь поставлено на заглавии книги имя г. Булгарина, и я бы был готов подумать, уж и в самом деле Фаддей Бенедиктович не гений ли? Но Пушкин — воля ваша, грустно и подумать»[670].
Белинский в середине 1830-x годов полемизировал с Пушкиным по многим вопросам, не разделяя или не понимая важных идейных, издательских принципов поэта. В ту же пору из Вятки в Москву и обратно почта возит каждую неделю, а то и чаще письма ссыльного Александра Герцена и его невесты Натальи Захарьиной. Несколько писем отправлены в феврале и марте 1837 года, но о смерти Пушкина там ни слова! Так же, как и в более поздних посланиях. Для неё — это понятно: она живёт как бы вне времени, заключённая в собственном чувстве; если бы Пушкин мог знать, его заняла бы эта ситуация: гибель великого поэта, печаль тысяч людей — и влюблённая девушка, выросшая на стихах этого поэта и не желающая сейчас знать ни о нём, ни о чём. Но он — её Александр,— он вполне на земле и пишет не только о любви, но и о литературе — о Шиллере, даже Чаадаеве. И вот Пушкин умер, а Герцен — ни слова. Может быть, считал, что поэт умер уже давно, а теперь убили только человека? Огарёв, правда, отозвался из своей ссылки стихами «На смерть поэта», но в них преобладает чувство ненависти к погубителям; не о поэтической судьбе, а о власти, о «руке Николая». Пушкин, как видим, находился в непростых отношениях с молодёжью, которая столь трудно идёт к нему.
Исчерпаны ли этим прижизненные отношения Пушкина и «юных москвичей»?
Мы уже пользовались (с понятными оговорками) позднейшими «сердитыми» воспоминаниями Герцена о Пушкине 1830-х годов; но есть ведь и другие строки, не противоречащие, сложно гармонирующие с критикою. Разумеется, и здесь — взгляд из будущего, но открывающий или приоткрывающий смутно ощущаемое при жизни, ясно осознанное после гибели Пушкина: отношения не развивались по прямой. Сначала восхищение, любовь (1820-е гг.); потом, в 1830-х — несогласие, осуждение, смутное понимание; затем, с 1840-х,— опять любовь, высокое понимание.
Вот как смотрела на Пушкина юная Москва.
Но как же оценивал её сам поэт?
Москва пушкинская
Любовь к Москве и спор с нею, притяжение и отталкивание; город, где Пушкин родился, но где жить не желает…
Молодые, дерзкие юноши «вокруг университета» Пушкина и раздражают, и притягивают: в черновиках «Путешествия из Москвы в Петербург» (1833—1834) написаны (и затем зачёркнуты) строки про «бездушного читателя французских газет, улыбающегося при вести о наших неудачах» (XI, 482; речь идёт о временных военных неудачах 1831 г.). Это ответ на дошедший ропот Герцена и его единомышленников.
Несмотря на краткость своих наездов во вторую столицу, Пушкин, как видно, успел заметить, услышать о молодых людях, увлечённых сегодня Шеллингом, завтра — Гегелем; подразумеваются кружки, общества — такие, как у Станкевича, Аксакова, Киреевских; вокруг Герцена, Огарёва, Белинского. В «Путешествии из Москвы в Петербург» находим: «Философия немецкая, которая нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее влияние её было благотворно: оно спасло нашу молодёжь от холодного скептицизма французской философии, и удалило её от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения!» (XI, 248).
«Вредные мечтания», то есть декабризм: Пушкин, конечно, в немалой степени маскируется для цензуры, но главная идея и на расстоянии «схвачена» верно — насчёт читающей, мыслящей молодёжи, которая ищет свой путь, обдумывая достигнутое мировой мыслью. Иное дело, что несколько лет спустя, не без помощи этой самой «умиротворяющей» немецкой философии, при посредничестве Гегеля и Фейербаха, немалая часть этих молодых людей далеко зайдёт, приблизившись к новым «упоительным мечтаниям», то есть революционным идеям…
Пока же, в 1830-х годах, Белинский, ещё и не подозревающий о будущих своих одиннадцати статьях, посвящённых пушкинскому творчеству, печатает строки, прямо или косвенно упрекающие поэта за удаление от прежних идеалов; а Пушкин, прочитав всё это, начинает с помощью верного друга Нащокина отыскивать способы привлечения молодого критика к «Современнику». Затея не успела осуществиться, но порыв поэта многозначителен…[671] Теперь обратимся к другим образам Москвы 1830-х годов в восприятии Пушкина. Ю. М. Лотман находит, что «тройной эпиграф» о Москве к седьмой главе «Евгения Онегина» — это «изображение историко-символической роли Москвы для России, бытовая зарисовка Москвы как центра частной, внеслужебной русской культуры XIX века и очерк московской жизни как средоточия всех отрицательных сторон русской действительности»[672]. Подобные мотивы — и на московских страницах «Путешествия из Москвы в Петербург». Во всём многосложном, ироничном пушкинском описании хорошо заметны две линии, нисходящая и восходящая.
Прежней Москве, грибоедовской, декабристской, Москве пушкинского детства,— «реквием»… Того города, того общества нет. «Невинные странности москвичей были признаками их независимости <…> Надменный Петербург издали смеялся и не вмешивался в затеи старушки-Москвы. Но куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки и проказники — всё исчезло <…> „Горе от ума“ есть уже картина обветшалая, печальный анахронизм. Вы в Москве уже не найдёте ни Фамусова, который всякому, ты знаешь, рад — и князю Петру Ильичу, и французу из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьевны, которая
Хлестова в могиле; Репетилов в деревне. Бедная Москва!..» (XI, 246—247).
Пушкин повторяет: «смиренная Москва», «присмиревшая Москва», «бедная Москва». Как в стихотворении «К вельможе», как при сопоставлении эпох в «Пиковой даме», поэт жалеет о милом, невозвратимом прошлом, главная прелесть которого — беззаботность, независимость[673]. Понятно, что Москва присмирела после 1825 года, и, осудив в одном месте своей статьи «упоительные и вредные мечтания», Пушкин тут же охотно предаётся «упоительным воспоминаниям» о времени тех мечтаний.
Вздохнув о Москве ушедшей, уходящей, вздохнув с полным пониманием того, что историю не воротить, Пушкин рисует затем новую Москву; краски здесь, однако, иные, чем в «Пиковой даме» или «К вельможе»: там романтике прошлого противопоставлен бездушный, торопящийся обыватель, человек «века железного»… Здесь же, в «Путешествии из Москвы в Петербург», после нескольких строк об оживлении и развитии промышленности и купечества; автор напоминает, что «…просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию Ломоносова.
Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчивые и смышлёные литературные откупщики. Учёность, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьёт журнализм петербургский.
Московская критика с честию отличается от петербургской. Шевырёв, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями английских Reviews[674], между тем как петербургские журналы судят о литературе, как о музыке, о музыке как о политической экономии, т. е. наобум и как-нибудь, иногда впопад и остроумно, но большею частию неосновательно и поверхностно» (XI, 247—248).
Не обязательно Москвою, но людьми, просвещением, литературою в «московском духе», а не булгаринском — вот как, согласно Пушкину, можно и должно двигаться вперёд, надеяться.
Вот где был шанс к спасению.
1830-е годы, на воле, куда тяжелее для поэта, нежели прежние 1820-е — в неволе, гонении… Кругом меняющееся общество. Менее других подвержен переменам простой народ, но он далеко, грамоты не знает; часть современников нашла себя в николаевском мире; другие не сумели — стали людьми «лишними»; третьи, близкие друзья, разделяя многое пушкинское, сумели дальше поэта продвинуться по пути компромисса, примирения с сущим; те же, кто в Сибири, на Кавказе, в Московском университете, — они в большинстве настроены довольно критически, порицают «слева» или, даже сочувствуя, находят в поэте и его поколении много наивного, «устарелого», «ребяческого»…
В шестой главе «Евгения Онегина» Пушкин спрашивал сам себя:
И, конечно, неслучайно в восьмой главе поэмы дважды, на очень близком расстоянии,— автор и «толпа».
Затем — строфа XI-я. Молодость прошла:
Два состояния — гармония и разлад. «Чувства разделяя» и «не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей» (при том, следуя не за, a далеко впереди чинной толпы).
Белинский чутко ощутил столкновение времён, огромную трудность даже для большого мастера — овладеть новой эпохой, новым поколением. Рассуждая о 1810-х годах, «времени Батюшкова», критик писал: «Его время было странное время,— время, в которое новое являлось, не сменяя старого, и старое и новое дружески жило друг подле друга, не мешая одно другому. Старое не сердилось на новое, потому что новое низко кланялось старому, и на веру, по преданию, благоговело перед его богами»[675].
Не понимая Белинского буквально, — мы знаем, что молодой Пушкин и его друзья были чужды какого-либо благоговения,— согласимся с тем, что в 1830-х «старикам» трудновато: они чаще сердятся, молодые — реже кланяются…
Пушкин — во всё более «разреженном» воздухе.
Выход — в бегстве, в сельском одиночестве («в обитель дальную»), как Баратынский?
Или найти общий язык, сговориться с той самой хорошей московской молодёжью, о которой только что писано в «Путешествии из Москвы в Петербург»? Пожалуй, это было бы возможно, проживи Пушкин ещё несколько лет. Признаки такой возможности мы видим в том новом приближении «москвичей» к Пушкину, которое обозначилось — увы! — после гибели поэта.
Белинский возвращается к Пушкину одиннадцатью своими знаменитыми статьями. Герцен позднее найдёт, что Пушкин уж давно написал об их поколении: «Онегин <…> как и все мы <…>, постоянно ждал чего-то, ибо человек не так безумен, чтобы верить в длительность настоящего положения в России. Ничто не пришло, а жизнь уходила. Образ Онегина настолько национален, что встречается во всех романах и поэмах, которые получают какое-либо признание в России, и не потому, что хотели копировать его, а потому, что его постоянно находишь возле себя или в себе самом»[676].
Важнейшим событием для Белинского, Герцена и их друзей стал ряд пушкинских произведений, опубликованных после его смерти, в 1837—1841 годах[677], а также встречи с людьми пушкинского круга, людьми, причастными к 14 декабря, которые рассказывали о своём Пушкине. Неожиданное открытие — новое поколение лицеистов: «Весь курс 1845 года,— вспоминает Герцен,— ходил я на лекции сравнительной анатомии. В аудитории и в анатомическом театре я познакомился с новым поколением юношей.
Направление занимавшихся было совершенно реалистическое, т. е. положительно научное. Замечательно, что таково было направление почти всех царскосельских лицеистов. Лицей <…> оставался ещё тем же великим рассадником талантов; завещание Пушкина, благословение поэта, пережило грубые удары невежественной власти»[678].
«Благословение поэта» — здесь нечто новое. 18 марта 1844 года Герцен запишет в дневник впечатления о парижских лекциях Адама Мицкевича: «Мицкевич <…> в Петре <…> понял одну отрицательную сторону, равно и в Пушкине, а он был дружен с ним; и как же его душе поэта было не понять Пушкина!»[679]
Прекрасный комментарий, тем более ценный, что делается мыслителем, не принимающим пушкинских патриотических стихов 1831 года.
Наконец, ещё через несколько лет Герцен запишет строки, наиболее выразительно определяющие то, что поняли «москвичи» в Пушкине: «Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о перемене, произошедшей в умах с 1825 года, чем сравнение Пушкина с Лермонтовым. Пушкин, часто недовольный и печальный, оскорблённый и полный негодования, всё же готов заключить мир. Он желает его, он не теряет на него надежды; в его сердце не переставала звучать струна воспоминаний о временах императора Александра. Лермонтов же так свыкся с отчаяньем и враждебностью, что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы или соглашения. Лермонтов никогда не знал надежды, он не жертвовал собой, ибо ничто не требовало этого самопожертвования. Он не шёл, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пестель и Рылеев, потому что не мог верить в действенность жертвы; он метнулся в сторону и погиб ни за что»[680].
Не станем обсуждать, насколько верна эта оценка Лермонтова: некоторым его выдающимся современникам он представлялся именно таким…
Между тем Лермонтов — ровесник Герцена и Огарёва, это их поколение: Лермонтов не идёт на компромисс и вроде бы должен быть ближе, чем Пушкин, старший и более уступчивый. Но Герцен разглядел главное: между вольнолюбивыми стихами, декабристской молодостью Пушкина и его «новыми песнями» не только различие, это каждый заметит, но и сходство, а это Герцену сейчас особенно важно. Сходство — в искренности, в поисках выхода: «борьба или соглашение»… Пушкин не мог не искать, и следующее поколение постепенно усваивает, сколь ценна сама попытка, стремление…
Вот почему «уступчивый Пушкин» им стал ближе бескомпромиссного Лермонтова. И тут-то открылось, что «Гусар», «Песни западных славян», подражание древним и прочие «аполитичные» сочинения — это ведь и есть самая высокая политика. Это не дальние намёки или, как Пушкин говорил, «политические применения», а жизнь, свет, радость, человечность, тот самый положительный идеал, которого так не хватало…
Деятельная натура Пушкина постоянно искала выхода в «борьбе или соглашении». Вопрос жизни для поэта был в том, что возьмёт верх; какою ценою придётся оплатить соглашение, заключённое ещё в 1826 году? С кем бороться, кого оспоривать?
Глава VIII «Путник…»
…ляжешь на ночлеге,
В пристань, плаватель, войдёшь,
Бедный пахарь утомлённый,
Отрешишь волов от плуга
На последней борозде.
О дуэли Пушкина в XIX веке писали мало, в XX — очень много.
Временами причины трагедии казались ясными, и тогда одни утверждали, будто Пушкин, например, погиб «из-за ревности»; другие же видели главную, иногда единственную основу случившегося в действиях злонамеренной власти. Однако некоторых исследователей, истолкователей, людей, любящих, понимающих Пушкина, простые схемы никак не устраивали — и тут порою многое представлялось непонятным. Так, П. В. Анненков, выдающийся знаток биографии и творчества поэта, жалуясь И. С. Тургеневу на цензуру, находил одновременно и другие, более существенные трудности при описании последних дней Пушкина: «Что делать! Он в столице, он женат, он уважаем — и потом он вдруг убит. Сказать нечего, а сказать следовало бы, да ничего в голову не лезет. И так и сяк обходишь… Какая же это биография? <…> Есть кое-какие факты, но плавают они в пошлости»[681].
Все, кто пытался добросовестно углубиться в зловещие коллизии 1836—1837 годов, постоянно испытывал несколько затруднений.
Во-первых, сюжет крайне деликатный, где даже крупнейшие специалисты порою сбивались на бытовые мелочи, невольно отдавали дань «сплетням», допуская этические просчёты.
Во-вторых, проблема фактов: многих подробностей не знаем, важнейшие слова были в своё время не записаны, а только произнесены. Отсюда обилие необоснованных, искусственных гипотез, «моделей» события — и в то же время фактов не так уж мало, в них легко утонуть; крайне трудно — вовремя «отвлечься» для необходимых обобщений.
В-третьих, постоянная опасность, подстерегающая любого исследователя (а историка нравов, человеческих отношений в особенности!): речь идёт об измерении прошедшего мерками другой эпохи, позднейшими психологическими нормами.
Наконец, четвёртая трудность: разные «уровни истины», особенно заметные в такого рода делах. Можно сказать, что Пушкин погиб на дуэли, защищая честь жены,— и это не будет ложью; так же как утверждение, что его затравил двор; или, наконец, что он погиб — от «отсутствия воздуха».
Истина личностная, общественная, «космическая»: одна не противоречит другой.
Отнюдь не собираясь даже кратко обозреть всю историю дуэли и смерти Пушкина, попытаемся уяснить некоторые важные обстоятельства, делая как бы обширные заметки на полях того, что уже известно из трудов, созданных несколькими поколениями исследователей[682].
1834-й
С этого времени обычно начинают непосредственную историю гибели поэта. 1 января Пушкин записал в дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове» (XII, 318). Причисление поэта ко двору — источник ряда последующих неприятностей — таких, например, как выговор 16 апреля 1834 года: Пушкину за отсутствие на одной из придворных церемоний «мыли голову» (по его собственному выражению, часто встречающемуся в письмах и разговорах). «Говорят,— писал поэт жене на другой день,— что мы будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придётся выступать с Безобразовым или Реймарсом. Ни за какие благополучия!» (XV, 128). Поэт грустно шутил, что предпочитает быть высеченным, нежели ходить в паре с камер-юнкерами почти что «лицейского возраста»[683].
Разумеется, дело было не только в придворных неприятностях. «Домашние обстоятельства мои затруднительны; положение моё не весело; перемена жизни почти необходима» (XV, 174): строки, написанные Жуковскому несколько месяцев спустя, относились уже к целому периоду, прожитому в Петербурге. Ещё прежде в Дневнике Пушкина (1833—1835) описаны или упомянуты раздражающие обстоятельства, целая галерея лиц (Бринкен, Безобразов, Скарятин, Суворов, только что принятые в русскую службу Дантес и Пина), чьи истории были для поэта примером «обмеления общества», упадка нравов, потери чести… В ту же пору Пушкин оскорблён тем, что Общество любителей словесности выбрало его в свои члены вместе с Булгариным: поэт писал М. П. Погодину в начале апреля 1834 года, что видит в Булгарине «ошельмованного негодяя, толкующего о чести и нравственности. И что же? в то самое время читаю в газете Шаликова: Александр Сергеевич и Фаддей Венедиктович, сии два корифея нашей словесности, удостоены etc. etc. Воля Ваша: это пощёчина» (XV, 124).
Таков был общий фон острейшего конфликта поэта с властями, разыгравшегося в конце весны и начале лета 1834 года.
История этого конфликта, давно известная, сравнительно недавно была обогащена обнаружением подлинников ряда важных документов.
20 марта 1972 года в Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина поступили материалы из семейного архива Миллеров. Среди рукописей оказалось десять автографов А. С. Пушкина, составляющих в совокупности тридцать семь страниц текста (одна творческая рукопись и девять писем). Всё это были документы, собранные Павлом Ивановичем Миллером в основном на службе при Бенкендорфе[684].
Близость Миллера к Бенкендорфу позволила ему сыграть известную роль и в невесёлой истории 1834 года, главные этапы которой необходимо напомнить.
20 и 22 апреля 1834 года Пушкин писал жене, отправившейся в Москву (см. XV, 129—130). Письмо было перлюстрировано московским почт-директором А. Я. Булгаковым, понятно, по распоряжению свыше (может быть, в связи с недавним «плохим поведением» поэта на придворных церемониях). Это был четвёртый нам известный перехват пушкинской почты (а сколько ещё было неизвестных!):[685] в 1824-м вскрыли письмо (Вяземскому или Тургеневу), за что поэта сослали в Михайловское; в марте 1826-го распечатали письмо Плетнёву, в ноябре перехвачено послание Погодина (см. гл. II).
И вот в 1834-м перлюстрируется письмо Пушкина к жене, где Бенкендорфа и царя возмутят следующие строки: «Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Видел я трёх царей; первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упёк меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвёртого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тёзкой; с моим тёзкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибёт» (XIII, 129—130).
Пушкин узнаёт о перехвате своего письма и 10 мая записывает: «Несколько дней тому получил я от Жуковского записочку из Царского Села. Он уведомил меня, что какое-то письмо моё ходит по городу и что государь об нём ему говорил» (XII, 328—329).
Как видно из этой записи, прошло какое-то время, прежде чем Пушкин узнал, что речь идёт не о каких-то «скверных стихах, исполненных отвратительного похабства, и которые публика благосклонно и милостиво приписывала мне», но что «московская почта распечатала письмо, писанное мною Наталье Николаевне, и, нашед в нём отчёт о присяге великого князя, писанный видно слогом не официальным, донесла обо всём полиции». К моменту записи (10 мая) полиция «представила письмо государю», затем «письмо показано было Жуковскому», которому удалось несколько успокоить высочайших перлюстраторов.
Пушкин занёс далее в дневник гневные строки по поводу этой истории: «Государю неугодно было, что о своём камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью. Но я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! Что ни говори, мудрено быть самодержавным» (XII, 329).
Между тем Жуковский был не единственным информатором Пушкина. Получив предупреждение о письме, которое «ходит по городу», поэт сумел узнать о роли московской полиции (точнее, московского почт-директора А. Я. Булгакова) ещё из одного источника.
В 1880 году об этом рассказал в печати Ф. М. Деларю, со слов своего отца М. Д. Деларю, лицеиста и поэта, хорошо знавшего Пушкина: «Письмо это было перехвачено в Москве почт-директором Булгаковым и отправлено в III Отделение к графу Бенкендорфу. Секретарём Бенкендорфа был тогда Миллер, товарищ отца моего по Лицейскому пансиону. Граф передал ему письмо Пушкина, приказывая положить в портфель, с которым он отправился к докладу к государю. Миллер, благоговея сам перед талантом Пушкина и зная отношение к нему отца моего, тотчас же бросился к последнему и привёз с собою письмо Александра Сергеевича, спрашивая, что ему теперь делать? Отец мой, ни минуты не колебавшийся в своём решении — во что бы то ни стало избавить Пушкина от угрожающей ему крупной неприятности и знавший рассеянность графа Бенкендорфа, взял у Миллера письмо, прочитал его и спрятал в карман. Миллер пришёл в ужас и стал умолять отца возвратить ему письмо, но отец мой отвечал, что отдаст его только в таком случае, если Бенкендорф о нём напомнит Миллеру. При этом отец мой спросил Миллера, разве не случалось ему получать от графа целые ворохи бумаг с просьбой положить их в особый ящик стола и недели через две, при напоминании об этих бумагах со стороны секретаря, просить последнего бросить их в огонь?
Миллер отвечал, что это даже часто случается. Следовательно,— возразил мой отец,— тебе нечего бояться.
Если бы, паче чаяния, Бенкендорф и вспомнил о письме, то ты скажешь ему, что уничтожил его вместе с другими бумагами, согласно распоряжению его сиятельства. Миллер согласился на это, а отец мой немедленно отправился к Пушкину, чтобы сообщить ему о случившемся. Бенкендорф не вспомнил о письме»[686].
Прочитав рассказ Ф. М. Деларю, Миллер опубликовал некоторые поправки и дополнения, сначала в газете «Новое время», а затем тот же текст — в «Русской старине». Препровождая 8 сентября 1880 года свою статью Я. К. Гроту, Миллер сообщал: «Я в ней не исправляю неверностей и хронологических промахов Деларю, а возобновляю только факт в его настоящем виде. Меня одно смущает: не покажется ли это желанием с моей стороны похвастаться сделанной услугой?»[687]
Миллер в целом согласился с рассказом Деларю и признал свою особую роль в этой истории. Было также уточнено, что из Москвы в III Отделение прислали не подлинник, а копию с письма Пушкина к жене, «отмеченную припискою: „с подлинным верно“». Бенкендорф положил копию не в портфель, а «в один из двух открытых ящиков, стоявших по обеим сторонам его кресла перед письменным столом». Каждый ящик делился на три отдела, шеф жандармов часто клал полученные бумаги «не в тот отдел», и в конце концов поручил Миллеру «сортировать их каждый день и вынимать залежавшиеся». «Когда я увидел копию,— вспоминал Миллер,— в отделе бумаг, назначенных для доклада государю, у меня сердце дрогнуло при мысли о новой беде, грозившей нашему дорогому поэту. Я тут же переложил её под бумаги и в другой отдел ящика и поехал сказать М. Д. Деларю, моему товарищу по Лицею, чтоб он немедленно дал знать об этом Пушкину на всякий случай. Расчёт мой на забывчивость графа оказался верен: о копии уже не было речи, и я через несколько дней вынул её из ящика вместе с другими залежавшимися бумагами»[688].
Миллер не сообщил всего; вероятно, была ещё одна копия того же письма, которая всё же дошла к Николаю I, а затем и к Жуковскому. Однако в любом случае эта история открывает немалые возможности, которыми располагал П. И. Миллер в отношении бумаг своего начальника.
Вероятно, на новой стадии конфликта Пушкина с властью секретарь шефа жандармов ещё раз воспользовался своим положением.
25 июня 1834 года Пушкин отправил Бенкендорфу прошение об отставке, что, естественно, было связано с историей перлюстрации семейного письма.
Дата, поставленная Пушкиным на этом документе, считается опиской — «15 июня» (вместо 25-го). Однако скорее всего письмо было действительно написано в середине месяца, и десять дней Пушкин размышлял — отправлять или нет? Трудно представить ошибку в десять дней на столь важном, определяющем судьбу документе; о состоянии же поэта в середине месяца говорит строка из письма к жене, отправленного около 19 июня 1834 года: «Здесь меня теребят и бесят без милости» (XV, 162)[689].
Так или иначе, но после 25 июня у Бенкендорфа уже было прошение поэта об отставке, «поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции» (XV, 165; перев. с фр.). Двусмысленность происходящего заключалась в том, что Пушкин, разумеется, не мог объявить истинной причины своего поступка, но ясно понимал, что там, наверху, поймут. Поэт просил «в качестве последней милости <…>, чтоб дозволение посещать архивы, которое соизволил мне даровать его величество, не было взято обратно».
Ответ задержался на пять дней. 30 июня Бенкендорф от имени царя передал разрешение на отставку; в архивы же доступ запрещался, «так как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенною доверенностию начальства» (XV, 171).
Тогда-то в эти дела горячо вмешивается Василий Андреевич Жуковский.
Четвёртая попытка
Дружба Пушкина и Жуковского — столь известный, столь часто обсуждаемый в литературе факт их биографии, что он постепенно стал едва ли не «общим местом». Между тем отношения этих людей были в высшей степени характерным явлением века и культуры.
Детство и ранняя юность двух поэтов, кажется, не имеют почти ничего сходного: Пушкин — отпрыск знатного, видного московского рода, Жуковский, который, собственно говоря, даже и не Жуковский, но побочный сын тульского помещика Бунина и пленной турчанки Сальхи.
После мимолётных встреч маленького Пушкина и начинающего входить в литературу Жуковского,— новое знакомство и начало дружбы в 1815 году, в Лицее. И в этот период их как будто мало что соединяет: Жуковский вдвое старше, формально мог быть бы отцом Пушкина; он уже знаменитый поэт, автор обошедшего всю страну «Певца во стане русских воинов», в то время как поэтическая слава Пушкина ещё не утвердилась даже в стенах Лицея, Жуковский уже прошёл нелёгкий путь унижений, страданий: любовь к родственнице М. А. Протасовой, отказ её родителей, мысль — писать на высочайшее имя и затем отречение от счастья… Беспечная юность Пушкина ещё не омрачена «грозным временем и грозными судьбами»…
И тем не менее дружба, близкая, весёлая, творческая, «арзамасская» и, главное,— совершенно равная.
Автор этих строк уже не раз, вслед за другими исследователями, отмечал ту особенную ситуацию «арзамасского равенства», когда не было проблемы «отцов и детей», но все были дети, и семнадцатилетний Пушкин, и старшие вдвое Жуковский, Батюшков, Денис Давыдов; даже пятидесятилетний Карамзин.
Так или иначе, живые, творческие отношения двух поэтов, очень быстро перешедших на «ты», сохраняются навсегда, хотя подвергаются постоянным, непростым испытаниям.
Пушкину всё же приходится регулярно выслушивать житейские нравоучения и наставления Жуковского; Жуковскому же нужно считаться с самим фактом существования пушкинской поэзии. Мысль, что старший именно с этой поры всё больше уходит в переводы, как бы «не смея» сочинять при Пушкине, высказывалась неоднократно,— и в этом, конечно, есть немалая доля истины. Однако благожелательность и добродушие Жуковского были беспредельны. В течение своей жизни, имея возможность помогать, делать добро (во многом благодаря своей придворной службе), Жуковский сумел помочь Гоголю, Лермонтову, Баратынскому, Шевченко, Герцену, Киреевскому, многим декабристам… Если говорить коротко — сумел словом, советом, рекомендацией, деньгами помочь, пожалуй, всей русской литературе, культуре.
Разумеется, это отнимало много времени и сил, внешне как будто бы мешало творчеству… Но надо думать, что Жуковский вообще бы не мог работать, если бы подобным благородным образом постоянно не «мешал бы сам себе».
Несколько раз он употреблял всю силу своей души, своего влияния, чтобы помочь Пушкину.
Во-первых, в 1820-м году, когда над юным поэтом нависла угроза Соловков или Сибири. Главным действующим лицом во время тех хлопот был, как помним, Карамзин, но едва ли не Жуковский соединил тогда историографа с поэтом, и в рекомендации, сопровождавшей Пушкина на юг, значилось имя двух поручителей, Карамзина и Жуковского.
Второй раз в конце 1824 года: сосланный в Михайловское, поражённый разными формами клеветы, Пушкин был близок к «безумным поступкам», самоубийству.
Постоянно сожалея о короткой, на тридцать восьмом году оборвавшейся жизни поэта, мы должны помнить о «крае гибели», у которого он находился в двадцатипятилетием возрасте.
Дружеская помощь, утешение были чрезвычайно своевременны. Тут не один Жуковский помог, но всё же именно Жуковский своими прекрасными письмами о высоком предназначении поэта и поэзии сильно ободрил Пушкина[690].
Тогда, в середине 1820-х годов, после моральной поддержки, очень скоро потребовалось и новое, практическое заступничество. В начале 1826 года Жуковский, опять вместе с Карамзиным, вели сложную, нам во многом невидимую работу для вызволения Пушкина. Новая защита перед властями, как известно, сыграла свою роль — и Пушкин был из ссылки освобождён. Третья помощь…
С тех пор прошло восемь лет. Жуковский, искренне считавший, что Пушкину пристало быть во дворце, у трона, радовался «перемирию», определённым милостям, которые великий поэт получал от царя. Разумеется, смешно преувеличивать здесь влияние старшего на младшего; усилия Жуковского только потому встречали известное сочувствие Пушкина, что он сам в этот период был склонен к иллюзиям, сам находил пользу и резон в общении с верховной властью. И всё же Жуковский, без сомнения, легче принимал существующий порядок вещей; однако при оценке этих обстоятельств важно обратить внимание на существенную общую черту придворного поведения двух поэтов. Каждый считал абсолютно необходимым сохранение благородства, личного достоинства перед царём и правительством.
Неслучайно «царедворец» Жуковский часто вступал в конфликты с царём и Бенкендорфом, «предстательствуя» за тех или иных лиц. Подобный эпизод разыгрался, например, в начале 1832 года, когда Жуковский поручился за «благонамеренность» И. В. Киреевского (подвергшегося преследованию за свой журнал «Европеец»). Николай I, рассерженный «упрямством» главного наставника своего сына, спросил: «А за тебя кто поручится?» Между царём и Жуковским произошла сцена, вследствие которой Жуковский заявил, что коль скоро и ему не верят, то он должен тоже удалиться; на две недели он приостановил занятия с наследником. Николай извинился, помирился — но «Европеец» не был разрешён.
Инцидент был как бы исчерпан — до новых попыток заступничества со стороны Жуковского[691].
В начале 1834 года Жуковскому казалось, будто положение Пушкина достаточно твёрдое, благоприятное, безоблачное. Правда, поэта только что сделали камер-юнкером; но при том царь сказал В. Ф. Вяземской: «Надеюсь, что Пушкин принял в хорошем смысле своё назначение. До сих пор он сдержал данное мне слово, и я им доволен» (XII, 486; перев. с фр.)* 29 января 1834 года Жуковский беззаботно приглашал Пушкина к себе на именины: «…и будет у меня ввечеру семейство Карамзиных, Мещерских и Вяземских; и будут у меня два изрядных человека графы Вьельгорские, и попрошу Смирнову с собственным её мужем; да, может быть, привлеку и привлекательную Дубенскую; вследствие сего прошу и тебя с твоею грациозною, стройно созданною, богинеобразною, мадонистою супругою пожаловать ко мне завтра (во вторник) в 8-мь часов откушать чаю с бриошами и прочими вкусными причудами; да скажи об этом и домашнему твоему Льву. Уведомь, будешь ли, а я твой
богомолец
Василий» (XV, 107).
Письмо писано в день рождения Жуковского, ровно за три года до смерти Пушкина, который жил,
Весёлое приглашение, за пять месяцев до первой вспышки, открывавшей финальную трагедию…
Когда во время петергофских праздников в начале июля 1834 года Жуковский узнал о неожиданной для него ссоре Пушкина с властью, все его усилия были направлены к примирению сторон. В ход было пущено многое: Пушкину доказывается «глупость» его поведения; за этой формулой скрыта мысль, постоянно обсуждаемая двумя поэтами,— о необходимости служения России, пренебрегая мелкими уколами, неприятностями. Пушкин, по мнению Жуковского, как бы ставил своё, личное выше общего блага. Кроме того, затронут чувствительный для Пушкина мотив «неблагодарности», то есть «забывчивости» насчёт беседы 8 сентября 1826 года и ряда последующих «благодеяний»: наконец, Жуковский добивается у царя фразы: «…пускай он <Пушкин> возьмёт назад своё письмо» (XV, 173), и это толкуется лестно для пушкинского самолюбия: «по всему видно, что ему <царю> больно тебя оттолкнуть от себя» (XV, 175).
Жуковского позже не раз упрекнут потомки, что не следовало Пушкина уговаривать, что отставка была бы «спасением»…
Надо думать, и сам Жуковский не раз казнил себя после, что «не отпустил» друга-поэта; однако «вмешательство Жуковского в дело об отставке» — верно отмечается в одной из недавних работ — «было вызвано вовсе не стремлением внушить Пушкину „верноподданнические“ чувства или же „сыграть на руку“ царю (как об этом пишут некоторые современные исследователи)»;[692] в защиту Жуковского можно снова сказать, что если бы Пушкин принял решение твёрдое (как это было в дни его последней дуэли), то ни Жуковский, ни кто другой не смогли бы на него повлиять. Меж тем в 1834-м старший поэт хорошо знал, что младший и сам не уверен в точности своих действий; что с архивами связаны главные творческие планы Пушкина (Пугачёв, Пётр I), что без помощи царя будет чрезвычайно мудрено распутать сложнейшие домашние финансовые обстоятельства.
Трижды в эти июльские дни 1834 года Жуковский заставил Пушкина переписать своё прошение. Поэт снова не мог не упомянуть о постыдной перлюстрации семейных писем; чувствуя свою правоту, он вынужден был извиняться за «легкомыслие». Впрочем, даже в самом вежливом, третьем послании Бенкендорфу, которое Жуковский счёл достаточным для предъявления монарху, Пушкин нашёл возможность намекнуть на обиды и несправедливости: «Если в течение этих восьми лет мне случалось роптать, то никогда, клянусь, чувство горечи не примешивалось к тем чувствам, которые я питал к нему» (XV, 329; перев. с фр.).
Наиболее же откровенно Пушкин высказался в письме к Жуковскому, написанном в тот же день, 6 июля 1834 года: «Теперь, отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? Во глубине сердца своего я чувствую себя правым перед государем; гнев его меня огорчает, но чем хуже положение моё, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? просить прощения? хорошо; да в чём?» (XV, 176).
Пушкин извинился, не чувствуя вины. Письма его были пущены в ход, и, кстати, с этого момента началась причудливая судьба автографов поэта.
6 июля в распоряжении Жуковского на какое-то время оказалось пять пушкинских объяснений: три письма к Бенкендорфу (от 3, 4 и 6 июля) и два письма к самому Жуковскому (от 4 и 6 июля). Последнее из них, самое откровенное, Жуковский, конечно, скрыл подальше от царя и шефа жандармов; остальные же четыре письма были переданы Бенкендорфу; три — как ему адресованные, а письмо Пушкина Жуковскому от 4 июля — как доказательство «искреннего раскаяния» автора.
На этой стадии секретарь шефа жандармов Миллер, понятно, играл свою роль. Скорее всего, именно ему Жуковский и вручил всю переписку для передачи начальнику. Нам невозможно угадать все детали дальнейшего перемещения и использования этого комплекса из четырёх писем Пушкина. Видимо, Бенкендорф представил их Николаю I, а тот затем всё вернул шефу жандармов: в докладной записке Бенкендорфа по поводу этой истории упоминаются письма Пушкина от 3 июля (шефу жандармов) и от 4 июля (Жуковскому). В конце концов вся документация опять должна была попасть в руки к Миллеру для окончательного канцелярского решения (подшить к делам, вернуть или уничтожить…).
Вообще из 58 писем Пушкина к Бенкендорфу за период с 1826 по 1836 год большая часть, сразу после получения, была подшита к специальному делу, заведённому III Отделением в 1826 году,— «О дозволении сочинителю Пушкину въезжать в столицу. Тут же об издаваемых им сочинениях и переписке с ним по разным предметам»[693].
Именно к этому секретному делу было присоединено и первоначальное пушкинское прошение об отставке, 25 июня 1834 года[694]. Однако следующим письмом поэта, оказавшимся в деле, стало только послание к шефу жандармов от 23 ноября 1834 года[695]. Вся июльская переписка по поводу взятия отставки обратно здесь никак не отразилась.
Вполне вероятно, что в этом случае (как и в истории с перлюстрированным письмом Пушкина к жене) Миллер воспользовался рассеянностью своего начальника и «забыл» включить письма в секретное дело; впрочем, письмо Пушкина к Жуковскому следовало, очевидно, возвратить владельцу. Не исключено, что именно присутствие этого документа, не подлежавшего «подшиванию», повлияло на особую судьбу всего комплекса из четырёх писем и способствовало их выделению из общего жандармского делопроизводства.
Позже Миллер заберёт письма к себе.
После ссоры
Пушкина простили. Подобного унижения он не испытывал никогда. Прежде он писал, что «перемена жизни почти необходима»; теперь она стала абсолютно необходимой — но столь же невозможной.
Эхо случившегося звучит в тех письмах, что Пушкин, оставшись в летнем Петербурге, регулярно пишет жене в Полотняный завод. Одно за другим следуют признания: «На днях я чуть было беды не сделал: с тем чуть было не побранился» (11 июля). Около 14 июля: «На днях хандра меня взяла: подал я в отставку. Но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул, и Христом и богом прошу, чтоб мне отставку не давали. А ты и рада, не так? Хорошо, коли проживу я лет ещё 25; а коли свернусь прежде десяти, так не знаю, что ты будешь делать и что скажет Машка, а в особенности Сашка. Утешения мало им будет в том, что их папеньку схоронили как шута и что их маменька ужас как мила была на аничковских балах <…>, главное то, что я не хочу, чтоб могли меня подозревать в неблагодарности. Это хуже либерализма» (XV, 180).
Ещё прежде, до подачи в отставку, было не раз писано о распечатывателях писем: «Ты разве думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? что мне весело в нём жить между пасквилями и доносами?» (XV, 154).
Наконец, важнейшая формула: «Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство à la lettre[696]. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (inviolabilité de la famille) невозможно: каторга не в пример лучше. Это писано не для тебя» (XV, 154).
Кроме приведённых выдержек из писем (явно рассчитанных на перлюстрацию — чего стоит фраза «Это писано не для тебя»!) — кроме этого заметим красноречивое отсутствие одного письма, так и не написанного поэтом: письма к царю, которое в исключительных случаях можно было писать не через Бенкендорфа, а прямо — «на высочайшее имя». Такого, как в деле о «Гавриилиаде», где Пушкин счёл нужным, возможным — прямо повиниться перед главою государства. Здесь же он ни на минуту не считает себя виноватым — и не пишет Николаю I, в сущности, оттого, что за царя стыдится. Пушкину неловко, что тот читает семейные письма, и поэтому прямое объяснение совершенно невозможно…
Частный эпизод имеет для поэта типический, обобщающий смысл. Строки о том, что можно жить без политической свободы, но невозможно без «семейственной неприкосновенности» — это ведь важнейшая «декларация прав!». Честь превыше всего; холопом не следует быть ни у царя, ни у бога, при всём уважении к правителям, земному и небесному,— вот кредо. Пушкин абсолютно убеждён, что только в сохранении личной свободы, разумеется сначала в дворянском кругу, а потом всё шире,— только в сохранении личной свободы залог того, что какие-либо существенные перемены в стране будут основательны, привьются, пустят корни. В стране же рабов и льстецов самые реформы не гарантированы, не «в природе вещей»…
Мы регулярно находим сходные мысли поэта в его художественных, публицистических сочинениях: вспомним, что просвещение, способствующее развитию личности,— это генеральная мысль записки «О народном воспитании», столь же генерально оспоренная десятками царских вопросительных знаков.
Скажем иначе: Пушкин после 1826 года, признавая самодержавие, так сказать, de facto, воздерживался от мысли о немедленной отмене крепостного права; тут, худо-бедно, поэт и правительство ещё могли сойтись, найти какой-то общий язык. Но в чём они решительно расходятся, вступают во вражду — это насчёт места и права свободной личности. Царь, в принципе стоящий за развитие чести в дворянстве, проповедующий «дворянство-рыцарство», в то же время ни на секунду не сомневается в своём праве перехватывать и читать вполне безобидное семейное письмо; да не только читать — извещать автора письма, что оно вскрыто, и ему же, автору, выдать нагоняй. Николай таким образом вторгается на ту свободную, независимую территорию, куда поэт не пустит даже царя небесного.
Летние события 1834 года не изменили сразу общего взгляда Пушкина на положение в России, сложившегося давно и не сразу. По-прежнему он не видел никаких существенных сил, способных преобразовать Россию, кроме самодержавия, опирающегося на просвещённое дворянство и другие поддающиеся просвещению силы. Встречающаяся в литературе мысль — будто Пушкин теперь абсолютно разочаровался во власти, читающей частные письма,— противоречит также и общему воззрению поэта на природу самодержавной власти (позволявшую ему, как известно, вместе с Ермоловым посмеиваться над иллюзиями Карамзина насчёт добрых царей, в то время как «казни, пытки для них обычное дело»). За несколько месяцев до смерти, в знаменитом письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 года, поэт заметит: «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблён,— но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог её дал» (XVI, 172; перев. с фр.). В том письме Пушкин, беседуя с Чаадаевым в замечательной, может быть, только ему свойственной «тональности», в форме спора-согласия (вспомним подобную же заочную полемику с Мицкевичем), постоянно сопрягает две мысли: историческое «лидерство» самодержавия — и низкое состояние общественного сознания, упадок личного достоинства, что ослабляет надежды, иллюзии, связанные с властью. «Поспорив с вами,— продолжает Пушкин в письме к Чаадаеву,— я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко» (XVI, с. 393). В черновике письма к Чаадаеву одну из выстраданных своих мыслей Пушкин сформулировал следующим образом: «Надо было прибавить (не в качестве уступки, но как правду), что правительство всё ещё единственный Европеец в России. И сколь бы грубо оно ни было, только от него зависело бы стать во сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания» (XVI, с. 422).
Письмо к Чаадаеву — уникальные «мемуары» поэта о целом периоде, с июля 1834-го по октябрь 1836-го: правительство — «единственный европеец»; личность — оскорблена, унижена; вера в будущее страны сохраняется, но путь к нему более чем тернист[697].
Снова заметим, что общая оценка путей российского прогресса за десять лет почти не изменилась; однако важные иллюзии насчёт просвещённого курса и личной свободы явно поубавились или рассеялись.
Как вести себя при этих обстоятельствах свободно, критически мыслящей, творческой личности?
Не сдаваться, не быть холопом у царя земного, даже — у царя небесного…
Уход, отставка, отъезд в июне 1834 года не получились по творческим, домашним обстоятельствам. К тому же решительная отставка, разрыв в какой-то степени противоречили бы принципу внутренней свободы, так как «либерализм» (то есть оппозиция, открытое неудовольствие) был бы поставлен выше «благодарности» за амнистию 1826 года. Поэт исходил из естественного чувства и рассуждения: Александр I сослал — Николай I вернул. Подобное простое восприятие вещей было в духе пушкинских понятий о свободе, как прежде всего — свободе личной. Поэтому в трудные летние месяцы 1834 года он, можно сказать, держится в рамках своей благодарности — иначе не было бы оправданий продолжению придворной жизни, в то время как вскрываются письма к жене…
Бегство невозможно. Это особенно ясно стало в 1835 году, когда поэт уже не в «конфликтной ситуации» прошлого года получил длительный отпуск и не смог им воспользоваться[698]. Тогда-то Пушкин заметит: «Я не должен был вступать в службу и, что ещё хуже, опутать себя денежными обязательствами» (XV, 156).
Поэт остаётся, однако себя самого, глубинное своё сознание никак не может обмануть, убедить, будто — сможет ужиться. Отдельные проблески надежды, временные, не более чем на несколько недель удачи в делах общей картины не меняют[699]. Альтернативой отставки, отъезда становится смерть.
Неслучайно именно после кризиса 1834 года этот мотив вторгается в пушкинские стихи, планы, записки, размышления. Тема ухода, смерти в начале 1830-х годов незаметна; теперь же она несомненна. Очень важны в этой связи труды двух исследователей, посвящённые, казалось бы, частным проблемам датировок.
В. А. Сайтанов эффектно и точно установил время создания стихов «Пора, мой друг, пора!..» Это столь знаменитое сочинение, мы часто забываем, было абсолютно неизвестно современникам и впервые вычленено из черновиков П. И. Бартеневым в 1886 году. Современники не знали, зато сам Пушкин хорошо знал и запечатлел в стихах:
Как известно, в рукописи имеется план продолжения стихотворения, завершающийся словами: «О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc.— религия, смерть» (III, 941).
В. А. Сайтанов определил, что это было записано через несколько месяцев после «кризиса 1834 года»[700]. Тому же исследователю принадлежит тонкий анализ стихов 1835 года, сочинённых по мотивам Л. Соути, где герой пророчествует себе и автору:
И ещё одно стихотворение-исповедь — «Не дай мне, бог, сойти с ума». До последнего времени этот неистовый гимн воле — и ненависть к цепи, решётке, сквозь которую «дразнить тебя придут»,— эти стихи датировались началом 1830-х годов; ныне, после изысканий Я. Л. Левкович, оказалось — ноябрь 1835-го. На середине пути между летом 1834-го и осенью 1836-го[701]. Частный, как будто лишь для комментаторов важный нюанс, приобретает особое звучание, страшное, трагическое. Стремясь соединить несоединимое, многое предчувствуя, Пушкин просит судьбу в 1835 году: «Не дай мне, бог, сойти с ума».
Итак, с лета 1834-то ситуация чревата гибелью. Это происходит совершенно независимо от каких-либо семейных неприятностей Пушкина (которые впереди): отношения с женой хорошие, добрые, рождаются дети,— разве что долги растут, но это не более чем отягощающий фон события.
Дело не только в Дантесе — хотя трагедия начинается по чисто случайному совпадению тогда, когда француз появляется в России. Упоминание в дневнике Пушкина (26 января 1834 г.) — «Барон д’Антес и маркиз де Пина; два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет» (XII, 319),— упоминание Пушкина не имеет в то время личного характера, оно относится к важной общей теме — об упадке гвардии, чести[702].
Пушкин ни на минуту не видел и в Николае некоего «злого гения», а если бы видел, тогда всё зло было бы, так сказать, персонифицировано, и от него проще было бы уйти. Нет! весь ужас ситуации был в том, что никто, ни царь, ни Бенкендорф, ни другие, отнюдь не имел сознательной цели погубить поэта. Они делали всё это в основном «непроизвольно», губили самим фактом своего социального существования.
«Совершилось злодеяние банальное, привычное; было проявлено традиционное для российского самодержавия неуважение к таланту. Жизнью гения пренебрегли»[703]. Николай I был бы вероятно искренне изумлён, даже возмущён, если бы мог представить силу гнева Пушкина по поводу вскрытия семейного письма: царь безусловно был убеждён, что эта акция «отеческая», что «на отца не обижаются» или что-нибудь в этом роде…
Вопросы чести, проблемы внутренней свободы становились главнейшими условиями существования. Без свобод политических было жить «очень можно», без чести, достоинства нельзя было дышать.
«И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха»[704].
Три вызова
Из воспоминаний и документов в разное время выявились важные обстоятельства, предшествующие дуэльной истории Пушкина; прежде они явно недооценивались.
В 1836 году Пушкин трижды вступал в столкновения, которые легко могли перейти в дуэль. Можно сказать, что во всех случаях он был «обиженной стороной», но явно стремящейся не погасить конфликт, а довести его до конца по всем правилам чести, выяснить — не было ли в мыслях собеседника чего-либо оскорбительного.
3 февраля 1836 года происходит объяснение с С. С. Хлюстиным, знакомым поэта, которому на другой день Пушкин посылает резкое письмо — фактически вызов. Повод столкновения — литературные нападки на Пушкина.
Вслед за тем, 5 февраля 1836 года, пишется письмо князю Н. Г. Репнину-Волконскому по поводу его отзыва, касающегося стихотворения «На выздоровление Лукулла».
Наконец, объяснение с В. А. Соллогубом, которого поэт обвинил в непочтительном отношении к H. Н. Пушкиной.
Итак, Хлюстин, Репнин-Волконский, Соллогуб — вот кто мог довольно легко стать дуэльными противниками Пушкина незадолго до его последнего поединка (возможно, мы ещё не обо всех тогдашних конфликтах поэта знаем).
Задумаемся над печальной и знаменательной ситуацией: Пушкин в состоянии крайнего возбуждения подозревает не очень знакомых людей в оскорблении его чести, «задирает», ищет поединка. Разумеется, все три несостоявшиеся схватки (улаженные благодаря сдержанности оппонентов поэта), все три полувызова относились к людям, никак не посягавшим на семейное спокойствие Пушкина. Нужно ли более сильное доказательство, что не следует преувеличивать семейных мотивов, ревности и в последней дуэльной истории поэта! Главным образом не этим — другим определялось его душевное состояние: честь, достоинство, подозрение, что готовятся или уже совершаются новые унижения со стороны царя, жандармов, придворных, каких-то литераторов, офицеров, первых встречных — всё равно![705]
«…это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству…»
Позже не раз раздадутся голоса о том, стоило ли так переживать, становиться «невольником чести»; не следовало ли по-карамзински пренебречь, стать выше… Пушкин хорошо знал и понимал возможности такого рода рассуждений. Плетнёв, встретивший его за несколько дней до гибели, запомнил, что Пушкин говорил «…о судьбах Промысла, выше всего ставя в человеке качество благоволения ко всем, видел это качество во мне, завидовал моей жизни и вытребовал обещание, что я напишу свои мемуары»[706].
Гению куда труднее, чем обыкновенному человеку, а может быть, и совершенно невозможно — не быть самим собой. Страдая, Пушкин не мог да, в сущности, и не хотел сойти со своего пути, переменить свои правила.
Стоит задуматься ещё над одним обстоятельством. Если бы одна из трёх несостоявшихся дуэлей всё же случилась, какие бы это имело последствия? Даже при исходе, благоприятном для обоих участников (разошлись, обменявшись выстрелами), эпизод было бы совершенно невозможно скрыть от всеведущей власти; по всей видимости, Пушкина (как и его противника) ожидало бы наказание, например, ссылка в деревню. Таким образом, судьба сама бы «распорядилась»; в любом случае прежней придворной жизни пришёл бы конец, но уже никак не могла бы возникнуть тема «неблагодарности» императору и т. п. Стреляясь из-за чести, Пушкин подчеркнул бы, что сам, без вмешательства властей, решает свои дела,— и это был бы, конечно, косвенный ответ тем, кто нарушает правила чести «официально», вскрывает чужие письма и т. д.
Все эти соображения, полагаем, надо постоянно иметь в виду, размышляя над последней, состоявшейся дуэлью поэта.
Прежде чем высказать несколько соображений о последней дуэльной истории, обратимся сначала к источникам наших знаний.
В 1863 году А. Н. Аммосов, получив от друга и секунданта Пушкина К. К. Данзаса подборку материалов о дуэли и смерти Пушкина, опубликовал их полностью, исключая анонимный пасквиль, который цензура не пропустила[707].
Двумя же годами раньше, в VI книге герценовской «Полярной звезды», были опубликованы те же материалы и в том же порядке, что и у Аммосова, причём открывались они текстом анонимного пасквиля (переведённого, как и большинство других материалов, с французского).
Однако ещё задолго до выхода VI «Полярной звезды» и книги Аммосова — сразу после гибели Пушкина — те же самые документы распространились по России в виде списков, открывая многим людям запретную правду о трагических событиях.
В нескольких архивах удалось ознакомиться более чем с тридцатью списками и сопоставить их с соответствующими публикациями в Лондоне и России[708]. Приведём результаты сделанных наблюдений, не обременяя внимания читателей всеми мелкими или стилистическими различиями разных списков (отметим только, что в подавляющем большинстве копий представлен французский текст основных документов).
Во всех без исключения списках порядок расположения материалов один и тот же.
1. Анонимный пасквиль.
2. Письмо Пушкина Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года.
3. Письмо Пушкина Геккерну.
4. Ответ Геккерна.
5. Записка Пушкину от д’Аршиака, 26 января (7 февраля) 1837 года.
6. Вторая записка от д’Аршиака. 27 января (8 февраля) 1837 года.
7. Третья записка от д’Аршиака. 27 января (8 февраля) 1837 года.
8. Визитная карточка д’Аршиака.
9. Письмо Пушкина д’Аршиаку. 27 января, между 9 и 10 часами утра.
10. Письмо д’Аршиака Вяземскому от 1 февраля 1837 года.
11. Письмо Данзаса Вяземскому.
12. Письмо Бенкендорфа графу Строганову.
В некоторых списках имеется ещё и 13-й документ: письмо Вяземского А. Я. Булгакову с изложением дуэльной истории Пушкина. Однако в большинстве текстов (в том числе опубликованных Герценом, Аммосовым) этот документ отсутствует. Зато к списку П. И. Бартенева, напечатанному М. А. Цявловским, были приложены «Условия дуэли», по другим спискам неизвестные[709].
Все списки идентичны. Не только тексты самих документов, но даже заглавия и пояснения к ним совершенно одинаковы. Отдельные различия явно объясняются ошибками переписчиков.
Не вызывает сомнений общность происхождения всех этих списков; в их основе — некий первоначальный свод документов, составленный из важнейших материалов, касающихся дуэльной истории 1836—1837 годов.
В течение всего XIX столетия, до появления работ Щёголева, этот сборник, сначала рукописный, позже опубликованный, по сути, был историей пушкинской гибели, единственным документальным источником, в котором русское общество могло найти контуры трагического события.
История формирования «дуэльного сборника» кое-что открывает в истории самой дуэли.
Пасквиль
3 ноября 1836 года был написан и разослан, а 4 ноября получен несколькими адресатами анонимный пасквиль, с которого начиналась история последней дуэли Пушкина; с него же начинались все дуэльные сборники, где зловещий текст предварялся следующими словами (по-французски или в русском переводе): «Два анонимные письма к Пушкину, которых содержание, бумага, чернила и формат совершенно одинаковы (второе письмо такое же, на обоих письмах другою рукою написаны адресы: Александру Сергеичу Пушкину)».
Затем следует точный текст «диплома».
Как видно, некий человек, причастный к составлению сборника дуэльных документов, проделал своего рода «текстологическую работу»: располагая двумя экземплярами пасквиля, он их сравнил, отметил полное сходство, а также разницу почерков «диплома» и конверта.
Пушкин писал о «семи или восьми» экземплярах пасквиля, появившихся 4 ноября 1836 года в Петербурге (их получили Пушкин, Вяземский, Карамзин, Виельгорский, Соллогуб, братья Россет, Хитрово)[710]. Три экземпляра вскоре оказались в руках Пушкина, но он их в какой-то момент, очевидно, уничтожил: во всяком случае, среди пушкинских бумаг, зарегистрированных жандармами в ходе «посмертного обыска», ни одного экземпляра не значится. Возникает вопрос, кто имел в то время возможность сопоставить два экземпляра пасквиля; между тем как раз два подлинных «диплома» сохранились до наших дней. Случайное ли это совпадение? Не располагал ли неизвестный современник Пушкина именно уцелевшими двумя экземплярами? Для ответа на этот вопрос надо было выяснить, где хранились прежде эти два «диплома». Один был обнаружен А. С. Поляковым в секретном архиве III Отделения[711]. Ещё раньше другой образчик «диплома» поступил в Лицейский пушкинский музей. Откуда поступил? В информационном листке Пушкинского лицейского общества от 19 октября 1901 года сообщалось, что получено «за истекший 1900—1901 год подлинное анонимное письмо, бывшее причиной предсмертной дуэли Пушкина, из Департамента полиции»[712].
Департамент полиции, учреждённый в 1880 году, был прямым наследником III Отделения. Отсюда следует, во-первых, что ведомство Бенкендорфа располагало двумя экземплярами анонимного пасквиля. Во-вторых, что скорее всего в этом ведомстве находился «таинственный доброжелатель», стремившийся сохранить подробности, важные для истории последних дней Пушкина[713].
Оба только что сделанных наблюдения необходимы для последующего изложения. С пасквиля начинаются и другие сложные загадки. Этим документом были задеты три лица: Пушкин, его жена, а также, полагаем, Николай I (намёк на положение Пушкина, аналогичное роли Д. Л. Нарышкина, чья жена была любовницей прежнего царя)[714]. Намёк пасквиля «по царственной линии», замеченный пушкинистами лишь сто лет спустя[715], был, вероятно, хорошо понятен современникам, и прежде всего Пушкину: как известно, через день после получения пасквильного «диплома» поэт, отягощённый долгами и безденежьем, написал министру финансов Канкрину о своём желании «сполна и немедленно» выплатить деньги казне (45 тыс. руб.), то есть избавиться от какой бы то ни было двусмысленности в отношениях с властью. Трудно согласиться с недавним комментарием к этому письму, где утверждается, что Пушкин «явно не желал, чтобы его просьба была доведена до сведения Николая»[716]. Наоборот, из текста письма хорошо видно, что Пушкин как раз желал, чтобы царь узнал об уплате, и заранее предупреждал власть об отказе от царской милости, если Николай I «прикажет простить» долг. Отвергает намёк по «царственной линии» и С. Л. Абрамович, одновременно указывая на то, что в момент вызова «больше всего Пушкина тяготил и связывал долг казне», Что в этом был «акт отчаяния»:[717] но для чего же столь резкие действия в отношении верховной власти, если она не имеет никакого касательства к делу?
Пушкина, как известно, раздражали чрезмерные, по его мнению, царские знаки внимания Наталье Николаевне, речь шла, понятно, не о ревности, но о правилах чести: вспомним отповедь, которую Николай (согласно рассказу Корфа) получил от Пушкина, прямо объявившего: «Я и вас подозревал в ухаживании…»[718].
Намёк пасквилянтов на «царственную линию» был попыткой задеть честь поэта любой ценой, включая в интригу «самого монарха», используя поводы, которые давали «легкомысленные эскапады» Николая.
Вопрос о «царственной линии» пасквиля ещё требует размышлений.
Такова «источниковедческая» сторона печальных дел. Вопрос об авторе пасквиля, естественно, не раз возникал в течение прошедших полутора столетий. Пушкин, немедленно после получения «диплома» пославший вызов Дантесу, и тогда и позже сохранял уверенность, повторял неоднократно, что хорошо знает автора. В письме Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года, о котором речь впереди, поэт сообщал: «По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата»! (XVI, 397; перев. с фр.). Несколько поколений исследователей недоумевали, на чём основывалась столь твёрдая уверенность Пушкина. А. С. Поляков установил, что бумага, которой пользовался пасквилянт, самая обыкновенная, и по ней никак невозможно было установить причастность автора к дипломатическому миру; слог письма, почерк — здесь пушкинисты тоже не находили того, что утверждал Пушкин. Более того, эксперты открыли доводы в пользу русскоязычного автора, для которого французский язык пасквиля был всё же вторым[719]. Напрашивалась мысль, что даже если Геккерн и Дантес действительно были вдохновителями пасквиля, то маловероятно, что они писали его сами, не маскируя бумаги и других «характерных признаков» дипломатической канцелярии.
Вопрос об источнике пушкинского многознания был совсем затемнён появлением версии, что пасквиль написан П. В. Долгоруковым с участием И. С. Гагарина. Князь Пётр Владимирович Долгоруков, представитель знатнейшей фамилии, прямой потомок древнего князя Михаила Черниговского, с ранней юности находился в аристократической оппозиции по отношению к высшим властям, а также получил репутацию нарушителя светских законов и приличий[720]. В 1860 году князь эмигрировал в течение нескольких лет, по словам Герцена, подобно «неутомимому тореадору, не переставая дразнил быка русского правительства и заставлял трепетать камарилью Зимнего дворца»[721]. Между прочим, о взглядах Долгорукова на «пушкинское время» можно узнать из его письма к И. С. Гагарину (тому самому, чьё имя связывалось также с историей анонимного пасквиля). «Мы с тобою, уже доживающие пятый десяток лет наших,— писал Долгоруков,— помним поколение, последовавшее хронологически прямо за исполинами 14 декабря, но вовсе на них не похожее; мы помним юность нашего жалкого поколения, запуганного, дрожащего и пресмыкающегося, для которого аничковские балы составляли цель жизни. Поколение это теперь управляет кормилом дел — и смотри, что за страшная ерунда. Зато следующие поколения постоянно улучшаются, и, не взирая на то, что Россия теперь в грязи, а через несколько лет будет, вероятно, в крови, я нимало не унываю, и всё-таки — Гляжу вперёд я без боязни…»[722]
Именно в период особой политической активности Долгорукова-эмигранта (1863) впервые всплыла версия о его причастности к анонимному пасквилю. В ту пору многие, в том числе и Герцен, не поверили этой новости; очень уж «кстати» появилось обвинение. Долгоруков и Гагарин, разумеется, всё решительно отрицали… Шестьдесят лет спустя графологическая экспертиза, проведённая по инициативе П. Е. Щёголева, нашла Долгорукова автором пасквиля[723]. Прошло затем около полувека, и повторная экспертиза, произведённая двумя специалистами, оспорила давнее заключение ленинградского криминалиста Салькова, на которое опирался Щёголев.
В заключении новой экспертизы указывалось, что имеются данные, «достаточные для вывода о том, что тексты двух „дипломов рогоносца“ и адрес „Графу Виельгорскому“ выполнены не Долгоруковым и Гагариным, а иным лицом»[724].
Таким образом, в настоящее время расходящиеся между собой данные экспертизы 1920-х и 1970-х годов не могут быть использованы как доказательство авторства П. В. Долгорукова; остальные же доводы в пользу этой версии явно недостаточны.
Снова повторим, что «долгоруковская проблема» надолго затемнила вопрос о причинах пушкинской уверенности, будто пасквиль исходит от Геккернов. Только в последнее время в печати появились веские соображения, объясняющие, что и откуда узнал Пушкин.
С. Л. Абрамович в своём исследовании представила наиболее вероятную последовательность событий: 2 ноября 1836 года происходит оскорбительное для H. Н. Пушкиной подстроенное свидание с Дантесом на квартире И. Полетики; тогда же после получения пасквиля (4 ноября) H. Н. Пушкина сообщила мужу об угрозах и преследованиях со стороны обоих Геккернов[725].
Именно по рассказу жены Пушкин составил своё представление о событиях и пришёл к выводу о злонамеренности Геккернов. Поэтому, без всякого особого расследования, сразу же послал вызов Дантесу.
Не желая, однако, замешивать имя жены в различные толки, обсуждения и доказательства, связанные со всей грязной историей, Пушкин нигде не ссылается на неё, но маскирует источник своего знания указаниями на особый характер бумаги, тип самого документа и т. п.; возможно, конечно, что, получив главную информацию от Натальи Николаевны, Пушкин затем искал и находил какие-то новые доказательства своей правоты, однако главное, на что он опирался и что его убедило,— соседство двух событий: 2 ноября — свидание на квартире Полетики; 3 ноября — анонимный пасквиль; 4 ноября — получение его, исповедь H. Н. Пушкиной.
Защита пятая, шестая…
В пятый раз за свою жизнь на защиту Пушкина бросился Жуковский.
После 1820-го, 1824-го, 1826-го, 1834-го — пришла беда 1836-го. Роль Василия Андреевича в «примирении сторон» подробно изучена Щёголевым и другими пушкинистами. Раздавались голоса насчёт сомнительности некоторых приёмов Жуковского, насчёт того, что в ряде случаев он как бы одной меркой мерил Пушкина и его противников… Со всем этим трудно согласиться. Жуковский как мог, как умел старался расстроить поединок, избавить Пушкина от малейшей угрозы насильственной смерти. Действительно, ситуация была столь запутанной, тяжёлой, что у Жуковского получалось далеко не всё; в конце концов, мы знаем, Пушкин начал от него таиться и, формально согласившись на примирение, отнюдь не простил врагам и оскорбителям.
Тем не менее Жуковский до конца оставался ближайшим, родным Пушкину человеком. Его усилия в начале ноября остановили неминуемую, казалось бы, дуэль; но через короткий срок опасность снова увеличивается.
После анонимного пасквиля следующий важный эпизод привязан к 21 ноября 1836 года.
Среди десяти автографов Пушкина, обретённых в 1972 году вместе с архивом П. И. Миллера, наверное, наиболее важным документом является автограф письма поэта к шефу жандармов — последнего в их десятилетней переписке.
Обнаружение этого автографа не открывает существенных дополнений к прежде известному тексту знаменитого преддуэльного документа (в конечном итоге адресованного царю), однако само существование письма, а также относящиеся к нему примечания Миллера вносят важные коррективы в наши представления об истории последних месяцев жизни Пушкина[726].
Письмо Бенкендорфу от 21 ноября является беловым автографом, занимающим почти целиком четыре страницы голубой бумаги (по классификации Л. Б. Модзалевского и Б. В. Томашевского № 250; без водяных знаков, размер 227x268 мм.). Письмо было сложено вчетверо и протёрлось на сгибах. Надорван и первый лист.
У верхнего края первой страницы письма находится несколько стёршаяся карандашная запись, сделанная рукою П. И. Миллера: «Найдено в бумагах А. С. Пушкина и доставлено графу Бенкендорфу 11 февраля 1837 года». Ни в этой записи, ни в самом автографе не найти прямого указания, что адресат письма — именно Бенкендорф. Однако, кроме содержания документа, достаточно веским является авторитетное свидетельство Миллера, находящееся в его записке о гибели Пушкина[727].
Автограф этого послания разыскивали многие пушкинисты. П. Е. Щёголев констатировал, что «в секретном досье III Отделения такого письма к Бенкендорфу не оказалось»[728]. В бумагах Пушкина сохранились лишь фрагменты черновика (XVI, 265—266).
Между тем очень скоро после смерти поэта текст письма распространился в составе упомянутого «дуэльного сборника». Среди составивших его 12 (иногда 13) документов письмо Бенкендорфу неизменно помещалось на втором месте (после анонимного диплома-пасквиля), часто под заглавием «Письмо Пушкина, адресованное, кажется, графу Бенкендорфу».
Слово «подлинник», помещённое у заглавия письма при первой его легальной публикации (1863, А. Аммосов), породило ошибочное мнение, будто в руках А. Аммосова был автограф[729]. Однако из текста книги видно, что Аммосов употреблял термин «подлинник», имея в виду подлинные, французские тексты документов, в отличие от русского перевода. Заметим также, что текст в книге Аммосова (источник последующих публикаций письма к Бенкендорфу) имеет некоторые разночтения с автографом. Наконец, автор книги Аммосов и его информатор, К. К. Данзас, находились в Петербурге, в то время как владелец автографа П. И. Миллер жил в Москве, и об их контактах ничего не известно.
После 1863 года письмо к Бенкендорфу перепечатывалось неоднократно и без особых комментариев, пока об истории этого документа не заговорил журнал «Русский архив»: дважды, в 1888 и 1902 годах, П. И. Бартенев публиковал почти одинаковые сведения о письме[730]. Ссылаясь на П. А. и В. Ф. Вяземских, а также на П. И. Миллера (к тому времени уже покойных), он сообщал, что это письмо Пушкин не отправил.
Не вникая пока в детали сообщений П. И. Бартенева, заметим только, что позже П. Е. Щёголев поддержал в общих чертах версию о письме, не дошедшем к фактическому адресату — царю. При этом Щёголев долгое время считал, что письмо вообще предназначалось не Бенкендорфу, а другому графу — К. В. Нессельроде, который, по мнению учёного, документ «скрыл в тайнике своего стола и не дал ходу»[731].
Бартенев и Щёголев не сомневались, что важное письмо Пушкина от 21 ноября не попало к Николаю I, так как с конца ноября 1836 года до конца января 1837 года власть как будто бездействовала: неизвестны какие-либо секретные розыски в связи с анонимными письмами и другие действия царя и Бенкендорфа, которые, казалось, непременно должны были последовать, если бы письмо от 21 ноября пришло по адресу.
Однако вслед за тем Щёголев установил по камер-фурьерскому журналу, что 23 ноября 1836 года, то есть через день после написания таинственного письма, царь дал Пушкину аудиенцию в присутствии Бенкендорфа;[732] или с глазу на глаз, после Бенкендорфа[733].
Подобная аудиенция была явлением исключительным. Случайное совпадение двух фактов — письмо от 21 ноября и аудиенция 23-го — казалось крайне маловероятным, и вскоре в пушкиноведении утвердилось мнение, будто письмо к Бенкендорфу Пушкин всё-таки послал, и следствием этого было приглашение к Николаю I[734]. Более сорока лет во всех дискуссиях о последних месяцах жизни Пушкина всеми участниками принималось, что письмо 21 ноября было отослано, и выдвигались различные гипотезы, объяснявшие влияние этого факта на последующие события.
Новообретённый автограф и сопровождающая его запись Миллера сильно укрепляют, однако, самую раннюю версию — о неотправленном письме Пушкина к шефу жандармов.
Ещё одно свидетельство об этом находится в черновой записке, посвящённой гибели поэта: «Письмо к гр. Бенкендорфу он не послал, — писал Миллер, — а оно найдено было в его бумагах после его смерти, переписанное и вложенное в конверт для отсылки»[735].
Остановимся на этой проблеме подробнее.
К примечанию Миллера на письме Пушкина следует отнестись с доверием. Гибель поэта, несомненно, потрясла его доброжелателя и почитателя. Отмеченная на пушкинском письме дата доставки его к шефу жандармов «11 февраля 1837 года» весьма подходит для описываемой ситуации. Как известно, в феврале на квартире В. А. Жуковского, куда были свезены бумаги Пушкина, происходил их «разбор». Судя по «Журналу», который сопровождал всю эту процедуру, в течение 9 и 10 февраля 1837 года бумаги Пушкина были разделены на 36 категорий, среди которых под № 12 значились «Письма Пушкина», а под № 8 «Бумаги генерал-адъютанта гр. Бенкендорфа»[736]. Вероятно, письмо от 21 ноября должно было попасть в одну из двух этих категорий, причём документ, выявленный 10 февраля, естественно попадает к шефу жандармов 11-го (согласно «Журналу», 11 и 12 февраля 1837 г. разборка бумаг заключалась уже в чтении писем князя Вяземского)[737].
Изучение пушкинских бумаг производилось Л. В. Дубельтом и В. А. Жуковским, но, вероятно, кроме того, в «посмертном обыске» участвовали и менее важные лица: опись всем материалам, представленная царю, была составлена писарем[738], о кабинете Пушкина сообщалось, что он был распечатан «в присутствии действительного статского советника Жуковского и генерал-майора Дубельта»[739] — то есть, очевидно, не сами «присутствующие» снимали печати и т. п.
В записке Миллера не сказано, кем было взято письмо из бумаг Пушкина. Однако рано или поздно, особенно после того, как шеф жандармов ознакомился с документом, письмо от 21 ноября едва ли могло миновать Миллера.
Невидимое присутствие Бенкендорфа при «посмертном обыске» не требует особых объяснений. 6 февраля 1837 года шеф жандармов писал Жуковскому: «Бумаги, могущие повредить памяти Пушкина, должны быть доставлены ко мне для моего прочтения. Мера сия принимается отнюдь не в намерении вредить покойному в каком бы то ни было случае, но единственно по весьма справедливой необходимости, чтобы ничего не было скрыто от наблюдения правительства, бдительность коего должна быть обращена на всевозможные предметы. По прочтении этих бумаг, ежели таковые найдутся, они будут немедленно преданы огню в Вашем присутствии»[740].
Между тем уже с первых дней часть пушкинских бумаг отправлялась к Бенкендорфу и не возвращалась, хотя в «Журнале» это не фиксировалось. Так, 13 февраля 1837 года Бенкендорф через генерала Апраксина отправил в Военно-судную комиссию документы, «найденные между бумагами покойного камер-юнкера А. С. Пушкина <…>, могущие служить руководством и объяснением к делу Судной комиссии»[741].
Так же были изъяты и переданы в III Отделение письма о несостоявшейся дуэли Пушкина с В. А. Соллогубом[742].
Заметим, что документы о дуэли Бенкендорф отослал в Военно-судную комиссию 13 февраля — конечно, после предварительного просмотра.
Таким образом, изъятие письма Пушкина к Бенкендорфу из бумаг, передача его шефу жандармов 11 февраля и последующее «исчезновение» — всё это представляется эпизодом вполне возможным и даже типичным для «посмертного обыска».
Приняв, что письмо от 21 ноября действительно найдено в бумагах Пушкина после его смерти, мы должны пересмотреть некоторые сложившиеся представления об этом документе. Можно, конечно, допустить, что 21 ноября 1836 года поэт письмо всё же послал, а себе оставил автокопию, которую и нашли при разборе бумаг. Однако ни в бумагах Бенкендорфа, ни в архивах царствующей фамилии этого послания, как известно, не обнаружилось. Миллер, несомненно, был убеждён, что у него единственный экземпляр послания (это отмечено в его записке о гибели Пушкина). Трудно представить, чтобы о письме Пушкина, отосланном 21 ноября 1836 года шефу жандармов, ничего бы не знал его личный секретарь.
Разумеется, при обсуждении такого рода проблем исследователи всегда вынуждены выносить суждения с большей или меньшей долей вероятия, но в данном случае совокупность фактов ведёт к тому, что 21 ноября 1836 года Пушкин письмо Бенкендорфу (царю) написал, но не отослал.
Это в высшей степени важный факт для осмысления душевного состояния поэта в тяжёлые преддуэльные месяцы.
Приняв положение о неотосланном письме, постараемся восстановить его историю с ноября 1836 по февраль 1837 года.
Около 21 ноября 1836 года первый вызов Дантесу уже взят обратно, но Пушкин стремится свести счёты с Геккерном. Именно 21 ноября, согласно точным воспоминаниям В. Соллогуба, поэт прочитал ему своё страшное, оскорбительное письмо голландскому посланнику, реконструируемое ныне по сохранившимся его клочкам (XVI, 189—191)[743]. Письмо датируется 17—21 ноября 1836 года, но скорее всего оно было составлено в конце указанного четырёхдневного периода.
Существовала несомненная связь между посланием к Геккерну и письмом к Бенкендорфу. Последнее написано под впечатлением тех же фактов, в том же настроении, что и первое (клочки письма к Геккерну, между прочим, на той же бумаге «№ 250», что и письмо к Бенкендорфу).
У нас нет сомнения, что письмо Геккерну, написанное около 21 ноября, послано не было. Теперь мы видим, что и соответствующее ему письмо шефу жандармов тоже осталось у Пушкина.
В этой «общности судеб» двух писем можно увидеть определённую закономерность.
Около 21 ноября Пушкин готовил необычайную месть Геккерну. П. Е. Щёголев писал об этом пушкинском замысле: «Может быть, план был таков, как рассказывает граф Соллогуб, может быть, нет»[744],— и справедливо связал с этим планом пушкинское письмо к Бенкендорфу (21 ноября). В строках: «Я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна, о чём считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества» (XVI, 398; перев. с фр.) — вероятно, скрыта формула предполагавшейся страшной мести: до сведения правительства факт мог быть доведён письмом Бенкендорфу; до сведения общества — письмом Геккерну; заметим, что Пушкин, прочитав последнее Соллогубу, уже тем самым начал осведомлять общество.
В случае одновременной отправки обоих посланий Геккерн и Дантес оказались бы в очень трудном положении. Их компрометация была бы осуществлена с двух сторон одновременно.
В письме Бенкендорфу есть как будто намёк на возможную ситуацию, которая образуется после отсылки двух писем (дуэль неминуема, но осведомлённая власть может вмешаться!): «Будучи единственным судьёй и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю».
«Не могу…» и «не хочу…» означает нежелание Пушкина, чтобы власть заменила своею местью его месть; и в то же время он «считает долгом» сообщить царю о случившемся.
Любопытно, что и Миллер отмечает связь двух ноябрьских писем. В Записке о гибели Пушкина он рассуждает о действиях Дантеса и Геккерна в ноябре 1836 года и, между прочим, пишет: «Пушкин тогда же решился ошельмовать их и написал два письма: одно к гр. Бенкендорфу, в котором излагал все обстоятельства, а другое — к барону Геккерну, в котором нещадно отхлестал Геккерна и Дантеса». Затем следует текст письма Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года и письма Геккерну от 26 января 1837 (без указания даты). Здесь Миллер, очевидно, смешивает два письма Геккерну: первое, ноябрьское, неотосланное, и второе, январское, за которым последовала дуэль. Как известно, смешением этих двух документов грешили долгое время исследователи биографии Пушкина;[745] ошибка же Миллера, вероятно, связана и с некоторыми обстоятельствами «посмертного обыска», о чём будет сказано ниже.
Мы, в сущности, не знаем, лишь догадываемся, почему Пушкин не отправил два приготовленных послания Геккерну и Бенкендорфу. Соллогуб рассказывал, что, узнав (21 ноября 1836 г.) о письме Пушкина Геккерну, он предупредил Жуковского. «Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма. Действительно, это ему удалось; через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил и письмо послано не будет. Пушкин точно не отсылал письма, но сберёг его у себя на всякий случай»[746].
Остановка писем, очевидно, привела к тому событию, которое произошло через день,— аудиенции 23 ноября 1836 года.
До сих пор факт беседы Пушкина с царём и Бенкендорфом считался доказательством того, что письмо Бенкендорфу было отослано. Теперь нам необходимо объяснить прямо противоположную ситуацию.
На аудиенции царь взял с Пушкина слово — не возобновлять ссоры с Геккерном и Дантесом, не известив верховную власть.
Однако какова связь аудиенции и писем?
В эти дни,— как и в начале ноября 1836 года, как в 1834 году,— поворот событий связан с Жуковским (шестая защита!).
Пушкин, поддаваясь уговорам Жуковского, возможно, нашёл план мщения, отправку двух писем, нецелесообразным. Хотя в письме к Бенкендорфу подчёркивалось, что его автор является «единственным судьёй» и хранителем своей чести и чести своей жены, но фактически всё дело, в случае обнародования писем, передавалось на суд общества и власти. В то же время царь и Бенкендорф были уже неплохо осведомлены о всём происходившем. (Вспомним, что два сохранившихся до нашего времени экземпляра «анонимного пасквиля» попали сначала в архив III Отделения.) Жуковский, постоянный ходатай за Пушкина перед Николаем I, в течение 21 и 22 ноября, вероятно, упросил императора, чтобы тот срочно вызвал Пушкина.
Пушкин был приглашён во дворец. С него взяли слово не драться.
Пока нет возможности точно определить — много ли из неотправленного письма от 21 ноября Пушкин открыл на аудиенции 23-го. Однако, исходя из гипотезы, что поэт видел смысл только в «двойном ударе», отправке двух писем сразу,— можно усомниться, что он был очень откровенен с царём и шефом жандармов. Не послав одновременно уничтожающего письма Геккерну, Пушкин считал бы недостойным осведомлять власть о своих мнениях и планах: или два письма сразу, или ни одного!
Впрочем, хотя царь и Бенкендорф вряд ли услышали много подробностей непосредственно от Пушкина, они и без того знали немало…
Теперь получают должное объяснение строки из последнего преддуэльного письма Пушкина к Геккерну. Вспомнив раннюю, ноябрьскую стадию конфликта, Пушкин определял ситуацию, сложившуюся после середины ноября: «Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы были какие бы то ни было отношения между моей и вашей семьями. Только на этом условии согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестил вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение» (XVI, 269—270; перев. с фр. 427). Понятно, что «обесчестить» Геккерна «в глазах двух дворов» Пушкин мог, отослав оба письма 21 ноября 1836 года. Он этого не сделал, получив заверения, что отношения между двумя семьями прекратятся. Посредником, давшим такое заверение, конечно, мог быть Жуковский. Однако и на аудиенции 23 ноября царь или Бенкендорф, возможно, сообщили Пушкину, что Геккернам рекомендовано держаться «подальше».
После переговоров 23 ноября письмо Бенкендорфу было Пушкиным отложено, как и письмо Геккерну.
Проходит два с небольшим месяца, и 26 января Пушкин делает дуэль неотвратимой. При этом ему снова понадобились два старых, не отправленных в ноябре послания. Первое письмо Геккерну используется при составлении второго, отправленного письма голландскому посланнику.
Сохранились также смутные, противоречивые сведения об использовании Пушкиным перед дуэлью и в день поединка старого письма к Бенкендорфу от 21 ноября.
Вяземский, согласно Бартеневу, свидетельствовал, будто в дуэльном сюртуке поэта было письмо к Бенкендорфу[747]. В то же время запись, сделанная самим Вяземским, констатирует, что Пушкин держал при себе во время дуэли другое письмо — автограф послания к Геккерну[748].
Существование двух одновременных писем — к Геккерну и Бенкендорфу (21.XI. 1836 г.); общее сходство второго письма к Геккерну (26 января 1837 г.) с первым — всё это легко могло породить ошибки памяти.
Б. В. Казанский полагал, что Пушкин во время дуэли имел при себе автокопии двух писем — Геккерну и Бенкендорфу — и потом передал их Данзасу[749]. Однако у Данзаса была лишь автокопия первого документа, о втором же ничего не известно.
Недоразумением (отмеченным выше) является гипотеза, будто автограф письма к Бенкендорфу находился у А. Н. Аммосова, а последним получен от Данзаса.
Пушкину вряд ли важно было иметь при себе письмо более чем двухмесячной давности, в основном касавшееся ноябрьской ситуации (анонимных писем и т. п.) и не отражавшее новых преддуэльных январских обстоятельств. При немалом сходстве второго и первого писем Пушкина к Геккерну об анонимных письмах в январе уже сказано глухо, но говорится о продолжающихся и после ноябрьского конфликта преследованиях Дантесом и Геккерном жены поэта.
В пользу того, что письмо к Бенкендорфу всё же находилось в дуэльном сюртуке у Пушкина, говорит только немалая истёртость послания на сгибах, как действительно бывает с бумагой, долго пролежавшей в кармане[750]. Однако вся совокупность свидетельств Миллера и Вяземского позволяет утверждать, что письмо от 21 ноября 1836 года Пушкин с собой на дуэль не брал.
Судьба этого письма после смерти Пушкина в общих чертах сходна с историей ряда других документов, попавших к Миллеру: от шефа жандармов письмо, очевидно, вернулось секретарю, и тот забрал себе. Бенкендорф, как отмечалось, обещал Жуковскому, что все бумаги, «могущие повредить памяти Пушкина», будут уничтожаться. Чтение письма Пушкина от 21 ноября 1836 года не могло доставить шефу жандармов большого удовольствия. Документ этот, во-первых, был достаточно смел, а по понятиям шефа жандармов — дерзок. Во-вторых, его существование доказывало, что ещё за два с лишним месяца до дуэли Пушкин некоторое время желал «открыться» высшей власти. Получалось, что Бенкендорф «проглядел», «не всё знал», не принял мер и т. п.
Разумеется, взгляд самого Бенкендорфа на ноябрьское письмо не более чем гипотеза, но всё же нежелание графа дать письму широкую огласку кажется очевидным. Ни к каким текущим делам III Отделения оно присоединено не было…
Такой представляется история важнейшего документа от 21 ноября 1836 года.
Декабрь — январь
Два последних месяца жизни Пушкина. Не станем углубляться в сложное, противоречивое, зловещее сплетение интриг, слухов и других раздражителей, что вело дело к развязке. Снова повторим уже сказанное прежде — что дуэльная история трудна для исследования как недостатком фактов, так и их обилием: многое, важнейшее прямо не отложилось в документах, с другой стороны, из мелочей, побочных деталей легко выстраиваются разные схемы.
Ограничимся поэтому некоторыми общими соображениями.
Во всех материалах конца 1836 — начала 1837 года множество сведений о гневе, раздражении, готовности в любой момент к выпаду, вызову со стороны Пушкина; однако, если отвлечься от домыслов и «слухов», можно сказать, что — почти отсутствует тема пушкинской ревности. Подозрений насчёт обмана, измены и т. п., столь часто фигурирующих в научных и художественных интерпретациях случившегося,— их нет!
Не ревность — честь!
Можно, конечно, возразить, что и ревность — форма защиты оскорблённой чести; однако всё это явно не относится к пушкинскому гневу. Честь, вторжение в неприкосновенные пределы «семейственных свобод» — вот основа, суть пушкинской горячности. То, что весной 1834 года проявилось во вскрытии семейного письма, теперь выражается в сплетне, пасквиле, стремлении предать интимную сферу публичности. Когда умиравший Пушкин повторял, что жена его ни в чём не виновата, это было не только желание упрочить её репутацию; здесь громко было высказано то, что поэт считал и прежде: жена не виновата, сплетники и пасквилянты стремятся это оспорить,— месть необходима. Совсем особый вопрос, всегда ли было достаточно точным, умным поведение Натальи Николаевны в период кризиса; позже Вяземский упрекал её за «неосмотрительность», «легкомыслие», «непоследовательность», «беспечность». «Больше всего,— отмечает С. Л. Абрамович,— Пушкина терзало то, что его жена не сумела найти верный тон и дала повод для пересудов»[751]. П. И. Миллер, вероятно, записал характерное мнение сторонников Пушкина о жене поэта: «Но что же делать, если дерзость нельзя образумить иначе как таковою же дерзостию: этой-то смелости у неё и не хватало.— Она <…> была слишком мягка, глупа, бесхарактерна».
Всё это, однако, лишь отдельные элементы большой трагедии, главный источник которой, «как давно установлено, не в поведении Натальи Николаевны»[752].
Поразительно, сколь точно и мудро понял всё это Лермонтов. В его стихах нет намёков на вину жены Пушкина или что-либо подобное. Пушкин — «невольник чести», его душа «не вынесла» «позора мелочных обид», тех обид, которые Пушкин по своему внутреннему, нравственному разумению считал хуже, страшнее отсутствия политических свобод или чего-либо подобного.
История с западнёй, подстроенной жене Пушкина на квартире Полетики, была (как убедительно показано С. Л. Абрамович) в начале ноября 1836 года и явилась поводом к первому, ноябрьскому вызову. Теперь же, в январе, скорее какая-то «мелочь», ещё одна едва заметная окружающим «мелочная обида», искра, попавшая в накалённую, близкую к взрыву атмосферу (казарменный каламбур Дантеса, с которым он «обратился к H. Н. Пушкиной» на балу у Воронцовой-Дашковой, или что-то иное)[753].
В седьмой раз Жуковский не сумел кинуться грудью на защиту друга-поэта
Глава IX. «Была ужасная пора…»
Об ней свежо воспоминанье…
29 января 1837 года Пушкина не стало. История его гибели рассказывалась, записывалась буквально в те же дни и часы.
По сути, очень скоро стали заметны две главные интерпретации события — версия властей и версия друзей. Сложность была в том, что они, расходясь, иногда пересекались, совпадали; такие близкие Пушкину люди, как Жуковский, Вяземский, вольно и невольно принимали участие как в одном, так и в другом истолковании. Тем не менее истина, явно не умещаясь в одних рамках, расширялась, «раздваивалась»…
В первые же дни после гибели поэта начали распространяться слухи, выгодные для «верхов». Правительственная версия яснее всего выразилась в письмах Николая I его августейшим родственникам (опубликованных много лет спустя, но заложивших основу официальной точки зрения[754]), а также в опубликованных П. Е. Щёголевым депешах западных дипломатов.
Основные черты официальной версии:
Религиозное покаяние Пушкина. Этот факт подчёркнут в письмах Николая I к брату Михаилу и сестре Марии Павловне. Последняя записка царя умирающему Пушкину (в ночь с 27 на 28 января 1837 г.— XVI, 228) содержала «прощение и совет умереть по-христиански».
В последующие дни Жуковский старался поднять престиж убитого поэта в глазах царской семьи. К хорошо и давно известным фактам следует прибавить и «хорошо забытый»: в Черниговском Историческом музее и поныне хранится следующая записка В. А. Жуковского, адресованная, по-видимому, В. Ф. Одоевскому, П. А. Плетнёву или П. А. Вяземскому, занимавшимся изданием «Современника» после гибели Пушкина.
«Государь желает, чтобы эта молитва была так факсимилирована, как есть, и с рисунком. Это хорошо будет в 1-й книге „Современника“, но не потеряйте этого листка. Он должен быть отдан императрице».
На том же листке карандашом сделана следующая приписка (видимо, рукою Н. К. Мавроди, знакомого Дельвига, которому прежде записка принадлежала):
«Дело идёт о молитве Ал. Пушкина „Господи Владыко живота моего“, напечатанной в „Современнике“ после смерти Пушкина»[755].
Случай совершенно ясный: разбирая бумаги покойного Пушкина, Жуковский находит стихи, написанные за несколько месяцев до кончины,— «Отцы пустынники и жены непорочны…», поэтическое переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина («Господи и Владыко живота моего…»). Это были сложные нравственные, философские, религиозные размышления поэта, диалог с самим собою (рисунок, сопровождающий текст,— монах в темнице за решёткою,— вряд ли простая иллюстрация).
Жуковский, прочитав стихотворение-молитву, понёс пушкинский листок царю и царице. Николай воспринял это как «благочестие нечестивца» и велел как можно шире о том сообщить, а умилённая царица потребовала пушкинскую молитву на память. Вот для чего Жуковский велит издателям «Современника» не просто напечатать, но и факсимилировать текст с рисунком (доказательство подлинности), а затем — вернуть…
Факсимиле стихотворения и рисунка было напечатано в 5-й книге «Современника» — первом номере пушкинского журнала, вышедшем после смерти поэта. Рукопись «Отцы пустынники…» у царицы не осталась: её сохранил у себя В. Ф. Одоевский, из его архива она много лет спустя попала в Публичную библиотеку, а затем — в Пушкинский дом.
Религиозный мотив был не единственной чертой официальной версии.
Забота царя о семье Пушкина — один из самых распространённых откликов на смерть поэта. Этот же мотив повторяется почти во всех депешах иностранных посланников; его поддерживают и ближайшие к Пушкину люди, одни искренне, другие — «тактически». Среди разных придворных толков о пенсии жене и детям Пушкина примечательна запись П. Д. Дурново: «Это превосходно, но это слишком»[756].
Наказание убийц. Дантес был предан суду, разжалован и выслан из России; нидерландский посол Геккерн в письме царя к брату был аттестован «гнусной канальей» и вынужден был вскоре покинуть свой пост.
Официальное толкование событий отнюдь не было примитивной ложью, но чаще всего односторонне выделяло некоторые действительно происходившие события, умалчивая о других, не менее важных…
Пушкин перед смертью принял священника, но подлинные отношения его с религией и церковью много сложнее, чем это было представлено в конце января — начале февраля 1837 года. Сам Жуковский получил тогда своеобразный упрёк от доброго своего друга, Александра Михайловича Тургенева, шестидесятипятилетнего отставного генерала, служившего при трёх предшествовавших царствованиях, но сохранившего своеобычность, или, как сказал бы Пушкин, «важный ум». По-видимому, сообщение о смерти поэта Тургенев получил от самого Жуковского, и тут-то «нашла коса на камень»: своенравный, глубоко верующий старик не пожелал принять примирительно-религиозной версии Жуковского.
Он писал Жуковскому 10 февраля 1837 года из Москвы: «Померкла, угасла лучезарная звезда на небосклоне нашем! Душевно жалею о Сергеевиче, жалею ещё более о том, что светильник угас преждевременно, сосуд был ещё полон елея, и как погашен! Нет! Покойный был худой христианин, худой филозов и до того несчастен в жизни своей, что не умел нажить себе друга! Проклятый эгоизм помрачал Высокий ум его, он раболепствовал себялюбие. Но сословие литераторов нашего времени не останется без упрёка в летописях; не могу поверить, чтобы о поединке его не было известно благовременно, чтобы в кругу литераторов было неизвестно хотя за час до сражения, и ни в ком не нашлось столько ума, чтобы явиться на место битвы и не допустить сражения.— Воля твоя — а это предосудительно. Он был в горячке, в бреду, в сумасшествии. Вить отнимают у безумных всякое орудие, которым они могут нанести себе вред»[757].
В словах А. М. Тургенева консервативные убеждения автора причудливо сочетались с довольно решительной критикой российского общества, которое не сумело сберечь Пушкина.
«Благодеяния» властей представлялись ряду зорких современников противоречивыми, двусмысленными.
Царь действительно погасил громадные долги поэта, но сами эти долги были в немалой степени плодом придворной жизни и разных литературно-издательских затруднений, от которых Пушкин не раз пытался избавиться, но встречал противодействие властей.
Столь же противоречивым, двусмысленным был, наконец, конфликт верховной власти с убийцами поэта. С Пушкина было в ноябре взято слово не драться; какие-то предупреждения, вероятно, сделаны и Геккернам, причём последние легче, чем Пушкин, могли заверить царя в своём миролюбии: ведь это позволяло им продолжать козни с меньшей, как им казалось, угрозой расплаты. Царь же не «ожидал дуэли» — но относился к происходившему довольно равнодушно…
Не принявший никаких особых мер против Геккерна в ноябре, Николай после смерти поэта повёл дело довольно круто: с позором без прощальной аудиенции был выслан из Петербурга посол «родственной державы» (жена голландского наследника, будущая королева Анна Павловна,— родная сестра Николая I). Щёголев и другие исследователи соглашались в том, что эти действия царя не просто расплата за гибель поэта. Очевидно, Николай был задет лично. Но чем же? Анонимным пасквилем? Однако его текст был известен «наверху» ещё в ноябре 1836 года, и тогда никаких мер в отношении Геккерна принято не было. К тому же уверенность Пушкина в авторстве Геккерна совсем не обязательно должен был разделять Николай.
Загадка требовала дополнительных разысканий, и П. Е. Щёголев справедливо заключил, что «император Николай Павлович был хорошо осведомлён о причинах и обстоятельствах несчастной дуэли. Он имел о деле Пушкина доклад графа Нессельроде, графа Бенкендорфа и В. А. Жуковского. Всего того, что было ведомо Николаю Павловичу, мы, конечно, не знаем, и потому особый интерес приобретают все письменные высказывания Николая по делу Пушкина, какие только могут найтись».
С самого начала Щёголев понял значение источников, находившихся в Западной Европе. Там хранились большие семейные архивы, и учёный сумел почерпнуть оттуда немаловажные подробности. На Запад ушли дипломатические отчёты, более или менее откровенно освещавшие гибель Пушкина. Особый интерес, естественно, вызывали материалы, хранившиеся в нидерландских архивах, которые, как считал Щёголев, могли осветить роль нидерландского посла в дуэльной истории. Было ясно, что отставка Геккерна после гибели Пушкина должна была вызвать важную для всей истории переписку. О своих неудачных попытках получить голландские документы Щёголев поведал уже в первом издании своего труда о дуэли и смерти Пушкина:
«Все старания извлечь донесения Геккерна своему правительству из Архива Министерства иностранных дел в Гааге не увенчались успехом, к прискорбию друзей просвещения. Нидерландское правительство решительно отказало в сообщении интересующих нас документов. Ещё в 1905 году наш посланник в Гааге Н. В. Чарыков получил от министра ван-Тетса уведомление, что „опубликование хранящейся в архиве переписки в настоящее время является нежелательным, так как оно было бы неприятно для проживающих ныне в Голландии и за границею родственников барона Геккерна“. Между тем, пока шли эти переговоры, в моих руках оказались современные копии с двух писем барона Геккерна барону Верстолку, бывшему в 1837 году голландским министром иностранных дел, и письма к принцу Оранскому, супругу Анны Павловны, в то время ещё наследнику нидерландского престола <…>
Нет сомнения, что признанные не подлежащими опубликованию документы голландского архива суть подлинники писем, известных нам лишь по копиям. Кое-что об архивных бумагах мы знаем частным образом <…> Графу Бреверну де-ла Гарди, бывшему в 1905—1906 годах советником русской миссии в Гааге, были показаны донесения Геккерна (числом три), и некоторые фразы напомнили ему донесения, напечатанные в русском переводе в моих статьях. Так как для целей учёного исследования представлялось необходимым ознакомиться с подлинниками и так как то, что казалось в Гааге не подлежащим опубликованию, было уже оглашено в России, то, по просьбе Комиссии по изданию сочинений Пушкина, наш посланник в Гааге граф Пален в 1911 году взял на себя труд нового обращения к голландскому министру иностранных дел ван Свиндерену. Но г. ван Свиндерен сообщил графу Палену, что „он не находит возможным дать разрешение для личного осмотра посланником или секретарём миссии архива его министерства по этому крайне деликатному ещё поныне вопросу, а тем более согласиться на опубликование таких вполне доверительных сообщённых бароном Геккерном сведений, которые до сих пор составляют семейную тайну, в особенности третье письмо, на имя принца Оранского; относительно этого письма для его публикации он, министр, был бы обязан предварительно исходатайствовать разрешение её величества королевы Нидерландской, какового её величество, по его, министра, глубокому убеждению, никогда не соизволит дать“.
Нам не совсем понятны основания такого взгляда г. ван Свиндерена, но во всяком случае будем ждать лучших времён, когда соображения, диктуемые чрезмерной щепетильностью, не будут иметь места и мы получим возможность, во-первых, сверить имеющиеся у нас копии с хранящимися в Гааге подлинниками и, во-вторых, ознакомиться и с другими материалами о дуэли, о существовании которых в голландских архивах мы не знаем»[758].
Особенное волнение у Щёголева вызвал присланный ему из Веймарского архива текст послания Николая I к сестре Анне Павловне от 3/15 февраля 1837 года:
«Пожалуйста, скажи Вильгельму[759],— писал царь,— что я обнимаю его и на этих днях пишу ему, мне надо много сообщить ему об одном трагическом событии, которое положило конец жизни пресловутого Пушкина[760], поэта; но это не терпит любопытства почты».
Понятно, учёный приложил усилия к поискам того письма императора, что «не терпит любопытства…». «С тем большим сожалением приходится констатировать,— сообщал Щёголев,— что поиски этого письма были безрезультатны. По сообщению голландского министерства, этого письма не оказалось в архивах королевского дома и кабинета королевы. Не оказалось его и в Веймарских архивах. Сохранилось ли оно? Не уничтожено ли по соображениям щепетильности? Или же, по этим соображениям, не считается ли оно не подлежащим ни оглашению, ни даже ведению? Будем всё-таки надеяться, что со временем этот пробел в источниках для биографии Пушкина будет заполнен»[761].
В последнем прижизненном издании своей книги П. Е. Щёголев вынужден был повторить эти строки[762].
Прошло несколько лет после смерти П. Е. Щёголева (1931), и доступ исследователей к нидерландским материалам был, очевидно, облегчён. В 1937 году в известном парижском научном журнале «Revue des études Slaves» появилась обширная публикация «Два барона Геккерна», где полностью или частично были напечатаны девятнадцать документов из Государственного архива Нидерландов[763]. Большая их часть была на французском языке; голландские тексты публиковались параллельно по-голландски и французски. Некоторые документы авторы публикации кратко пересказывали, из других приводили только фрагменты, сетовали на отсутствие отдельных бумаг и сообщали, что не получили доступа в архив Высшего совета знати. Им остался недоступен и архив семьи Геккернов, находящийся в провинции Гельдерн.
Публикация нидерландских учёных была вскоре замечена в СССР и изложена в общих чертах в статье С. Моргулиса «Новые документы об убийце Пушкина»[764].
К сожалению, в этой статье была допущена досадная неточность, дезориентировавшая исследователей: там утверждалось, будто авторы парижской публикации намереваются в скором времени опубликовать письмо Николая I к Вильгельму Оранскому, касающееся гибели Пушкина. На самом деле в статье голландских учёных подобного заявления не было.
Между тем разработка «дуэльной истории» продолжалась. Одновременно с работами Щёголева и после его смерти появились важные исследования А. С. Полякова, Б. В. Казанского, Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана, М. А. Цявловского, позже — публикации и труды Э. Г. Герштейн, Н. А. Раевского, Я. Л. Левкович, С. Л. Абрамович и других учёных.
Работы основывались преимущественно на источниках, обнаруженных в советских архивах, однако отдельные материалы напоминали о неиспользованных резервах зарубежных хранилищ. Так, в 1963 году были изданы ещё некоторые письма, относящиеся к дуэли и смерти Пушкина из Веймарского архива[765].
В 1965 году корреспондент ТАСС Ю. Корнилов ознакомился с документами, выявленными в Государственном архиве Нидерландов, и напечатал краткое их описание[766].
Автор данной книги рассудил, что если «главное», искомое письмо может храниться где-то в западноевропейских архивах, то в наших хранилищах могут найтись интересные ответы западных монархов на письма Николая I относительно гибели Пушкина.
В рукописном собрании библиотеки Зимнего дворца сохранилось очень мало писем голландской королевы Анны Павловны своим петербургским родственникам. О Пушкине или его врагах там ни слова.
Куда более ценными оказались письма принца Вильгельма Оранского Николаю I за 1836 и 1837 годы, и среди них ответ на секретное послание царя, отправленное в феврале 1837 года[767].
Первое послание Вильгельма, существенное для нашей темы, было, однако, написано ещё за месяц до появления пресловутых пасквилей и начала дуэльной истории — 26 сентября (8 октября) 1836 года. Вот его текст.
«Я должен сделать тебе, дорогой мой, один упрёк, так как не желаю ничего таить против тебя, — писал Вильгельм Оранский царю,— как же это случилось, мой друг, что ты мог говорить о моих домашних делах с Геккерном, как с посланником или в любом другом качестве? Он изложил всё это в официальной депеше, которую я читал, и мне горько видеть, что ты находишь меня виноватым и полагаешь, будто я совсем не иду навстречу желаниям твоей сестры.
До сей поры я надеялся, что мои семейные обстоятельства не осудит по крайней мере никто из близких Анны, которые знают голую правду. Я заверяю тебя, что всё это задело меня за сердце, равно как и фраза Александрины, сообщённая Геккерном: спросив, сколько времени ещё может продлиться бесконечное пребывание наших войск на бельгийской границе, она сказала, что известно, будто это делается теперь только для удовлетворения моих воинственных наклонностей…»[768]
10(22) октября 1836 года Николай отправил с курьером в Гаагу письмо (текст его неизвестен), в котором, видимо, успокаивал родственника.
30 октября (11 ноября) Вильгельм Оранский отвечал:
«Я должен тебе признаться, что, не придавая особой веры содержанию депеши Геккерна, я был, однако, ею потрясён и огорчён, не будучи в состоянии ни объяснить дело, ни отделить правду от лжи, но теперь ты меня совершенно успокоил, и я тебя благодарю от глубины сердца. Я тебе обещаю то же самое, при сходных обстоятельствах»[769].
Точное содержание депеши Геккерна, на которую жалуется принц, нам неизвестно. По-видимому, она касалась разногласий между членами нидерландского королевского дома насчёт бельгийского вопроса.
В 1831 году Бельгия в результате успешного восстания отделилась от Нидерландов, в составе которых находилась в течение шестнадцати лет, после Венского конгресса. К 1836 году бельгийский вопрос ещё оставался острой международной проблемой. Наиболее воинственные круги нидерландского правительства во главе с наследным принцем Вильгельмом Оранским не оставляли надежды на возвращение Бельгии. В то же время старый король Голландии Вильгельм I и жена наследного принца Анна Павловна были настроены более мирно. Как видно, в разговоре с Геккерном, состоявшемся летом или в начале осени 1836 года, царь, а затем императрица высказали своё мнение по бельгийскому вопросу, сходное с мирной позицией короля и принцессы Анны.
При этом возникла довольно любопытная ситуация: русский император забыл, что Голландия — конституционная монархия; зависимость посла от главы государства там иная, нежели в России. Заговорив с Геккерном о каких-то обстоятельствах семейной жизни королевской четы, Николай I невольно выдал принца его конституционному кабинету, чем «потряс и огорчил» родственника. Ненависть Николая ко всяким демократическим институтам общеизвестна; добавим, что и Вильгельм Оранский пытался, впрочем без успеха, усилить роль монарха в Голландии[770]. Депеша Геккерна вызвала неприязнь к нему и русского царя, и голландского наследника, тем более что, по их мнению, посол исказил мысль Николая, и лишь письмо самого императора от 10(22) октября открыло истину и «успокоило душу» принца. За подобную провинность Геккерна не могли наказать в Голландии, однако этот эпизод, как увидим, не был забыт, и гибель Пушкина явится тем «сходным обстоятельством», при котором Вильгельм сумеет отблагодарить царя.
Изученные тексты писем Вильгельма Оранского к Николаю I послужили поводом для нового обращения в нидерландские архивы насчёт имеющихся там материалов о дуэли и смерти Пушкина. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина запросила Государственный архив Нидерландов и Архив нидерландского королевского дома о находящихся у них документах, а также — о возможных поисках исчезнувшего письма Николая I к Вильгельму Оранскому. Директор Государственного архива в Гааге г-н ван Лаар любезно отвечал, что «в секретном архиве государственного секретаря имеется много документов о деле Пушкина, между ними — донесения нидерландского посланника ван Геккерна. В архиве кабинета короля, также хранящемся в Государственном архиве, находятся письма членов русского императорского дома и нидерландской королевской семьи»; однако «письмо Николая I от 15/27 февраля 1837 г., к сожалению, не найдено в вышеуказанных архивах» (письмо от 10 июля 1970 г.; перев. с англ.).
Пришедший вскоре столь же любезный ответ директора Архива нидерландского королевского дома г-на Пелинка гласил: «К сожалению, должен сообщить Вам, что в Архиве королевского дома нет разыскиваемого Вами письма Николая I от 15/27 февраля 1837 года ни к королю Вильгельму I, ни к его сыну, принцу Оранскому (король Вильгельм II, женатый на сестре Николая I). Возможно, что письмо попало в Веймар через сестру Вильгельма II принцессу Софию» (письмо от 13 июля 1970 г.; перев. с англ.).
Чрезвычайно ценной оказалась информация г-на ван Лаара в следующем его письме, от 12 января 1971 года, о документах по «делу Пушкин — Дантес», хранящихся в Государственном архиве Нидерландов (фонды государственного секретаря министерства иностранных дел и нидерландского посольства в Петербурге). В этом письме указывалось, что «среди писем членов русского императорского дома в архиве кабинета короля (1815—1840) нет ни одного за 1836 и 1837 гг.».
Вскоре из Гааги в Отдел рукописей Ленинской библиотеки был прислан микрофильм семнадцати, а вместе с приложениями — двадцати документов. Восемь из этих документов полностью или в основной части печатались ранее, четыре документа публиковались частично, пять документов прежде не печатались. Известные тексты, однако, воспроизводились у нас не по автографам; некоторые прежде не переводились на русский язык.
Таким образом, открылась возможность отечественного научного издания и изучения нидерландских документов, связанных с дуэлью и смертью Пушкина[771].
«Любопытство почты»
Итак, двадцать документов из голландских хранилищ и несколько писем Вильгельма Оранского из советского архива.
Имя Пушкина в большинстве материалов отсутствует: в частности, в четырёх письмах Вильгельма Оранского к Николаю I поэт не упомянут ни разу. Однако документы открывают некоторые существенные моменты, прямо относящиеся к дуэльной трагедии.
Во-первых, в дипломатическую переписку просочились — порою искажённые, но иногда верные — сведения о реакции русского общества на убийство Пушкина.
Во-вторых, в переписке 1836—1837 годов находятся новые штрихи, дополняющие прежде известный облик врага Пушкина посла Геккерна, многое объясняющие в его взглядах, психологии и поведении.
Третий важный слой фактов относится к позиции верховных властей Нидерландов и России, прежде всего — Николая I.
Напомним последовательность событий.
30 января (11 февраля) 1837 года, на другой день после смерти Пушкина, Геккерн послал своему министру иностранных дел барону Верстолку ван Зеелену первую депешу о происшедшем событии, изображая себя и Дантеса в выгоднейшем свете и не допуская даже мысли об отставке:
«Потомок африканского негра, любимца Петра Великого, г. Пушкин унаследовал от предка свей мрачный и мстительный характер…
Полученные им около четырёх месяцев тому назад омерзительные анонимные письма разбудили его ревность и заставили его послать вызов моему сыну, который тот принял без всяких объяснений…
Однако в дело вмешались общие друзья, и, зная, что дуэль погубила бы репутацию жены г. Пушкина и повредила бы его детям, сын мой счёл за лучшее дать волю своим чувствам и попросил у меня согласия на брак с сестрой г-жи Пушкиной…
Два месяца спустя, 22/10 января, брак был совершён в обеих церквах в присутствии всей семьи… .
Демону ли зависти, чувству ли ревности, никому, так же, как и мне, непонятному, или какому-либо другому неведомому побуждению следует приписать то, что произошло затем? Не знаю; но только прошлый вторник (сегодня у нас суббота), в ту минуту, когда я собирался на обед к графу Строганову, и без всякого видимого повода, я получаю письмо от г. Пушкина. Моё перо отказывается воспроизвести все отвратительные оскорбления, которыми наполнено было это низкое письмо…
Встреча противников произошла на другой день, в прошлую среду. Дрались на пистолетах. У сына была прострелена рука навылет, и пуля остановилась в ребре, причинив сильную контузию. Г. Пушкин был смертельно ранен и скончался вчера днём. Так как его смерть была неизбежна, то император велел убедить его, чтобы он умер как христианин, послал ему своё прощение и обещал позаботиться о его жене и детях.
Нахожусь пока в неизвестности относительно судьбы моего сына. Знаю только, что император, сообщая эту роковую весть императрице, признал, что барон Ж. Геккерн не мог поступить иначе. Его жена находится в состоянии, достойном всякого сожаления. О себе уж не говорю…
Если что-нибудь может облегчить моё горе, то только те знаки внимания, которые я получаю от всего петербургского общества. В самый день катастрофы граф и графиня Нессельроде, так же как и граф и графиня Строгановы, покинули мой дом только в час пополуночи»[772].
Однако через два дня, 2(14) февраля, Геккерн посылает уже куда более взволнованную, растерянную депешу. На этот раз посол пишет о возможной своей отставке, но предостерегает министра: «Немедленное отозвание меня было бы громогласным выражением неодобрения моему поведению… Совесть моя говорит, что я не заслуживаю такого приговора, который сразу бы погубил всю мою карьеру». 3(15) февраля Геккерн апеллирует к Вильгельму Оранскому с просьбой о назначении к другому двору.
Очевидно, за два-три дня обстановка в петербургских верхах переменилась. Хотя следствие, которое вёл Бенкендорф по поводу анонимных писем, не дало видимых результатов, царь принял решение — прогнать Геккерна.
Что же произошло?
Ещё 28 и 30 января Геккерн передал министру иностранных дел К. В. Нессельроде пять документов, относящихся к дуэли, и они были показаны царю[773], в их числе — преддуэльное письмо Пушкина. Таким образом, царь быстро узнал текст этого документа и содержащиеся в нём обвинения Геккерну. Очевидно, тогда же Николай высказал мнение, окончательно определившее судьбу посла: позже в военно-судном деле Дантеса отмечалось, что «помещённые в письме Пушкина к отцу подсудимого, министру барону Геккерну, дерзкие, оскорбительные выражения не могли быть написаны без важных причин, которые отчасти поясняются самим содержанием письма и объяснениями Пушкина в присутствии секундантов»[774].
Иначе говоря, царь не верил в невиновность Геккерна; к тому же — оставались подозрения насчёт его причастности к анонимному пасквилю, задевшему, между прочим, самого Николая.
В последние дни января 1837 года столица была сильно возбуждена известием о гибели Пушкина; атмосфера накалялась.
30 января Жуковский, а 2 февраля — граф А. Ф. Орлов получили анонимные письма, обвинявшие иностранцев в гибели национального поэта. В связи с этим состоялось совещание царя с Бенкендорфом, полагавшим, что письма доказывают «существование и работу общества»[775].
Царь, несомненно, был раздражён «неприятностями», которые ему доставили последние события, и часть его гнева оборачивалась против нидерландского посла.
Именно к 2 февраля, когда было приказано тайно, не допуская особых почестей, похоронить Пушкина,— мнение императора насчёт Геккерна уже сложилось. На другой день, 3 февраля 1837 года, Николай отправил цитированное выше письмо Анне Павловне, извещая, что будет писать Вильгельму с курьером. Тогда же, 3 февраля, было отправлено и другое, известное, письмо Николая брату Михаилу (лечившемуся за границей), где говорилось о «гнусном поведении» Дантеса и Геккерна, причём последний аттестовался «сводником» и «гнусной канальей».
4 февраля царь описал происшедшие события в письме к своей сестре Марии Павловне, герцогине Саксен-Веймарской, отзываясь о Пушкине с пренебрежением и скорее сочувствуя Дантесу (о Геккерне вообще не говорилось)[776].
Заметим, что Николай I не хочет распространения известий о Геккерне: сёстрам Анне и Марии он не сообщает никаких подробностей на его счёт. И только с Михаилом Павловичем, как самым близким,— полная откровенность.
Очевидно, царь считал дело Геккерна щекотливым и не желал лишней огласки, опасаясь оказаться одним из действующих лиц всей истории; к тому же для общественного мнения Николай находил важным подчёркивать предсмертное обращение поэта к христианству и благодеяния, оказанные его семье. Распространение толков о Геккерне и Дантесе усиливало бы впечатление правоты и мученичества поэта.
В те дни, когда царь отправил своим августейшим родственникам три известных сообщения о смерти Пушкина, было послано и четвёртое — Вильгельму Оранскому: не то, которое позже пойдёт со специальным курьером, а, видимо, краткое, предварительное (текст его тоже неизвестен). Обычное почтовое время от Петербурга до Гааги составляло примерно неделю, и 12 (24) февраля принц Оранский уже отвечал Николаю:
«Дорогой Николай!
Всего два слова, чтобы использовать проезд курьера, тем более что Поццо[777] послал его сюда по моей просьбе, не зная, что я имел бы случай отвечать на твоё письмо о деле Геккерна через посредство стремительно возвращающегося Геверса, который вот уже три дня в пути.
Я пишу тебе очень поспешно: сегодня у нас святая пятница и приготовления к причастию.
Геккерн получит полную отставку тем способом, который ты сочтёшь за лучший. Тем временем ему дан отпуск, чтобы удалить его из Петербурга.,
Всё, что ты мне сообщил на его счёт, вызывает моё возмущение, но, может быть, это очень хорошо, что его миссия в Петербурге заканчивается, так как он кончил бы тем, что запутал бы наши отношения бог знает с какой целью»[778].
Из письма принца видно, что царь уже намекнул в своём послании на необходимость отзыва Геккерна, но не сообщил подробностей, а Вильгельм склонен ещё соблюсти декорум — дать послу отпуск, чтобы удалить из России. Нетрудно заметить, что принц сразу связал новую ситуацию с прежней: с той обидой, которую прошедшей осенью Геккерн нанёс двум монархам, изложив в официальной депеше свою беседу с Николаем I (намёк на запутывание отношений «бог знает с какой целью»).
Наконец, 8(20) марта 1837 года Вильгельм Оранский отвечал на доставленное курьером то самое письмо Николая I от 15(27) февраля 1837 года, которое не терпело «любопытства почты»[779].
Вот перевод основной части ответного послания из Гааги:
«Дорогой, милый Никки!
Я благополучно получил твоё письмо от 15/27 февраля с курьером, который прибыл сюда, возвращаясь в Лондон, и я благодарю тебя за него от всего сердца, ибо та тщательность, с которой ты счёл нужным меня осведомить об этой роковой истории, касающейся Геккерна, служит для меня новым свидетельством твоей старинной и доброй дружбы.
Я признаюсь тебе, что всё это мне кажется по меньшей мере грязной историей, и Геккерн, конечно, не может после этого представлять мою страну перед тобою; поэтому для начала ему дан отпуск, и Геверс, с которым отправляется это письмо, вернётся в Петербург в качестве секретаря посольства, чтобы кто-либо всё же представлял перед тобою Нидерланды и чтобы дать время сделать новый выбор. Мне кажется, что во всех отношениях это не будет потерей и что мы, ты и я, долгое время сильно обманывались на его счёт. Я в особенности надеюсь, что тот, кто его заменит, будет более правдивым и не станет изобретать сюжеты для заполнения своих депеш, как это делал Геккерн.
Здесь никто не понял, что должно было значить и какую истинную цель преследовало усыновление Дантеса Геккерном, особенно потому, что Геккерн подтверждает, что они не связаны никакими кровными узами. Геккерн мне написал по случаю этого события. Я посылаю тебе это письмо с копиями его депеш к Верстолку, где он знакомит того со всей этой историей; и вот также копия моего ответа Геккерну, который Геверс ему везёт. Я прошу тебя после прочтения отослать всё это ко мне обратно…»[780]
Сквозь это послание Вильгельма Оранского, конечно, «просвечивает» исчезнувшее письмо Николая I от 15 (27) февраля. Как и в предыдущем ответе Вильгельма, имя Пушкина не встречается: для принца всё это — «история, касающаяся Геккерна». Вероятно, такова же была и тональность письма императора. Для обоих самое существенное во всём эпизоде, конечно, неподобающие его званию действия голландского посланника.
В каких же действиях обвиняется Геккерн?
Письмо Вильгельма содержит термины и обороты, очевидно, повторяющие или приближающиеся к соответствующим высказываниям Николая. Слова «гнусный», «гнусность поведения» при характеристике двойной игры и лживости посла содержались в упомянутом письме Николая к Михаилу Павловичу от 3(15) февраля и, наверное, были повторены в письме к принцу Оранскому[781].
В конце письма Вильгельм (вероятно, последовательно отвечая на соответствующее послание Николая) останавливается на щекотливой проблеме усыновления, истинных отношений между Дантесом и Геккерном; в словах: «Здесь никто не понял истинную цель усыновления» — слышится эхо каких-то обвинений, высказанных царём по этому поводу.
Итак, из письма Вильгельма видны, по крайней мере, два пласта, составлявших письмо Николая: во-первых, о гнусности и лживости Геккерна, во-вторых, вопрос об усыновлении. Возможно, Николай сообщал Вильгельму какие-то неизвестные нам подробности, однако скорее всего письмо царя и по системе доказательств было похоже на послание Михаилу; беспокойство же императора насчёт «любопытства почты» является, очевидно, намёком на голландских министров и парламентариев, склонных вмешиваться в личные дела монархов (всё та же осенняя депеша Геккерна!). Ведь не русские же почтари дерзнут вскрывать пакеты императора, «любопытство» же голландцев будет преодолено личным курьером — от одного монарха к другому… И снова отметим, как настойчиво и в последнем из цитированных писем Вильгельм связывает случившееся с прежним поступком Геккерна («изобретение сюжетов», «мы оба сильно обманывались…»).
Не ожидая, таким образом, сенсационных откровений в письме Николая от 15 (27) февраля 1837 года, заметим одну важную подробность: в том послании, насколько можно судить по ответу Вильгельма, царь отчасти пользуется аргументацией самого Пушкина.
Положив рядом пушкинское письмо-вызов от 26 января 1837 года, цитированное послание Николая брату Михаилу и обнаруженные письма Вильгельма Оранского к Николаю, можно найти ряд совпадений, и, по-видимому, не случайных. Намёк на противоестественные отношения Геккерна и Дантеса содержался в словах Пушкина о «незаконнорождённом или так называемом сыне». Пушкин писал (о Дантесе и H. Н. Пушкиной): «Вы говорили, что он умирает от любви к ней»; Николай — Михаилу: «Он <Геккерн>… сам сводничал Дантесу в отсутствии Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто умирал к ней любовью». Фраза в письме Пушкина: «Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну» — была, надо полагать, основной формулой при объяснении Николая с Вильгельмом Оранским.
Тема «анонимных писем», резко выраженная в ноябрьском письме поэта к Геккерну, в январском приглушена. Вероятно, не поднимался этот вопрос и в переписке Николая I с Вильгельмом Оранским, хотя Геккерн, оправдываясь перед Нессельроде, говорил о двух обвинениях в его адрес, которые «могли дойти до сведения государя»,— сводничестве и анонимных письмах[782].
Февраль — март
В то время, когда монархи договаривались насчёт отставки Геккерна, последний всячески пытался оправдаться и в феврале — марте 1837 года много писал к своему министру иностранных дел Верстолку, а также принцу Вильгельму Оранскому. Особенно примечательно для манеры самозащиты посла его письмо от 2 (14) февраля 1837 года:[783]
«Долг чести повелевает мне не скрыть от Вас того, что общественное мнение высказалось при кончине г. Пушкина с большей силой, чем мы предполагали. Но необходимо выяснить, что это мнение принадлежит не высшему классу, который понимал, что в таких роковых событиях мой сын по справедливости не заслуживал ни малейшего упрёка: его поведение было достойно честного человека… Чувства, о которых я теперь говорю, принадлежат лицам из третьего сословия, если так можно назвать в России класс, промежуточный между настоящей аристократией и высшими должностными лицами, с одной стороны, и народной массой, совершенно чуждой событию, о котором она и судить не может,— с другой. Сословие это состоит из литераторов, артистов, чиновников низшего разряда, национальных коммерсантов высшего полёта и т. д. Смерть г. Пушкина открыла, по крайней мере, власти существование целой партии, главой которой он был, может быть, исключительно благодаря своему таланту, в высшей степени народному. Эту партию можно назвать реформаторской: этим названием пользуются сами её члены. Если вспомнить, что Пушкин был замешан в событиях, предшествовавших 1825 году, то можно заключить, что такое предположение не лишено оснований».
В этом документе, наряду со стремлением оправдать Дантеса и напугать царя существованием партии, пусть невольно,— отражены действительные настроения общества, негодовавшего против убийц Пушкина. Столь проверенный приём, как политическое обвинение противников (к тому же совпадающее с указаниями Бенкендорфа на «существование и работу общества»), разумеется, произвёл впечатление на Николая, но — не спас Геккерна. Вскоре «необходимость отъезда… была ясно продемонстрирована»[784]. Министр иностранных дел Верстолк пытался защитить посла перед королём Вильгельмом I: «отозвание вышеупомянутого господина Геккерна означало бы лишь, по крайней мере на ближайшее время, отстранение его от должности, что рассматривалось бы обществом как признак недовольства со стороны правительства поведением барона ван Геккерна, а для такого недовольства я не могу найти каких-либо оснований»[785].
В то время как принц Вильгельм Оранский относился к Геккерну с явной враждебностью, позиция короля Вильгельма I была иной (возможно, здесь отразились и противоречия более мирно настроенного короля и воинственного принца в бельгийском вопросе).
В конце февраля 1837 года Вильгельм I пытался свести конфликт к виновности Дантеса: возникла переписка по поводу его русской службы, не оформленной соответствующим разрешением нидерландского короля; отсюда делался вывод о незаконности нидерландских дворянских прав Дантеса и усыновления его голландским посланником, а как итог всего этого,— невозможность возлагать на Геккерна какую-либо ответственность за всё происшедшее. Неудача хитроумного манёвра отчётливо показывает, как велико было давление Николая I, сокрушившее формальные построения голландских политиков.
14 марта министр сообщает Геккерну об его отставке[786] (заметим, что это случилось через несколько дней после того, как пришло «главное» письмо Николая I против Геккерна, отправленное 15(27) февраля):
«Господин барон!
С крайним сожалением мы узнали здесь о несчастном случае, упоминаемом в ваших последних письмах, и я хотел бы убедить вас в моём искреннем участии к тому затруднительному положению, в котором вы находитесь. Поскольку в вашем последнем письме от 25 февраля вы говорите о затруднениях, связанных с приготовлением к отъезду, в необходимости которого вы убеждены,— король поручил мне предупредить вас, что он разрешает вам покинуть Петербург, как только господин Геверс, секретарь посольства, вернётся на свой пост. В настоящий момент он находится в Амстердаме, и я пишу ему, предлагая без промедления пуститься в путь для исполнения обязанностей поверенного в делах после вашего отъезда. Примите, господин барон, уверения в моём глубоком почтении».
Ещё через несколько дней, 20 марта 1837 года, Верстолк известил Геккерна, что усыновление Дантеса не может быть признано в Голландии как противоречащее некоторым пунктам законодательства страны.
Геккерн, получив это послание, начал готовиться к отъезду, впрочем, не упуская случая снова вступить в разговор со своим начальником о происшедшем. 27 марта (8 апреля) 1837 года он пишет Верстолку:
«Господин барон!
Имею честь объявить Вашему Превосходительству, что господин Геверс прибыл позавчера в эту столицу и немедленно отправил по назначению письма и пакеты, которые предназначены для Августейшей Императорской фамилии. Я уже обратился к Его Превосходительству господину графу Нессельроде по поводу моей прощальной аудиенции, и как только буду иметь честь проститься с их императорскими величествами, тотчас покину Санкт-Петербург, чтобы воспользоваться отпуском, который Его Величество король соблаговолил мне предоставить.
Перед отъездом я передам дела посольства господину Геверсу,— как принято,— согласно описи, а по прибытии в Гаагу я сочту долгом представить дубликат Вашему Превосходительству.
Имею честь оставаться с глубоким почтением…
барон Геккерн»[787].
Вскоре Геккерн покинул Россию, не получив прощальной аудиенции, и на время оказался в Голландии без дела. Он, однако, продолжал борьбу за восстановление своих прав на дипломатическую карьеру (и, как известно, через несколько лет снова был призван на посольские должности). При этом оказалось, что барон имеет сторонников в российском высшем обществе, которое в это время ещё спорило о мере вины Дантеса, но почти единодушно сходилось в отрицании вины его приёмного отца (особенно после того, как узнали об отношении к нему царя). Одним из таких доброжелателей оказался граф Григорий Строганов, с кем, между прочим, Геккерн советовался, получив преддуэльное письмо Пушкина.
Строганов, вероятно, был горд своей независимостью от любого мнения, даже царского, когда писал Геккерну о недавних воспоминаниях и «дружеских симпатиях», о «благородном и лояльном поведении» Дантеса: «Если наказанный преступник является примером для толпы, то невинно осуждённый, без надежды на восстановление имени, имеет право на сочувствие всех честных людей». «Примите, прошу Вас,— обращался Строганов к бывшему послу,— уверения в моей искренней привязанности и совершенном моём уважении»[788].
Голландские документы открывают, как использовал Геккерн послание вельможи: 25 мая 1837 года он пишет, уже из Гааги, Верстолку (министр отнюдь не принадлежал к врагам отставного дипломата[789]):
«Господин барон!
Беру на себя почтительную смелость представить вам прилагаемое письмо графа Строганова, того, который некоторое время провёл в Гааге; не сочтёте ли вы возможным ознакомиться с ним и разрешите надеяться, господин барон, что Ваше Превосходительство соблаговолит показать его королю. Мнение такого человека, как граф Строганов, не может быть мне безразлично, а мой долг в отношении господина Жоржа де Геккерна обязывает меня добиваться оценки его поведения всеми порядочными людьми.
Надеюсь, господин барон, что вы соблаговолите со временем возвратить мне это письмо, пока же имею честь…
барон де Геккерн»[790].
Мы знали Геккерна как человека дела, холодного, беспринципного; письма же из нидерландского архива представляют его в борьбе за карьеру; изгнанный из Петербурга по причинам, связанным и не связанным с Пушкиным, он следит за перипетиями общественного мнения; пускает в ход все возможные доводы в свою пользу, даже «рекомендации» Строганова…
Между тем с начала апреля 1837 года и далее, в течение более чем тридцати лет, обязанности нидерландского посланника в Петербурге исполнял барон Геверс. Мы очень мало знаем об этом человеке. В различных нидерландских биографических словарях и справочниках представлены многие члены этой фамилии;[791] однако о преемнике Геккерна, Иоганнесе Корнелисе бароне Геверсе, сведений немного: годы его жизни 1806—1872[792]. В период описываемых событий ему было едва за тридцать лет, но, судя по осведомлённости и связям, он служил в русской столице не первый год. После того, как 12/24 февраля 1837 года Вильгельм Оранский известил Николая I, что находящийся в отпуску Геверс «стремительно возвращается», отъезд дипломата из Гааги был задержан; возможно потому, что окончательная судьба Геккерна была ещё не решена: даже в начале марта 1837 года министр иностранных дел и король ещё надеялись, что удастся избежать смены посланника. В этой связи от Геверса был затребован и получен (7 марта 1837 г.) рапорт о Дантесе, который был приложен к докладу Верстолка королю Вильгельму I от 8 марта 1837 года: «Барон Дантес (приёмный сын барона ван Геккерна), насколько мне известно, прибыл в Петербург в 1833 году, после того как скомпрометировал себя во время беспорядков в Вандее и был вынужден покинуть Эльзас, предоставив своему отцу, проживающему там, подвергаться мести со стороны своих партийных противников.
До переворота во Франции в 1830 году Дантес обучался в военном училище в Сен-Сире, и это способствовало его поступлению на русскую службу в чине офицера. Ему действительно удалось через четыре месяца после прибытия в Петербург получить чин корнета в гвардейском полку кирасир её императорского величества. Весной 1836 года он был произведён в поручики того же полка, и я полагаю, что в этом чине он продолжает служить в настоящее время»[793].
Все сведения Геверса о Дантесе были точны: дипломат уехал в отпуск не раньше осени 1836 года и был хорошо осведомлён о том, что происходило прежде.
Геверс выехал из Голландии в Петербург 20 марта. Он вёз послания Верстолка Геккерну от 14 и 20 марта 1837 года, неизвестное ныне письмо Геккерну от принца Вильгельма Оранского и, наконец, уже рассмотренное нами письмо принца — царю от 20 марта 1837 года.
Принц Оранский в последнем документе, как уже отмечалось, выражал надежду, что преемник Геккерна «будет более правдивым и не станет изобретать сюжеты для заполнения своих депеш, как это делал Геккерн». Понятно, Геверс перед отъездом получил инструкции от министра иностранных дел и, возможно, от членов нидерландского королевского дома. Среди этих инструкций (как будет видно из дальнейшего) имелось указание — подробно представить смысл случившегося, рассмотреть события глазами сравнительно нейтрального наблюдателя, находившегося в момент гибели Пушкина далеко от России.
Геверс прибыл в Петербург 25 марта/6 апреля 1837 года после утомительного шестнадцатидневного путешествия (как видно из его депеши Верстолку от 15/3 апреля 1837 г.[794]).
В течение нескольких дней Геккерн сдавал дела Геверсу и утром 13 апреля 1837 года навсегда покинул Петербург.
Через двадцать шесть дней после своего возвращения в Петербург, 20 апреля/2 мая 1837 года, Геверс уже завершил своё подробное донесение министру иностранных дел.
О существовании большого доклада Геверса в голландском архиве «частным образом» знал ещё П. Е. Щёголев: «Нам известно, что по делу Геккерн — Пушкин в архиве находятся… донесение уполномоченного в делах барона Геверса (заменившего барона Геккерна) о впечатлении, произведённом смертью Пушкина в С.-Петербурге, и, кроме того, вырезка из „Journal de St. Péterbourg“ с приговором над Дантесом»[795].
И. Баак и П. Грюйс, авторы публикации 1937 года в «Revue des études Slaves»[796], знали донесение Геверса, но ограничились лишь выдержкой из него; при этом сообщалось, что в неопубликованной части документа приводятся «различные наблюдения о реакции общества на смерть Пушкина, о различных мнениях различных классов русского народа», описывается «симпатия, которую завоевал покойный в либеральных кругах, а также в общих чертах — его жизнь и характер».
Доклад Геверса был завершён 20 апреля/2 мая 1837 года. В нём тринадцать страниц почтовой бумаги и сверх того приложена вырезка из «Peterburgische Zeitung» (немецкого аналога указанной Щёголевым газеты) от 14(26) апреля 1837 года с текстом приговора военного суда по делу Дантеса.
При сравнении с двумя другими документами Геверса из той же группы материалов (рапорт от 7 марта и донесение от 15/3 апреля) ясно видно, что все три документа написаны и подписаны одной и той же рукой и, без сомнения, являются беловыми автографами Геверса. Незначительные пометы на донесении от 2 мая не меняют ясного представления о беловом тексте, содержание которого столь сложно и важно, что ему почти наверняка предшествовали черновые варианты.
Интересным и парадоксальным обстоятельством, связанным с историей «документа Геверса», является существование другой его редакции, известной исследователям уже более семидесяти лет.
Дело в том, что П. Е. Щёголев через посредство Академии наук и Министерства иностранных дел получил и опубликовал в своей книге депеши одиннадцати иностранных дипломатов, освещавших историю дуэли и смерть Пушкина[797]. Особенно содержательными оказались выдержки из донесений вюртембергского посланника — князя Гогенлоэ-Кирхберга. «Его сообщения,— писал П. Е. Щёголев,— выдаются из ряда других дипломатических донесений обилием любопытных подробностей, а главное — ясным сознанием абсолютной ценности и значения творчества Пушкина. Очевидно, такое сознание побудило посланника не ограничиться фактическими сведениями о дуэли, смерти и суде, а приложить особую, и нельзя сказать что малую, „Записку“ о Пушкине — о его жизни, о его литературной деятельности, о его духовной и физической личности. „Записка“ имеет большой интерес, и если её сравнить с тем, что писано о Пушкине в иностранных газетах в 1837 году, то окажется, что она выгодно отличается от других писаний своей фактической стороной»[798]. Между тем «Записка» («Заметка») о Пушкине, присланная Щёголеву из архива вюртембергского министерства иностранных дел в Штутгарте, является «близнецом» донесения Геверса. (Хотя штутгартская рукопись приложена к донесениям Гогенлоэ-Кирхберга, однако вопрос о её авторстве неясен. Дипломаты нередко включали в свои донесения копии документов, сочинённые другими лицами.) Основная часть обоих текстов совпадает дословно. В штутгартской рукописи есть отрывки, отсутствующие в донесении Геверса; наоборот, у нидерландского дипломата есть строки, отсутствующие в «Записке» из Вюртемберга.
Прежде чем вынести суждение о происхождении и соотношении двух документов, необходимо сопоставить их тексты. Ниже приводится донесение Геверса с кратким комментарием.
Перевод[799]
«Личное.
С.-Петербург, 2 мая/20 апреля 1837 г.
Его превосходительству барону Верстолку де Сулену, министру иностранных дел
Господин барон!
Тягостная задача — говорить о прискорбной катастрофе, жертвой которой стал г. Пушкин, но мне представляется, что долг мой — не скрывать от Вашего превосходительства то, как высказывается общественное мнение по поводу гибели этого выдающегося человека, являющегося литературной славой своей страны. Достаточно охарактеризовать характер г. Пушкина и его как личность, чтобы дать Вашему превосходительству возможность судить о степени популярности, завоёванной поэтом. С этой единственной целью я и постарался вкратце и беспристрастно изложить здесь различные мнения, высказанные в связи с этим, которые мне удалось собрать.
Посещая салоны столицы, я был поражён бесцеремонностью, проявляемой в отношении всего, касающегося дуэли и обстоятельств, ей предшествовавших. Как литератор и поэт, Пушкин пользовался высокой репутацией, ещё возросшей в силу трагизма его смерти; но как о представителе слишком передовых воззрений на порядки своей страны соотечественники судили о нём по-разному. Мне думается, что причины такого различия мнений нетрудно понять. Для каждого, кто, живя в России, мог изучить разнообразные элементы, из которых состоит общество, а также его обычаи и предрассудки,— знакомство с биографией Пушкина и чтение его произведений легко объясняет, почему их автор мало почитаем некоторой частью аристократии, тогда как остальное общество превозносит Пушкина до небес и оплакивает его смерть, как неповторимую национальную утрату.
Колкие и остроумные намёки, почти всегда направленные против высокопоставленных лиц, которые изобличались либо в казнокрадстве, либо в пороках, создали Пушкину многочисленных и могущественных врагов. Такова убийственная эпиграмма на Аракчеева по поводу девиза на гербе этого всесильного министра[800], сатира против министра народного просвещения Уварова — сочинение, которое своим заглавием — „Подражание Катуллу“ — усыпило обычную бдительность цензуры и появилось в одном из литературных журналов;[801] ответ Булгарину, где, защищаясь от упрёка в аристократизме, Пушкин напал на влиятельнейшие дома России:[802] вот истинные преступления Пушкина, преступления, усугублённые тем, что противники были сильнее и богаче его, были в родстве с знатнейшими фамилиями и окружены многочисленной клиентурой. Им было нетрудно вызвать настороженность властей, так как направление пушкинских сочинений давало его врагам достаточный повод для доносов. Вот, повторяю, истинные причины той антипатии, которую питала к Пушкину в течение всей его жизни некоторая часть знати (и особенно высшие должностные лица),— антипатии, которая не угасла и с его смертью. Это объясняет и то, почему Пушкин, казалось пользующийся милостью монарха, не переставал оставаться под надзором полиции.
А молодёжь, как всегда пылкая, наоборот, приветствовала либеральные, лукавые, порой скандальные сочинения этого автора,— правда неосторожного, но смелого и остроумного. Также и многочисленный класс чиновников, являющийся своего рода третьим сословием, спешил аплодировать и ныне прославляет человека, в чьих сочинениях многие находили верное отражение собственных чувств, и Пушкин стал для них, быть может сам того не зная, символом неизменной оппозиции.
Пушкин родился в Москве в 1799 году и принадлежал по отцу к одной из древнейших фамилий. Его деда по матери (по происхождению негр, подобранный или купленный Петром Великим и привезённый в Россию ещё ребёнком) звали Анибал; при Екатерине II он достиг адмиральского чина, был победителем при Наварине, его имя и славные деяния начертаны на полуростральной колонне, воздвигнутой в Царском Селе[803]. Именно в Царскосельском лицее воспитывался Пушкин. Его густые и курчавые волосы, смугловатая кожа, резкие черты, пылкий характер — всё выдавало наличие в нём африканской крови, и уже в ранней его молодости сказались те буйные страсти, которыми он был обуреваем впоследствии. В 14 лет он написал стихотворение „Царское Село“[804], а также „Послание Александру I“[805] — сочинения, которые были отмечены его учителями. Исключённый вскоре после того из Лицея за мальчишеские проказы[806], Пушкин выпустил „Оду свободе“ и затем, одно за другим, целую серию произведений, пропитанных тем же духом. Это привлекло к нему внимание общества, а позднее — и правительства. Ему было предписано покинуть столицу — местопребыванием ему назначена была сначала Бессарабия, а затем он в течение пяти лет, до самой смерти императора Александра, оставался у графа Воронцова в Одессе[807]. По настоятельным просьбам историографа Карамзина, преданного друга Пушкина и настоящего ценителя его таланта, император Николай, взойдя на трон, призвал поэта и принял его самым ласковым образом, о чём можно судить по ответу императора на замечание по этому поводу князя Волконского:[808] „Это не прежний Пушкин, это Пушкин раскаивающийся и искренний,— мой Пушкин, и отныне я один буду цензором его сочинений“. Тем не менее до самой смерти своей писатель оставался под надзором секретной полиции. В 1829 году Пушкин сопровождал князя Паскевича во время турецкой кампании, а в следующем, холерном, году он женится на замечательной красавице мадемуазель Гончаровой, чей дед, возведённый в дворянство, был прежде купцом. После женитьбы Пушкин вернулся в Санкт-Петербург, жена его была принята при дворе, и некоторое время спустя ему дали чин камер-юнкера. Пушкин всегда проявлял глубокое презрение к чинам и ко всяким милостям вообще. Но с тех пор, как его жена стала бывать при дворе, резкость его убеждений как будто смягчилась. Будучи назначен камер-юнкером, он счёл себя оскорблённым, находя этот ранг много ниже своих заслуг; его взгляды приняли прежнее направление, и он опять перешёл в оппозицию. Его сочинения в стихах и прозе многочисленны, и среди них особенно примечательны „Цыгане“, небольшое стихотворение, пушкинский шедевр, который русские считают образцом совершенства в этом жанре; мелкие стихотворения под заглавием „Байрон“ и „Наполеон“ также признаются прекрасными[809]. Кроме того, он издавал литературный журнал „Современник“ и по приказу императора несколько лет работал над историей Петра Великого.
По мнению литераторов, стиль у Пушкина вообще блестящий, ясный, лёгкий и изящный. Пушкина рассматривают вне всяких школ, на которые делится ныне литературный мир. Как личность гениальная, он умел черпать красоты из каждого жанра. И, наконец, в России он — глава школы, ни один из учеников которой не достиг до сей поры совершенства учителя.
У него был буйный и вспыльчивый характер; он любил, особенно в молодости, азартные игры и острые ощущения, но позже годы начали умерять его страсти. Он был рассеян, разговор его был полон обаяния для слушателей. Но вовлечь его в беседу было нелегко. Заговорив же, он выражался изящно и ясно, ум у него был язвительный и насмешливый.
Его дуэль с бароном Геккерном (д’Антесом) и обстоятельства, которые сопровождали его смерть, слишком хорошо известны Вашему превосходительству, чтобы нужно было здесь говорить об этом. В письме, которое Пушкин написал моему начальнику и которое явилось причиной дуэли, едва можно узнать писателя, язык которого чист и почти всегда пристоен,— он пользуется словами мало приличными, внушёнными ему гневом, и это показывает, до какой степени Пушкин был уязвлён и как далеко увлекла его пылкость характера!
Задолго до гибельной дуэли анонимные письма на французском языке, марающие добродетель его жены и выставляющие Пушкина в смешном виде, были разосланы всем знакомым поэта, либо через неизвестных слуг, либо по почте. Некоторые пришли даже из провинции (например, письмо к госпоже де Фикельмон), причём под адресом, явно подделанным почерком, стояла просьба передать их Пушкину. Именно в связи с этими письмами господин Жуковский, наставник наследника, пенял Пушкину, что тот слишком близко принимает к сердцу эту историю, и добавлял, что свет убеждён в невиновности его жены. „Ах, какое мне дело,— ответил Пушкин,— до мнения графини такой-то или княгини такой-то о невиновности или виновности моей жены! Единственное мнение, с которым я считаюсь,— это мнение среднего сословия, которое ныне — одно только истинно русское, а оно обвиняет жену Пушкина“.
Таковы, господин барон, сведения, которые мне удалось собрать, о личности поэта; надеюсь, что их достаточно для того, чтобы объяснить Вашему превосходительству, насколько популярность Пушкина и литературные надежды, которые он унёс с собой в могилу, повлияли на выражение общественного мнения по поводу причин его смерти, и насколько это обстоятельство оказалось прискорбным по своим последствиям для г. Геккерна. Своего рода национальное самолюбие вызвало участие, относящееся только к поэту, а не к частному лицу; и поклонники, и враги писателя — все единодушно жалеют его как жертву несчастья, порождённого столь же недоброжелательством, сколь самым непостижимым и неосмотрительным легкомыслием.
Точность, с которой я пытался изложить эти детали, их подлинность, за которую, мне кажется, я могу поручиться,— всё это заставляет меня желать, чтобы чтение настоящего письма представило некоторый интерес и заслужило внимание Вашего превосходительства.
Имею честь быть Вашего превосходительства покорнейший слуга
Геверс.
Пользуюсь отъездом английского курьера, чтобы доставить это письмо Вашему превосходительству.
Прилагаемая немецкая газета даёт в целом представление о приговоре, вынесенном по делу молодого Геккерна»[810].
Текст Геверса, несмотря на некоторые неточности, интересен и важен.
Совпадение основной части «Записки» Геверса с «Заметкой о Пушкине» из Вюртембергского архива, вызвало дискуссию о происхождении обоих документов.
Автор данной книги, публикуя донесение Геверса, высказал мнение, что записка голландского дипломата первична, а вюртембергский документ, присланный из России посланником, князем Гогенлоэ-Кирхбергом, вторичен[811].
А. Глассе не согласилась с этой версией и привела доводы в пользу авторства Гогенлоэ[812]. Основной аргумент исследовательницы — сама личность князя Гогенлоэ, его опыт и обширные познания, позволявшие составить подобную записку, в то время как Геверс «не мог чувствовать себя свободным ни в дипломатическом, ни в светском Петербурге <…> Можно ли думать, что немногим боле чем за три недели он успел собрать подробнейшую информацию о поэте, который вряд ли ему был хорошо известен, произведения которого его во всяком случае не интересовали?»[813]
Соображения А. Глассе, конечно, заслуживают внимания; вопрос об авторстве, вероятно, сложнее, чем первоначально представлялось автору данной работы. Однако А. Глассе, в свою очередь, недооценивает или обходит ряд любопытных обстоятельств.
Во-первых, Геверс получал информацию о Пушкине не только в течение «трёх недель», но и за несколько предшествующих лет своего пребывания в Петербурге.
Во-вторых (как уже отмечалось в 1971 г. при публикации донесения Геверса), выдержки из депеш вюртембергского посла Гогенлоэ, опубликованные Щёголевым, находятся в известном противоречии с вюртембергской же «Заметкой о Пушкине». Так, Гогенлоэ постоянно подчёркивает благодеяния Николая I к семье покойного[814], в то время как в «Заметке» об этом ни слова; наоборот, пафос её в том, что официальное благоволение властей к Пушкину сочеталось с тайным надзором и преследованиями; Гогенлоэ отмечает 21/9 февраля 1837 года, что о дуэли больше не говорят, в «Заметке» утверждается обратное; в депешах — много о Геккерне, в «Заметке» тема Геккерна почти обходится.
В-третьих, особенностью рукописи Геверса являются его ссылки на собственные наблюдения («… я был поражён бесцеремонностью» и т. п.); вступительная часть донесения, отсутствующая в «Заметке», объясняет происхождение документа («…я и постарался вкратце и беспристрастно изложить здесь различные мнения»); таков же конец донесения («Точность, с которой я пытался изложить эти детали, их подлинность, за которую, мне кажется, я могу поручиться…» и т. д.).
В-четвёртых, в Вюртемберге, очевидно, и не считали автором «Заметки» князя Гогенлоэ-Кирхберга: документы из Штутгартского архива отправились в Россию вместе с сопроводительным письмом русского дипломата К. Нарышкина от 14 февраля 1909 года, который между прочим сообщал: «Господин Вейцекер весьма любезно доставил мне также прилагаемую при сём копию записки о Пушкине, неизвестно кем составленную и которая хранится при тех же донесениях князя Гогенлоэ-Кирхберга в архиве вюртембергского министерства иностранных дел»[815].
Невозможно согласиться также с утверждением А. Глассе, будто «мнение Гогенлоэ идёт прямо против версии Жуковского и Вяземского, которые стремились умалить и загладить тот факт, что Пушкин воспринимался как политический поэт»[816]. Наоборот, некоторые мотивы донесения Геверса очень близки к доводам, изложенным в известном письме В. А. Жуковского — А. X. Бенкендорфу. Одна из главных и наиболее смелых мыслей Жуковского — ощущение Пушкиным в последние годы «раздражительной тягости своего положения»[817]. «Позвольте сказать искренно, — писал Жуковский,— Государь хотел своим особенным покровительством остепенить Пушкина и в то же время дать его Гению полное его развитие; а Вы из сего покровительства сделали надзор, который всегда притеснителен…»[818]
Сходство с отчётом Геверса здесь почти текстуальное: «Пушкин, казалось пользующийся милостью монарха, не переставал оставаться под надзором полиции». И ещё раз, говоря о хорошем приёме поэта царём в 1826 году, нидерландский дипломат поясняет: «Тем не менее, до самой своей смерти писатель оставался под надзором секретной полиции». Заметим, что о самом факте полицейского надзора за Пушкиным после 1826 года официально не было известно, и Жуковский первый рискнул заговорить об этом в письме к Бенкендорфу, так как имел право теперь об этом знать: ведь ему было приказано ознакомиться с перепиской покойного поэта и, между прочим, прочитать письма самого Бенкендорфа (произведшие на Жуковского тягостное впечатление): «… сердце моё сжималось при этом чтении. Во все эти двенадцать лет, прошедшие с той минуты, в которую государь так великодушно его присвоил, его положение не переменилось; он всё был как буйный мальчик, которому страшишься дать волю, под строгим, мучительным (сначала было — „непрестанным“) надзором»[819].
В том же послании Жуковский писал о стихах «К Лукуллу», подчёркивая, что правительство напрасно приняло это на свой счёт: «Какое дело правительству до эпиграммы на лица?»[820]; у Геверса говорится о «некоторой части знати», «высших должностных лицах», вредивших поэту: тут, конечно, намёк прежде всего на Бенкендорфа, которого винит и Жуковский…
Геверс и Жуковский почти одинаково толкуют о пылкой молодёжи, возмущённой и оскорблённой убийством национального поэта, об анонимных письмах, раздражённом самолюбии Пушкина. Разумеется, это сходство во многом объясняется самой темой обоих посланий; однако по силе откровенности, по характеру обвинений высших властей мы, собственно, не имеем документов 1837 года, подобных черновой части письма В. А. Жуковского к шефу жандармов. Поэтому знаменательна близость этой рукописи и отчёта Геверса, совпадение мыслей о «раздражительной тягости» полицейского надзора. К Жуковскому скорее всего восходят и сведения, сообщаемые о беседе Пушкина с царём в 1826 году. Кстати, не расшифрованное в «Заметке о Пушкине» (из Вюртембергского архива) имя собеседника Пушкина — Ж («G») — в донесении Геверса представлено полностью: Жуковский. Приводится важный разговор двух поэтов, который мог состояться, скорее всего, в ноябре 1836 года — в то время, когда Жуковский прилагал усилия к погашению первой дуэльной истории. Разумеется, нельзя ручаться, что слова Пушкина передаются достаточно точно, но слова Жуковского об уверенности света в невиновности H. Н. Пушкиной очень характерны и, вероятно, говорились не раз. Зато пушкинский ответ на увещания друга звучит для нас несколько неожиданно. Если ирония по адресу «графини» и «княгини» кажется естественной, то непонятно — что это за обвинения в адрес Натальи Николаевны со стороны «среднего класса»?
Если слова Пушкина переданы верно, то это может означать, что в преддуэльные месяцы к нему дошли толки «со стороны» — мнение «публики» о просочившихся слухах насчёт семейных обстоятельств.
Тот факт, что Жуковский, скорее всего, не послал письма к Бенкендорфу, не обнародовал каких-либо сходных документов, отнюдь не противоречит возможному распространению его подлинного мнения. Письмо Бенкендорфу без последующего отправления, конечно, камнем лежало на сердце Жуковского, впечатления от чтения полицейских писем к Пушкину не могли как-то не выйти наружу — информация, прямо или через посредников, легко попадает к иностранным дипломатам…
История сложного, важного текста о гибели Пушкина связана таким образом с именами двух иностранцев, с рассказами друзей поэта.
«Механизм» формирования документов Гогенлоэ и Геверса требует изысканий; вполне вероятно, например, что и вюртембергская и голландская записки восходят к какому-то документу-предшественнику; А. Глассе справедливо заключает, что «дальнейшее изучение вюртембергского архива, возможно, даст дополнительные материалы, которые прольют свет на этот эпизод»[821].
И этот, и многие другие эпизоды 1836—1837 годов помогают осмыслить ближайшие друзья погибшего поэта.
Друзья
Версия друзей возникает сразу же после кончины поэта, когда ещё не завершилась переписка Петербурга и Гааги насчёт отставки Геккерна.
Очень резко — в потрясающем, только что цитированном письме Жуковского Бенкендорфу. Гибель поэта Жуковский рассматривает в «лермонтовском ключе». Вполне возможно, что действительно под прямым влиянием лермонтовских строк (через несколько недель после появления стихов «Смерть поэта») Жуковский написал: «Какое спокойствие мог он иметь с своею пылкою, огорчённою душой, с своими стеснёнными домашними обстоятельствами, посреди того света, где всё тревожило его суетность, где было столько раздражительного для его самолюбия, где, наконец, тысячи презрительных сплетней, из сети которых не имел он возможности вырваться, погубили его. Государь император назвал себя его цензором. Милость великая, особенно драгоценная потому, что в ней обнаруживалось всё личное благоволение к нему государя. Но, скажу откровенно, эта милость поставила Пушкина в самое затруднительное положение. Легко ли было ему беспокоить государя всякою мелочью, написанною им для помещения в каком-нибудь журнале? <…> А если какие-нибудь мелкие стихи его являлись напечатанными в альманахе (разумеется, с ведома цензуры), это ставилось ему в вину, в этом виделись непослушание и буйство <…>»[822].
В первые дни после кончины Пушкина начал формироваться упоминавшийся уже сборник дуэльных материалов.
Из одного только перечня двенадцати (в других случаях тринадцати) составляющих его документов видна немалая роль П. А. Вяземского.
Документ № 10 — послание д’Аршиака Вяземскому — начинается со слов: «Князь. Вы хотели знать подробности грустного происшествия, которого я и г. Данзас были свидетелями. Я их сообщу Вам, и прошу Вас передать это письмо г. Данзасу для его прочтения и удостоверения подписью». Следующий, одиннадцатый документ сборника, письмо Данзаса Вяземскому, является опровержением некоторых утверждений д’Аршиака о ходе дуэли и появляется после того, как Вяземский показал секунданту Пушкина письмо секунданта Дантеса.
В эти же дни Вяземский призывает и других осведомлённых друзей погибшего — сохранить точные свидетельства о случившемся. Поэта уберечь не удалось, но можно попытаться спасти память о нём от лживых домыслов.
Известное письмо своё А. Я. Булгакову от 5 февраля 1837 года, с подробностями насчёт последних дней Пушкина, Вяземский просит показать И. И. Дмитриеву, М. М. Сонцову, П. В. Нащокину: «Дай им копию с него и вообще показывай письмо всем, кому заблагорассудится». Мало того — Вяземский сообщает: «Собираем теперь, что каждый из нас видел и слышал, чтобы составить полное описание, засвидетельствованное нами и докторами. Пушкин принадлежит не одним близким и друзьям, но и отечеству, истории. Надобно, чтобы память о нём сохранилась в чистоте и целости истины <…> После пришлю я тебе все письма, относящиеся до этого дела»[823].
Очевидно, подразумевается именно «Дуэльный сборник», о котором мы ведём речь. Через десять дней, 15 февраля 1837 года, Вяземский благодарит Булгакова: «Спасибо за доставленную копию с моего письма, которая пришла вчера очень вовремя и отдана отъезжавшему вчера же генералу Философову для сообщения великому князю». Как видим, полученные свидетельства Вяземский торопится разослать тем лицам, суждения которых много весят в свете; Денис Давыдов взывал к нему в эти дни: «Скажи мне, как это случилось, дабы я мог опровергнуть многое, разглашаемое здесь бабами обоего пола»[824].
14 февраля 1837 года датируется (как уже отмечалось) самый ранний из всех известных пока сборников дуэльных документов; он приложен к тому самому посланию Вяземского великому князю Михаилу Павловичу, что отправилось с генералом Философовым.
Брат царя был извещён о гибели Пушкина самим Николаем I (в цитированном письме от 3 февраля 1837 г.). Спустя одиннадцать дней Вяземский отправляет Михаилу длинное, дипломатически составленное письмо, описывающее главные обстоятельства последних месяцев пушкинской жизни. К письму были приложены и главные «дуэльные документы» (позже оказавшиеся в архиве герцогов Мекленбург-Стрелицких — прямых потомков Михаила Павловича[825]). Вяземский представил брату царя восемь документов (из двенадцати, составивших «Дуэльный сборник»): анонимный пасквиль, письма Пушкина Бенкендорфу, Геккерну, ответ Геккерна, переписку Пушкина с д’Аршиаком (кроме того, Вяземский послал Михаилу Павловичу «Условия дуэли», обычно не входящие в «Сборник»). Нетрудно понять, откуда пришло к Вяземскому большинство документов. Кроме писем, ему адресованных, он сам, а также близкие друзья в первые же дни после 29 января общались с Данзасом, д’Аршиаком, а также, очевидно, с П. И. Миллером[826].
Чтобы закончить тему о Вяземском, Миллере и сборнике дуэльных материалов, нужно, однако, сообщить ещё два наблюдения.
Документ № 2 изучаемого сборника озаглавлен: «Письмо Пушкина, адресованное, кажется, графу Бенкендорфу»; слово «кажется» может быть объяснимо двояко: возможно, Миллер, отыскав в бумагах поэта письмо с обращением «Граф!», в самом деле предположительно считал его адресованным Бенкендорфу; однако, согласно Бартеневу, секретарь шефа жандармов не сомневался, кому предназначалось это послание. Второе объяснение — Миллер маскировал свою роль: слово «кажется» в заглавии указывало на более дальнюю дистанцию между Бенкендорфом и копиистом письма, чем она была на самом деле.
Первая печатная публикация «Дуэльного сборника» в «Полярной звезде» Герцена заканчивалась несколькими строками, явно принадлежавшими составителю. При этом Герцен и Огарёв по неизвестным причинам выпустили в этом отрывке несколько слов, которые восстанавливаются по двум авторитетным спискам дуэльных материалов (из бумаг А. Н. Афанасьева и В. И. Яковлева)[827].
Приведём эти заключительные строки (ненапечатанное выделено курсивом).
«Вот и вся переписка. Она будет, может быть, со временем напечатана в одной повести, если только цензура её пропустит… Об одном просил бы я вас (по-христиански) не давать кому-нибудь этих писем, потому что в них цена потеряется при раздроблении, исказят их и будут все толковать их по-своему; к тому же я дал честное слово не распространять их слишком далеко. (Об этой переписке.) Я скажу, что Пушкин напрасно так жертвовал собой, нам он был нужнее чести его жены, ему же честь жены была нужнее нас, быть может (кажется, из письма Вяземского)».
Здесь много таинственного: любопытно пояснение «кажется, из письма Вяземского», похожее на «кажется, на имя графа Бенкендорфа». Подобного письма Вяземского мы не знаем, но это ещё ни о чём не говорит: ведь именно Вяземский был главным вдохновителем «Дуэльного сборника». Любопытна задача, которую ставит перед собой составитель,— дать цельное (теряющееся при раздроблении) документальное освещение событий. Слова «не распространять их <то есть письма> слишком далеко», возможно, принадлежат тому, кто сумел скопировать эти ценные материалы, но опасается, что власть дознается…
Хотя в «Дуэльном сборнике» отсутствуют многие важные документы, позже опубликованные пушкинистами, здесь всё же представлена версия, немало отличающаяся от официальной; в частности, приведён текст пасквиля-«диплома» и письмо Бенкендорфу, задевающие, компрометирующие власть (намёк анонимного «диплома» на роль самого царя и резкие фразы в письме к шефу жандармов). С другой стороны, в сборнике никак не представлена роль царя — утешителя умирающего и благодетеля его семьи; например, письмо Николая I Пушкину от 28 января 1837 года («Если бог не велит уже нам увидеться на этом свете…»), записанное А. И. Тургеневым и другими близкими Пушкину людьми, ни в одном списке не фигурирует.
Тема сборника — максимально верная история дуэли вопреки всем слухам, пересудам и «клевещущей молве».
Повторяем, что это была первая и на много десятилетий единственная работа, освещавшая дуэль и смерть Пушкина. Её публикация в Вольной печати Герцена, спустя двадцать четыре года, сама по себе являлась высокой оценкой гражданского подвига составителей — прежде всего П. А. Вяземского, а также К. К. Данзаса и, очевидно, П. И. Миллера.
Так сразу после гибели поэта начался поединок различных версий… Николай I, Михаил Павлович, Бенкендорф, Вильгельм Оранский, Анна Павловна, Мария Павловна и другие высочайшие и высокие особы формировали одну версию случившегося; друзья Пушкина, как могли, пытались приблизить толкование к реальным фактам.
Высшее же понимание происшедшей трагедии, её главных событий, истоков, принадлежит безусловно Лермонтову: его стихи как бы переработали и «переплавили» сотни разговоров, суждений, слухов, подлинных документов; переплавили — и достигли уровня откровения, всепонимания.
Прошло почти восемь лет, когда разыгрался эпизод, внешне не имеющий отношения к пушкинской истории, внутренне же с нею связанный и заставляющий вспомнить январь и февраль 1837-го.
9 ноября 1844 года шеф жандармов Алексей Фёдорович Орлов докладывал Николаю I: «Сего числа поутру в 7 часов скончался наш знаменитый баснописец Крылов, исполнив с благоговением весь долг христианина. Душеприказчиком назначил он генерал-майора Ростовцева, родных у него нет, на погребение оставил он четыреста рублей ассигнациями, сумма весьма недостаточная. Не благоугодно ли будет Вашему императорскому Величеству в ознаменование Ваших милостей к покойному приказать мне для достойного погребения сему добродетельному истинно русскому поэту выдать две или три тысячи рублей серебром, в распоряжение душеприказчика генерал-майора Ростовцева.
Граф Орлов»[828].
Алексей Орлов всего за месяц до смерти Крылова заменил умершего Бенкендорфа и сделался вторым человеком в империи. По своей должности он докладывал царю о главных политических событиях в стране, причём немалая часть подобных отчётов шла по официальным каналам — через III Отделение. Однако граф был и особо доверенным лицом, личным другом Николая: 14 декабря 1825 года генерал Орлов немало помог в подавлении восстания, за что царь его постоянно награждал, отличал и, в частности,— смягчил участь родного брата, Михаила Орлова…[829]
Записка Орлова от 9 ноября 1844 года как будто документально свидетельствует о немалой бедности, в которой оканчивал свои дни великий Крылов, однако специалисты знают, что деньги у него были.
Второй мотив записки — что Крылов заслужил особое царское внимание. Подчёркнуто (как и в официальном описании кончины Пушкина), что баснописец исполнил «с благоговением весь долг христианина», что он «добродетельный, истинно русский поэт». Кажется, зачем Орлову столько усилий? Ведь Крылов не замешан в тайных обществах; 14 декабря 1825 года он, правда, подходил к мятежному каре и даже, говорят, поздоровался за руку с несколькими бунтовщиками, однако, поздоровавшись, пошёл дальше, как будто и не заметив восстания… И разве сам царь не увеличил пенсии Крылову, не дал ему приличного чина статского советника; разве за шесть лет до его смерти, в 1838 году, не было довольно торжественно — и литераторами, и артистами, и официальными лицами — отпраздновано 50-летие литературной деятельности Ивана Андреевича (первый в русской истории литературный юбилей)?
Однако Орлов будто всё спорит с невидимым собеседником, который может нашептать царю нечто новое, и дважды именует душеприказчика генерал-майора Ростовцева — возможно, как доказательство лояльности, надёжности покойного: ведь именно Яков Ростовцев — друг многих декабристов — за два дня до восстания 14 декабря донёс о нём Николаю I и сделал после немалую карьеру! Как влиятельное лицо, он действительно мог хорошо распорядиться; да и, конечно, желал поместить своё имя рядом с одним из лучших русских имён…
Что Орлов не зря аргументировал, не зря подчёркивал заслуги Крылова — хорошо видно из той резолюции, что начертана карандашом Николая I на листке, извещавшем о кончине баснописца: «Крайне сожалею, выдай сколько нужно. Вот хорошо б было, ежели вся наша литературная дрянь исправилась и наследовала его чувствам».
Сказано сильно! Смерть Крылова оказалась вдруг поводом для раздражения против других, против «литературной дряни».
Кого же ругают? Кто сумел так сильно огорчить царя в последнее время?
Совсем недавно, в 1841-м, царь сказал о Лермонтове: «Собаке собачья смерть»; к тому же — Чаадаев объявлен сумасшедшим, западники и славянофилы подозрительны, Герцен уже побывал в двух ссылках, журналы ненадёжны…
Однако редко, разве что в случае с Лермонтовым, Николай I высказывался столь же откровенно: «вся наша литературная дрянь»…
Проходит несколько дней, и 13 ноября 1844 года Орлов пишет второе донесение: «Сейчас воротился я с выноса тела покойного Крылова, весь Совет и Сенат удостоили прах доброго человека, протоиерей Масков сказал краткое надгробное слово, весьма красноречивое и в самом лучшем духе! Студенты университета были при гробе со своими профессорами, слушали со смирением и благоговением, и всё вообще происходило с большим приличием…»
Резолюция Николая I: «Очень хорошо, ежели чистосердечно»[830].
Публичные похороны Пушкина не были допущены; Крылова — можно; но снова царь подозрителен: не верит студентам, профессорам — их «смирению, благоговению». В чём же могут они быть не чистосердечны? В любви к Крылову? Но таких мыслей ни царь, ни жандармы, конечно, не имеют: с тех пор, как в 1809 году вышла первая книга его басен (а в 1830-м — восемь томов), строчки Крылова разошлись по России, сделались пословицами… Значит, вся эта литературная и учёная «дрянь» любит Крылова, но не так, «как полагается».
Очень мало было в то время таких писателей, которые признавались «верхами» и были любимы «низами». Но власть, которой бы радоваться такому единодушию, как-то не сильно радуется; сама по себе она допускает — вдруг те, «не чистосердечные», находят в Крылове нечто упущенное даже корпусом жандармов и III Отделением? Что-то превышающее отдельные, всем известные вольности, столь любимые и постоянно цитируемые тысячами «грамотеев»:
Ссыльный декабрист Д. И. Завалишин (и, разумеется, не он один) припомнит также комедии молодого Крылова, которые сочинялись ещё до басен и тогда же частично запрещались: «Ни один революционер не придумывал никогда злее и язвительнее сатиры на правительство. Всё и все были беспощадно осмеяны, начиная от главы государства до государственных учреждений и негласных советников».
Белинский же, один из подозреваемых в «неискренности», один из нелюбезных литераторов, заметит, что многие басни Крылова являются «маленькими комедийками».
Итак, было неясно, какого же Крылова хоронят? Официально-добродетельного или народно-насмешливого?
На похоронах Крылова — тень Пушкина, эхо 1837-го.
«Литературная дрянь» — отсюда рукой подать до разговора с Корфом (1848 г.) — где и покойному Пушкину досталось.
Поэт погиб. Но его по-прежнему любили и читали; осуждали и поучали.
Это было надёжным признаком бессмертия.
Заключение
В течение десяти последних лет — в Москве, Петербурге, Михайловском, во время странствий по России, за три болдинских осени — Пушкин закончил «Евгения Онегина», «Полтаву», «Домик в Коломне», «Медного всадника», «Анджело», «Маленькие трагедии», «Сказки», «Повести Белкина», «Путешествие в Арзрум», «Капитанскую дочку», «Историю Пугачёва».
Он сочинил более двухсот стихотворений, среди которых десятки шедевров.
Сверх того, осталось множество незавершённых стихов, напечатанных, написанных или начатых статей, очерков, исторических сочинений, дневниковых записей, автобиографической прозы, — не говоря о сочинениях других авторов, которые были ободрены, поощрены, стимулированы Пушкиным.
Пушкин выполнил взятый на себя обет — просвещать, облагораживать народ, страну своим творчеством. В историческом состязании с «властью роковой» — его победа!..
Он и не сомневался, что его стихи когда-нибудь пройдут «по всей Руси великой», но высшие творческие вершины, высшее счастье были достигнуты самой высокой ценой. И поэтому наряду с «Памятником» и другими сочинениями, где вся прожитая жизнь предстаёт как великий, благородный подвиг в стихах, прозе, письмах последних лет немало горьких откровений:
«Очищать русскую литературу есть чистить нужники и зависеть — от полиции. Того и гляди, что… чёрт их побери! у меня кровь в желчь превращается» (XVI, 113).
Особой автобиографичностью отличается заметка Пушкина о Баратынском (XI, 185—186). Хотя этот факт давно отмечен исследователями, но всё же полезно обратиться к тексту ещё раз:
«Первые юношеские произведения Баратынского были некогда приняты с восторгом. Последние, более зрелые, более близкие к совершенству, в публике имели меньший успех. Постараемся объяснить причины».
Наше право — мысленно подставить имя Пушкина вместо Баратынского — кажется несомненным (тем более что заметка не была опубликована при жизни Пушкина и в сущности похожа на страницу из дневника).
Пушкин называет три причины разлада поэта с публикой.
«Первой должно почесть самое сие усовершенствование и зрелость его произведений. Понятия, чувства 18-летнего поэта ещё близки и сродни всякому; молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут, юный поэт мужает, талант его растёт, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни».
Всё здесь — о Пушкине, «суд глупца и смех толпы холодной».
Казалось бы, странно, что «читатели те же, и разве что сделались холоднее»,— ведь на свет явились новые, юные читатели?
Однако, наблюдая спешащую толпу, разнообразных германнов, которым «некогда шутить, обедать у Темиры…», поэт как бы вторит Чаадаеву (в «Былом и думах»): «А вы думаете, что нынче ещё есть молодые люди?»
С лучшими же из юных Пушкин подружился только после своей смерти…
«Вторая причина есть отсутствие критики и общего мнения… Класс читателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе как о политической экономии, о политической экономии как о музыке, то есть наобум, понаслышке, безо всяких основательных правил и сведений, а большею частию по личным расчётам».
Речь, понятно, идёт о Булгарине, Сенковском, «торговой литературе»,— тех, кто поймал на лету выгоду «официальной народности». Их успех мимолётен, но заставляет «чистить нужники и зависеть от полиции». (Полиция, конечно, синоним царской власти, перед которой приходится оправдываться и прибегать к защите от прямой клеветы.)
«Третья причина — эпиграммы Баратынского, сии мастерские, образцовые эпиграммы не щадили правителей русского Парнаса».
Пушкин явно, нарочно преувеличивает влияние на судьбу Баратынского его эпиграмм. Зато самому Пушкину его эпиграммы, его произвольно толкуемые речи создают устойчивую дурную репутацию у самых влиятельных читателей.
Итак, равнодушие публики, сервилизм печати, недоброжелательность властей…
Отсутствие воздуха.
Снова повторим, что находим в ряде работ последних лет излишний оптимизм при оценке взаимоотношений Пушкина и общества. Происходит своеобразное перенесение в 1830-е годы позднейшей славы, признания, триумфа. Дуэль и смерть представляются при таком взгляде на события случайностью или полной загадкой…
Блок в своей Пушкинской речи говорил об отборе, который производит поэзия меж людей «с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое из груды человеческого шлака. Эти цели, конечно, рано или поздно, достигнет истинная гармония…»
В приведённых строках огромная нагрузка на мелькнувшем — «рано или поздно»…
Часто ссылаются на сильно проявившееся общественное негодование и сочувствие в дни пушкинских похорон.
Да, действительно, тысячи людей шли к дому поэта и негодовали против убийц; действительно, этот факт, столь напугавший власть и давший повод для разговоров о «действиях тайной партии»,— весьма и весьма знаменателен.
Многих, кто шёл проститься с Пушкиным, теперь сближал с погибшим поэтом патриотический порыв, гнев против убийцы-чужеземца; у других трагическая дуэль пробудила любовь, прежде не столь осознанную, забытую. Так или иначе, общество как бы проснулось от выстрела на Чёрной речке, и в январские дни 1837 года что-то переменилось даже в тех, кто прежде были «холодны сердцем и равнодушны к поэзии жизни», кем «управляли журналы». Стихи Лермонтова гениально выразили этот порыв, горестный возглас общества — о Пушкине и о самих себе…
Можно сказать, что ранняя гибель Пушкина стала последним его творением; эпилогом, вдруг ярко, резко озарившим всё прежнее.
Эта вспышка не погаснет, её сохранят, разожгут усилия молодых «людей сороковых годов» — от них в 50-е, 60-е, к следующему столетию — навсегда… Пушкин, посмертно, с помощью этих людей, вытеснит булгариных на задворки словесности, и подобные имена станут писать с маленькой буквы и во множественном числе…
Возможно, нигде как в России биография писателя, мыслителя столь тесно не сплеталась с его творениями, иногда вообще становилась одним из главных «шедевров» мастера. В высшей степени характерны и не столь понятны в других культурах XIX века, например, фигуры Чаадаева, Станкевича — людей, не много написавших, почти ничего не опубликовавших, как бы «ничего не совершивших», но сыгравших выдающуюся роль в жизни целых поколений своими мыслями, разговорами, шутками, молчанием, внешним видом.
Та же закономерность, может быть, ещё в большей степени, относится к прославленным авторам многих сочинений. В России, сдавленной, регламентируемой самодержавным контролем,— личное постоянно «обобществлялось».
Такие события, как гибель Пушкина, уход Льва Толстого, внезапно открывали, сколь много значат в истории, культуре не только их творения — их личности! К тому же неразделимый комплекс биография — творчество (прекрасно проанализированный Ю. М. Лотманом) — это ведь шло и от древней традиции, исторической, культурной, когда фигура пророка, проповедника вся раскрывалась в сочинениях, речах, поступках, и не было никакой грани, их разделявшей.
Пушкин всё это хорошо знал, чувствовал. Многочисленные предсказания самому себе («я знаю, очередь за мною», «предполагаем жить, и глядь — как раз умрём», ожидание «чёрного человека») — всё это порождено верной художественной интуицией, всё более осознаваемой необходимостью в какой-то форме «взорвать» свою биографию.
Речь шла, конечно, не о самоубийстве — о высшей свободе, высшей нравственности.
Страдания были ценой за великое счастье, которым гений уже поделился с миллионами современников и потомков — и которого хватит на всех «в подлунном мире».
Список условных сокращений
ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина.
Карамзин — Дмитриеву — Письма H. М. Карамзина И. И. Дмитриеву. СПб., 1866.
Летопись — Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., Изд-во АН СССР, 1951.
ЛН — Литературное наследство. М., Изд-во АН СССР, 1931—1985 (издание продолжается).
ПБ — Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки СССР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ПД — Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом). Отдел рукописей.
Пушкин в воспоминаниях — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, в 2-х томах, т. 1—2. М., Художественная литература, 1974.
Пушкин и декабристы — Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М., Художественная литература, 1979.
РА — журнал «Русский архив».
РИО — Сборник Императорского русского исторического общества.
РП — Рукою Пушкина. М.—Л., Academia, 1935.
PC — журнал «Русская старина».
ЦГАДА — Центральный Государственный архив древних актов.
ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства.
ЦГАОР — Центральный Государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и государственного управления СССР, Москва.
ЦГВИА — Центральный Государственный военно-исторический архив.
ЦГИА — Центральный Государственный исторический архив СССР.
Щёголев I — Щёголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. — Сб. Пушкин и его современники, вып. XXV—XXVII. П., 1916.
Щёголев III — Щёголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е. М.—Л., 1928.
Ссылки на сочинения и письма А. С. Пушкина даются в тексте (в скобках): римская нумерация — том, арабская — страница по изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. I—XVII. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1937—1959.
1
Царские пометы даны здесь жирным курсивом в скобках. — Прим. lenok555.
2
Точнее, «Сб. Пушкин и его современники, вып. XVII—XVIII. СПб., 1913, с. 74—76.»