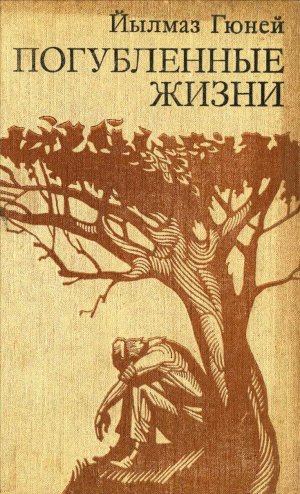
Yilmaz Güney
Boynu bükük öldüler
ANKARA 1971
Перевод с турецкого
Предисловие К. БЕЛОВОЙ
Редактор А. МИХАЛЕВ
© Предисловие и перевод на русский язык «Прогресс», 1978
ЙЫЛМАЗ ГЮНЕЙ И ЕГО ГЕРОИ
Имя писателя, кинорежиссера и актера Йылмаза Гюнея широко известно в Турции. Более того, без преувеличения можно сказать, что почти вся страна знает Гюнея в лицо. В середине 60-х годов его фотографии, посвященные ему статьи, рецензии на его фильмы и книги не сходили со страниц газет и журналов. Его лицо, увеличенное до огромных размеров, смотрело с тысяч экранов и афиш. Некрасивый, но обаятельный, Гюней был в кино воплощением мужественности: бесстрашным и суровым контрабандистом с южных границ, лихим наездником, неуловимым разбойником, удачливым соперником в современных мелодрамах. Он был королем экрана, охотно принявшим эпатирующее прозвище «безобразный король», и воротилы кинобизнеса делали все возможное, чтобы миф о «безобразном короле» заслонил подлинного Йылмаза Гюнея. Отделы светской хроники смаковали подробности личной жизни актера, изображая его скандалистом и прожигателем жизни. Когда же Гюней начал ставить собственные, реалистические фильмы из жизни народа, цензура отчаянно старалась не допустить их на экран. Но режиссер и сценарист Йылмаз Гюней упорно шел своим путем, закладывая основы нового турецкого кино, свободного от влияния коммерческого кинематографа Запада с его культом насилия и секса, с его дешевой сентиментальностью.
Судьба Йылмаза Гюнея необычна. Сын бедного крестьянина, он родился в 1931 году близ местечка Сиверек, в глухом уголке южной Анатолии. С детских лет он работает, помогая отцу прокормить семью, но все его помыслы подчинены одному — любой ценой получить образование. Ему удается перебраться в Адану, крупнейший город на юге Турции, и поступить в лицей. Здесь, в Адане, молодой Йылмаз Пютюн (такова настоящая фамилия писателя) делает и первые шаги в литературе, публикуя в местных газетах и журналах рассказы о деревенской жизни.
Адане принадлежит совершенно особая роль в формировании кадров прогрессивной интеллигенции Турции. Притягивая к себе наиболее одаренную и целеустремленную молодежь юго-восточных районов страны, этот город стал своего рода питомником талантов, составляющих ныне гордость турецкой литературы и искусства. В разное время в Адане жили и работали писатели Орхан Кемаль, Бекир Йылдыз, Яшар Кемаль, Демирташ Джейхун; здесь начинался творческий путь художника Абидина Дино, поэта и журналиста Кемаля Байрама, кинорежиссера Али Озгентюрка. Этот список можно дополнить десятками других известных имен.
Колорит полного резких контрастов юга Турции наложил заметный отпечаток на многие художественные произведения последних десятилетий. Необозримые хлопковые плантации, гнущие спину под жарким солнцем безропотные батраки, не желающие смириться с несправедливостью бунтари, дикие феодальные пережитки и бурный процесс капитализации деревни, живущая по своим законам беспокойная граница с ее отважными контрабандистами, стихийные бедствия, пыльные бури, затяжные зимние дожди, яркие краски короткой весны и щедрой осени — весь этот мир «аданские питомцы» перенесли на киноэкран и на страницы своих книг (советский читатель знаком с романами Яшара Кемаля «Тощий Мемед» и «Жестянка», с рассказами из сборника Бекира Йылдыза «Черный вагон»). Они поведали о печалях и бедах этих забытых богом мест, где приходится в борьбе отстаивать свое человеческое достоинство… Вероятно, не случайно Йылмаз Пютюн после переезда в Стамбул взял псевдоним Гюней, что означает «юг». Символично звучит и сочетание Йылмаз Гюней — «несгибаемый юг».
В Стамбуле Гюней поступает на экономический факультет Технического университета. Чтобы как-то сводить концы с концами, он берется за любую работу и впервые сталкивается с миром кино: снимается в эпизодических ролях, выступает в качестве ассистента режиссера. Он продолжает писать и публиковать рассказы. В одном из них цензура усмотрела «коммунистическую пропаганду», и Гюней вынужден расстаться с университетом — его приговаривают к полутора годам тюрьмы и шести месяцам ссылки. В тюрьме у писателя рождается замысел романа «Погубленные жизни», он пишет первые главы. Однако в то время обстоятельства не позволяют Гюнею завершить книгу. Выйдя на свободу, он безуспешно ищет работу, пока в 1963 году режиссер Нури Акынджи не предлагает ему сняться в серии фильмов из жизни Турции в османскую эпоху. С этих-то псевдоисторических боевиков и начался взлет «безобразного короля», оказавшегося не только блестящим актером, но и талантливым режиссером. Неожиданно, после стольких лет безвестности, пришедшая слава не помешала Гюнею сохранить в чистоте свои идеалы, стремление создавать настоящие произведения искусства. Работая как одержимый, он выпускает по шесть-восемь картин в год, чтобы на вырученные деньги ставить фильмы, отвечающие его собственным вкусам и требованиям. В конце 60-х годов, проходя службу в армии, Гюней пишет сценарий фильма «Надежда»: рассказ о трагической судьбе маленького человека — городского извозчика, который, потеряв лошадь, остается без средств к существованию; обманутый шарлатаном, он отправляется на поиски клада в пустыню и, проблуждав несколько дней, сходит с ума. «Надежда» завоевала в 1970 году первую премию на национальном кинофестивале. Цензуре, обвинившей фильм в «создании неверного представления о турецком обществе», удалось на время запретить прокат картины, но она все-таки вышла на экраны страны, а затем получила и международную известность. Тунисский журнал «Жён Африк» назвал «Надежду» одним из лучших произведений кинематографии развивающихся стран. Турецкая критика считает картину поворотным пунктом на пути отечественного кино к реализму.
Следующие два года были чрезвычайно плодотворными в кинематографическом и литературном творчестве Йылмаза Гюнея. Один за другим появляются его правдивые, полные драматизма фильмы «Боль», «Плач», «Бесстрашные», «Отец», «Всадник». За успехи в развитии национального киноискусства, за новаторство творчества Гюней был в 1972 году удостоен звания лучшего деятеля искусств Турции. В это же время заканчивается и работа над книгой «Погубленные жизни», принесшей автору славу первого лауреата премии Орхана Кемаля — высшей в стране награды за реалистический роман.
Однако это общенациональное признание его таланта приходит к Йылмазу Гюнею, когда он опять за тюремной решеткой. В период чрезвычайного положения, введенного после правого военного переворота 12 марта 1971 года, многие прогрессивные писатели, художники, артисты становятся жертвами репрессий, Гюней арестован по обвинению в «оказании помощи левым экстремистам». Более двух лет проводит он в застенках, но дух его не сломлен. Новые произведения писателя и кинорежиссера — плоды долгих раздумий, переоценки собственных взглядов и недавних политических событий — увидели свет сразу же после освобождения Гюнея. В 1974 году выходит фильм «Товарищ». Картина вызвала множество откликов и не сходила с экранов рекордное для Турции время — четыре недели. Буржуазная критика делала вид, что в творчестве Гюнея не произошло никакого качественного сдвига, что он все тот же «безобразный король», однако прогрессивная печать признала фильм, наряду с «Надеждой» и «Плачем», одним из самых зрелых произведений турецкого кинематографа. Лента рассказывает о судьбе двух друзей; в студенческие годы их связывали общие идеалы добра и служения народу, но впоследствии они оказываются в разных лагерях: Джемиль становится влиятельным, преуспевающим буржуа, а Азема убеждения, вся логика его жизни приводят в ряды революционного движения. Главная идея фильма — борьба за лучшее в человеке. Поняв, что Джемиля уже не изменишь, Азем по-новому оценивает собственную жизнь, борется с заблуждениями и буржуазными пережитками в своем сознании. Тема диалектики развития личности, «переделывания» человеком самого себя проходит и через все литературное творчество Йылмаза Гюнея, объединяет в своеобразную трилогию романы «Погубленные жизни» (1971), «Размазня» и «Обвиняемый» (1975).
Герой «Погубленных жизней», сирота Халиль, выросший в хлеву у деревенского богатея и с малых лет привыкший к безропотному послушанию, слепо предан хозяину, он почти обожествляет своего «благодетеля». Лишь ценой больших потерь и тяжелых страданий юноша приходит к прозрению. Подспудно нараставший в его душе протест наконец выливается в стихийный бунт против рабской доли и уродливых предрассудков, лишающих его надежды на счастье. Наступает момент, когда он понимает, что больше не может оставаться в деревне. Дождливой осенней ночью, наскоро попрощавшись с батраками, он вместе с любимой девушкой уходит в город, навстречу новой судьбе.
Характеры других персонажей также даны автором в развитии, хотя в их трагически безысходной жизни и не происходит видимых перемен. Бездомные и нищие батраки, почти крепостные Кадир-аги и его братьев, они тем не менее понимают, что их погубленные жизни должны послужить уроком другим, тем, кому еще не поздно решительно изменить свою судьбу. Умирающий от чахотки Хыдыр, добрейший Али Осман, молчаливый Дервиш — эти изнуренные непосильной работой люди уже примирились с тем, что вонючий хлев — их единственное пристанище на земле. Но в душе они гораздо большие бунтари, чем Халиль до его прозрения. Их коллективный опыт, их выстраданный протест, словно эстафета, переходит к Халилю, будит его сознание, помогает сделать решительный шаг.
Особое место в романе занимает сын нищего батрака Ремзи. Можно предположить, что образ этого мальчика в определенной степени автобиографичен, во всяком случае именно Ремзи писатель делает носителем своих идей. Добрый и эмоциональный мальчик с недетским упорством борется за право быть свободным человеком. Если Халиль лишь в зрелом возрасте открывает для себя возможность начать новую жизнь, то Ремзи уже в десять лет видит перед собой ясную цель — выучиться, несмотря на все трудности, обрести независимость и вызволить родителей из-под гнета Кадир-аги. Это уже не стихийный протест, а сознательная борьба.
Проблема образования сельской молодежи, пробуждения у нее критического отношения к действительности чрезвычайно волнует Йылмаза Гюнея. Этой теме посвящен его роман «Размазня». Но писателя не удовлетворяет показ только двух первых фаз диалектического развития личности — стихийного протеста и пробуждения сознания. Герой романа «Обвиняемый», студент университета, вступает в активную политическую борьбу революционно настроенной молодежи.
Необходимо сказать несколько слов о творческом почерке Йылмаза Гюнея. Писатель видит мир во всех его красках и проявлениях, остро подмечает малейшие движения человеческой души, тонко чувствует природу. Необыкновенно лиричны и детально выписаны его пейзажи, портреты деревенских ребятишек и батраков, сцены полевых работ. Наряду с нищетой, безысходностью, непосильным трудом под палящими лучами солнца Гюней показывает и праздники и радости деревни. Автор мастерски противопоставляет замкнутой, удушливой атмосфере хлева, где гибнут человеческие жизни, открытый, свободный, благоуханный простор полей, степи, моря. Вместе с тем долгие годы работы в кино, привычка к «сценарной» технике письма наложили определенный отпечаток на стиль литературных произведений Йылмаза Гюнея. Читая «Погубленные жизни», мы сталкиваемся с рядом чисто «кинематографических» сцен (перестрелка Халиля с курдами, драка в кофейне, таинственные видения в заброшенной деревне Маласча, избиение Эллине). Эти эпизоды служат скорее для развлечения читателя, чем для развития сюжета. Заметим, однако, что в последние годы влияние кинематографа прослеживается и в произведениях других писателей Турции. Пока трудно судить, окажется ли это преходящей модой или превратится в стойкий элемент современного литературного процесса.
Романы Йылмаза Гюнея занимают сегодня видное место в турецкой беллетристике, хотя, бесспорно, его вклад в кино несоизмеримо больше. Если фильмы Гюнея стали поистине новаторским явлением, то в литературе он неотделим от общего направления «социального реализма», широко представленного в творчестве писателей последнего двадцатилетия. Сходство жизненного опыта большинства вышедших из низов прогрессивных прозаиков Турции зачастую заставляет их поднимать одни и те же проблемы. Так, о тяжелой участи разорившихся крестьян, вынужденных уходить в города, немало писал классик турецкой литературы Орхан Кемаль; о стремлении сельской молодежи к образованию и о препятствиях, которые ей приходится преодолевать, рассказывает книга Кемаля Тахира «Семечко в степи» (1967); развернутая картина капитализации сельского хозяйства, приводящей к необратимым переменам в жизни деревни, дана в произведениях Яшара Кемаля; крестьян, батраков, контрабандистов из юго-восточных районов Турции читатель встречает в многочисленных рассказах Бекира Йылдыза. Подобно тому как «деревенские» произведения Гюнея, включая его рассказы и сценарии, влились в общий поток литературы «социального реализма», так и его «городской» роман, «Обвиняемый», представляет собой типичный пример литературы «политического направления», рожденной событиями переворота 1971 года.
В то же время романам Йылмаза Гюнея присущи черты, отличающие их от близких по теме произведений других авторов. Писатель показывает личность в постоянном внутреннем развитии, делает своих героев более целеустремленными. Халиль и Эмине уходят в город, связывая надежды на избавление от рабской доли с работой на фабрике. Они вольются в ряды городского пролетариата — и это придает роману оптимистическое звучание. В фильме «Товарищ» Азем понимает, что сможет стать подлинным борцом за дело пролетариата, лишь до конца освободившись от мелкобуржуазных предрассудков. Даже обреченный на гибель Яшар Йылмаз, герой романа «Обвиняемый», думает о будущем — своей самоотверженностью он призывает товарищей к борьбе, к верности революционной идее. Стремление заглянуть в будущее характерно для каждого произведения Гюнея. В обыкновенном товариществе деревенской бедноты писатель усматривает ростки качественно новой солидарности. Всмотритесь в сцену петушиного боя в «Погубленных жизнях»: крестьяне и батраки отдают последние гроши, чтобы собрать необходимую сумму на заклад, потому что победа петуха, принадлежащего Арабу Сейфи, для них равнозначна их общей — пусть лишь символической — победе над угнетателем.
К проблемам, поднятым в романах «Погубленные жизни», «Размазня» и «Обвиняемый», Йылмаз Гюней возвращается в вышедшей в конце 1975 года книге «Моя тюремная камера», стремясь дать им более глубокое теоретическое осмысление. Турецкий журнал «Милитан» в рецензии на эту книгу подчеркивает, что она развенчивает миф о «безобразном короле» и знакомит читателя с размышлениями Гюнея о борьбе за раскрепощение личности и очищение сознания от рабских привычек, об установлении тесных связей между революционным художником и народными массами. Придавая огромное значение идейным позициям писателя и роли художественного творчества в революционной борьбе, Йылмаз Гюней пишет: «Пролетарское искусство нельзя считать просто вспомогательным элементом, находящимся вне борьбы пролетариата за власть; я рассматриваю его как неотделимую, живую часть этой борьбы. Пролетарским художником может быть лишь тот, кто находится в гуще этой борьбы и выполняет все обязанности, которые возлагает на него революция»[1].
К. Белова
У каждого есть город, о котором он тоскует, город, который он видит во сне. У меня тоже есть такой город. Это Адана. В Адане живут дорогие моему сердцу люди. Шюкрю Текбаш — один из них, ему я и посвящаю этот роман.
Часть первая
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Пустынная дорога, залитая лунным светом, колючки чертополоха, устало раскачивающиеся под свою, им одним ведомую мелодию, голые хлопковые поля — все это вызывало в Халиле суеверный страх, рассеиваемый лишь назойливым скрипом колес арбы. И эта ночь бесконечного одиночества, простиравшегося от земли до самого неба, и эти поля, тянувшиеся насколько хватало глаз, а потом исчезавшие где-то в пустоте, напоминали страшную сказку, грустную, далекую песню. А скрип колес звучал прекрасной колыбельной, по которой Халиль так истосковался. Халиля пьянили запахи земли, листьев, трав и ласка легкого ветерка. Такое сияние и такие серебряные ночи бывают только здесь, в краю Юрегира. И в эту ночь, ночь бесконечного одиночества, все существа, даже те, о которых нам ничего не известно, расточают себя с удивительной щедростью. Подхваченное волной прохладного душистого ветра, дыхание Юрегира может долететь до самых дальних стран, найти затерявшееся на чужбине сердце и пробудить в нем воспоминания о прошлом. И это дыхание, едва коснувшись тоскующих струн души, острой болью отзовется в сознании, чтобы оживить осколки разбитых воспоминаний и оставить горький привкус. В конце концов, жизнь невозможна без прошлого, потому что нельзя измерить ее глубину, не зная горестей прошлого, грусти прошлого, радости прошлого. И поэтому на земле царит ночь, сладостная, как детская песня, как звучащая в этой песне надежда.
И хотя в долине Юрегира царит добрая ночь, одинаково добрая к человеку и лошади, к птице и быку, к небу и земле, Халиль, под тяжестью нахлынувших воспоминаний, особенно остро чувствует свое одиночество.
Как сквозь пелену тумана он видит свое детство. Длинной вереницей проплывают дни, сменяют друг друга картины далекого прошлого: смертельно раненный отец, будто пригвожденный к стене дома, едкий запах пороховой гари и тлеющего пыжа, дым, рассеивающийся в воздухе, и опять отец с кремневым ружьем в руке, медленно сползающий по стене на землю… Мать, растерянная, сразу постаревшая… Хриплый голос отца: «Меня убили, Эмино!» — и его глаза, глаза затравленного зверя, а на губах — улыбка, полная презрения к смерти. Друзья похоронили отца. Мать отрезала две пряди волос: одну положила отцу на грудь, другую привязала к шесту и воткнула шест рядом с камнем, по обычаю положенным на могилу.
Но прядь эту сорвал с шеста ветер…
Халиль отчетливо видит, как ветер уносит волосы матери, видит невысокий холм, слышит запах свежевырытой земли…
Настала пора уходить. Уходить от отцовской земли, от дома, от росшего перед ним дерева. И вот уже растворяются в темноте дома и деревья, все погружается в безмолвие ночи, земля засыпает — потому что настала пора уходить. Облака клубятся у горных вершин, вершины скрываются в облаках, горы становятся лиловыми, затем темно-синими.
Туманы обволакивают мир — настала пора уходить…
Они прошли долгий путь от родной деревни Каледжик уезда Сиверек до деревни Енидже, неподалеку от Аданы. Но человека, которого они искали, там уже не было. Он куда-то переселился. А куда — никто не знал. Их приютил Камбер. Халиль помнит мать вечно больной и измученной. Такое же страдание он читает в лицах нищих, их глаза смотрят на него скорбными глазами его матери. Мать была до того худой, что казалась скелетом, прикрытым лохмотьями. Иссохшие руки, бледное изможденное лицо, босые ноги с потрескавшимися ступнями… У этой несчастной женщины в целом мире не было никого, кто поддержал бы ее…
Через несколько дней после прихода в Енидже она умерла, оставив маленького Халиля круглым сиротой. Возле покойницы хлопотали какие-то женщины: одна вливала ей в рот святую воду, другая подвязывала подбородок, связывала большие пальцы ног вместе.
Утром Камбер отвел Халиля на ферму. Халилю дали чарыки[2], сунули в руки хворостину и отправили пасти телят. Так Халиль стал батрачить. Постепенно маленький курд вырос, научился говорить по-турецки. Жил он как все батраки: летом спал на крыше хлева, зимой — на соломенном матрасе в хлеву…
Воспоминания Халиля нарушила песня, которую негромко затянул возчик Дервиш. Волы еле плелись от усталости. Халиль помнил их еще совсем маленькими бычками.
— У-ух ты, мать твою! — ежась от холода, выругался Дервиш.
Скинув с плеч шинель, Халиль протянул ее Дервишу.
— Что ты, не надо! Ей-богу не надо!
— Бери, бери! Мне не холодно.
Виновато улыбаясь, Дервиш накинул на плечи шинель.
Еще на постоялом дворе Дервиш показался Халилю каким-то чудным в своей новой, кричащего синего цвета фуражке. Лицо его было надуто от важности, даже цигарку он держал по-особому, не как все, и ходил тоже по-особому, очень потешно. В то же время он чувствовал себя неловко в новой фуражке, то и дело мотал головой, озирался по сторонам, дергал плечами, чесал за ухом. Пока они ели обильно приправленный луком кебаб, Дервиш норовил обнять Халиля, лез к нему с поцелуями, И Халиль, с жалостью глядя на этого чавкающего человека, думал о том, как сильно Дервиш постарел. Три года Халиль служил в армии и не раз вспоминал Дервиша, только совсем другого. Теперь же перед Халилем был немощный, сломленный жизнью старик.
Халиль всматривался в его лицо, затененное козырьком ярко-синей фуражки. Оно было потрепанным, как старый ботинок. А голос? Разве такой голос был у Дервиша прежде? А эти угасшие глаза, жалкие отвислые усы, жиденькая бороденка?..
Постепенно в темноте начали проступать очертания деревни. Халиль уже различал дома, деревья, виноградники. Из мрака неожиданно выплывали ветхие строения, одинокие деревья. Все чаще вслед арбе лаяли собаки, со всех сторон неслось пение петухов — наступало ласковое утро. Где-то рядом залаяла собака, и на Халиля повеяло теплом домашнего очага. Он приподнялся на колени и, когда собака залаяла вновь, взволнованно спросил:
— Дядя Дервиш, ведь это наш Карабаш, правда?
— Карабаш? Нет, племянничек, Карабаш давным-давно подох.
— Ну-у?
— Ей-богу.
До чего же забавным и веселым был тот пес… Халилю стало грустно.
— Да, племянничек, так-то вот, — вздохнул Дервиш. — Подох наш Карабаш.
Луна постепенно растворялась в утреннем небе, становилось все светлее и светлее. Земля пахла свежестью, пахла росой.
Они ехали меж вспаханных полей.
— Дядя Дервиш, где-то здесь было кладбище, да?
— Нету больше кладбища, племянничек, перепахали. Под поле перепахали.
— Под поле? Остановись на минутку!
Дервиш остановил волов. Халиль спрыгнул с арбы и, проваливаясь по щиколотку в мягкую пашню, от которой шел одуряющий запах теплой, влажной земли, побрел по полю. Вдруг Халиль остановился. Где-то здесь было кладбище. Но разве отыщешь теперь могилу матери?
«Мама!» — билось у него в горле.
Заложив руки за спину, Кадир-ага [3] всматривался вдаль, словно чего-то ждал. Над землей медленно поднимался, клубясь и расползаясь в стороны, туман. Вот уже стали видны крестьяне, работавшие в поле, и вереница людей, бредущих навстречу рассвету.
К деревне приближался скрип колес. Наконец показалась и сама арба, двигавшаяся прямо к хозяйскому дому.
Хозяин, Кадир-ага, сидел на веранде, как и три года назад, когда Халиль уезжал в армию. Это так поразило Халиля, что он на ходу спрыгнул с арбы и кинулся вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Хозяин даже не шелохнулся и, глядя поверх Халиля, сказал:
— Ну что, приехал?
— Приехал, мой господин, — со слезами на глазах ответил Халиль и припал губами к рукам хозяина. За годы службы он соскучился по этим иссохшим, холодным рукам, оставлявшим на губах такое сладостное ощущение. Халиль целовал руки хозяина, терся о них лицом.
— Ну-ну, хватит!
Халиль заглянул хозяину в глаза, посмотрел на его поседевшие волосы и брови. К горлу подступил комок. Халиль с трудом сдержался, чтобы не заплакать.
— Значит, отслужил? — спросил Кадир-ага. — Подумать только, три года! Как быстро пролетело время…
— Нет, мой господин. Не быстро. Очень долго, — смущенно проговорил Халиль.
Он глядел на хозяина и не мог наглядеться. А хозяин был маленький, неказистый, только очень богатый. Халилю хотелось выплакать у хозяина на груди свое горе, излить ему душу. Но он знал, что это невозможно, и потому чувствовал еще большую тоску. Коротышка хозяин был в глазах Халиля чуть ли не господом богом.
Кадир-аге стало не по себе от пристального взгляда парня, и он сказал:
— Хорошо, хорошо, иди!
Покорно сложив на груди руки, Халиль попятился.
— И пришли ко мне Мухиттина!
— Слушаюсь.
Мухиттин в это время подметал двор. Увидев Халиля, он бросил метлу и кинулся обнимать его:
— Здравствуй, брат!
— Тебя хозяин зовет. Прислал меня за тобой.
— Ладно, расскажи лучше, как ты?
— Все в порядке, брат, все в порядке…
— Сейчас я к нему сбегаю, а потом поговорим.
Халиль поднял метлу и принялся мести двор. Дервиш уже заводил волов в хлев. Лучи вырвавшегося из-за крыш солнца залили двор ярким светом. Халиль выпрямился, осмотрелся. Дерево, росшее перед домом, исчезло. «Срубили», — с горечью подумал он.
Вскоре вернулся Мухиттин.
— Давно срубили шелковицу, Мухиттин-аби[4]?
— Шелковицу? Э-э-э, шелковицу… Давно.
У Халиля ёкнуло сердце.
— Ну, выкладывай, что у тебя хорошего, — сказал Мухиттин.
— Да ничего…
К полудню стало припекать. Собаки и куры жались к стенам, стараясь укрыться в их тени. Халиль стоял посреди двора, там, где когда-то росла шелковица, пытаясь сообразить, какие еще перемены произошли за это время. Все, что было так свежо в его памяти, в ярком солнечном свете казалось состарившимся, обветшавшим, поблекшим, безжизненным. И куры, и собаки, и облезлые стены, и даже тени от стен наводили на Халиля тоску, словно перед ним были развалины некогда счастливого, но с годами одряхлевшего, безвозвратно затерянного в прошлом мира. Все унесло безжалостное время, оставив Халилю лишь щемящую тоску воспоминаний…
Поодаль, на куче навоза, лежала корова и, мерно двигая челюстями, жевала жвачку. По белой мете на лбу Халиль тотчас признал корову. Он помнил ее шустрой телкой, носившейся по двору с задранным хвостом. Теперь ей было лень даже повести глазами, и она в своем немом отупении не переставая жевала.
Стены, двор, куры, собаки, земля — на всем была печать уныния. Радужные мечты, которые все три года в армии помогали Халилю терпеливо сносить горести и лишения, рассеялись, исчезли в этом кладбищенском безмолвии. Скорбь по всему живому, казалось, сосредоточилась в больших, гноящихся, облепленных мухами глазах коровы. Под бременем судьбы они погасли, в них застыло выражение сиротливой безысходности, им словно опротивел весь мир. Неподалеку от коровы, высунув язык, дремали собаки.
Запертый в курятнике, томился белый петух.
Старая лестница, дышло, длинное бревно, подпиравшее стену хлева, дополняли унылую картину.
Изнурительная истома, исходившая от ветхих стен, от дремавших собак, от коровьих глаз — от всего, что окружало Халиля, будто заразная болезнь, передавалась и ему.
Халиль поплелся на кухню для батраков, там было сумрачно и прохладно. Халиль спугнул с квашни целый рой мух. На подстилке из мешковины похрапывал Мухиттин. Лицо его было прикрыто грязным платком, колыхавшимся от мерного дыхания.
Мухи снова облепили квашню. Халиль тихонько сел на скамью и окинул кухню взглядом: на стене висели решето и сито, на полу в беспорядке валялись мешки с булгуром[5], жестяные банки с маслом, маслобойка, сепаратор, корзина для хлеба. Противоположную стену будто полоснули ножом: ее пересекала длинная трещина. Между потолочными балками Халиль заметил разоренные ласточкины гнезда.
Во всем чувствовалось приближение зимы. Жаркое, но уже не палящее солнце, влажная прохлада теней, незаметно подкрадывавшийся вечер — это были приметы конца осени. Ветер кружил в воздухе дорожную пыль и сухие колючки, предвещая близкое ненастье. Халиль любил поля в золотистом сиянии стерни, хохлатых жаворонков, виноградники после сбора винограда, лозы с еще державшимися на них сухими листьями, пожелтевшие травы на косогорах, полевые цветы, чертополох…
В эту пору медленно осыпающиеся листья бывают самых разнообразных цветов и оттенков, от багровых до желтых. Каждый падающий на землю лист напоминал Халилю о бренности и быстротечности жизни.
Повернув голову, Халиль заметил, что из темного угла на него смотрит лежащая на мешке кошка. До чего же она старая и тощая! Вся шерсть вылезла.
Халиль подошел к кошке.
— Кис-кис!
Кошка, жалобно мяукнув, обнюхала руку Халиля и стала к нему ластиться, а Халиль ласково гладил ее, чувствуя, как прилипают к ладони шерстинки.
— Кисонька!
Дверь в кухню открылась, и Халилю ударил в нос запах псины, сыра, хлева и пота. «Никак Али Осман!» — подумал Халиль и обернулся. Да, это был Али Осман.
Он стоял в дверях и, щурясь, пытался разглядеть скрытого сумраком человека.
— Халиль! Родной ты мой!
Они крепко обнялись, и в этом мужском объятии было столько сердечной тоски и в то же время радости, что Халиль прослезился. Время заметно ссутулило плечи Али Османа, его брови и усы побелели. Глубоко запавшие глаза слезились, и он то и дело вытирал их.
— Садись, родной, садись! — говорил Али Осман, разглядывая Халиля. — Да ты стал настоящим мужчиной, ей-богу! Армия, видать, пошла тебе на пользу. Ну, теперь ты насовсем вернулся, а?
— Насовсем, дядюшка Али.
— Ну и слава богу! Слава богу!
Али Осман вытащил из кармана кисет, зажал между дрожащими пальцами клочок бумаги, отсыпал щепоть табаку, аккуратно свернул цигарку, послюнявил и, заклеив, протянул Халилю.
— На, закуривай, родной! — Он выбил огнивом искру, и Халилю ударил в нос знакомый запах горящего трута.
Халиль смотрел на Али Османа, поражаясь тому, сколько душевной доброты светится в его глазах. Привычными движениями Али Осман свертывал вторую цигарку. Взволнованный встречей, он запинался, не находя слов. Неожиданно он сказал:
— А Карабаш-то сдох.
Халиль сокрушенно покачал головой.
— Сдох бедняга, — горестно вздохнул Али Осман. — Ох и любил же он тебя! Бывало, по пятам за тобой ходил. А сдох-то он как! В тот день встал я чуть свет, мы как раз в поле идти собрались. А у меня зуб разболелся, да так, что сил не было терпеть. Я и нынче зубами маюсь, пропади они пропадом. Пошлет аллах здоровья — в этом году непременно их подлечу. Ведь как заноют — и про аллаха, и про пророка забудешь.
Он свернул еще цигарку и снова протянул Халилю.
— Бери, после выкуришь.
— А что же тебе останется, дядюшка Али?
— Бери, бери! Табачок добрый, такой не всегда достанешь. Лавочник Сабри для меня его бережет. Клянусь, в целом свете не найдешь табака лучше. Ну да ладно, о чем же мы говорили?
— О Карабаше…
— Ах да. Сдох бедный пес. Каждое утро, бывало, бежит себе тихонько впереди арбы. А в то утро, смотрю, нет его и нет. И звал я его, и искал — нет, и все тут! А зуб у меня разболелся — и не расскажешь как! У тебя когда-нибудь зубы болели?
— Было как-то раз. Только мне тут же больной зуб и выдернули.
— И мне выдернули. Правда, лучше б я на это не соглашался! Знаешь Фариза, что у Ахмед-аги стряпает для работников? Так вот, он мне и говорит: «Я раньше брадобреем был, выдерну тебе зуб, и не заметишь». Измучил, изверг, всю душу вымотал, челюсть своротил и еще, бесстыжий, взял с меня за это пачку табаку.
— Как же это так, дядюшка Али?!
— Ей-богу, Привязал к зубу нитку, и давай дергать. Дергал, дергал, ничего не получилось. Тогда он говорит: «Сейчас я его выдерну, как доктора дергают». Велел мне ждать, а сам куда-то ушел. Вернулся с клещами, да этими клещами зуб мне и выворотил.
Али Осман помолчал, а затем грустно добавил:
— Да-а, и Карабаш наш подох.
— Ну а как там дядя Сулейман?
— Считай, ты меня о нем не спрашивал, а я тебе ничего не говорил. Загубил себя Сулейман, загубил. Все одно и то же: заведутся у него деньжата — напьется, начнет песни петь, плакать. Всем уши прожужжал, что он станет торговцем, купит лошадь и начнет развозить товар по деревням.
— А дядя Камбер?
— И он недалеко ушел. Давай лучше пойдем поглядим на сад.
Листья доживали последние дни. Они оделись в желто-красный наряд, потому что не умели по-другому выразить свои чувства и думы, горечь пережитого. Наступает осень, и однажды лист срывается с ветки. Покой вокруг таит в себе боль разлуки с последними теплыми днями. Тонкая цепочка облаков, поблекшая голубизна неба, тающие запахи, золотистая листва — все исполнено неизбывной грусти. Кажется, будто по земле прошелся пожар, оставив следы на выгоревших травах, кустах чертополоха, деревьях. Навевают тоску и гранатовые деревья, и виноградные лозы с покрасневшими листьями, и сиротливая птаха.
Камбер, задумчиво скручивая очередную цигарку, сплюнул прилипшие к губам табачные крошки и вздохнул:
— Нет нам счастья!
Сулейман чертил палочкой по земле. Рядом с ним, кружась, упал лист.
— И хозяин очень переменился, — сказал Али Осман. Они замолчали. Халиль чувствовал, что за этим молчанием что-то кроется. Но они только поглядывали друг на друга, оба не зная, с чего начать.
Первым нарушил молчание Сулейман:
— Потом еще поговорим, пора приниматься за дело. Али Осман, Дервиш и Сулейман встали.
— Ну, пока! — попрощались они.
Халиль проводил их взглядом. Сулейман шел, широко размахивая огромными ручищами, — его всегда можно было сразу узнать по походке. Вскоре Халиль услышал, как отворилась и тут же захлопнулась садовая калитка.
— Жизнь, Халиль, вконец нас измотала, — пожаловался Камбер.
Халиль кивнул.
— Невмоготу стало, опротивело все.
Когда Халиль вышел из сада, вечерело. Сулейман чинил крышу, лопатой бросал на нее солончак. Поблескивая, земля рассыпалась в воздухе и рыхло падала на кровлю. Али Осман выравнивал землю на крыше, а Дервиш укатывал катком.
Халиль влез на другой конец крыши и смотрел оттуда на заходящее солнце. Небосвод был надвое разделен огненно-красной лентой, которая на глазах делалась все шире и шире, окрашивая небо в розовый цвет.
С полей с вязанками хвороста за плечами возвращались женщины, босоногие дети, девушки. Дул прохладный ветерок, без которого вечер не вечер. Халилю вспомнился другой вечер — в армии, когда кто-то из солдат играл на сазе. Халиль будто снова услышал грустную мелодию и мысленно перенесся в тот далекий день, в тот вечер. Как тосковал он тогда по родному краю! А теперь вот с грустью вспоминает армейские будни.
Дома, деревья, дороги постепенно тонули в ночном мраке. Над домом вился дымок и быстро растворялся в воздухе, словно не желая никого тревожить, вызывая чувство покоя и безмятежности.
Земля Юрегира смиренно отдавала себя во власть наступавшей ночи и безропотно погружалась в темноту. С шумом рассекая воздух крыльями, возвращались в гнезда голуби. Где-то прокричала сова, заставив Халиля вздрогнуть. Он вспомнил деревню Маласчу, от которой остались лишь наводящие ужас развалины, и погрузился в раздумье. Его вернул к действительности голос Али Османа:
— Халиль, родной! Тебя Камбер заждался, видишь, сына за тобой прислал.
Халиль оглянулся. Во дворе, пряча руки за спиной, стоял мальчик. Его лица не было видно в темноте.
— Тебя отец зовет, — сказал он.
Халиль осторожно спустился с крыши. Следом за ним спустился и Али Осман.
— Передай от меня Камберу привет и скажи, что ночью сад постерегу я.
Ремзи, так звали сынишку Камбера, был хилым, болезненным мальчиком лет десяти. На бледном лице особенно ярко выделялись глаза — черные, блестящие. Халиль смотрел на него с нежностью — как на младшего братишку, которого едва узнал после разлуки.
Ремзи молча шел за Халилем и ни разу не поднял на него глаз, а стоило Халилю обернуться, тотчас опускал голову.
Когда они подходили к дому, Ремзи побежал вперед и скрылся из виду. Из дома вышли Камбер и его жена Ребиш. Ремзи прятался за их спины. Со слезами на глазах Ребиш обняла Халиля, расцеловала. Глядя на них, Камбер рассмеялся:
— Хватит! Оставь парня в покое!
Халиль скинул башмаки и сел на пол. Ремзи с очень серьезным видом стоял спиной к Халилю и грел у огня руки, время от времени косясь на гостя.
— А наш малый уже в третьем классе, — сказал Камбер.
— Выучится — человеком станет, — подхватила Ре-биш.
Халиль с некоторым удивлением смотрел на молчавшего Ремзи. По тому, как мальчик теребил пальцы и упорно смотрел в одну точку, чувствовалось, что он чем-то расстроен.
Взрослые уселись вокруг подстилки, на которой стоял поднос с фаршированным петухом.
— А почему Ремзи не садится? — спросил Халиль.
Камбер повернулся к сыну:
— Иди, сынок, поешь вместе с нами! Видишь, гость не хочет без тебя есть.
Ремзи сердито дернул плечами.
— Иди, детка! Разве можно сердиться на отца?
Мальчик не двинулся с места.
— Иди, сынок, иди!
Ребиш поделила петуха на части и положила лучшие куски перед Халилем.
— Иди сюда, Ремзи, не упрямься. Ну, смотри, выведешь меня из терпения… — снова заговорил Камбер.
— Да оставь ты его в покое! Не хочет — не надо.
— Ладно, Халиль, давай есть., дорогой. Сегодня с нашим эфенди не сладить.
— Возблагодарим господа! — произнес Халиль и принялся за еду.
Камбер тоже энергично задвигал челюстями.
— С парнем что-нибудь произошло? — спросил Халиль.
— Да кто его знает. Не ест — и все тут, — ответил Камбер.
— Мы его петуха зарезали, вот он и сердится, — сказала Ребиш.
Кусок застрял у Халиля в горле, и он спросил, указывая на блюдо:
— Вот этого?
— Этого самого.
Глотая слезы, Ремзи выбежал во двор.
— Видала? — разозлился Камбер. — Видала, что вытворяет? Кости бы переломал этому поганцу!
— Да ты что? Разве можно так говорить! Ребенок ведь!
— Вот именно! Потому и должен знать свое место!
— Обидно ему.
— Ничего, потерпит.
— Ты ведь знаешь, как он любил этого петуха! Единственная радость у него была!
— Радость? А у меня какая радость, а?
— Ну не сердись, успокойся!
— Нет, ты погляди на этого выродка, еще нос дерет! В кои-то веки к нам гость пожаловал, так на тебе, этот поганец нас осрамил!..
— Он ведь ребенок…
— Ну, ладно, он — ребенок, а ты чего раскудахталась? Чего ты добиваешься?
— Добиваюсь?
— Конечно! С чего ты шум поднимаешь?
— Ей-богу, ничего мне не надо. Об одном прошу, не сердись на Ремзи. Он не такой, как другие дети.
— А что я плохого сказал, а? Ну что я такого сказал, что ты раскудахталась?
— И я ничего такого не сказала. Просто жалко мне его, ребенок он, дитя малое…
— Заткнись! Дитя малое пожалела! Вот так-то, Халиль, она не угомонится, пока не охрипнет. Ей только палец дай — руку отхватит. Сам знаешь, у любой бабы язык без костей!
— Ничегошеньки у него не было, кроме этого петуха…
— Да я и его петуха, и его самого… Ты, жена, помолчи лучше, не вводи меня в грех! Поганец и так весь ужин испортил.
Камбер вынул кисет и, сердито сопя, стал сворачивать цигарку. Руки у него дрожали.
— Видишь, Халиль? — заговорила Ребиш. — Видишь, каково мне живется? И так каждый день. Придерется к чему-нибудь и орет.
— Как же, придерешься к тебе…
— Ну скажи, Халиль, родной, что особенного случилось? У мальчика только и было радости, что этот петух. А мы взяли его и зарезали. Мальчик слова не сказал. Забился в угол и там плакал.
— Кончай свою трескотню!
— Хоть бы скорей на тот свет! Сил больше нет терпеть!
Ребиш поднялась и вышла.
Камбер долго сидел понурившись и молчал. Потом наконец заговорил:
— Не суди меня строго, Халиль. Поставь себя на мое место. Вот я пришел из армии, и ты позвал меня в гости, потому что очень любишь, а у тебя сын, точь-в-точь как мой балбес. И у этого балбеса есть любимый петух. Зарезал бы ты этого петуха, чтобы принять дорогого гостя, если бы у тебя ничего больше не было? Ну скажи, зарезал бы? А еще говорят, Камбер такой, Камбер сякой. Что же мне оставалось делать?
Халиль опустил голову.
— Думаешь, я не хочу, чтобы все было по-другому? Чтобы мой сын не завидовал детям, которые вкусно едят и красиво одеты? — Камбер тяжело вздохнул и, швырнув окурок в огонь, вытер ладонью губы.
Ребиш, стоя на пороге, уговаривала сына:
— Иди в дом, родной мой, а то, не дай бог, простудишься.
Но Ремзи лишь всхлипывал.
— Не плачь, сынок, отец тебе другого петуха купит. Камбер снова свернул цигарку. Вскоре мать с сыном вошли в комнату.
— Вот всегда так, — заворчал Камбер. — Мать пустит слезу — сын заревет. Сын заревет — у матери глаза на мокром месте. Плачут и плачут, рехнуться можно. Вроде бы не с чего, а они все равно ревут. Ладно, — обратился он к жене. — Парень ревет, потому что его любимого петуха зарезали, а ты чего голосишь?
— Руки-ноги целовать тебе готова, только замолчи! Что мы такого сказали?..
— Сказали… Этого еще недоставало!
Ребиш повернулась к Халилю:
— Ради аллаха, ты хоть скажи, разве мы чем-нибудь его обидели?
— Не хватало только Халиля в это дело впутывать.
— Не бери греха на душу. Бога побойся!
— Бог, конечно, он и есть бог… Вот так всегда, Халиль. Начнут ныть — никого не забудут: ни на земле, ни на небе. И до бога доберутся, и до пророка, и до ангелов, и до чертей со всеми джиннами. Никакого сладу!
Ребиш гневно покачала головой:
— Чтоб тебя аллах покарал! Ох и накажет он тебя! За что ты над нами измываешься? Все наше богатство — сын да петух. Петуха мы зарезали, а ребенка до слез довели. Какой ты отец! У других детей чего только нет. А у нашего? Недаром он на других косится, головой вертит, того и гляди шею свернет! Ничего у мальчика нет — ни ботинок…
— А у меня есть?
— …ни штанов путных…
— Я что, по-твоему, монету чеканю? Или скряжничаю, в кубышку складываю? Или на одного себя трачу?!
— Был один петух, и того зарезали.
— Постыдилась бы… при чужом человеке…
— Халиль нам не чужой. Он все про нашу жизнь знает. Чего же от него скрывать? Мальчику петуха жалко, вот он и расплакался. А ты, был бы ты настоящим отцом, не стал бы его ругать.
— Ты что мелешь? Выходит, я ему не отец!
Ремзи снова заплакал. Камбер привстал и крикнул:
— Замолчи, поганец! Слышишь?! Сейчас же перестань ныть! Будь на моем месте камень, и тот бы не стерпел. А я еще хотел, чтоб все было как у людей, гостя пригласил… Лучше бы не приглашал, лучше бы у меня язык отсох! Только опозорили меня! Эх, Камбер, ослиная твоя голова! Безмозглый ты дурак, Камбер! Чтоб тебе сгинуть на этом месте! И всё твоя дурья башка! Разбить ее мало!
Камбер неожиданно вскочил на ноги и с разбегу стукнулся головой о стену.
— Разбить тебя мало, подлая башка, разбить!..
Ничего не понимая, Халиль бросился к Камберу, стараясь удержать его.
— Не держи меня, Халиль! Не держи, сынок! С такой головой нельзя жить на свете. Уж лучше разбить ее, тогда кончатся все мои страдания. Ох и натерпелся я из-за своей головы! Все из-за нее, проклятой…
— Посмотрите только, что он вытворяет! — крикнула Ребиш. — Пусть тебя накажет аллах! Ох и накажет он тебя!
— Молчи, дура! Молчи! — взревел Камбер, дрожа всем телом и потирая ушибленный лоб. — Видишь, Халиль, что я терплю? Она меня поедом ест, сынок, доброго слова от нее не услышишь. Ты посмотри, в какой я рубашке хожу. От грязи вся почернела. И постирать ее некому, а еще считается, что у меня жена есть. Но мало этого: когда она молится, то просит аллаха лишь об одном: «О аллах, о всемогущий аллах, сделай так, чтобы Камбера пулями изрешетили!)» Самого аллаха хочет уговорить. Вот дура, разве аллах не видит, кто прав, а кто виноват? Только и знает, что проклинать меня. А за что, ей-богу, понятия не имею. Что бы ни случилось, во всем Камбер виноват. Ногу подвернула — Камбера проклинает, зуб заболел — Камбер виноват, голова зачесалась — опять Камбер! Не скажет: бедный Камбер столько работает, что у его матери слезы от жалости не высыхают; не скажет: у Камбера нет порток задницу прикрыть; не скажет: Камбер нищий, Камбер голодает. А почему? Да потому, что во всем Юрегире не найдешь большего дурака, чем Камбер. Вай, Камбер, что тут скажешь? Башку тебе мало разбить!.. Вообразил себя человеком, пригласил гостя. Но разве ты человек? Кто станет тебя уважать, если собственное чадо ни во что тебя не ставит? Ох-ох! Посоветуй, Халиль, что мне делать. Куда податься с моей дурьей башкой? Разве не лучше размозжить ее и навсегда избавиться от мучений, а? Ах ты, чертова голова, да я тебя!..
— Не обращай внимания, Халиль, на этого помешанного, — перебила его Ребиш. — Посмотришь на него — вроде бы человек. Но я такое могу тебе о нем рассказать…
Камбер дрожал от гнева.
— Что же ты можешь рассказать, а? Что, говори!
— Уж кто-кто, а я знаю, что это за змей.
— Что?! Змей! Я змей?! Этого, кажется, я от тебя еще не слыхал!
Тут раздались такие вопли, что слов уже было не разобрать. Халиль растерянно стоял между ними, кусал губы, теребил пальцы и, улучив момент, когда ссора на минуту утихла, быстро сказал:
— Ну, мне пора.
— Вот как все обернулось.
— Да, обернулось так, что ребенку не дали поесть.
— И в этом тоже я виноват, да? Вай, Камбер, вай, безмозглый Камбер! Отравить тебя нужно, повесить, пристрелить, никому ты не нужен.
— Мало того, что расстроил ребенка, так еще всякую чушь несет! Ведь куска не дал ему проглотить!
— Значит, я во всем виноват, да? Ладно, но что я сделал? Скажи, чтобы я хоть знал, Видал, дорогой мой Халиль, видал, родной мой?
— Вот именно, пусть Халиль скажет.
— Да замолчи ты, заткнись!
— Вот так всегда, Халиль. Сам ссору затеет, а после спрашивает, что он такого сделал. Ох! Не приведи бог с ним связаться! Но что поделаешь, все во власти аллаха.
Камбер рванулся к жене и заорал, указывая на дверь:
— Ну и убирайся! Не нравится — вот тебе порог, вот дорога!
— Ты кого со двора гонишь, меня?
— Не нравится — убирайся на все четыре стороны!
— И не подумаю. Это мой дом. Сам проваливай, если хочешь. Вот тебе порог, вот дорога, а вот твое одеяло!
Ребиш кинулась в угол, где была сложена постель, и, вытащив истрепанное, засаленное одеяло, швырнула его на середину комнаты.
— Вот тебе одеяло! Ты этого не знаешь, Халиль, не знаешь… Когда мы с ним поженились, у него только и было добра, что одно-единственное одеяло, и то все во вшах. Вот оно, полюбуйся. Я нарочно его храню. Ей-богу, ничего больше у него не было.
— Правильно, точно, ничего… — огрызнулся Камбер.
— Что, может, я вру? А до чего грязный был! В хлеву столько не наберется вшей, блох и другой пакости, сколько у него в голове было. Целых два дня мыла, скребла… натерпелась с таким муженьком! Все сама, все сама. Ты не поверишь! Чтобы скрыть нищету, перед людьми не срамиться, я во дворе ставила на огонь кастрюлю с водой, будто в ней что-то варится. Вот в этом самом углу, где сейчас лежит постель, я ела хлеб с водой, приправленной одним чесноком, вот как я жила! И никогда на судьбу не жаловалась, виду не подавала. Хорошо, что хоть свой дом есть, А понадейся я на этого вшивого, у нас совсем ничего бы не было.
— Ну конечно! Ничего бы не было. Я растратил бы все деньги на любовниц. От этого болвана Камбера только и жди подлости!
— Все, что есть в доме, я одна нажила. Во всем себе отказывала, зато нажила. А теперь этот бесстыжий гонит меня со двора. Ей-богу, ничего у него не было, кроме этого вшивого одеяла. Как же он смеет гнать меня из дома? Видишь, Халиль, что у нас творится? Если бы не Ремзи, я и минуты не осталась бы с этим вшивым. Только ради ребенка и терплю его издевательства.
— А я, что я зря все эти годы спину гнул?!
— Чтоб мне первым же куском хлеба подавиться, если я вру!
— Еще хлебом клянется, бессовестная!
— Может, скажешь, я вру?
— О аллах, где же ты, где?
— Ей-богу, он спятил.
— Это уж точно, иначе…
— Да покарает тебя аллах!
— Замолчи ты! А то с тобой и в самом деле недолго спятить. Что за напасть такая! Сколько же можно терпеть?
Ребиш истерически рассмеялась. Камбер судорожно дернул рубаху за ворот и разорвал ее на себе пополам.
— Замолчи! Замолчи же! Ох, моя голова!.. Во всем она виновата, эта проклятая лошадиная голова! О какой только камень ее размозжить?!
Ребиш молчала, сокрушенно качая головой. Камбер еще больше распалился и с такой силой саданул головой о стенку, что посыпалась штукатурка. Халиль пытался его успокоить, крепко схватив за плечи.
— И все из-за какого-то петуха! — крикнул Камбер и запустил в Ребиш подносом.
Камбер куда-то ушел. Ребиш плакала. На полу валялись недоеденные куски петуха. Халиль стоял и курил. В голове все перемешалось, как у пьяного. Он почти ничего не помнил.
Потом Халиль вышел во двор и зашагал к ферме. От свежего ветра он постепенно приходил в себя. Детские голоса, крик, визг… Дети… Воспоминания давно прошедших дней: Омар, Якуб… Халиль остановился. Со всех концов деревни до него доносились голоса, кто-то свистел, в нос ударил резкий запах резины.
Тот же запах, запах детства. Точь-в-точь такой, как в те далекие годы. Халиль прислушался. Вот появились дети. В руках они несли отбрасывающие длинные тени куски горящей резины. Это была целая армия детей, она росла на глазах. Дети приближались к Халилю. Уже можно было различить их лица. Они даже не взглянули на Халиля. Лишь шедший позади остальных поднес огонь к его лицу.
— Кто это? — спросил один из мальчишек.
— Халиль, батрак Кадир-аги, — нехотя ответил другой.
Дети убежали. Халиля снова окружила темнота. И он сразу почувствовал себя очень одиноким. Постоял еще немного и пошел дальше.
У фермы то вспыхивала, то исчезала огненная точка. Приблизившись, Халиль увидел Дервиша. Во рту у него была цигарка.
— Здравствуй, дядя!
— Здравствуй, племянник!
— Закурить найдется?
Дервиш протянул кисет. Халиль свернул цигарку и сел рядом. Некоторое время они сидели молча. Было слышно только, как попыхивает цигаркой Дервиш. Наконец он нарушил молчание:
— Иногда взгрустнется человеку, всяко случается, племянничек. — Он покачал головой. — Но другому стоит выпить, и он на человека не похож. Сам не слышит, что языком мелет. И все же я смолчал, проглотил обиду — товарищ как-никак.
Дервиш отшвырнул цигарку, в темноте мелькнуло и тут же пропало красное пятнышко.
— Обидно мне, племянничек. Настоящий друг на такое никогда не пойдет. Он сильно меня обидел, но мне все равно его жалко, потому что он мой старый товарищ. Н-да, пропащий человек этот Сулейман. Совсем опустился. Всякое уважение потерял. У всех подряд деньги занимает. Лавочник больше в долг ему не дает. — Дервиш тяжело вздохнул.
Из кухни донесся пьяный голос:
— Не наш ли это дядюшка гуляет? — спросил Халиль.
— Он самый. Сулейман. Снова запил. И у кого только деньгами разжился? Шакалу Омару пятнадцать лир задолжал. А Омар сам нищий, жениться собрался, так Сулейман денег не отдает. А еще картуз мой ему, видите ли, не нравится. Насмехается надо мной. Да ни он сам, ни отец его, ни дед отродясь такого не имели. А он еще говорит: лучше повеситься, чем такую шапку напялить. И чего он ему не приглянулся? Ведь красивый картуз, и цвет у него приятный. Верно, племянничек?
— Верно, верно! Значит, Шакал, говоришь, жениться собрался?
— Собрался. В жены Халиму берет, что у Хасан-аги за харчи в прислугах была.
Сулейман снова запел, сипло, как заигранная пластинка:
— Постель я тебе приготовил, — сказал Дервиш. — На старом месте. Соломы навалил — не пожалел. Жестко будет — еще подброшу.
— Спасибо! — Халиль встал и пошел на кухню.
Дервиш остался сидеть, бормоча под нос:
— Только и знает, что клянчить в долг, а после обязательно налакается водки, вина или какой-нибудь другой дряни. Я уж по дружбе молчу! А он язык распустил. Будто его картуз лучше моего…
На кухне в тусклом свете закопченной лампы сидели двое. Перед ними стояла бутылка дешевого вина, лежал прямо на клочке бумаги нарезанный кружочками лук.
— Вай, племянничек! Явился, орел! — приподнимаясь, воскликнул Сулейман. — Садись с нами! Подвинься, Мухиттин!
Сулейман потянул Халиля за руку и усадил на освобожденное Мухиттином место.
— Выпей, агабей, прошу тебя! — обратился Мухиттин к Халилю.
— Спасибо, Мухиттин, я не пью.
— Ну хоть глоточек, дорогой!
— Не хочу. Вот от сигаретки не откажусь.
— Что, племянничек, думы одолели?
— Взгрустнулось что-то.
Мухиттин протянул Халилю кисет.
— А мне, племянничек, — сказал Сулейман, — всегда грустно. Всегда. Араба Сейфи знаешь? Ему тоже всегда было грустно. Сидит, бывало, на постели пригорюнившись. Спросишь его: «О чем грустишь?» — а он молчит, ничего не отвечает. Как-то ночью разбудил нас. «Ухожу, — говорит, — братья!» В тот день Араб Сейфи осмелился замахнуться на хозяйского петуха. За это хозяин отругал Араба Сейфи и поколотил. Ну парень и взбесился, В ту же ночь ушел. А на прощанье сказал: «Я еще вернусь в эту Енидже. Все вокруг объезжу, а найду хорошего петуха». Это он собрался найти такого петуха, который заклюет хозяйского, словом, решил отомстить. Ты только подумай, как у парня голова варит! Взгрустнется тебе, станет тошно, бери пример с Араба Сейфи, С тех пор два года прошло, а о парне ни слуху ни духу. Он, как ты, частенько грустил.
— До чего же, брат, везучий наш ага, — вмешался Мухиттин. — На каком-то петухе так нажиться! А петух у него — не петух, а зверь лютый.
— Видел ты, племянничек, его петуха? — спросил Сулейман.
Халиль покачал головой.
— Дал бы мне аллах такого петуха, я бы ни о чем и не мечтал, — заявил Мухиттин.
Сулейман положил руку Халилю на плечо.
— Люблю я тебя, парень!
— Спасибо на добром слове.
— И дядя Али Осман тебя любит. Все мы тебя любим. Ты нам все равно что родной, ей-богу!
— Спасибо.
— Знаешь, песня такая есть: «Ах ты, друг мой родной!» Знаешь?
— Нет, не знаю.
— Случись с тобой, не приведи бог, какая беда, не представляю, что бы с нами было. Эй, Мухиттин, верно я говорю?
— Вернее некуда!
— А как некуда?
— Да так. Некуда, и все. Откуда мне знать как?
— Кому же знать, если не тебе, дураку? Сказал бы, как мы все любим Халиля! Ведь до чего мы с Али Османом горевали, когда тебя, Халиль, не было. А Мухиттин вот ни слезинки не пролил.
Отхлебнув из бутылки, Сулейман протянул ее Мухиттину:
— На, пей, только меру знай. А то все вылакаешь, я тогда… Слушай, Халиль, голос у тебя красивый. Спел бы нам что-нибудь. Ну хоть вот эту: «Дороги Енидже извиваются…»
— Не хочется мне петь, дядя.
— Вот тебе и на!
— Ей-богу, не хочется.
— Так ничего и не споешь? Значит, не уважаешь меня! А мы ведь тебя любим, и я, и Али Осман. Не уважаешь!
— Ну что ты, дядя!
— Не уважаешь, это точно. Постыдился бы! Мы так скучали без тебя, столько слез пролили, а ты… Бывало, вспомним о тебе с Али Османом и заплачем! Ей-богу! Стыдно так поступать, очень стыдно! За всю мою любовь одной несчастной песенки не хочешь спеть! А я вот для тебя что хочешь спою, только попроси.
— Не до песен мне сейчас, дядя!
— Ну что-нибудь другое попроси. Клянусь, все сделаю. Хочешь, заору как оглашенный? Ничего не испугаюсь. Вот слушай.
И Сулейман заорал во все горло:
— А-а-а! И а-а-аллаха! И всех я, мать вашу…
— Ради бога, брат, перестань кричать, — взмолился Мухиттин. — Еще ага услышит.
— Ну и черт с ним. Так я его и испугался!
— Ну что ты, дядюшка! Стыдно ведь перед хозяином, — пробормотал Халиль.
— Подумаешь, хозяин… Я, когда к нему нанялся, был молодым, крепким, а теперь еле ноги волочу.
Сулейман выхватил у Мухиттина бутылку:
— Ну ты силен! Я двух слов сказать не успел, а он почти все вино вылакал. Нам оставь хоть немножко.
Сулейман отпил из бутылки, вытер губы ладонью и заорал:
— Ага! Эй ты, ага!
— Стыдно, дядя, — попытался утихомирить его Халиль. — Разве можно так о хозяине?
— Доживешь до моих лет, не то еще закричишь. Мне и восемнадцати не было, когда работать на него начал, только пушок на губах появился. Помню, было у меня тогда зеркальце, так все время в него смотрелся. Эх, и парень же я был! А сейчас? Все волосы седые, даже на копчике, а в кармане по-прежнему пусто, на понюшку табаку деньжат не наскребешь. Потому-то я и ухожу. На-ка, отпей глоточек.
— Не пью я.
— Не такая уж это отрава, глоток отпить можно.
Халиль взял бутылку с еще влажным горлышком.
— Пусть это будет нашим прощальным ужином, племянничек.
— Куда же ты решил податься?
— Мне главное — отсюда уйти. Привяжи меня — все равно убегу. Золотом осыпь — не останусь. Хватит с меня! Куплю себе лошадь и займусь мелочной торговлей. Ты скажешь: вот счастье — мелочная торговля! А это, между прочим, дело прибыльное. Только лошаденку непременно надо завести, притом чалую, выносливую.
— А я бы вороную купил, — сказал Мухиттин. — Вороная, она повыносливей.
— Да что ты в лошадях понимаешь? С самым плевым делом не можешь управиться, а еще о лошадях судить берешься.
— Нет, Сулейман, лучше вороной лошади не найти. А чалая, она быстро зябнет.
— Ну и что? Можно попону потолще накинуть. Не слушай ты, племянник, этого болтуна, меня слушай. Я на этом деле собаку съел. Поторгую годок-другой, деньжат скоплю и куплю себе настоящий городской пиджак. Не знаю только, какого цвета. Посоветуй, племянник! Темносиний, что ли, а? Какой скажешь, такой и куплю.
— Я бы коричневый купил, — сказал Мухиттин, — или серый.
— Да ты отродясь не носил городского пиджака, а опять со своими советами лезешь. Я, говоря по правде, тоже не носил, зато на других видел. Ну так как, племянник, подойдет темно-синий?
— Подойдет.
— Вот и я так думаю.
— Темно-синий вроде бы ничего, только пыль к нему пристает, — заметил Мухиттин.
— Ну и пусть! Куплю щетку. Никакой цвет не сравнить с темно-синим! Еще шелковый платочек прикуплю, чтоб из кармашка высовывался. Потом серые туфли куплю. И обязательно чтобы со скрипом. Идешь себе по улице, а они вроде как тебе подпевают. Все останавливаются, глядят, по скрипу сразу узнают и говорят между собой: «Вон торговец Сулейман идет».
Мухиттин захохотал во всю глотку.
— Чего гогочешь? Не нравится, что ли? — сердито спросил Сулейман и схватил бутылку с таким видом, словно собирался запустить ею в Мухиттина. Тот невольно отпрянул.
Сулейман отхлебнул вина и продолжал:
— Так о чем я говорил, племянник? Ах да. К пиджаку еще нужны шаровары из черной саржи, и обязательно с вышивкой. Точь-в-точь такие, как у Дурмуш-аги. И зеркальцем непременно обзаведусь, маленьким, мне большого не надо. Вот тогда-то можно смело стучаться в любую дверь. Да, еще картуз надо Духами спрыснуть.
— А что, мыться больше не будешь? — спросил Мухиттин. — Про исподнее-то забыл.
— Можно и без исподнего обойтись, все равно его никто не видит, главное, чтоб сверху все прилично было. Помолчал бы лучше, только сбиваешь меня. Ну так вот, племянник, после этого стучись в любую дверь и говори: «По велению аллаха, по велению пророка прошу вашу дочь…» А там и думать больше не о чем. Все пойдет как по маслу. Стучись в любую дверь… «Счастье привалило нам, — скажут хозяева. — Сам торговец Сулейман сватается к нашей дочке. Радость-то какая!» Так и скажут… Еще бы, ведь тогда меня уже будут величать торговцем Сулейманом. Верно я говорю, племянник?
Мухиттин запел дурашливо:
— Я и твою Асью, и твою куропаточку… — обозлился Сулейман.
— А что? Петь, что ли, нельзя?!
— Тоже мне певец нашелся! Не обращай на него внимания, племянник. Разве он человек?! Меня слушай, одного меня, я один тебя люблю. Да, так про что это мы говорили? Про красавицу жену. Считай, что она моя. Тогда уж — эх! — Сулейману все будет нипочем. Ходить будет, как султан, шапка набекрень! Само собой, новая. Старую я, так и быть, Мухиттину подарю. Подарить? А, племянник? Будешь тогда ко мне в гости захаживать. К тому времени ты тоже женишься, и тоже на красивой. Неплохо, а? Чего ты сердитый такой? Может, мои разговоры не нравятся?
— Нравятся, дядя.
— Чего же ты скис? Может, я что не так сказал, может, обидел тебя?
— Да как вы могли меня обидеть?
— Почем я знаю? Всяк человек грешен. Все может быть, — сказал Сулейман и, запрокинув бутылку, стал с жадностью пить.
— Оставь немножко, — попросил Мухиттин.
— Убери лапу! — Сулейман ударил по руке потянувшегося к бутылке Мухиттина, помолчал, сердито покачал головой и, шумно вздохнув, сказал:
— Чую я, беда у тебя, племянник. Не молчи, расскажи, что случилось. Я ведь тебе дядя. Излей душу. Может, ты влюбился в кого? Так мы ее умыкнем. А если кто против тебя зло затаил, проучим негодяя как следует. Ну, говори же, кто тебя обидел?
— Не кричи так, дядя, хозяин услышит! — попросил Халиль.
— Ну и пусть слышит! Пускай он только явится! Я скажу ему пару теплых слов.
— Опомнись, Сулейман! — взмолился Мухиттин. — Уймись! Ведь без куска хлеба останемся!
— Кто не чтит хозяина, тот не чтит аллаха! — сказал Халиль.
— Не сердись, племянник, пойми — я тоже человек. Нет, видно, у меня другого выхода, бросать все надо, уходить! Ну и уйду! Уйду! Никто меня не удержит.
Неожиданно дверь приоткрылась и на пороге появился Дурмуш, старший сын хозяина. Мухиттин и Халиль вскочили на ноги. Сулейман силился встать, но словно прилип к полу и от досады едва не плакал. Опустив голову, он таращил глаза как баран. «Пропал, пропал я», — мелькнуло у него в голове. Он напрягся, но тело не слушалось, точно налитое свинцом. Сулейман судорожно глотнул слюну, сделал последнюю отчаянную попытку и, качаясь, кое-как приподнялся на дрожащих ногах. Облизнув губы, он смотрел на хозяйского сына, который застыл в дверях.
— Что тут за сборище? — рявкнул Дурмуш-ага.
Никто не проронил ни слова.
— Кто тут орал, как ишак?
Он подошел ближе и увидел у ног Сулеймана бутылку.
— Это ты драл глотку?
Сулейман уронил голову на грудь.
— До седин дожил, а ума-разума не набрался. Поглядишь на тебя — вроде бы человек, а на самом деле ишак ишаком. Где только тебя шайтан носил, когда аллах ум раздавал? Небось в это время дно бочки вылизывал? Что говорить, ростом и силой аллах тебя не обидел, а вот ума не дал ни капли! И ты тоже хорош, Мухиттин! Я тебе, скотина, что говорил?
— Ей-богу, ага, ей-богу, уговаривал я его, — запинаясь, бормотал Мухиттин. — Аллахом молил, да разве он послушает? Сколько ни твердил «хватит» — все попусту. Вот Халиль не даст соврать.
— Значит, не слушает?!
— Не слушает, ей-богу, не слушает!
Дурмуш-ага повернулся к Сулейману.
— Ты что же это, вздумал распоряжаться здесь, как у себя дома?! — закричал он и наотмашь хватил Сулеймана кулаком по лицу. Сулейман закусил губу и еще ниже опустил голову. Ага снова ударил Сулеймана, да так сильно, что у бедняги по лицу потекла кровь.
— Смотри у меня! — крикнул Дурмуш-ага, потом взглянул на Мухиттина и перевел взгляд на Халиля. — А ты когда заявился?
— Сегодня утром, ага.
— Не успел прийти, а уже безобразничаешь?
— Никак нет, ага.
— Молчи, пес паршивый! — гаркнул Дурмуш-ага и повернулся к Сулейману. — Раньше ты, скотина, такого себе не позволял!
Сулейман нервно теребил пальцы. По губе у него текла струйка крови. Глаза наполнились слезами. Его униженный и несчастный вид болью отозвался в сердце Халиля, и он едва сдерживал гнев.
— Не реви, не баба! — цыкнул на Сулеймана хозяйский сын. — Запомни: еще раз увижу такое — выгоню, как собаку! Слышишь?
Дурмуш-ага окинул всех троих взглядом и с важным видом покинул кухню.
Сулейман обнял Халиля:
— Будь я на твоем месте, племянник, непременно ушел бы отсюда. Сейчас же, сию минуту, сию секунду. Убежал бы без оглядки!
Он поднял с пола бутылку, допил вино и молча ушел.
— Сколько раз говорил ему: ага сердится, так он и слушать не желает, — забормотал Мухиттин.
Халиль вышел во двор и сел на камень у дверей. Голова у него раскалывалась, Вдали слышались громкие детские голоса. Из темноты вынырнул Дервиш.
— Что с тобой? — спросил он.
— Да так, ничего, дядя.
— Вижу, тошно тебе, да и у меня на душе муторно. Сходил вот в кофейню Сабри, чайку попил… Спать-то когда пойдешь?
Халиль поднялся.
— Да, пора уж запирать ворота.
В хлеву душно. От резкого запаха перехватывает дыхание. Запах навоза, прелой соломы и скотины удушливым смрадом окутал людей, сидящих вокруг убогого фонаря. Фонарь сплошь покрыт копотью, и от этого в хлеву кажется еще темней. Смутно вырисовываются стойла, мулы, лошади и жующие свою жвачку волы.
В темноте затрепетал огонек и тут же погас.
— Хыдыр! — крикнул Дервиш.
— Ну!
— Когда ты успел вернуться?
— Только что.
Дервиш с Халилем подошли к Хыдыру, долговязому мужчине с глубоко запавшими щеками. Он сидел на соломенном матрасе, поджав под себя ноги, и хрипло, учащенно дышал. От зажатой между костлявыми пальцами цигарки поднималась тонкая струйка дыма. Хыдыр закашлялся и виновато сказал:
— Простыл вроде бы.
Голос у него был низкий, приятный.
— Этот парень и есть Халиль? — спросил Хыдыр, указывая на Халиля пальцем.
— Он самый, — ответил Дервиш. — Только сегодня вернулся из армии.
Хыдыр дружелюбно улыбнулся, и они с Халилем крепко пожали друг другу руки.
— Рад видеть тебя, брат!
— Я тоже рад.
— Тебя здесь частенько вспоминали. И всегда добрым словом. Очень рад тебя видеть!
— Спасибо.
— Хыдыр — настоящий человек, — заметил Дервиш, — сердечный, другу душу готов отдать. Только горяч чересчур.
— Закуривай, брат. — Хыдыр протянул Халилю пачку сигарет. — Присаживайся. Да не надо снимать ботинки, не на ковер садишься.
Халиль сел рядом с Хыдыром.
— Завтра Сулейман едет на мельницу, — сказал Дервиш, обращаясь к Хыдыру.
— В Юзбаши?
— Да.
— Вот бы меня с собой прихватил!
— Я про то тебе и толкую.
— А кто еще поедет?
— Вроде бы Халиль.
— Я? — удивился Халиль. — Кто сказал?
— Старший ага распорядился, — объяснил Дервиш.
— Вот и хорошо, вместе съездим, — улыбнулся Хыдыр.
— Договорились, — ответил Халиль.
— Ох и натерпишься ты с той девушкой, Хыдыр, — сказал Дервиш.
— Уже натерпелся. Дальше некуда.
Дверь тихо отворилась, и вошел Али Осман. Ни на кого не глядя, он шагнул прямо к постели и завалился спать.
— Что же это ты, дядя Али? Ни привета, ни доброго слова?
— А, ты уже вернулся?
— Как видишь.
— Привез?
— А то как же! Если писарь Кятиб Хюсню-эфенди не врет, от этих семян все как рукой снимет.
— Чего это ты, Али Осман, скучный такой? — спросил Дервиш.
— А с чего мне веселым быть?! Ткни меня пальцем — и развалюсь. Все опостылело, жить неохота. Как ни старайся — все впустую!
— А ты, Али Осман, не принимай каждую мелочь к сердцу, не расстраивайся! Помни: где тонко — там и рвется!
— Уж все изорвалось, одни клочья остались? — Али Осман положил руки под голову и уставился в потолок.
Переглянувшись, мужчины отвели глаза. Все молчали и думали о своем. Один смотрел на стену, где колыхались огромные тени, другой — на потолочные балки или на оконные решетки. Было слышно, как жует свою жвачку скотина, как игриво лягают друг друга мулы, но все эти звуки, казалось, тонули в удушливом смраде. В тишине раздался голос Али Османа:
— Дорогой ты мой, не оставайся, уходи из этих мест. Не то пропадешь. В гяурскую [6] деревню, что ли, подайся, выучишься там грузовик водить.
— Дай-ка сигарету, — попросил Халиль Хыдыра.
Тот протянул ему пачку. Халиль взял сигарету и прикурил от своего же окурка.
К Али Осману подошел Дервиш и вполголоса проговорил:
— Не приставай к нему, Али Осман! Оставь парня в покое!
— Все во мне кипит, Дервиш, все нутро горит. Чую я, не уйдет Халиль — сгниет, как и мы. Жаль, совсем ведь еще молодой, сердце за него болит. Смолчал бы, да совесть не позволяет. Потому и говорю.
Халиль затянулся, опустил голову и уставился в землю. Снова воцарилось молчание. Свет фонаря стал совсем унылым и тусклым.
— Жалко мне тебя, Халиль, — продолжал Али Осман. — Придет день, когда спина твоя сгорбится, как у нас, и по утрам тебе невмоготу будет ее разогнуть. Вот тогда-то ты вспомнишь, что я тебе говорил, пожалеешь, что не послушался Али Османа. Камень будешь искать, чтобы размозжить об него свою голову, только не найдешь. Не губи свою молодость. Послушай меня, уходи отсюда, не бойся. А на нас не смотри. Мы люди конченые, сил у нас больше не осталось…
— Не береди парню душу, Али Осман, — остановил его Дервиш, — не мучай его, брат! Все образуется.
— Когда-нибудь сгинет эта Енидже, ох сгинет, превратится во вторую Маласчу, только совы здесь будут кричать.
В это время до них донесся крик ночной птицы.
— Сова… — прошептал Али Осман, широко раскрыв глаза.
— А ты, Халиль, иди спать. Вставать-то спозаранку. Иди, ложись, — тихо уговаривал Хыдыр.
Али Осман не унимался:
— Ну, слыхали? Вот послушайте, совы кричат! Совы, Халиль!
Халиль побрел в свой угол. К нему подошел Дервиш.
— Ну как тебе, мягко будет? Или еще соломы подбросить?
— Спасибо, дядя, и так хорошо!
Халиль разделся, повесил одежду на гвоздь и улегся, натянув на себя кусок мешковины, от которой чесалось тело, грудь кололи кое-где вылезшие соломинки.
— Совам достанутся эти края, совам! — твердил Али Осман.
Голова у Халиля стала тяжелой. Медленно, как погружается ведро в колодец, он погружался в сон, отдаляясь от стоявшего в хлеву смрада, возни скотины, тяжелого дыхания людей.
— Ни за что ни про что жизнь сгубили… — жаловался кто-то.
Чьи-то короткие всхлипывания, красная, как гранатовые цветы, пелена, дым, туман и где-то далеко приглушенный, едва слышный разговор:
— Ложись, родной мой, ложись. Все уже спят.
— Ты меня уважаешь, Али Осман? — Это был голос Сулеймана.
— Даже люблю, дорогой.
— Врешь!
— Ей-богу!
— Обман, обман, один обман кругом. Самую паршивую, чесоточную лошаденку дороже ценишь, чем меня. Никто меня не любит, никто. Даже собаки не любят. Обман, один обман кругом. Я и подохну, как лошадь, как мул, в хлеву подохну, — говорил Сулейман.
— Иди спать, дорогой!
— Правда, я скоро помру, Али Осман.
— Спаси тебя аллах!
— Помру, помру, подохну как собака. А ты, Али Осман, напиши на моем надгробном камне: «Здесь покоится Сулейман, бывший батрак Кадир-аги». А ниже допишешь: «Сулейман всю жизнь работал как лошадь — и подох, как лошадь». Так и напиши, Али Осман. Ох, Али Осман, ох!
— Сулейман, дорогой! Ну что ты болтаешь?!
— Помрем — никто и не всплакнет. Что мы за люди, Али Осман, если некому нас даже пожалеть? Хоть ты поплачь, Али Осман. Поплачешь, а?
— Сулейман!
Халиль наполовину проснулся, но еще лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к странным, повторяющимся через равные промежутки времени глухим ударам. Наконец он приоткрыл глаза и увидел, что Сулейман бьется головой о нары Али Османа, твердя:
— Ты знаешь, кто я такой, Али Осман?
— Ты Сулейман, а то кто же?
— Не то говоришь. Я самый что ни на есть последний дурак. Я собака, Али Осман, паршивая собака.
— Пожалей ты себя хоть немного!
— Швырнули нам кость: нате, грызите! Глодаем, грызем, а мяса ни крошки. Мясо хозяева сами сожрали. Потому что собаки мы, понимаешь, собаки! И жизнь у нас собачья. Вот оно что… Ну, теперь понял, кто я такой?
— Успокойся…
— Кто я такой, я тебя спрашиваю!
— Не надо, не надо, Сулейман!
— Нет, ты мне скажи, кто я такой.
— Собака ты, ну… собака.
— А чья я собака?
— Зачем ты так, Сулейман?
— Нет, ты скажи, чья я собака. Чья, а?
— Аллаха!
— А вот и нет. Я собака Кадир-аги.
Он еще неистовее стал биться головой о нары. Али Осман пытался ему помешать:
— Ну что ты зашелся, как дите малое!
Хыдыр лежал в постели и курил. Сулейман зарыдал, заметался, выкрикивая:
— Не трогайте меня, уйду я! Не желаю оставаться здесь, не желаю! Пустите же меня! Пустите!
Но Али Осман с Дервишем крепко держали Сулеймана.
— И зачем только он пьет, если не может? Дядя Али, дядя Дервиш, не трогайте его, ради аллаха! Дайте ему отлежаться.
— Пустите меня, не держите! — кричал Сулейман. — Опостылела мне жизнь, повеситься хочу!
— Да оставьте вы его в покое, — процедил Хыдыр. — Пусть вешается, раз ему так приспичило, а мы посмотрим.
— Сулейман, дорогой, успокойся! — твердил Али Осман.
— Плюнь ты на него, дядя Али, на эту скотину. Пусть валяется, — сказал Хыдыр. — А то носятся с ним, вот он и кобенится.
Чем крепче держали Сулеймана, тем яростней он вырывался. Наконец Хыдыр не выдержал и вскочил с постели.
— Сколько же терпеть такое? Каждый день одно и то же. Покоя нету от него. Эй, Сулейман! Слышишь, скотина! Вставай, безбожник! Поднимайся! Ну!
— Не трогайте меня! Уйду я! Не останусь здесь, — вопил Сулейман. — За что меня все бьют?
Оттеснив в сторону Али Османа и Дервиша, Хыдыр схватил Сулеймана за плечи и поволок к двери.
— Вот тебе, подлец, порог, а вот — дорога. Видишь дверь? Бьют тебя здесь, жить не дают? Ну и убирайся на все четыре стороны! Посмотрим, до чего ты докатишься, если и дальше будешь водку лакать. Вытряхивайся, живо!
— И уйду. Увидите! Все равно никого у меня нет. Все меня бьют. Зарежусь я!
Хыдыр выхватил из кармана кинжал с насаженной на острие пробкой и протянул Сулейману:
— Вот! Бери кинжал и режься! Ну, чего ждешь?
Сулейман покосился на кинжал.
— Бери! — крикнул Хыдыр и бросил ему кинжал.
Сулейман, скривив губы, разрыдался.
— Режь себя, гад! Убивай! — Хыдыр позеленел от гнева и задыхался. — Мало у нас своего горя, так еще ты навязался. Ей-богу, дядя Али, это ты его распустил, скотину эту. Ведь не младенец, до седин дожил. Кто хочет свою жизнь порешить, тот и так порешит, а болтать про то не станет. Кто задумал уйти, тот уйдет!.. Уйдет, как ушел Араб Сейфи. А этот трепач только и знает, что вино лакать да слюни распускать. Много я на своем веку повидал, а такого ублюдка ни разу не встречал. Давай, Сулейман, проваливай!
— Ни матери у меня нет, ни отца, — захныкал Сулейман.
— Цыц! — И Хыдыр ударил Сулеймана ногой в бок.
— Оставь его, Хыдыр, не надо! Жалко беднягу.
— А-а-а! Бьют! — кричал Сулейман. — Бьют!
— Вставай, слизняк! Вставай и иди дрыхнуть, а то, как теленка, прирежу!
Хыдыра трясло от злости, он поднял с пола кинжал.
— Долго еще дурака валять будешь? — крикнул он, схватил Сулеймана за руку, поднял с земли, а потом дал ему такого пинка, что тот снова свалился и стал поспешно отползать в сторону. Хыдыр еще раз пнул его ногой в бок. А Дервиш и Али Осман поволокли Сулеймана к койке.
На стенах подрагивали тени животных. Их мало-помалу поглощала отбрасываемая закопченным фонарем огромная тень, которая медленно расползалась во все стороны.
Халилю всегда нравился Хыдыр: и его манера держать себя, и даже то, как он курит. Хыдыр, переводя дух, вытирал со лба пот.
— Разве можно так? — ворчал Али Осман.
Хыдыр подошел к нему:
— Дядюшка Али! Я человек не злой. Если надо — жизни не пожалею для друга. Но разве дело то, что вытворяет Сулейман! Он всем уже осточертел. И без него тошно. У каждого — свое горе, свои заботы. А тут еще этот ноет и ноет. Может, ему так веселее — пить вино и слезы лить?!
Али Осман молча слушал Хыдыра.
Халиль лежал, уставившись на ласточкины гнезда. «Ласточки уже улетели», — подумал он, засыпая. Хыдыр взобрался на нары. Уснул и Али Осман. Постепенно сон одолел всех. Один только Дервиш бодрствовал: сегодня была его очередь приглядывать за скотиной.
У Дервиша зачесалась спина, и он поскреб ее, думая, как было бы хорошо, если бы ему почесала спину мягкая женская рука. Дом, жена, дети… Несбыточная мечта! Тоскливо становится на душе.
— Дети… жена… дом… — произносит Дервиш вслух, и лицо его на мгновение озаряет улыбка. Он тяжело вздыхает, вспоминая, как в далекой деревне восточной Анатолии в последний раз целовал руки матери и отцу, прежде чем отправиться в далекий путь. Мать, отец, родные… С какой надеждой он ехал сюда!
Каждый раз с наступлением осени ему начинает казаться, что он вот-вот вернется домой. Он прикидывает, что надо купить, представляет, как его встретят, видит каменистую землю у дома, выросших, а может, уже обзаведшихся собственными семьями детей, которых он так давно оставил. Но с тех пор миновала не одна осень, а Дервиш… Почему именно осенью тоска по родным местам так жжет его сердце, сладкой болью разливается по телу? Почему в осеннюю пору его так волнует пение птиц?
Надежда… Тоска по родной земле, по отчему дому… Дервиш улыбнулся. Его мечты давным-давно стали похожи на старую сказку, грустную сказку детства, не имеющую конца. Он не смог развеять неизбывную грусть этой сказки, и постепенно надежды стали частью ее. Много раз еще придет осень, расцветут и завянут цветы, прилетят и улетят птицы… на том и сказке конец.
Дервиш извлек из-за пазухи небольшой сверток, вынул из него сложенные в несколько раз ассигнации: одну в десять лир, другую в пять, развернул и стал поочередно подносить их к фонарю, поворачивая то так, то эдак, то подвигая к свету, то поднося совсем близко к глазам. Затем снова сложил и бережно завернул.
Когда Халиль проснулся, Хыдыр чистил скребницей мулов, а они жевали солому, громко чавкая. Дервиш похрапывал. Али Османа и Сулеймана уже не было.
— Проснулся, брат? — спросил Хыдыр.
— Бог в помощь!
— Спасибо, брат! Иди поешь, и двинемся в путь.
— Говорил с Сулейманом?
— Говорил.
Халиль быстро оделся и пошел к дверям.
— Дождик прошел!
— Поморосил немного и перестал.
Сейчас все выглядело чистым и нарядным: земля, заборы, дома. По небу стремительно неслись тучи, чтобы где-то далеко пролиться дождем. Легкий ветерок, казалось, проникал в самое сердце Халиля, наполняя его свежестью.
Халиль взялся за ручку колодезного насоса и с наслаждением умылся под тугой струей воды. Приметил возившегося неподалеку красавца петуха, белого, с огненно-красным гребешком, таким пухлым, что его хотелось потрогать. Нахохлившись, петух важно расхаживал по двору. В это омытое дождем утро все вокруг дышало свежестью, бодростью, самой жизнью.
Над кухней, как бы завершая картину, вился дымок. Но Халиль испытывал смутную тревогу, хотя чувствовал себя таким здоровым и сильным, что казалось ему, земля осядет в том месте, где он ступит. Это чувство силы как бы подкрепляли грубые ботинки на толстой подошве и солдатская форма.
На кухне было полутемно. У бачка с похлебкой сидели Али Осман, Сулейман и Мухиттин.
— Селям алейкюм! — поздоровался Халиль.
— Алейкюм селям! Бери ложку и подсаживайся.
Халиль взял из корзины деревянную ложку и сел между Али Османом и Сулейманом.
— Купишь мне немного сладкого? — спросил Мухиттин. — Я тебе денег дам.
Халиль крошил в похлебку хлеб.
— Какого еще сладкого?
— Ну, конфет…
— Управился там Хыдыр с мулами? — спросил Али Осман.
— Всю жизнь этот придурок на конфетах помешан, — заметил Сулейман.
— Что поделаешь, брат. Душа просит, — добродушно ответил Мухиттин.
— Ладно, куплю, — согласился Халиль.
— Смотри не забудь. А то Хыдыр всегда забывает. Сколько раз его просил!
— Разве влюбленному до твоих конфет? — съязвил Сулейман.
— Родной мой, — Али Осман обратился к Халилю, — раз ты поедешь с Хыдыром, я должен тебя кое о чем предупредить. У Хыдыра с легкими не в порядке. Тяжести ему таскать нельзя.
— Знал бы об этом хозяин, — вставил Сулейман, — выгнал бы его. В общем, если работа будет тяжелой, мы что-нибудь придумаем.
Халилю стало жаль Хыдыра, и в то же время он проникся к нему еще большей симпатией.
Когда с похлебкой было покончено, все направились к амбару и, пока Хыдыр впрягал в телегу двух мулов, погрузили приготовленные еще с вечера мешки с пшеницей.
Мухиттин принес Халилю шинель и, подавая, сказал:
— Не раз еще пригодится. — Затем незаметно шепнул ему на ухо: — Смотри не забудь про конфеты.
Халиль рассмеялся.
— Давай, Халиль, садись! — скомандовал Хыдыр.
Халиль вскочил на телегу.
— Счастливо вам!
На веранде показался Кадир-ага. Он держался по обыкновению невозмутимо, руки были заложены за спину.
По обе стороны распахнутых настежь ворот, придерживая створки, стояли Сулейман и Дервиш. Телега выехала со двора.
Позади остаются дома, стоящие в ряд, как послушные, спокойные дети. У домов копошатся куры, веет уютом семейного очага.
Разбуженный скрипом телеги, сторож Муса, спавший у деревенской каменной ступы, схватился за свисток.
— Здравствуй, дядя Муса! — поздоровался Халиль, когда телега поравнялась со сторожем.
— Здравствуй, здравствуй! С возвращением тебя!
— Спасибо.
— Что, дядя Муса, снова всю ночь проспал? — улыбаясь, спросил Хыдыр.
— Да что ты, родной? Разве можно тут спать? Так, присел отдохнуть немного.
Они поехали дальше. Поля, поля, поля… Вокруг, насколько хватал глаз, — одни поля.
— Свежо, — сказал Хыдыр, кутаясь в мешковину.
Халиль протянул ему шинель.
— Надень, брат, согреешься!
— Спасибо, Халиль, не надо!
В просветы между тучами проглянуло голубое небо, прозрачное как стеклышко.
— Десять лет мыкаюсь на чужбине, — произнес Хыдыр.
Деревня осталась далеко позади. Скрытая утренней дымкой, она, по мере того как дымка рассеивалась и поднималось солнце, становилась видна все отчетливей и отчетливей.
Когда деревья безумствуют от счастья и наряжают свои ветви в пышный убор из листьев и цветов — как прекрасна тогда Маласча!
Когда земля покрывается густым цветистым ковром, полевые лилии вспыхивают белыми, желтыми и розовыми огоньками, а кусты вербены полыхают фиолетовым пламенем — как прекрасна тогда Маласча!
Стремительно взмыли в небо ласточки, закружились белые аисты — Юрегир проснулся во всей своей красе.
В голубоглазых цветах, в песнях и плясках, в веселых хороводах оживает любовь. На земле Юрегира — весна! На земле Юрегира — любовь! Но грустна звучащая здесь песня, это песня несчастливой жизни, песня невыплаканных слез; она в жалобном блеянии овец и ягнят, в шитье пестрых женских платков. И расцветает надежда земли Юрегира, она — в красных от хны девичьих руках, в волосах, заплетенных в косы…
Когда с легким щелчком раскрываются маки и алым ковром покрывают поля, когда небо украшают редкие облака, на земле Юрегира наступает весна.
На ветвях, истосковавшихся по теплу, мелькают среди зелени листвы белый, красный и синий цвета. Мотыльки трепещут, томясь жаждой жизни. Они порхают с цветка на цветок, словно ищут самый счастливый, и цветы после этого становятся еще красивее. Жуки приносят на крыльях теплые, погожие дни. Все тянется к жизни! Каждая букашка, каждый цветок. В жужжании пчелы звучит весенняя песня, полная любовного томления. Вместе с весной на землю Юрегира приходит надежда, но наступает осень и надежда уходит. На болотах расцветают белоснежные кувшинки. Как хорошо тогда жить, любить и грустить!
Под этой безлюдной красотой Маласча хранит свою тайну. При одном упоминании о Маласче у детей сладко замирает сердце, как от сказки, а старики погружаются в задумчивость, с грустью вспоминая былые дни. В шелесте листвы, в пении птиц, в убаюкивающем шепоте степных трав — рассказ о горькой судьбе Маласчи.
Давным-давно в деревне Маласча жили настоящие богатеи. Из ассигнаций свертывали цигарки, ассигнациями разжигали огонь, когда собирались варить кофе. Жены богатеев были толстые и красивые, дети — избалованные. Жили они в громадных особняках, спали на пуховых перинах.
Говорят, на земле Маласчи даже камень превращается в золото. Но кто ничего не нажил, тот прозябал в нужде, ходил в лохмотьях, разутый, хотя трудился на этой богом благословенной земле в поте лица, от зари до зари гнул спину, пока не хлынет горлом кровь.
Богатеи жили припеваючи. Захотят — отправятся в Адану, а то и в Стамбул, откупят бар-ресторан с восточной музыкой и пируют. На все были готовы, только бы молва пошла: «Аданцы пожаловали». Резались в карты, распутничали, с жиру бесились, а бедняки гибли от нищеты, от болезней, не в силах вынести тяжкой доли.
Хозяева так втянулись в разгульную жизнь, что только и думали о женщинах да кутежах. Где им было интересоваться судьбой бедняков, они забросили даже собственные дома и дела. Но вот настал день, когда они лишились части своих земель, а потом потеряли их полностью. В двери стучались кредиторы. Особняки, сады, фаэтоны, лошади — все пошло с молотка. Земли Маласчи поделили между собой помещики из близлежащих деревень. И крестьянам пришлось уходить. Они разбрелись кто куда. Но каждый унес с собой предание о Маласче, песню о Маласче.
С того дня Маласча заросла чертополохом, густой травой, цветами. Где прежде пели соловьи, теперь кричат совы. На этой земле все растет само и само засыхает. Страшно там, глухомань да безлюдье.
Есть в Маласче святая могила. Каждую весну к той могиле сходятся крестьяне со всей округи, приносят в жертву петухов, жгут свечи и просят святого помочь им. Заодно собирают плоды мальвы, головки полевого мака… И так каждый год, это уже вошло в обычай.
А в последнее время там стали возделывать поля, сажать сады, засевать пустоши. Вроде бы жизнь потихоньку возвращается в Маласчу. Да только… боятся люди, что вдруг придут ее прежние хозяева. А богачи — они во все времена одинаковы.
— Вот как все было, сынок, — сказал Длинный Махмуд. — Вот тебе и весь сказ о Маласче.
Махмуд сидел с сыном в тени, под навесом. Мальчик долго оставался под впечатлением услышанного.
— Отец, а что стало с теми богатыми ага?
— Ушли они, сынок. Далеко-далеко ушли.
— А совы?
— А совы, сынок, так и остались в Маласче. Сидят себе и таращат глаза, да все в нашу сторону, на нашу деревню. Когда-нибудь, сынок, они и сюда прилетят. Тогда здесь тоже ничего не останется. Одни совы будут хозяйничать и гукать: гу-ук! гу-уук! Сколько раз сова гукнет, столько людей и помрет. Все вымрут. Все, кто отважится здесь остаться.
Мальчик испуганно смотрел на отца широко открытыми глазами.
— И мы помрем, отец?
— А то как же, сынок. Гукнет сова — и всем нам каюк!
Эмине, дочь Длинного Махмуда, уже знала: стоит отцу осерчать, он сразу начинает рассказывать о Маласче, чтобы отвести душу. И Енидже, дескать, ждет участь Маласчи: налетят совы и все жители Енидже погибнут. Девушка наперед знала, что скажет отец, и не прислушивалась к его словам.
Эмине, худенькая стройная девушка, проворно стирала белье в мыльной пене. Целый мир был сосредоточен в больших и маленьких, блестящих и разноцветных, как воловьи глаза, мыльных пузырях. В каждом пузырьке — цветок, небо и Эмине. Все, что было вокруг — голубое, зеленое, красное, — все переливалось в этих пузырьках. Они лопались и снова рождались из пены.
Из пяти домов, стоявших на краю деревни, их был самым крайним. Окно за решеткой из пяти железных прутьев выходило на дорогу. В каждом дворе — груда хвороста и куча навоза. Поодаль — отхожее место для всех пяти домов, огороженное и обитое листами жести.
На пороге соседского дома появился бекчи [7] Муса в одних подштанниках. Мать бекчи мыла в лохани борзого щенка. По двору с невозмутимым видом разгуливали куры, разгребая землю возле груды хвороста.
Муса бросил взгляд на голубятню.
— Вот мою собачонку моего внука Али, — сказала старуха Эмине.
— Гуль-гуль-гуль! — позвал Муса голубей, потом заметил Эмине и крикнул в шутку: — Почему же это, девка, никто тебя до сих пор не умыкнул?
— Что это вы такое говорите, дядюшка Муса…
— Только и знаешь, что дрыхнуть, байбак ты эдакий, — одернул его Длинный Махмуд.
— Сам ты байбак! — И Муса зашагал к отхожему месту.
— Дрыхнешь целыми днями, так хоть бы ночью в карауле не спал, — сказал Длинный Махмуд.
— Думаешь, легко всю ночь на ногах? Я ведь не сплю в обнимку с женой, как ты, а всю ночь на страже стою, чтоб твою дочь не украли, — кряхтя, ответил Муса.
— Никто мою дочь не украдет. Карауль не карауль — не украдут. Лучше признайся: правду говорят, что ты всю ночь храпака задаешь?
— Это я-то? Ну и врут же всякие байбаки вроде тебя! Или ты на ухо туговат стал, что не слышишь, как я до самого утра в свисток дую? Видать, как жену облапишь, так тебе сразу уши закладывает.
— Не молол бы чепуху! Известное дело, дрыхнешь без задних ног, а как проснешься — начинаешь свистеть что есть мочи. Ты мне голову не морочь, все равно не поверю, что ты ночью не спишь. Думаешь, я не знаю, какой ты пройдоха и лежебока!
Некоторое время Муса молчал.
— Кажись, простыл я, Махмуд, — хрипло сказал он наконец. — Похоже, кровавый понос у меня.
— Сколько раз говорил, не спи на камнях. Не слушаешься. На этот счет даже поговорка есть. Простуды берегись: летом на камень не ложись, зимой в сырое не садись!
Наконец Муса вышел и позвал Вели:
— Иди-ка, сынок, полей мне водички.
Подошел Вели с кувшином, и Муса стал мыть руки.
— Нынче утром я Халиля видел, — сказал Муса. — Лей, сынок, лей же!
— Знаю, вернулся. Скорей бы и твой Али… — отозвался Длинный Махмуд.
— Дай бог! Только бы дожить до этого дня…
— Доживешь, Муса, непременно доживешь. Теперь кажется, будто Халиль только вчера ушел, а он уже успел отслужить и вернулся. Где ты его видел?
— Он на мельницу ехал с Хыдыром.
— Это с тем, который грудью мается?
— С ним самым.
Муса вымыл руки и выпрямился.
— Спасибо, Вели. Да пошлет тебе аллах невесту чернобровую да черноокую!
— Ладно тебе!
— Вот дурень! Кто же отказывается от чернобровой да черноокой? Впрочем, дело твое. Не хочешь — пусть тогда аллах ее мне пошлет.
— Когда надо будет, я сам найду ему невесту. Правда, родной? — обратился к сыну Длинный Махмуд и ласково взъерошил парнишке волосы.
— Ишь, покраснел, застыдился, — заметил Муса.
— Слышь, Муса, как пополдничаешь, приходи, потолкуем малость, — сказал Длинный Махмуд. — Только не забудь табачку прихватить.
Муса ушел и скоро вернулся, держа в руке лаваш с сыром. Первым делом он протянул Махмуду пачку табаку.
— Закуривай!
Вытерев руки о рубашку, Махмуд положил пачку на колени и принялся свертывать цигарку.
— У меня еще вчера вечером табак кончился. Так до сих пор и не курил, аж голова кружится, ей-богу. Говорят, Шакал Омар собирается свадьбу справлять?
— Да, вроде бы скоро справит. Вели, принеси-ка кружку воды, а то кусок в горле застрял.
Вели помчался за водой.
— Шакал — парень путевый, — сказал Длинный Махмуд. — И Халиме хорошая девушка. Ей давно пора замуж, а она все в прислугах живет у Хасан-аги. Жаль ее, очень жаль!
— Нет худа без добра, говорят.
— Это верно.
— Знаешь, что сказал Омару Хасан-ага?
— Ну?
Вели принес воду. Муса напился и вытер губы.
— Сынок Омар, говорит ему ага, ты ведь знаешь, что для нашей деревни главное — благородство и честь. Поэтому надо дать тебе другое прозвище.
— Другое?
— Ну да. А то, говорит, все окрестные деревни нас засмеют. Скажут, в Енидже шакал женился. Или еще что-нибудь придумают. Так что, говорит он Омару, давай менять твое прозвище. Вот так сказал ага. Ну а ты что думаешь?
— А я ничего в этом и не понял.
— Да чего тут понимать? Сейчас Омар прозывается Шакалом, так? Но для нашей знаменитой деревни это позор. Вот и решили переделать Шакала на Льва. Уразумел?
— Разве ж можно шакала на льва переделать?
— Э-э, наш Хасан-ага и не то сделает!
— Ну ладно, а Омар ему что ответил?
— Омар ему ответил точь-в-точь, как ты говоришь. Ага, сказал он, если бы можно было так просто во льва превратиться, все шакалы давно бы убежали из пустыни и стали львами. Да и не только шакалы. В нашей деревне все ишаки и волы стали бы львами.
— Молодец Омар, ей-богу. Неужто так и сказал?
— Омар языкастый. Ты не смотри, что он тихий, он за словом в карман не полезет. Как начнет говорить — самого губернатора переговорит. Словом, скажу тебе, дорогой мой эфенди…
— Чтоб твоего «эфенди» ишаки загоняли! Ты где слову такому выучился? Подумать только, «эфенди»… Ишь выдумал!
— Не крути ты мне мозги! Лучше послушай, как Омару ответил Хасан-ага. Слушай и удивляйся, какие мудрые головы носят некоторые на плечах. Сынок Омар, сказал ему ага, прозвище тебе дал я, я его и поменяю. Однажды, когда ты еще мальчишкой был, я назвал тебя шакалом, так ты и стал Шакалом. А теперь назову тебя львом, и ты будешь Львом… Слыхал?
— Да что же это такое творится? Захотят — обзовут человека шакалом, захотят — львом обзовут. Вон до чего дело дошло! Нет, такого мне не понять, ей-богу.
— Что ага делает, того никому не понять. Зайдет он, например, в кофейню и скажет: «Друзья, надо спасать честь деревни. Посему нет больше Шакала Омара, а есть Лев Омар!» И запретит называть Омара Шакалом. — Да, вот какие делишки! — Муса взял с колен Махмуда пачку табаку и обратился к Эмине: — Послушай, когда же тебя украдут, а? Между нами будь сказано, Махмуд, дочь твоя здорово выросла.
— Попридержи, брат, язык. Дочь у меня единственная и несравненная. Другой такой, как моя Эмине, не найдешь.
— А разве я что плохое сказал?
Махмуд тоже потянулся к табаку.
— Коль дело идет к зиме, еще одну выкурю… Вместо того чтобы ерунду болтать, скажи-ка ты лучше: доконает нас будущая зима? Беда, большая беда, брат, свалится на нас в нынешнем году.
— И еще какая, друг! Дыра большая — заплатка малая. Сколько месяцев сын мой в армии служит, а я за все это время смог ему всего двенадцать лир выслать. Не знаю, как он там перебьется.
— Да, на чужбине без денег туго.
— Мой Али вдобавок к холоду непривычный.
— Зима и в самом деле на носу. А у нас, как говорится, и в руке пусто, и в кулаке не густо. Придвинься-ка, я тебе что-то на ухо скажу. — Муса подставил ухо, и Махмуд зашептал: — Сам видишь, Муса, Эмине моя выросла, невестой стала, а бельишко у нее — заплата на заплате. Вчера я ненароком углядел.
Муса с жалостью посмотрел на Эмине, которая развешивала белье.
— Ох, Муса! — горестно вздохнул Махмуд. — Как же мне быть? Я ведь хромой, так что не на всякую работу горазд. Другие для дочерей приданое припасают, а у моей Эмине в сундуке пусто — все дно как на ладони видно. Сердце от горя разрывается, Муса!
— Все образуется, — стал утешать его Муса.
— Так ведь калека я, Муса, и немолод уже. А то гроша не взял бы у жены. Я не из таких.
— Что поделаешь, друг, такая доля. Уж сколько времени прошло с тех пор, как от меня жена сбежала, а ты хоть раз слышал, чтоб я роптал? И с кем сбежала?! С каким-то вшивым чужаком. Оставила меня с Али. Я молча стерпел, потому как знаю: все от аллаха. Может, он чего задумал про меня. Вот я и жду. Ни единая душа не выдержала бы такой жизни! Зимой еще куда ни шло. Всю ночь протопаешь, так днем хоть отоспишься. А летом маешься. В жару с утра до вечера — с мотыгой, а ночью — сторожить. Днем вздремнешь часок-другой — и все. А ведь человеку этого мало. Вот я и стараюсь, если удается, прикорнуть где-нибудь в уголке. Говорят, Муса спит, храпака, говорят, задает. Оно верно. Но это только летом. А зимой меня сон не берет. Хожу себе по деревне от двора к двору. Летом совсем другое дело. Летом Муса и спит, и кряхтит, и в животе у него урчит. Надо же когда-нибудь поспать. Да, годы свое берут. Силы уже не те, Бывает, что и в глазах темно делается. Пятнадцать лет я в сторожах. Легко сказать — пятнадцать лет! С тех самых пор, как от меня жена ушла.
— Поздновато, Муса, ты в сторожа подался. А то не увели бы от тебя жену.
— Что было, то сплыло. Зато сейчас я твою дочь стерегу.
— Мою дочь, Муса, никто не уведет. В один прекрасный день я, как положено, замуж ее выдам. Дожить бы мне до этого. Ничего больше у аллаха не прошу. — Длинный Махмуд сокрушенно покачал головой.
По небу бежали тучи. Иногда между ними вклинивались солнечные лучи, и тогда земля делилась на светлые и затененные островки.
— Как переменилась погода, — заметил Махмуд. Муса вздрогнул:
— И мы, родимый, и мы…
Земля уже подсыхала. Пролегавшая рядом дорога была грязно-бурого цвета.
— А жена твоя где? — спросил Муса. — Что-то не видно ее.
— Она помогает жене Плешивого Хасана. Хлеб пекут.
— И Плешивый Хасан уже не тот…
— Я слыхал, он тоже собирается уходить?
Муса кивнул.
— Вот и я говорю, — продолжал Длинный Махмуд, — да только никто мне не верит. Пусть мне обе руки отсекут, если Енидже не превратится во вторую Маласчу.
— Плешивый Хасан встретил в городе детей Аджема. Живут не тужат, говорит. После этого он и задумал уходить, только никак отца не уломает, старого Мустафу.
— Все равно уйдет, непременно уйдет.
Эмине брала голубоватое от синьки белье и, встряхнув его несколько раз, вешала на веревку, наслаждаясь свежестью брызг-искорок, обдававших лицо.
Муса с Длинным Махмудом вели нескончаемую беседу, каждый раз возвращаясь к зиме и связанным с нею трудностям.
А вот Эмине любила зиму больше всех остальных времен года. Зимой не надо было ни мотыжить, ни собирать хлопок, ни мучиться от жары. Зимой Эмине усаживалась у очага, где горел кизяк или хворост, и в теплой, слегка пропахшей дымом и гарью комнате вязала, погружаясь в мечты. В ее мечтах оживали домики и тряпичные куклы, которых она мастерила в детстве. Изредка она представляла себе дом, где надеялась вновь обрести тепло, которое оставили в ее сердце игрушечные домики и тряпичные куклы, обрести счастье, которое они унесли с собой. В зимние ночи у Эмине зябли руки. Голубые от синьки руки и зимние ночи Эмине…
Халиль…
Отец рассказывал Мусе о благородстве Халиля и его душевной чистоте.
— Я Халиля знаю! — перебил его Муса.
Теперь в сердце Эмине, в самом глубоком тайнике, распускался дивный цветок: Халиль.
До ухода в армию Халиль был таким же худым, как она. Сейчас Эмине никак не могла вспомнить уже успевшее потускнеть в ее памяти лицо Халиля.
Халиль, Халиль, Халиль…
Эмине до позднего вечера не отрываясь смотрела на дорогу, по которой должен был возвращаться Халиль. Она поправила перед зеркалом волосы, кокетливо улыбнулась, наклонила голову в одну сторону, потом — в другую, но осталась недовольна, потому что казалась себе некрасивой.
В полутемной комнате все уселись на пол, каждый на свое место, и приступили к ужину. Вдруг Эмине замерла: ей послышался скрип колес.
«Едет!» — мелькнуло в голове.
На душе у Эмине было тревожно…
Мало-помалу приходя в себя от усталости, Сулейман с Дервишем сидели на камне и покуривали. Дервиш первым услышал скрип телеги.
— Едут, — сказал он.
— Интересно, как у него с той девушкой?
Показалась телега. Чем ближе она подъезжала, тем отчетливее становились видны два силуэта. Хыдыр курил. Халиль правил мулами.
— Плохи, видать, дела, — произнес Сулейман, и они с Дервишем пошли открывать ворота.
— Селям алейкюм! — поздоровался Халиль.
Телега остановилась у амбара. Хыдыр молча соскочил, распряг мулов и загнал их в хлев. Халиль посмотрел ему вслед.
— Что стряслось, племянник? — тихонько спросил Сулейман.
— А что?
— У Хыдыра как?
— Что как?
— Ну, повидался он?
— С кем?
— Да с той девушкой, с кем же еще?
— А я почем знаю?
Дервиш принес фонарь и повесил его на гвоздь. Затем открыли амбар, стали таскать мешки с мукой.
— Ну что? — спросил Дервиш Сулеймана.
— Плохо дело. Стряхивая с себя муку, к ним подошел Халиль.
— А где Мухиттин?
— Лежит.
— Заболел, что ли?
— Понос у него.
— Что-то всех в последнее время несет, — заметил Дервиш.
— Так ведь дело к зиме идет, — пояснил Сулейман. Халиль набросил шинель и пошел в кухню. Там было темно.
— Мухиттин-аби! Что с тобой? Заболел?
— Это ты, Халиль? Уже приехал? — удивился Мухиттин.
— Как видишь.
Халиль шел, осторожно пробираясь в темноте.
— Дервиш забрал фонарь и до сих пор не принес. Ну, где мои конфеты? — спросил Мухиттин.
— Сейчас скажу. Но ты, ей-богу, не поверишь.
— Забыл небось?
— Да не забыл, нигде их нет. В две лавки заходил, ей-богу. Сказали, кончились.
— Невезучий я, брат. А был бы везучий — девчонкой родился бы. Поел, попил — и на боковую. Как там Хыдыр?
— Не знаю.
— Знаешь, хорошо знаешь!
— Поесть найдется?
— В котле похлебка осталась. Ну говори, свиделся он с ней?
— Не знаю. А миски где?
— Возле плиты.
Халиль взял миску. Вдруг в кухне стало светло, и на стенах и потолке зашевелились потревоженные тени. Это вошел Дервиш с фонарем.
— Наконец-то! — обрадовался Мухиттин.
— Что может, братец, сравниться со светом?
— А Хыдыра почему не видно? — спросил Халиль.
— Не знаю. Когда я шел сюда, он сидел и курил.
— В хлеву?
— Да.
— Схожу-ка я к нему! — сказал Халиль и, поставив на стол миску, вышел.
— Ну что, Мухиттин, перестал ты животом маяться? — поинтересовался Дервиш.
— Дервиш, ты свою мать любишь?
— Разве можно мать не любить, брат, зачем ты спрашиваешь?
— Не знаю, Дервиш. Видать, помру скоро, все мать вспоминаю…
В хлеву было темно. Чтобы привыкнуть к темноте, Халиль немного постоял у дверей. В углу, где было место Хыдыра, поблескивал огонек.
— Хыдыр! — позвал Халиль.
— Я здесь, брат.
— Ужинать будешь?
— Не хочется.
— Ты же ничего не ел.
— Так мне тяжко, Халиль, так тяжко, что и сказать трудно.
Халиль подошел к нему. Рука Хыдыра с зажатой в пальцах цигаркой лежала на лбу, глаза были задумчиво устремлены в потолок. Халиль старался рассмотреть в темноте лицо Хыдыра. Наконец тот нарушил тягостное молчание и тихо позвал:
— Халиль…
— Что?
— Я должен тебе кое-что рассказать. Только смотри, никому ни слова.
— Зря беспокоишься, брат.
Хыдыр вздохнул, приподнялся на локте и спросил:
— Мы тут одни?
— Одни. Может, зажечь фонарь?
— Зажги, если хочешь.
Халиль зажег фонарь. Тусклый огонек осветил хлев.
— Как ты думаешь, сколько мне лет, Халиль?
— Ну, лет сорок.
Хыдыр горько усмехнулся.
— Мне тридцать два. Это скитания по чужбине так меня измотали. Тридцать два года прожил на свете, а один как перст, даже не на кого опереться в этом огромном мире. Фу ты, черт, снова весь взмок…
Он вытер со лба пот.
— Здесь душно, Халиль, или это мне кажется?
— Нет, здесь и в самом деле душновато.
— Покурим?
— Давай.
— Садись поближе. Так сподручнее будет разговаривать.
Халиль сел рядом. У Хыдыра голос дрожал от волнения, казалось, он подавляет слезы.
— Несчастный я человек, Халиль. Не знаю даже, как тебе рассказать… В общем, полюбил я дочь одного бедняка, да так полюбил, что, наверное, сам аллах удивляется. Ты меня слушаешь?
— Слушаю, слушаю.
— Дело мое дрянь, Халиль, И выхода никакого, это уж точно.
Хыдыр то и дело вытирал пот, дышал тяжело, с присвистом.
— Полюбил я ее, горемычную, всем сердцем. И она меня полюбила. Уже семь лет за их семьей таскаюсь. Куда они — туда и я. Вот и сегодня ездил в Юзбаши, потому что они там. Ты, наверно, знаешь ее. Это Алие, дочь Чандыра Мустафы.
— Как не знать? Они у нас здесь жили.
— Верно. Напал я на их след и приехал сюда. А они — на тебе! — в Юзбаши переселились! Вот и езжу теперь туда. Говорили мы с ней нынче. И знаешь, что она мне сказала? Ох, Халиль! Если, говорит, ты мужчина, уведи меня, а если нет, тогда жди — я сама тебя уведу. Так и сказала. Как же такое стерпеть?! Как выход найти?
— Чего же мы ждем? Давай увезем ее?
— А ты пойдешь со мной?
— Еще спрашиваешь? Да я жизни не пожалею! Скажешь: сегодня — пойдем сегодня! Скажешь: завтра — значит, завтра! Думаешь, я шкуру свою пожалею?
— Они, Халиль, мои земляки. Алие я помню еще сопливой девчонкой, Ушел я из родных мест, а через три года ненароком встретил их около Джейхана[8]. Они безземельными были, вот и переселились туда. Посмотрел я на Алие: выросла она, такой красавицей стала! И полюбил ее, с первого взгляда полюбил.
— Ну давай увезем твою Алие!
— Увезти — дело нетрудное. Видит бог, я украл бы Алие, даже если бы ее целая армия стерегла. Не боюсь я ни братьев ее, никого. Но куда я ее приведу? К кому? Денег у меня — ни куруша. Угла своего нет, ничего нет. Что же мне делать, брат, посоветуй!
Халиль задумался, потом беспомощно посмотрел на Хыдыра:
— Если надо — душу тебе, брат, отдам, а вот посоветовать ничего не могу.
— Что же мне делать?
Халиль опустил голову.
— У тебя, Хыдыр, и знакомых никаких нет?
— Нет, никого нет.
— И у меня нет.
Они помолчали.
— Сам ты, Хыдыр, что думаешь?
— У меня только один выход: увести Алие в горы. Если погибать, так вместе.
— В горы? В такую-то пору? Ведь это верная смерть. Пожалей свою молодость, брат!
— Какая там молодость! Только горы могут укрыть нас с Алие! Только горы!
— А что если обратиться к дяде Камберу?
— Да он сам ютится с женой и сыном в тесной халупе. Спать-то им где-нибудь надо. Нет, на такое я не пойду.
— Но может, он что-нибудь посоветует.
— Вряд ли.
— А я с ним поговорю.
Халиль встал и вышел. Камбер с Али Османом развели под навесом огонь и беседовали, дожидаясь, пока в маленьком чайнике вскипит вода.
— Приехали? — спросил Али Осман.
— Приехали, дядюшка, — сказал Халиль и сел рядом с ними.
— Вчера вечером, — заговорил Камбер, — я тебя, Халиль, обидел. Не сердись на меня, родной. Не хотел я, ей-богу. Но ладно, хватит про это. Скажи, что нового у Хыдыра.
— Говорил он с девушкой.
— Да ну? И что она сказала?
— Сказала: уведи меня, и делу конец!
— Вот это да!
— Так прямо и сказала. Если ты, говорит, мужчина, то уведи меня, а если нет — тогда жди, я сама тебя уведу.
— Ей-богу, позавидуешь Хыдыру. Слыхал, Камбер?
— Да. Это она верно сказала.
— Вот она какая, беззаветная любовь! — сказал Али Осман.
— Шутка ли — семь лет! И это в наше время, — проговорил Камбер.
— Теперь он непременно ее уведет! — заявил Халиль.
— Уведет? — переспросил Камбер.
— Уведет, раз вбил себе в голову, — сказал Халиль.
— Легкомысленный этот Хыдыр, — покачал головой Али Осман. — Увести-то уведет, а куда приведет?
— В горы.
— Зимой? — изумился Камбер.
— Рехнулся он, что ли?
— Говорит, это единственный выход.
— Не иначе как нарочно решил сгубить себя, — сказал Камбер. — Он ведь и без того болен.
— То же самое и я ему доказывал. Как можно, спрашиваю, когда зима на носу? Не сегодня-завтра в горах снег выпадет, замерзнете там.
— Нужно было сказать: на верную смерть идете.
— И это я ему говорил. Слушать не хочет. Нет, говорит, у меня ни друзей, ни родных, никто горю моему не поможет. Или, говорит, уведу ее в горы, или руки на себя наложу.
— Руки на себя, говоришь, наложит? — переспросил Али Осман.
— Ей-богу, спятил парень, — сказал Камбер.
— На то она и любовь, брат мой. Безумным может человека сделать, слепым.
— Видать, и ты, Али Осман, был так же сильно влюблен, — съехидничал Камбер.
— Был ли, не был, а о любви всякого наслушался.
Чайник кипел, из носика шел пар. Камбер бросил в кипяток горсть сухой мяты и сказал:
— Горы — погибель для человека.
— А что ему, дядя, остается? — спросил Халиль. Камбер разлил отвар мяты в жестяные кружки.
— Эх, чуть-чуть сахарку бы! — сказал Али Осман.
— Ну, побудет он там день-другой, ну, пусть месяц, — заговорил Камбер. — А потом что? Вот ты, Али Осман, скажи: что он будет делать потом? Увести девушку — дело нехитрое. Я хоть и стар стал, а если нужно, вместе с Хыдыром пойду.
— Что толковать про это? И я бы пошел, хотя ни к чему это, раз есть такой здоровенный парень, как Халиль, — под такими, как говорится, земля приминается.
— А дальше что делать? Весь век мучиться?
— И то верно, — вздохнул Али Осман. — Нужда беду гонит, а у них — ни угла, ни куруша. Тяжко.
— Да, нелегко. Когда я женился, у меня хоть одеяло было. И еще чайник. А у Хыдыра ни одеяла, ни чайника, совсем ничего. Парень он хоть куда, а бедный — беднее не бывает, — сказал Камбер.
— Ты, брат, так говоришь, словно дочь за него отдаешь, — повернулся к Камберу Али Осман.
— Говорю, как есть. В наше время без денег шагу не ступишь. Если ты богат — каждый тебе рад, если беден — отправляйся в ад… И у девушки ничего нет. Она из бедной семьи. Это я точно знаю. Возьмет она свой узелок и убежит. А что в узелке? Три платка и два платья. Вот и все богатство. Нет, не дело Хыдыр затеял.
— Верно ты говоришь, — согласился Али Осман. — Жаль мне их.
— Сгорят бедняги, как щепки в огне, — добавил Камбер.
— Сколько раз я ему про это говорил. А он знай твердит: в горы да в горы.
— Да и не в одном жилье дело, — заметил Камбер. — Жилье — это голые стены.
— Да, брат, жилье — это полдела, — кивнул Али Осман.
— Еда нужна, постель, в общем, много всего, — говорил Камбер. — Если бы дело только в жилье упиралось, я отослал бы жену с ребенком к Кавалджи Хасану, а сам бы в хлеву спал.
— Ох уж эта нужда! — вздохнул Али Осман. — Имел бы я дом и деньги, спросил бы Хыдыра: что тебе, Хыдыр, нужно? Комната, ответил бы он. А я ему: пожалуйста, вот тебе комната! Деньги? Пожалуйста, скажи, сколько требуется. Все бы ему дал. Только у самого ничего нет. Будь проклята эта бедность!
Костер догорел, лишь тлеющие угли освещали лица, согревали людей своим теплом. Али Осман медленно пил чай из мяты и все думал и думал. Молчание нарушил Халиль:
— А если посоветоваться с самим агой?
— Ему-то что! Ты хоть без крыши сиди, хоть подаяние проси, хоть подыхай — чихать он на все хотел, — ответил Камбер.
— Ну что ты, дядя! Ага о нас заботится, — произнес Халиль.
— Взять хоть Длинного Махмуда, ты его хорошо знаешь. Сколько лет он работал на хозяина. А когда Махмуду ноги котлом перебило, очень помог ему хозяин? Ну сам скажи, помог? Человек ни больше ни меньше сорок пять дней провалялся в больнице, а хозяин ему и глотка воды не послал. Спасибо, за казенный счет лечили беднягу.
— Верно, хозяин ничем ему не помог, — сказал Али Осман. — Правда, как он из больницы вышел, ага первое время посылал ему каждый день по банке простокваши, ну и денег немного подкинул, после же думать забыл про Махмуда. А такого работяги, как Длинный Махмуд, во всем Юрегире не было. Тюки с хлопком по сто тридцать, по сто сорок килограммов играючи таскал. Есть ли возница лучше Махмуда, а? Нету. И не найдется. И такому вот человеку приходится теперь жить за счет жены и дочки.
— Раньше ага без Махмуда, как говорится, шагу ступить не мог, а сейчас вроде бы Махмуда вообще не существует. С перебитыми ногами ведь не поработаешь, вот и стал Махмуд не нужен.
— Нынче Махмуд с утра до вечера под навесом сидит, думу думает. Раздобудет жена табаку — курит, не раздобудет — молчит и ждет, — сказал Али Осман.
— Все это верно, — согласился Халиль, — но Хыдыру-то что делать?
— Никак мы ему не поможем, Халиль, — вздохнул Камбер.
— Да мы бы с радостью. Кто бы из нас не хотел, чтобы наш друг своим домом обзавелся? — сказал Али Осман.
— Только подлец ничего не делает, если в силах хоть чем-то помочь, — заявил Камбер.
Халиль поднялся, прикусил губу, подумал и спросил Камбера:
— Так ты приютишь их на месяц?
— На месяц? Это можно. А дальше что?
— Дальше посмотрим.
— Ну, а если что не так выйдет, нас ведь совесть замучает.
— Все равно, — сказал Али Осман, — не видать им счастья.
— Значит, договорились? На месяц ты их пустишь, а своих к Кавалджи Хасану отправишь, так?
— Если все дело в жилье, то пущу. Но нельзя же…
— Возьмешь ты их к себе? — перебил его Халиль.
— Возьму.
— Спасибо тебе и на том. До свидания! — сказал Халиль и торопливо вышел.
Сулейман кормил скотину. Хыдыр по-прежнему лежал и молча курил. Вошел Халиль и тихо сказал Хыдыру:
— Дядя Камбер возьмет вас на месяц к себе.
— Не надо, Халиль.
— Почему?
— Я передумал.
— Передумал?
— Да, передумал.
Тоска, долго терзавшая душу Хыдыра, исчезла — осталась пустота. Он смотрел на Халиля тусклыми глазами.
— Думал я, брат, думал и отступился. Ничего не выйдет. Что зря обманывать себя? Пустое это. Уведу я ее, бедняжку, поселю в чужом доме, а дальше что? Дальше-то ничего нас не ждет. Не по плечу это нашему брату, а раз так — в кулак зажму сердце. Лучше отступиться, а то потом стыда не оберешься. Ладно, пусть не считает меня мужчиной. Видать, такая у меня судьба. — Хыдыр вздохнул и с благодарностью посмотрел на Халиля. — Спасибо тебе за все. Хоть одно меня утешает — есть теперь у меня друг и брат, на которого могу положиться.
Появился Дервиш и, хохоча, сказал:
— Слыхали? Нашего Шакала Львом сделали…
Сулейман покосился на Дервиша и знаком дал ему понять, чтобы он замолчал. Улыбка сползла с лица Дервиша, и, подойдя к Сулейману, он спросил:
— В чем дело?
Сулейман показал на Хыдыра.
— Что-нибудь случилось?
— Тише ты!
— Ужинать будешь? — спросил Халиль Хыдыра. — Все уже готово. Пойдем.
— Совсем есть не хочется.
— Ну хоть несколько ложек.
— А ты ужинал?
— Нет, тебя дожидался. Не будешь есть — и я не буду!
Хыдыр согласился. Как только они вышли, Дервиш попросил Сулеймана:
— Расскажи, что случилось.
— Кажется, они надумали увести девушку.
— Ну?!
— По-моему, это у них дело решенное. Так что, говоришь, сделали с Шакалом?
— Шакала переделали во Льва, — смеясь, ответил Дервиш.
— Правда?
— Ей-богу. Жаль, тебя там, в кофейне, не было. Мы за бока держались. Хасан-ага вышел на середину и крикнул: «Эй, люди! Отныне в нашей деревне не будет никаких шакалов, нет и Шакала Омара, есть Лев Омар!»
— Ну и дела!
— Все животы надорвали от смеха.
— Я рад, что Шакал женится. Все же он наш парень.
— А мы с тобой, Сулейман, так и остались ни при чем…
Хыдыр и Халиль присели на камень у порога. У обоих было на душе тоскливо.
— Ты вот, — сказал Хыдыр, — еще молодой, здоровый. И забот у тебя особых нет. А я, брат, мало того, что больной, так еще влюбился. Когда на человека навалятся сразу обе эти напасти, спасения не жди. Нет, Халиль, конца моему горю. Сколько ни рассказывай, всего не перескажешь. Сам я из вилайета Мардин. Было когда-то у моего отца пятьдесят денюмов [9] земли. И небольшой виноградник. А детей — десять душ: четыре девочки и шесть мальчиков. Разве могли полсотни денюмов всех прокормить? И вот четыре младших брата оставили землю и виноградник старшим, а сами подались на чужбину искать счастья. Но на чужбине, Халиль, нелегко. Десять лет, как я покинул родные края, а они до сих пор мне снятся. Вернулся бы туда, да нельзя. Так и стоит перед глазами отчий дом. Были у нас и волы, и коровы. Но на такую ораву ничего не хватало. Как вспомню я все это, брат, муторно становится…
Халиль слушал Хыдыра, и на него нахлынули воспоминания: родной дом, вершины гор в дымке тумана. А где-то далеко-далеко — одинокое дерево. Сгущаясь, туман окутывал все вокруг синими волнами, в которых тонули воспоминания Халиля.
— Все наши желания, Халиль, гибнут, еще не родившись. Потому-то жизнь у нас такая тягомотная, серая… Знаешь ты, что такое любовь, какие она несет муки?
— Нет, не знаю.
— Любовь, Халиль, — это штука особая. От нее сгоришь, с ума сойдешь, кровью будешь харкать! Слышишь, Халиль: кровью! Любовь — она не для нашего брата, потому как мы — рабы, а любовь для раба — верная гибель! Но что поделаешь, если и наши сердца открыты любви? Ведь мы живые люди, только нет у нас своего угла. А разве может человек без своего угла? Вот прошлой зимой средний сын нашего аги, Сырры-эфенди, просадил в карты гостиницу, которой тысяч сто цена. В одну ночь просадил. Это тебе не сто лир, а сто тысяч!
Послышались шум и крики возбужденных игрой детей, и свет факелов выхватил из темноты их лица.
— Эх, хорошо быть маленьким! — сказал Хыдыр.
— А я, Хыдыр, и детства не знал. Вырос сиротой, у чужих людей.
— Знаешь Араба Сейфи?
— Как не знать? Он мне друг.
— Я и забыл. Он ведь столько раз о тебе рассказывал. Парень отличный. Но что ни день — у него беда! Вот он взял да и ушел отсюда.
— Неправильно поступил. Ага волен делать со своими работниками что хочет. Подумаешь, два раза врезал. Араб Сейфи и меня уговаривал уйти, но разве можно?
— В таких делах я не советчик.
— Я, Хыдыр, люблю хозяина. Так люблю, что прикажи он: умри! — умру. Я здесь, возле него вырос. Здесь узнал жизнь. Я его хлебом сыт.
— Что тебя уговаривать? Ты не маленький. Хочешь — уезжай, не хочешь — оставайся. Одно тебе скажу: работа разная бывает, и люди тоже разные. Что тебе нравится, то и выбирай. Но люди отсюда неспроста уезжают.
— Ну ладно. А ты, Хыдыр, почему не уезжаешь?
— Я не в счет. Со мной всякое может случиться. Взбредет мне вдруг в голову — я и уйду. Десять лет скитаюсь на чужбине. Многое пришлось пережить, каких только людей ни видал, в какие переделки ни попадал! Натерпелся — и не расскажешь. Так что на меня не смотри. И в городах бывал, и на заводах работал. Два года в Адане на бельгийском заводе оттрубил. В общем, много мест сменил. Вначале счастья искал. А потом стал ездить следом за Алие. Куда она с отцом — туда и я. В раба превратился. В раба своей любви. Потому я и говорю, что нечего на меня равняться. Не так-то легко было заставить меня склонить голову, а вот заставили! И еще заставили хлебнуть горя. Так что я не в счет, Халиль. Всего я лишился — и покоя, и здоровья. И все равно: захочу уйти — уйду. А ведь ты еще молод, не то что я. Вот проснешься утром, а Хыдыра и след простыл.
— Я, Хыдыр, вырос на дворе у Кадир-аги, Все добро, которое он мне сделал, помню. Ну, ушел бы ты на моем месте?
— Пустое это, Халиль. Если когда-нибудь тебе втемяшится в голову мысль уйти, никто тебя не удержит. А советы давать или заставлять — бесполезно. Надо чтобы жизнь раскрыла тебе глаза, чтобы невмоготу стало, будто кол к горлу приперли, чтобы последняя капля переполнила чашу терпения, вот тогда ты уйдешь. И никто не сможет стать тебе поперек дороги. Это я точно знаю. А пока еще не пришло твое время.
— Никуда я не уйду.
— А я и не говорю, чтобы ты уходил. Как хочешь, так и поступай. Ни в чьи дела я не вмешиваюсь. Только не забывай и о завтрашнем дне. Годы идут, старость не за горами. Не ровен час заболеешь. Или вдруг захочется тебе обзавестись семьей? Верно я говорю?
— Почем я знаю?
— Мы, брат, люди. Понимаешь: лю-ди! А живем, как скоты. Спим в хлеву. Мало того, скотине прислуживаем. Верно я говорю? Какие же мы после этого люди! Когда-то и у нас был дом, виноградник, постель была. В общем, жили по-человечески, не то что сейчас. И в жизни, брат, мы знаем толк не хуже других, прожили бы ее как следует, будь у нас возможности.
— Ну что ты, Хыдыр! Разве можем мы жить, как они?
— Погоди! Скоро ты сам все поймешь, на собственном горьком опыте. Посмотрим тогда, сможет ли кто тебя здесь удержать. Придет время, и у тебя откроются глаза. Только надо ждать. Раньше времени зерно не прорастет… Ждать надо.
Они долго сидели так, не двигаясь. Перед глазами проносились мрачные воспоминания, пережитое… Неожиданно засвистел в свой свисток сторож Муса, и почти тотчас же, пошарив в темноте, их нащупал луч фонарика.
— Сулейман! Ты?
— Му-у-у-у! — промычал в ответ Хыдыр.
— Хыдыр? — спросил Муса.
— Му-у-у-у!
— Это ты, ты! Тебя-то я хорошо знаю. — Муса подошел ближе. — Так и есть. Когда же это вы появились?
— Лично я — тридцать два года назад, дядя Муса.
— Не смейся надо мной, сынок.
— Под вечер приехали, — ответил Халиль.
— Ты так шепелявишь, дядя Муса, что не понять, чего ты говоришь. Зубы надо вставить, — сказал Хыдыр, — тогда я тебя пойму.
— Хватит тебе шутить!
— Дядя Муса, — продолжал Хыдыр, — ты лучше скажи, чего людям от тебя надо. Знаешь, что про тебя болтают?
— Чего же еще болтают эти негодяи?
— Будто ты раз свистнешь, а после два часа спишь.
— Чушь несут. Сторожу я как положено: до самого утра хожу по деревне. Бывает, зуб на зуб не попадает от холода, а Муса все ходит и свистит.
— Будто ты не знаешь, какой у нас народ. Не приведи аллах на язык им попасться! Ладно бы еще говорили, что ты спишь, а то ведь жалуются, что храпишь больно громко.
— Это я храплю? Ну и врут, бессовестные! Да я не дышу, когда сплю. Ведь чего только не наплетут! И никто не задумается, есть ли в этой болтовне хоть крупица правды. Не слушай ты этих негодяев.
— Пусть себе болтают, дядя Муса, не переживай так. Скажи лучше, когда женишься.
— Пошли тебе аллах много деток! Это в мои-то годы?
— Так ведь все про это говорят.
Муса захихикал:
— Откуда на меня такое счастье свалится, откуда?
— А если бы свалилось, отказался бы?
— Как можно, родимый, от своего счастья отказываться?
— Вот и Шакал на днях свадьбу сыграет.
— Опомнись! Какой он тебе Шакал? Его теперь Львом величают. Неужто не слыхал? Да, был Шакалом — стал Львом…
— Когда же это?
— Нынче вечером Хасан-ага в кофейне объявил, что сделает из Шакала Льва.
— И сделает. С нашим умом его дел не понять.
Муса присел на корточки, поставив между ног винтовку.
— А винтовка у тебя что надо, системы «маузер»! Новая?
Муса рассмеялся, натянул веревку, служившую винтовке ремнем, и сказал:
— Какая там новая! Видишь, вместо ремня веревка болтается. За последние десять лет я из этой винтовки ни разу не пальнул. Недавно решил ее проверить, но выстрелить так и не удалось: патрон в патронник не вошел. Это старье, родные, все равно что пастуший рожок. Только про это никому ни слова, а то не миновать мне беды. Скажут, Муса непочтительно отзывается о казенном добре.
— Да про это и так все давным-давно знают.
— Знают? Кто знает?
— Все.
— Не может быть. Поклянись.
— Клянусь.
— Раз клянешься, значит, не врешь.
— Дети, и те про это болтают, дядя Муса.
— Да, брат, выходит, слова нельзя никому сказать. И куда только подевались настоящие мужчины? — Муса покачал головой и обратился к Халилю: — Видал, что творится?
— А знаешь, что еще болтают? Будто ты, когда нажимал на курок, с испугу глаза зажмурил, — не унимался Хыдыр.
— Совсем заврались.
— Так и говорят, я не выдумываю. Да, в деревне нашей, дядя Муса, совсем совесть потеряли.
— Неужели так и сказали, что зажмурился, а?
— Не только зажмурился, но еще и зубы стиснул.
— Ну и ну! Так ведь на весь мир ославят. Знаете Локмана, сына этой бедолаги Муаззез? Играл он как-то со своей сестричкой Миесэ, подбрасывал ее вверх. Подбрасывает и приговаривает: «Люблю Миесэ! Люблю Миесэ!» Так и зовут с тех пор Локмана: «Люблю Миесэ». Будто сговорились. И что им в этих словах? Твердят их да еще смеются.
— Повтори-ка, как говорят? — попросил Хыдыр.
— «Люблю Миесэ», говорят.
— Ну и дела!
— Ей-богу, так его и зовут. А Садыка, сына Кавалджи Хасана, знаете?
— Ну знаем, а что?
— Собрался как-то Садык пойти погулять, а отец ему: «Ты куды? Принеси-ка воды!» Люди слышали, вот теперь без конца и повторяют: «Ты куды? Принеси-ка воды!» А что в этих словах особенного?
Халиль с Хыдыром посмеивались.
— Вот она какая, наша деревня. Жил здесь один, Чандыр Мустафа звали, так тот вообще у людей с языка не сходил.
Хыдыр перестал улыбаться.
— Что, родной, за живое задело? — спросил Муса.
— Нет, дядя, — ответил Хыдыр, силясь улыбнуться.
— Ладно, ладно! Нечего от меня скрывать. Или ты думаешь, я ничего не знаю? Знаю, родной, все знаю. Что случится в деревне, мимо меня не пройдет.
Хыдыр опустил голову.
— Не надо про это, дядя, не растравляй душу.
— Почему это не надо? Увези ее — и делу конец!
— Прошу тебя, дядя, не говори про это.
— Ладно, ладно! — Муса полез в карман за свистком, свистнул несколько раз и сказал: — Это чтоб не подумали, будто Муса спит. Только не говори никому, а то опять на смех поднимут. Эх, друзья, сижу я с вами, сижу, а вы хоть бы сигареткой угостили. Как же это, а?
Хыдыр поспешно протянул Мусе пачку:
— Забыли мы, дядя. Не от жадности ведь. Ты уж не взыщи!
Муса взял сразу две сигареты.
— Одну про запас, — сказал он и повернулся к Халилю. — Ты, родной, словечко хотя бы вымолвил.
— О чем мне говорить, дядя?
— Ну, рассказал бы что-нибудь про армию. Мой сын как раз служит сейчас.
— Даст бог, и он скоро вернется.
— Доживу ли я до этого дня?
— Доживешь, дядя, непременно доживешь.
— Ох-ох! Бывало, как раз в это время года брал он свою борсую и ходил за зайцами.
— Не борсую, а борзую.
— А я что говорю? Я и говорю борсую.
— Борзую!
— Отстань! Как умею, так и говорю. Борсая — и все.
— Ладно, ладно. Пусть будет по-твоему, только не сердись.
— А ты меня не передразнивай!
— Что ты, дядя, разве ж я тебя передразниваю?
Муса стряхнул пепел с сигареты.
— Ну, — обратился он к Халилю, — службу ты отслужил, теперь жениться надо.
— Тебе не о чем больше говорить, дядя Муса?
— Ух ты! Или, может, стесняешься? Чего же тут стесняться? Ничего нет на свете лучше женитьбы! Ты на меня посмотри. Не ем, не пью — хочу скопить немного деньжат. А зачем? Да затем, чтобы моего Али женить, как только из армии вернется.
— Халилю еще рановато, — заметил Хыдыр.
— Чего там рановато! Самое время. Он и в армии отслужил.
Хыдыр призадумался.
— Ну, друзья, — сказал Муса вставая, — пойду-ка я в обход. — И зашагал прочь, свистя в свой свисток.
— У каждого, Халиль, свои заботы, — заговорил Хыдыр. — У Мусы — сын его, Али. Были бы у нас с тобой родители, они бы тоже о нас заботились.
— Не мучай ты себя, Хыдыр!
— А что мне мучиться?
— И то верно. Мучайся не мучайся — делу не поможешь. Главное — терпение. Подработаем, денег скопим и уведем твою Алие. Снимем домик, купим, что на первое время необходимо… За тебя, Хыдыр, я на смерть готов пойти. Я ведь теперь тебе самый верный друг. Рано или поздно, Алие будет твоей.
Хыдыр грустно усмехнулся:
— Скажем «аминь», что ли?
— Скажем, Хыдыр!
Глаза у Хыдыра заблестели, будто от слез. Поколебавшись, он сказал:
— Что-то я плохо соображаю. — И поднялся. Потом добавил. — На покой пора. В этом мире ничего мне больше не осталось. Хлеб, отпущенный на мою долю, я съел, воду — выпил. Рассчитывать больше не на что.
Все уже спали, когда пришел Али Осман.
— Сулейман! — окликнул он дремавшего сидя Сулеймана и легонько толкнул его в бок.
— Что?
— Спишь?
— Задремал.
Сулейман поднялся, протер глаза.
— Ты от Камбера пришел?
Али Осман кивнул.
— Ну что там? — зевая, спросил Сулейман.
— Да ничего хорошего.
— А всех хуже ребенку. Вот увидишь, Али Осман, не выдержит он у них. Ведь все в себе копит, каждое обидное слово.
— Камбер очень за него переживает. Никого у меня нет, говорит, кроме сына. А мы его вырастить как следует не можем, потому как мать свое же дитя не щадит.
— А в чем, собственно, ее вина, Али Осман? Она трудится не покладая рук, и днем и ночью.
— Ну а Камбер в чем провинился?
— Ей-богу не знаю. Но только между ними все время нелады. Вечно грызутся. И чего они между собой не поделили?
— Камбер во всем жену винит. Жалуется, что она его то и дело попрекает. У тебя, говорит, только и добра, что вшивое одеяло. Забирай его и проваливай!
— Да ну?
— То-то и оно. А хорошо так говорить?
— Чего же хорошего?
— Позвали они к себе Халиля и прямо за ужином чуть не передрались между собой.
— Вот это да! Про это я впервые слышу.
— Камбер со стыда готов провалиться. При госте, говорит, и то не удержалась, вконец меня опозорила. Говорит, а сам цигарку за цигаркой курит. Сколько лет мы с Камбером дружим, но таким я его еще ни разу не видел.
— Малого жалко. Он один за все страдает.
Али Осман залез на нары и, натягивая на себя волосяную попону, сказал:
— Спать пора. Завтра канаву будем рыть.
Сулейман закурил.
Уже за полночь, а Эмине все не спится. Прижавшись щекой к прохладной подушке, она думает о Халиле, пытаясь представить его себе, но никак не может. В памяти всплывают смутные очертания совершенно незнакомых ей лиц.
В ночном сумраке влажно поблескивает красная гвоздика. Она покачивается от легкого дуновения ветерка и все растет, растет, становится огромной и уже не умещается в воображении девушки. Но вот перед Эмине другая, давно знакомая гвоздика — цветок надежды, тот, который ей еще девочкой хотелось посадить подле домиков из песка. Гвоздика — это лицо и глаза прежней, маленькой Эмине. Гвоздика — это старая песня, далекая пора, воспоминания о которой навевают грусть. Гвоздика — на окне, гвоздика — в мечтах, гвоздика — в страданиях.
Отец с матерью крепко спят. Стараясь не разбудить брата, Эмине тихонько поднимается с постели, подходит к зеркальцу, висящему на стене. Долго всматривается в свое отражение, улыбается, склоняет набок голову, мысленно ведет разговор с Халилем, снова стараясь вспомнить его. Однако зеркало заполняется лицами, которых она никогда не видела. Но вот одно лицо вроде бы похоже на лицо Халиля, она наклоняется и, зажмурившись, целует его прямо в губы.
Халиль…
Девушка вытаскивает из сундука узелок с приданым, и вещи вдруг оживают в ее воображении, играя всеми красками. Эмине чувствует себя невестой.
Халиль…
Эмине повязывает голову своим любимым платком, черным с двумя ветками роз. Края обшиты кружочками из ленты солнечного цвета. Какая темень! Девушка подкручивает фитиль лампы и испуганно смотрит на мать и отца. Они крепко спят. И вдруг все будто стало чужим: и ночное безмолвие, и зеркало, и пустая постель… Тихо, едва слышным шепотом она произносит:
— Халиль!
Ремзи проснулся от запаха свежеиспеченного хлеба. В окне покачивалась веточка красной шелковицы. А на деревьях — воробьи, воробьи, воробьи… Сквозь листья виднелось пасмурное небо.
Стоя к Ремзи спиной, мать пекла лепешки. На огне лепешка румянилась, вспучивалась, края ее, обгорая, чернели. В воздухе аппетитно пахло. Вдыхая запах хлеба, воробьи чувствовали себя счастливыми и дружно чирикали. Ремзи не раз замечал: стоит в воздухе разлиться запаху хлеба, как со всех сторон слетаются воробьи. Они садятся у окон, на ближайших ветвях, на карнизах. Одни взъерошатся и чистят перышки, другие, пугливо озираясь, скачут с места на место. Воробей — бедняк. Оперение у него серо-бурое, не яркое и нарядное, как у иных птиц. Он не мечется по свету в поисках лучших мест, а проводит зиму и лето в родных краях. Ремзи жалел этих птиц, таких пугливых, что казалось, живут они в вечно враждебном им мире.
— Мама!
— Ты уже проснулся, сынок?
— Мама, почему птицы слетаются на запах хлеба?
— Птицы? Не знаю… Наверно, потому, что голодные.
— А если накрошить им хлеба, они будут есть?
— Конечно, будут.
Ремзи быстро встал, натянул штаны и, отломив кусок лепешки, выбежал во двор. Он раскрошил лепешку под деревом и отошел в сторонку.
Вот с ветки слетел воробей, схватил крошку и улетел. Вслед за ним прилетело еще несколько воробьев. Потом еще и еще. Ремзи смотрел на воробьев и радовался вместе с ними.
Умывшись, Ремзи сел завтракать, а после завтрака сунул под мышку учебники и побежал в школу.
Начальная школа Енидже ютилась в одной-единственной комнате. Два окна, черная доска, войлочная тряпка, несколько старых парт и один учитель — вот и всё на три класса. Первый класс сидел в первом ряду, второй — в середине, третий — у задней стены.
Биби-ходжа[10], высокий, худой учитель, единственный в Енидже носил брюки, а не шаровары. Он окончил сельский институт в Харуние, вернулся в деревню и теперь за нищенское жалованье делал все возможное и невозможное для обучения детей.
Собравшись до начала уроков на школьном дворе, дети играли вокруг тополя. Ремзи очень любил этот тополь. Другие ребята грелись на солнце. Ремзи подошел к ним и сел рядом. Его знобило. Положив книжки на колени, он стал дышать на руки, пытаясь их согреть.
— Учитель идет!
Дети, бросив игру, с шумом и гамом побежали в класс. Заскрипели парты, зашелестели тетради и книжки. Вошел учитель, и все встали.
— Здравствуйте, дети!
— Сагол![11]
Ни одно слово не выражает столько оттенков почтения и любви, как «сагол». Потому что каждый, произнося это приветствие, вкладывает в него то, что чувствует.
Учитель внимательно оглядел учеников.
— Сегодня все пришли?
— Все!
Учитель развернул сложенный вчетверо лист бумаги и кнопками прикрепил его к доске.
— Взгляните на эту картинку. На ней изображен трактор. С помощью трактора можно выполнять самые разнообразные сельскохозяйственные работы: и пахать, и сеять, и перевозить тяжести, словом, все, что хотите. Вам теперь надо хорошенько присматривать за нашими лошадьми и волами, потому что эта машина их не любит…
Дети зашушукались, а учитель отошел к окну и долго задумчиво смотрел на деревенские улицы. Потом повернулся к ученикам и стал опять рассказывать о машине, которая не любит лошадей и волов.
Часть вторая
СВАДЬБА. СМЕРТЬ. ЦВЕТЫ НАДЕЖДЫ
Давулджу[12] Расим — хлипкий, небольшого роста мужичонка с гноящимися глазами. Все его богатство — шелудивая кобыла, тележка и дородная жена. Без него не обходится ни одна свадьба. А когда не зовут на свадьбу, он вместе с женой развозит по деревням фрукты и овощи. Расима любят: ведь где он — там свадьба.
Пригласили Расима и на свадьбу Шакала Омара. Хоть и велено было величать Шакала по-новому — Львом, — почти все звали его, как прежде, — Шакалом.
— Сынок, — удивлялся Расим, — с чего это ты, бедняга, Львом заделался? Тебе и Шакалом неплохо жилось.
— Я здесь ни при чем, брат. Это хозяину захотелось меня на Льва переделать. Теперь не знаю, куда от насмешек деваться. Один кричит: «Хвост подбери!» Другой: «Отродясь таких львов не видал!» Боюсь, как бы не продели мне в нос кольцо и не стали по деревням водить напоказ. Я уж и сам не понимаю, кто я теперь. Но ничего не поделаешь — хозяйская воля.
— Эй, люди! — шумел Муса. — Поглядите на этого парня. Разве он похож на льва? Хотя чем черт не шутит! Ничего, скоро узнаем, на что он годится, лев он или шакал.
При последних словах Мусы кое-кто из гостей захихикал.
— Вам бы только зубы скалить! — вскипел Шакал. — Что у меня красная задница, что ли? Чего вы все хихикаете? Может, за человека меня не считаете?
— Побойся бога, Шакал Омар. Неужто пошутить нельзя? — сказал Алтындыш Золотой Зуб.
— Шутите себе на здоровье, только мне от ваших шуток уже тошно.
— Да мы, друг, не знаем, как быть. Ты лучше сам прямо скажи, как тебя величать — Шакалом или Львом?
— Ох, нет на вас управы, — рассмеялся Шакал. — Как хотите, так и зовите, только не насмехайтесь.
— Ладно, Лев Омар, ладно! — согласился Телли Ибрагим.
— Ладно, Шакал Омар, ладно! — подхватил Алтындыш.
Все опять загоготали.
— После первой брачной ночи выяснится, Лев он или не Лев, — сказал Муса. — Может, и Лев, чем черт не шутит?
— Да ну вас! — отмахнулся Шакал Омар и под общий хохот ушел.
Из толпы выскочил парень с длинной худой физиономией. Он осоловело щурился, глупо улыбался — видно, был основательно под хмельком.
— А ну, где мои друзья? — крикнул он, вынимая платок. И тотчас рядом выстроилось несколько молодых парней и взрослых мужчин.
— Эх, Якуб, орел! — закричал Давулджу Расим. — Кто бы у нас в Енидже водил халай[13] если бы не ты. — Расим с чувством ударил палочками по барабану и запел: — Хасан-гора, Хасан-гора, ты пристанище орла.
Якуб, приложив руку к уху, пошел легким мелким шагом…
— Это тот самый Якуб, сын Петуха Али, о котором я тебе недавно рассказывал, — повернулся Халиль к Хыдыру. Они стояли чуть поодаль.
Якуб был в деревне общим любимцем. В детстве Халиль завидовал ему, когда издали смотрел на игры взрослых парней, а потом, уже в армии, часто о нем вспоминал.
К друзьям подошел Шакал:
— Что это вы от всех ушли?
— А нам и здесь неплохо, Омар.
— Ведь сердцем мы с тобой, разве тебе этого мало?
— Спасибо! Верно. Мы же старые друзья.
— То-то и оно.
— Не попади мой отец к Хасан-аге, мы бы, как говорится, в одной упряжке ходили, так ведь?
— Что правда, то правда.
— Так что не стесняйтесь. Дядя Али Осман уже угощал вас сладостями?
— Спасибо, угощал, угощал.
— А ваш Сулейман прилип к бутылке — не оторвешь. Вот скотина, так и не отдал мне пятнадцать лир.
— Не трогай его, пускай пьет.
В своем темно-синем костюме Шакал чувствовал себя неловко. Он то поправлял воротник, то щелчком смахивал пылинки, приговаривая:
— К темному все липнет!
— Ты слыхал, наш Халиль будет участвовать в борьбе, — сказал Хыдыр.
— И правильно. Парень-то какой! Богатырь! Жаль, раньше не боролся.
— Там, где Абдуллах-аби, мне делать нечего, — возразил Халиль.
— Про Абдуллаха, дружище, речи нет. В этой громадине сто пятьдесят кило весу. Чего же с ним тягаться? Надо искать противника, равного тебе по силе.
— Конечно, только на равных, — поддакнул Хыдыр. — Это самое справедливое.
— Ну, братцы, я пошел, — сказал Омар. — Смотрите не скучайте!
— Иди, у тебя дел много. Счастливо!
Едва Шакал отошел, Хыдыр рассмеялся…
— Послушай, Хыдыр, я пошутил, а ты мои слова за чистую монету принял, — упрекнул его Халиль. — Ведь осрамлюсь!
— Ерунда! Ты, Халиль, молодой, а молодые должны все в жизни испытать.
Телли Ибрагим и его сын Мемед разложили неподалеку от танцующих свой товар — связки сахарного тростника.
Все вокруг веселились, заводили разные игры. Несколько человек напряженно смотрели на разложенные на солнце апельсины. На чей апельсин садилась муха, тому доставались апельсины всех остальных игроков. Чуть поодаль состязались, кто, крутанувшись на месте, ловче расколет сахарный тростник. Рядом, смачно чавкая, что-то жевали… И всюду дети, дети…
— Когда-то и я был мастер колоть тростник, — сказал Хыдыр, — а сейчас уже не могу. Крутанусь разок — голова кружится, мутить начинает.
Якуб кончил танцевать, остановился, вытер платком лоб и крикнул:
— Ну, кто хочет со мной помериться ловкостью?
Все молчали.
— Давай, Алтындыш, выходи!
— Ну что ты, Якуб! Где мне с тобой, молодым, тягаться.
Якуб самодовольно улыбнулся и посмотрел на Халиля:
— Тогда давай ты, Халиль! С поворота рассеку у стебля два колена. Играем на десять стеблей, идет?
— Подумаешь, два! — спокойно ответил Халиль.
— Секу с поворота три! — объявил Якуб.
Халиль, подумав, бросил:
— Секу четыре!
— Четыре? Значит, делаешь полный оборот и рассекаешь четыре верхних колена?
Халиль кивнул.
— Ладно, — сказал Якуб, — начинай!
Халиль выбрал стебель, очистил от листьев, заострил конец и с силой воткнул в землю. Вокруг собрались любопытные.
— Шутка ли, дорогой, с одного маху рассечь четыре колена? — покачал головой Алтындыш.
— Рассечет — дам ему десять стеблей тростника, не рассечет — пусть сам мне столько же отдает, — сказал Якуб.
— Халиль, ты бы скинул шинель, — посоветовал Хыдыр.
Халиль улыбнулся благодарной улыбкой, будто сам не догадался бы это сделать, и, сняв шинель, отдал ее Хыдыру. Затем, не мешкая, всадил нож в середину тростникового стебля. Подождав, пока тростник перестанет качаться, выдернул нож, затем, чуть подровняв стебель, вновь воткнул его в землю и замер в ожидании. Потом резко крутанулся на одной ноге, схватил нож и с криком: «Один, два, три… четыре!» — рассек стебель тростника до четвертого колена.
— Четыре! — эхом повторила толпа.
— Вот это да!
— Молодец!
У Хыдыра выступили слезы. Он как ребенок радовался за Халиля.
— Молодец, Халиль! Молодец, брат! Молодец!
Лицо Халиля покрылось испариной. Он по-мальчишески улыбнулся Хыдыру, накинул на плечи шинель и сказал:
— Ибрагим-аби! Тростник, который я выиграл, разделите между гостями, пусть все полакомятся.
Якуб пожал руку Халилю.
— Молодчина, Халиль! Не думал, что ты такой ловкий и сильный.
— Сагол, брат! — ответил Халиль.
Похвала Якуба, видно, приободрила его еще больше.
Во дворе Мамед-аги перед началом борьбы проводились петушиные бои. Из кофейни Сабри притащили стулья для почетных гостей — старейшин деревни и их сыновей. Позади толпились их подлипалы и прихвостни. А напротив стеной стояли крестьяне. Бились петухи Дурмуш-аги и его племянника Дурду.
Батраки Дурмуш-аги — Али Осман, Халиль, Мухиттин, Хыдыр, Сулейман — тоже были здесь. Только Дервиш не пришел: была его очередь приглядывать за скотиной в хлеву. Сторож Муса с винтовкой за плечом едва сдерживал напиравшую толпу.
— Подайтесь назад, родимые, ну хоть немножко, чтобы и другим видно было! — без конца повторял он.
Как только белый петух Дурмуш-аги обратил в бегство петуха Дурду, на середину двора вышел Давулджу Расим и ударил в барабан. Он играл и танцы и песни, приводя людей в восхищение. В стороне двое мальчиков готовились открыть состязание борцов.
Вдруг толпа расступилась. Коджа Абдуллах швырнул пиджак в одну сторону, картуз — в другую и вышел на середину.
— Ге-е-ей! Дрожи, народ! С гор спустился тигр — Коджа Абдуллах! Кто рискнет померяться со мной силой — выходи!
— Этот «тигр», кажется, здорово нализался, — шепнул Дурмуш-ага своему племяннику Дурду.
Вскоре и остальные заметили, что Абдуллах пьян. Паша[14] Мустафа, собравшийся было побороться с Абдуллахом, сказал:
— Не стану я бороться с пьяным.
— Эй, Абдуллах! — крикнул, привстав со своего места, Дурду. — Ты рано вышел. Ведь еще дети не боролись.
— Не все ли равно, хозяин, раньше или позже? — ответил Абдуллах. — Джигит всегда и везде джигит: на суше, и в воде, и даже в воздухе. Ну, кому собственная шкура не дорога? Выходи! Повыкручиваю руки, а потом голову оторву. Пожалеет, что мать его на свет родила!
В ответ раздались приглушенные смешки. Надувшись, Абдуллах топтался на площадке, словно петух, то колотя себя по коленям, то становясь в борцовскую стойку.
— Эх! — подосадовал Сулейман. — Дал бы мне аллах силенок, я бы сейчас вышел и сказал: «А ну-ка, скотина, подойди!» Подмял бы этого болвана под себя, расквасил бы ему нос и всю его поганую морду! Посмотрели бы вы, как он стал бы после этого задаваться!
Между тем Абдуллах подошел к толпе бедноты, схватил за руку Кавалджи Хасана и швырнул его, словно мешок, на землю.
— Спасите, люди! Ей-богу, этот зверь меня убьет, — заорал Кавалджи и, вскочив, пустился наутек.
— Куда?! Стой! — взревел Абдуллах.
Но Кавалджи побежал еще быстрее. Абдуллах за ним. Народ покатывался со смеху. Наконец Кавалджи удалось скрыться в толпе. Абдуллах продолжал его искать. Люди расступились перед пьяным громилой. Только Хыдыр и его товарищи не двинулись с места. Тяжело дыша, Хыдыр в бешенстве произнес:
— Душить таких гадов надо! Глотки им резать!
Он сунул руку в карман и нащупал рукоятку кинжала.
— Пусть только подойдет — убью!
— Да не связывайся ты с ним, — вмешался Али Осман. — Подлец получит свое от аллаха! Чей хлеб жрет, за того и глотку дерет. Был у Дурду верным псом, а сейчас — Эмин-аге прислуживает. Измывается, ох как измывается он над беднотой!
— Такой ни в бога, ни в черта не верит, — сказал Хыдыр.
Тем временем Абдуллах пристал к Давулджу Расиму, который едва доставал ему до подмышек.
— Играй, Расим, играй как следует! Так, чтобы трус смелым стал!
Расим кивал головой и изо всех сил колотил в барабан.
— Громче! — кричал Абдуллах. — Еще громче!
Расим, наученный горьким опытом, нещадно бил в барабан, не спуская с Абдуллаха испуганных глаз. Ведь был же случай, тоже на свадьбе, когда один пьяный, разозлившись на Расима, прокусил ему ухо.
— Ну что, так и не нашлось смельчака, а? — выкрикнул Абдуллах.
Толпа глухо зашумела, всем надоело его бахвальство. Хыдыр в ярости стиснул зубы. Халиль побледнел.
— Дал бы аллах силы, — сказал Сулейман, — проломил бы подлецу его дурацкую башку. Да куда мне теперь. Я уж совсем одряхлел!
От досады и гнева Сулеймана прошибла слеза, и он начал протискиваться сквозь толпу. Али Осман схватил его за руку:
— Ты куда?
— Отстань, Али Осман! Не могу видеть эту сволочь, лучше уйду! — И Сулейман быстро зашагал к усадьбе.
— Чую, дьявол меня подбивает, так и нашептывает: выходи и умри или прикончи этого подлеца! — сказал Халиль.
— Не вздумай, — остановил его Хыдыр. — Этот дуболом тебя изуродует.
— Не горячись, — успокаивал Халиля Али Осман. — Он, скотина, нализался. Чего доброго, покалечит тебя. У него ведь ни стыда, ни совести.
Халиль опустил голову.
Абдуллах снова хлопнул себя по коленям и, оглядевшись по сторонам, заорал:
— Трусы несчастные! В целой деревне некому со мной побороться! Передохли вы все, что ли? Паша Мустафа, где же ты, сынок? А где Джемаль-ага? Где Пар-тош Ахмед?
Те, чьи имена назвал Абдуллах, чертыхаясь, заерзали на своих местах, но на площадку выйти не отважились.
— Эй, Расим! Почему никто не хочет со мной бороться? — орал Абдуллах.
— Ты у нас орел, один такой на весь Юрегир, кому с тобой тягаться?
Абдуллах схватил Расима за плечи.
— Пощади, братец, не тронь, — взмолился Расим. — Я против тебя — воробей, да и к тому же хворый, ей-богу, хворый.
— Хворый? Да ты здоров как бык.
— Ей-богу, хворый я. Голова болит, живот болит, все болит…
Дыша на Расима винным перегаром, Абдуллах уставился на него, словно собирался проглотить, и с такой силой стиснул ему плечи, что у Расима стали неметь руки. Он попытался вырваться, но не смог и пальцем шевельнуть. А Абдуллах упорно вглядывался ему в лицо, грозно вращая налитыми кровью глазами.
— От твоей занудной игры у людей пропала всякая охота бороться. За это придется тебе самому со мной схватиться.
— Побойся бога, Абдуллах! Не надо! Ведь ты меня убьешь! Я от ветра качаюсь, а ты — богатырь!
— Нечего прикидываться! Ты вон какой кряжистый! — Абдуллах схватил Расима и приподнял над головой. Барабан болтался, колотя Расима по животу, а сам Расим отчаянно барахтался в воздухе. Смотреть на него было и жалко, и смешно.
— За что ты меня так, Абдуллах! — кричал Расим. — Пощади, брат! Ой, поясница! Ой, живот!
— Молчи! — ревел Абдуллах.
— Отпусти меня, сынок! Я в отцы тебе гожусь. Эй, люди! Неужто нет среди вас ни одного мусульманина?
Рассевшиеся на стульях богатые гости покатывались со смеху.
— Спасите, братья!
— Сделаешь, что я тебе прикажу, — отпущу, — сказал наконец Абдуллах. — А не сделаешь — пеняй на себя: буду тебя так держать, пока не издохнешь.
— Приказывай ради бога! Все сделаю!
— Ну-ка закричи по-ослиному, — приказал Абдуллах. Расим поднатужился и закричал.
— Громче! Хозяева не слышали.
Расим опять закричал, на этот раз хриплым, срывающимся голосом, в котором слышались слезы. Абдуллах, в восторге от собственной выдумки, ликующе посмотрел на зашедшихся от смеха хозяев.
— Ей-богу, из тебя выйдет отличный осел. Ну а теперь полай по-собачьи!
Расим залаял и, словно собака, которой наступили на хвост, жалобно заскулил:
— Хватит, брат мой Абдуллах, прошу тебя, смилуйся!
Весь синий от натуги, он с мольбой поглядел на хозяев. Но те продолжали надрываться от смеха, хотя на Расима сейчас нельзя было смотреть без жалости.
Наконец Абдуллах разжал руки. Бедняга плюхнулся на землю и тотчас вскочил, чтобы побыстрее убежать. Но Абдуллах снова схватил его и с такой силой рванул к себе, что барабан откатился в сторону.
— Погоди малость, с тобой еще не покончено. — Абдуллах повалил Расима и уселся ему на живот.
— Не надо, Абдуллах, Хочешь — ноги твои буду целовать. Болен я, ей-богу. Что хочешь сделаю, только отпусти. Больно мне, сынок. Я старый… Ой, мама, задыхаюсь! Хозяева, спасите! Пятки вам целовать стану! Бинназ! Беги сюда, мужа твоего убивают!
Друг Расима, зурнач, побежал за его женой, которая в это время играла на дарбуке [15] и пела вместе с остальными женщинами.
— Умираю я, задыхаюсь! — стонал Расим.
Внезапно смешки и перешептывания смолкли. В наступившей тишине прогремел голос Халиля:
— Оставь его! Слышишь? Хватит издеваться! Хочешь бороться — я готов!
Халиль стоял на площадке, бледный от гнева. Все затаили дыхание. Хыдыр, сжав в кармане рукоятку кинжала, следил за происходящим. Абдуллах слез с Расима и выпрямился. Расим продолжал лежать на земле, корчась и плача.
— Позор на твою голову, Абдуллах! Настоящий мужчина никогда такое себе не позволит!
— А ты кто такой?
— Не твое дело!
— От тебя, сынок, навозом несет, хлевом. Чей ты батрак?
Халиль сжал кулаки и шагнул к Абдуллаху.
— Хочешь бороться — давай!
— Но от тебя, сынок, навозом разит!
Тут вмешался Дурмуш-ага.
— Пошутил, и хватит, — крикнул он. — Ты хотел бороться? Вот тебе противник. Борись. Эй, Халиль! Раз уж ты такой храбрый, повали эту рухлядь, не то я сам тебя на лопатки положу да еще сверху сяду.
Раздался дружный смех.
— Значит, ты батрак Дурмуш-аги? — продолжал издеваться Абдуллах. — Наверно, телят у него пасешь?
Ничто не приводило Халиля в такое бешенство, как унижение, и теперь он просто рвался в бой.
— Раз уж ты так надеешься на свое толстое брюхо, давай потягаемся.
— Этот зверюга искалечит Халиля… — дрожащим голосом пробормотал Али Осман.
Хыдыр шагнул вперед:
— Держись, Халиль! Стой насмерть! Придави этого болвана! Этого подлеца! Пусть только попробует тебя изуродовать — я его прикончу!
Люди пришли в возбуждение, зашумели. К площади приковылял на своих костылях и Длинный Махмуд.
— А ну, Халиль, покажи ему!
— И за меня отомсти, — кричал Кавалджи Хасан. — Дай ему как следует! Пусть знает.
— И за меня отомсти!
— И за меня!
— И за детей наших!
У Махмуда навернулись на глаза слезы. Али Осман хлопал в ладоши и приговаривал:
— Давай, родной, всыпь ему хорошенько!
Эти крики подбадривали Халиля, вселяли в него уверенность, трогали до слез. Впервые в жизни он почувствовал, что его здесь искренне любят.
Абдуллах деланно рассмеялся:
— Еще, чего доброго, возомнишь, будто и в самом деле на что-то годишься.
— Хватить трепаться! Начинай!
— А вдруг я тебе кости переломаю? Ведь ты мне до колена не достаешь, а еще в пехливаны лезешь. Знаешь, кто я такой?
— Мерзавец ты, вот кто!
— Да я тебя одной рукой сомну! — вскипел Абдуллах и ринулся на Халиля.
— Какой же ты мужчина, если надругался над хворым?! — выкрикнул Халиль.
Абдуллах продолжал наступать, твердя:
— А ну подойди, подойди сюда!
Неожиданно Халиль кинулся на Абдуллаха и боднул его головой в живот.
Под радостное улюлюканье толпы верзила, не успев опомниться, повалился на землю, вскочил, но Халиль снова сбил его с ног.
— Ты смотри… надо же… — сконфуженно пробормотал Абдуллах.
Он попытался схватить Халиля двумя руками. Халиль увернулся и, прыгая перед Абдуллахом, норовил нанести удар в наиболее уязвимое место.
— Ох, я тебе сейчас покажу! — рычал Абдуллах.
В это время на площадку выскочила жена Давулджу Расима и вонзила складной нож в огромный, выпяченный зад Абдуллаха.
— Убивают! — взвыл Абдуллах и, обернувшись, увидел полную отчаянной решимости женщину с ножом в руке. — Убивают! — еще громче завопил он.
Женщина замахнулась, целясь ему в лицо. Абдуллах отшатнулся и побежал прочь. Женщина гналась за ним, крича:
— Дерьмом вымажу твою поганую рожу! И рожу, и еще кое-что!
Абдуллах врезался в толпу. Люди надрывались от хохота, но Абдуллаху было не до шуток.
— Спасите! — вопил он. — Баба совсем взбесилась, убить может!
Бежал он грузно, неуклюже, то и дело оглядываясь. Бинназ догнала его и еще два раза пырнула ножом в зад.
— Убивают! Ой, убивают!
Поняв, что дело принимает серьезный оборот, все вокруг стали упрашивать Бинназ:
— Оставь его, сестра, беду на свою голову накличешь, в тюрьму угодишь, — говорили одни.
— Ну, пошутил он, подумаешь, какое дело, — вторили им другие.
Но Бинназ орала дурным голосом:
— Убью! Отрежу ему… Пусть знает, как над слабым измываться!
— Ну, пошутил он, родная, пошутил, — успокаивал женщину сторож Муса.
— Да разве так шутят? Хороши шутки!
Коджа Абдуллах лежал на земле, растянувшись во весь рост, и плакал, причитая:
— Мама! Мамочка! Убили меня! Нет больше твоего сына-орла.
— Чего размычался, как бык? Чего глотку дерешь? — цыкнул на него подошедший Дурмуш-ага.
— Убили меня, хозяин, убили.
Абдуллаху спустили штаны. На ягодицах виднелись три небольшие ранки.
— Из-за каких-то царапин такой вой поднимать?! — обозлился Дурду-ага.
— Позовите мою мать. Скажите, что убили ее орла. Хочу глянуть на нее в последний раз. И Биби-ходжу позовите, пусть отходную прочтет.
— Давай-ка лучше посыплем твои ранки табаком, кровь остановим, — предложил Муса.
Нашли табак, стали присыпать ранки. Абдуллах снова завопил.
— Ну и сопля же ты! С виду богатырь, а на деле… — И Дурду-ага в сердцах плюнул на землю.
— Зарезали меня, ага. Жив останусь — на виселицу отправлю дрянную бабу. Подумать только, на кого руку подняла! Бедная моя мама, — хлюпая носом, кричал Абдуллах. — Кто мог подумать, что твоего орла прирежут?!
— Уберите отсюда этого слюнтяя! Уведите его с глаз долой! — обратился к людям Дурмуш-ага.
Абдуллаха подняли, взяли под руки и повели прочь. Увёли и Бинназ. К Дурмуш-аге подбежал растерянный Давулджу Расим.
— Помоги, хозяин! Жену уводят.
— Ну и что! Она уже в годах, никто на нее не польстится. Что тебе бояться?
— Да не того я боюсь, хозяин, не того, видит бог. Но ведь уводят ее, уводят…
— Не бойся. Ничего ей не сделают.
— Да я не того боюсь, не того.
— Знаешь что, катись-ка ты отсюда вместе со своей вонючей женой!.. Сказал я тебе, никому она не нужна. Не видишь что ли — ее ведут к остальным женщинам. А ты лучше играй на своем барабане.
— Что же с моей женой-то будет?
— Да ничего с ней не будет. Играй.
— Но ее же увели…
— Ну до чего ж тупой, чистый цыган! И что у тебя за дурья башка! Играй, говорю, а то велю твою шкуру на барабан натянуть.
— Ладно, хозяин! — понурившись, ответил Расим и ударил в барабан.
Снова все пошло своим чередом. Дети с нетерпением ждали, когда их наконец позовут бороться. Вдруг к Дурмуш-аге подбежал сторож Муса.
— Слушай, хозяин, уйми ты эту бабу. Совсем спятила, в участок собралась, к жандармам.
— Кто?
— Мать Абдуллаха. Я ей и так и сяк — слушать ничего не желает.
— Эй, люди, — крикнул Дурмуш-ага, — хватайте ее, держите!
Люди загородили женщине дорогу, но она протискивалась сквозь толпу, выкрикивая:
— Я найду управу! Есть правительство, есть жандармы…
— Ох, пропали мы! — сокрушенно протянул Расим и перестал бить в барабан.
Зурнач тупо уставился на него:
— Значит, засадят твою жену?
— То-то и оно.
Дурмуш-ага и Дурду пошли к дому Абдуллаха, за ними потянулись их батраки. Расим плелся позади всех.
Дом у Абдуллаха был кирпичный, хотя и состоял всего из одной комнаты. Абдуллах лежал на животе. Подле него сидел толстобрюхий Эмин-ага и учил его уму-разуму:
— Сын мой, орел мой, и не стыдно тебе? Мало того, что женщины испугался, так еще и нюни при ней распустил! Зад ему малость поцарапали, а он орет, будто его зарезали! Я думал, ты мужчина, а ты…
В комнате стоял удушливый запах дыма.
— Будь передо мной мужчина, — оправдывался Абдуллах, — я бы его пополам разорвал. Ей-богу! Распотрошил бы, как курицу. А на женщину рука не поднялась.
— Заткнись! — рассердился Эмин-ага. — Вся деревня теперь знает, кто ты есть! Так что лучше помолчи!
В комнату влетела мать Абдуллаха, истошно крича:
— Не пустили меня, сынок, не пустили. Вся деревня встала на защиту того дурня.
— Что же ты за мать? Сына твоего чуть не зарезали, а ты пойти куда надо не можешь!
— Говорю тебе, не пустили меня, дорогу загородили.
— Сядь и замолчи! — прикрикнул на нее Эмин-ага.
Снаружи послышался шум. Дверь отворилась, и в дом вошли Дурмуш-ага и Дурду.
— Эй, Абдуллах! — сказал Дурду. — Выходит, вы с матерью сговорились нашу деревню опозорить? Прежде ты на людей страх нагонял, а теперь что о тебе скажут?!
— Эмин, — сказал Дурмуш-ага, — растолкуй ты этому болвану что к чему.
— Меня ж ножом пырнули, хозяин. И кто?! Баба! Только потому я и отступил. Влепи я ей — проходу бы мне не было.
— Сам подумай, — заговорил Эмин-ага. — Посылаешь ты мать за жандармами. Ну приходят они, а ты жалуешься: «Меня баба три раза кольнула детским ножиком в мягкое место». Они ж со смеху лопнут — вот и все. А ты за свое бесстыдство полгода тюрьмы схлопочешь. Жандармы — они с ходу во всем разберутся.
— Все равно я этого дела так не оставлю, жаловаться буду, — не унимался Абдуллах.
— Полежишь день-другой, и от твоих царапин следа не останется, — уговаривал его Эмин-ага. — Так что незачем зря шум поднимать.
На пороге показался Шакал, бледный как полотно.
— Абдуллах, братец, — взмолился он, — сжалься, свадьба ведь! Давулджу уходить хочет…
— Позор на твою голову, Абдуллах, ей-богу позор! — воскликнул Дурду.
— Отступись, — посоветовал Эмин-ага, — не жалуйся.
После короткой паузы Абдуллах сказал:
— Ладно, только при одном условии.
— Какое еще условие?
— Пусть даст мне пятьдесят лир, не то…
— Тьфу! Да проклянет тебя аллах! — вышел из себя Дурмуш-ага.
— Пропади ты пропадом! — крикнул Дурду.
— Так и плюнул бы тебе в рожу! Да разве ты человек после этого? — возмутился Эмин-ага.
— Ладно, подлец, — сказал Дурмуш-ага, — иди жалуйся! Мы с тобой по-хорошему, а ты не понимаешь. Да ты знаешь, что полагается за издевательство над человеком в общественном месте, у всех на виду? За такое в тюрьму сажают на полгода, а то и больше. Верно я говорю, люди?
— Верно, — отозвался Муса.
— Давайте позовем старосту и у него спросим, — предложил Дурду.
— Я сын ходжи, — заявил Эмин-ага, — и в подобных делах разбираюсь. Аллах на Страшном суде признает Абдуллаха виновным. Это уж точно.
— Пусть хоть десять лир даст, — промямлил Абдуллах. — Я вон сколько крови потерял.
— Да если бы в твоих жилах текла кровь настоящего мужчины, ты бы об этом промолчал! Эй, Расим! Бей в барабан, ничего не бойся! Если что случится, я буду в ответе. Слово даю!
Собравшаяся у дома Абдуллаха толпа расступилась, пропуская богачей.
Вскоре после свадьбы начались благодатные юрегирские дожди. Желтые дороги раскисли от грязи, крыши намокли.
Сильные, обильные льют дожди… дожди… Это грязь на пашне. Это тесто в квашне. Льют дожди, стучатся в окна. Льют дожди, шумят дожди…
Однажды, как обычно в это время года, в деревню явились заклинатели дождя — ягмурджу. Молодой парень, напялив свою одежду на чучело, полуголый вышагивал под дождем. С чучела, которое он держал высоко над головой, стекала вода. За парнем шли женщина и мужчина. С пояса женщины свисало множество мешочков. Такими же мешочками были увешаны ее руки. Немолодой мужчина нёс жестяную коробку из-под постного масла. За троицей ягмурджу тянулась деревенская детвора, и все хором распевали песенку о дожде:
Дети… Босые и обутые, одетые и полуголые, сопливые и с чистыми личиками. Вторя заклинателям, они самозабвенно распевают на все голоса песенку о дожде. Дождь для них — радость, дождь для них — праздник. Сегодня они не ссорятся, каждый рад поделиться с другом, чем может.
Первый дождь приносит земле влагу, а детям — счастье. Дети веселы, даже те, что босы, даже те, что в лохмотьях. Лица их светятся восторгом, потому что дождик нынче не простой, не обыкновенный.
Ягмурджу ходят от дома к дому. Останавливаются у порога, поют. Кто-то плеснул на полуголого ягмурджу водой из ведра — чтобы дождь принес людям благодать. Парень улыбается, будто так и надо, сверкает белоснежными зубами. Вода стекает с его волос на лицо, разлетается в брызги на губах. Крестьяне одаривают ягмурджу: кто — маслом, кто — булгуром, кто — яйцами, кто — поношенной одеждой. Дождик льет и льет. А ягмурджу и дети поют себе как ни в чем не бывало. Увязнут в грязи — поют, споткнутся — поют. Упадут — все равно поют.
Прогремит в небе гром — дождь польет еще пуще. Льет, льет, льет… Ягмурджу как пришли, так и уходят — с песней, с дождем. Грустно становится детям: жаль расставаться с ягмурджу, а они уходят все дальше и дальше, песня все глуше и глуше. Она сливается с шумом дождя. Дождь все сильнее, капли крупнее. С печальными глазами, с замершей на губах песней, песней о дожде, стоят дети на краю деревни. Теперь они будут долго ждать первых дождей в новом году.
Дождевая вода заполнила до краев овраг, похожий на гигантский глаз. Это событие заметно оживило скучную жизнь деревни. Особенно радовалась детвора, у которой теперь появилось свое, «юрегирское море».
Волны, хоть и небольшие, не просто взбегают на берег, а, пенясь, разбиваются о него. Вместе с пеной к берегу прибивает соломинки, ветки, мертвых птиц, дырявые шлепанцы, размокшие бумажные кораблики, — ну совсем как на всамделишном море. Пресное, без разноцветных раковин на берегу, без прячущихся под камнями крабов, без запаха водорослей, в детском воображении оно все равно самое бурное на свете, а волны его — самые грозные.
Сразу же после школы дети мчались к оврагу и как зачарованные, не отрываясь смотрели на свое море. Они привязались к нему всей душой. Чем выше поднимались волны, чем сильнее пенились они у берега, тем большая радость переполняла детей. Они слушали, как шумит море, вдыхали его запах и млели от счастья.
Мы, взрослые, часто обрекаем детей на однообразную жизнь в четырех стенах дома или двора, и, когда им удается почувствовать ширь и красоту природы, радость не умещается в их сердцах и льет через край.
Ремзи жилось дома, пожалуй, тяжелее, чем остальным детям. Поэтому «юрегирское море», свинцовая воздушная бездна над ним, тучи, волны — все это переносило его в новый мир. Погружаясь в царившее здесь безмолвие, Ремзи забывал о своих заботах и горестях и чувствовал себя почти счастливым.
Мальчика вконец извели вечные ссоры родителей, постоянные скандалы и слезы. То отец бил мать и гнал ее из дому, а она, как побитая собака, просила прощения, то мать начинала кричать на отца: «Бери свое вшивое одеяло и убирайся на все четыре стороны!»
Ремзи жалел их обоих, хотел, чтобы они жили мирно, но без драки и дня не проходило. И Ремзи понял, что мать с отцом никогда не любили и не полюбят друг друга. А он любил их обоих. Сколько он выстрадал, сколько выплакал слез, стараясь найти какой-нибудь выход!
Те редкие дни, когда мать с отцом не ссорились, были для Ремзи самыми счастливыми, и он готов был прыгать от радости. Ради мира в семье мальчик пускался на хитрости. Скажет мать об отце доброе слово — Ремзи непременно передаст это отцу, да еще и приукрасит, А как он ликовал, когда замечал после этого в глазах у родителей радостный блеск! Но вскоре вспыхивала новая ссора, разбивая все радужные надежды Ремзи.
Особенно часто родители ссорились зимой, когда отец проводил дома целых четыре месяца. Ремзи верил, что и мать, и отец — оба хорошие люди, даже трудно сказать, кто из них лучше. Изредка, когда дома все было ладно, отец сажал сына к себе на колени, говорил, что и для них наступят счастливые дни, и, целуя сына, обдавал его запахом табака и земли, больно сжимал шершавыми волосатыми пальцами. Эти ласки вызывали у Ремзи странное чувство. Прижимаясь к отцу и целуя его, Ремзи знал, что глаза отца недолго будут оставаться такими улыбчивыми, добрыми и счастливыми, что скоро они опять помутнеют от тоски и злости. Отыскать бы такой край, где всегда пахнет хлебом с хрустящей корочкой, где много воробьев, а родители живут дружно!
Сумерки заботливо окутали все, что было детям дорого. Ребята нехотя расходились по домам. Жаль было расставаться с озером. Нет, не озером! Там, под пасмурным небом, оставалось настоящее бурное море, единственная их радость.
Ушел и Ремзи. Возле дома остановился, входить не хотелось. Казалось, только переступи порог — задохнешься. Все здесь вызывало уныние: тусклый свет в окнах, одинокая шелковица во дворе, мокрые стены… Ремзи толкнул дверь ногой и вошел.
— Наконец-то ты вернулся, — обрадовалась мать. Она, нагнувшись, раздувала огонь в очаге и, увидев сына, распрямилась.
— Отец не приходил?
— Чтоб он пропал, твой отец! Разве он явится так рано?!
Ремзи был уже не рад, что спросил. Он опустился на колени и начал раздувать огонь. Пока он дул, на лежавшем с краю кизяке распускалась ярко-красная роза, переставал дуть — роза исчезала, а на ее месте появлялся дрожащий налет пепла, голубыми струйками вился дымок. В комнате пахло тлеющим кизяком. Вскоре огонь начал весело потрескивать, бросая розоватые отблески на лицо мальчика. Ремзи обернулся к матери.
— Мама!
— Что, сладкий мой?
— Почему мы такие бедные?
Ребиш подняла голову.
— Почему бедные? Потому, что нас такими создал аллах. Зато на том свете будем богатыми. Кто на этом свете бедный, на том свете богатый. Так уж в мире устроено. А почему ты вдруг спросил об этом?
— Просто так. Сам не знаю почему.
— Есть хочешь?
Ремзи не ответил, а потом, помолчав, снова спросил: — Папа нынче не придет?
— Кто его знает? Разве твой отец, как другие мужья, спешит вечером домой?
Ремзи подошел к окну и приоткрыл ставни.
— Холоду напустишь!
Ремзи закрыл ставни и отвернулся от окна. Тусклый свет лампы, запах кизяка, подгоревшего хлеба, огонь в очаге, ворчливая мать… Сегодня она непременно затеет ссору с отцом. Как все это надоело!
Он сел у очага.
— Отец называется! — ворчала Ребиш.
Сделав вид, что он не расслышал, Ремзи сказал: — А меня сегодня к доске вызывали.
— Настоящий отец о своем доме думает, о ребенке…
— Я на все вопросы ответил. Учитель меня похвалил. Сказал: «Молодец, сынок!» Потом положил мне руку на голову и сделал вот так… — Ремзи погладил мать по голове.
— Поешь, проголодался ведь!
— Давай папу подождем.
— Не придет он.
— Ну подождем немножко.
— Мало на свете таких бессердечных людей, как твой отец. Ох, горе на мою голову!
Послышались шаги. Ремзи с криком: «Папа!» — побежал открывать дверь. Камбер вошел, еле переставляя ноги, попыхивая цигаркой. Он выглядел усталым и разбитым, словно весь день таскал камни. Он молча обнял и поцеловал сына. Поцеловал так, будто надолго прощался.
— Дверь прикрой! — крикнула Ребиш.
Камбер прикрыл дверь, разулся, снял носки.
— Ребенок с голоду помирает. Ждет отца, чтобы вместе поужинать. А отец ему и не улыбнется. Порядочные люди о доме заботятся, о детях думают. Уж как ты ко мне относишься, и не говорю — знаю, что давным-давно обузой для тебя стала и нужна тебе как прошлогодний снег.
Камбер, не отвечая жене, сел к очагу. Ремзи устроился у него на коленях и, грея у огня руки, сказал:
— А меня сегодня к доске вызывали.
— Вот и хорошо.
— Я на все вопросы ответил.
— Молодец!
Было ясно, что Камбер чем-то расстроен. Ребиш расстелила на полу скатерть, поставила еду и сказала:
— Иди жри! Чтоб ты подавился!
Камбер опустился на пол, поджал под себя ноги. Рядом сел Ремзи.
— Где тебя носит? — продолжала пилить Камбера Ребиш. — Хоть бы предупредил. Вот-вот ятсы [16] начнется. Наказание божье, а не человек! Домой тебя не тянет? Так бы и сказал! И сама вижу, не слепая. Надоели мы тебе, опротивели! Бессовестный, бога бы побоялся! Что мы тебе плохого сделали? Почему ты нас ненавидишь! Чего тебе от нас надо? Накажет, ох как накажет тебя аллах!
Камбер тяжело вздохнул, покачал головой, хотел что-то сказать, пошевелил губами, но передумал.
— Говори, говори! Чего стесняться! Опротивели мы тебе, да? Говори, не бойся!
Одним своим видом Камбер вызывал в Ребиш ненависть и отвращение. Ей не терпелось поскандалить с мужем, а он, как нарочно, молчал. Злость ее усиливалась голодом, который нечем было утолить.
— И все потому, что я честная! Потаскух больше любят. Но раз честность моя никому не нужна, раз она куруша медного не стоит, стану и я потаскухой!
Кусок застрял в горле у Камбера, и он в упор посмотрел на Ребиш.
— Чего уставился? Проглотить меня хочешь?
Камбер медленно поднялся на ноги. Ремзи умоляюще смотрел на мать.
— Ах ты, подлый змей! — завопила Ребиш.
— Что-то не хочется есть, — с трудом произнес Камбер, и глаза его наполнились слезами. — Час назад умер наш Хыдыр.
Хыдыра, как принято, раздели догола, подвязали подбородок, скрепили ниткой большие пальцы ног и накрыли мешковиной. У изголовья покойника стоял Халиль и курил.
Скорбь, казалось, была во всем: и в лицах людей, и в том, как мулы машут хвостами, а коровы жуют свою жвачку, и в тусклом свете фонаря — будто всем им Хыдыр был другом.
Еще каких-нибудь два часа назад в этом мире жил тот самый Хыдыр, который был добр и заботлив, который забывал о себе, думая о других. В сердце, прятавшемся между больными легкими, пылала любовь к людям. Но в необъятном мире не нашлось места для Хыдыра, для крохотной песчинки на бескрайней земле. И он ушел из жизни, унося с собой свою обиду.
— Пробьет наш час, и мы уйдем — такими же нищими и беззащитными, как он, — сказал Али Осман. — Да, дети мои, мир наш жесток и безжалостен!
Сулейман осунулся, он походил на столетнего старика: сгорбился, лицо сморщилось и приобрело болезненно-бледный оттенок. Он будто на полвека постарел. Погруженный в мрачное раздумье, он сиротливо сидел, привалившись к столу, как будто в нем одном была его опора…
Казалось, все нити, связывавшие Халиля с жизнью, оборвались, и он повис в пустоте. Ушел из жизни его единственный друг, остались только безысходность и одиночество. Еще недавно Хыдыр ходил, разговаривал, любил, и вдруг ушел навсегда и унес с собой частичку Халиля. Неожиданно взгляд Халиля упал на ноги покойного. Его лодыжки были черны от грязи. «Знал бы, что умрет, вымыл бы», — невольно подумал Халиль, и в голове у него мелькнуло, что, умри он сейчас, все увидят его ноги. Но он тут же устыдился этой мысли и с опаской взглянул на скорбные лица окружающих, словно люди могли угадать, о чем он думает. Все вокруг стояли, понурив головы. Мухиттин курил сигарету за сигаретой, то ли пытаясь хоть как-то рассеять печаль, то ли стремясь отогнать назойливую мысль о смерти.
Халиль повторял про себя: «Надо вымыть Хыдыру ноги, надо вымыть ноги, чтобы не краснеть перед ходжой, который будет его обмывать».
Хыдыр лежал на смертном одре, беспечный, как дитя. Наконец-то познал он покой, отрешился от всех земных горестей и забот. От его наготы веяло могильным холодом, обдававшим пришедших сюда людей. Хыдыр словно хотел передать друзьям свои надежды, печали, любовь. И они знали, что это бремя им придется нести всю жизнь, до самой смерти.
Пришел Камбер, сел рядом с Дервишем. Никто не нарушал молчания. И все же, скорбя о Хыдыре, каждый думал о собственных горестях и печалях, о неминуемой смерти, о том, что любого из них в конце концов накроют мешковиной, и это вселяло страх. Словно завороженные, смотрели люди на мешковину — замусоленную, залатанную, с приставшими соломинками. И думали об одном — о смерти.
Такова жизнь. Она всегда рядом со смертью…
Но не так страшна сама смерть, как мысль о ней. Пожалуй, никто не думал сейчас о покойнике как о человеке по имени Хыдыр, он был как бы ниточкой, связывающей бытие с небытием. В Хыдыре каждый видел самого себя. И жажда жизни брала верх над всеми остальными чувствами, она росла и крепла, протестуя против смерти.
В тумане табачного дыма, в огромных тенях, лежавших на стенах, в кровавых следах ярма на шеях волов, в призрачном мерцании фонаря, в запахе гари — во всем крылась тайна смерти, постепенно окутывавшая и скотину, и двери, и балки, и торбы с ячменем, и людей.
А время, словно не замечая, как тяжело у людей на сердце, какие горькие их одолевают думы, беспощадно летело над мертвым Хыдыром. Летело, оставляя за собой скорбь.
Было холодно. Северный ветер, неистово гудя, носился по крышам и среди голых ветвей.
Халиль снова закурил. В хлеву по-прежнему царило молчание. Вдруг где-то вдали послышался вой шакалов — перевалило за полночь. Люди невольно переглянулись, наверное вспомнив Шакала Омара. Залаяли собаки, сначала одна, потом еще одна, потом все вместе, дружно.
— Нынче человек жив, а завтра его нет, — нарушил молчание Камбер.
— Утром он умывался у колодца, — заговорил Али Осман, — я его спрашиваю: «Что с тобой?» А он посмотрел мне в глаза и говорит: «Что со мной, дядя Али? Считай, что я умер: толку от меня уже не будет». «Еще поправишься», — сказал я ему. А он говорит: «Нет, не поправлюсь, у дерева моей жизни корни сгнили». И засмеялся. «Чего смеешься?» — спрашиваю. «Да просто так», — говорит.
Али Осман не выдержал и всхлипнул.
— А вот теперь лежит он, — продолжал Али Осман, — тихий, безгласный. Ушел от нас и унес с собой все свои мечты.
Халиль уже в который раз посмотрел на ноги Хыдыра: грязные, непременно надо вымыть, стыдно будет… стыдно будет…
Дождь, принесенный новым порывом ветра, омыл стены и крышу хлева и тотчас кончился. И, как всегда бывает после дождя, воздух наполнился живительной прохладой.
— Эх, лучше бы он увел Алие! — сказал Камбер.
— Знал он, знал, что скоро умрет, — покачал головой Али Осман и, глянув на Халиля, спросил: — Ты что, плачешь?
Халиль, не ответив, закрыл лицо руками, и снова наступило молчание. На лицах людей, пожелтевших от страха смерти, застыло настороженное ожидание.
— Чей-то теперь черед? — подумал вслух Камбер.
Все испуганно переглянулись.
— Следующим я буду, — скорбно качая головой, сказал Али Осман.
— С чего это ты взял? — возразил Сулейман. — Одной только смерти ведомо, кого она когда приберет.
И снова молчание. Лишь когда стало светать, в хлев ворвались шорохи и запахи пробуждающейся жизни, спокойное дыхание ветерка.
Али Осман с трудом выпрямил затекшие колени и поднялся:
— Пора кормить скотину.
За ним встал Сулейман, взял корзину и пошел к выходу. Как только он открыл дверь, послышался легкий веселый шум.
— Дождь, — сказал Сулейман. — Дождь идет.
Дождь едва накрапывал, ласковый и приветливый, как улыбка ребенка.
Халиль посмотрел в дверной проем на дождь.
— Слышишь, Хыдыр, дождь идет, — вырвалось у Халиля.
Сулейман вышел из хлева и прикрыл за собой дверь.
— Мухиттин, нагрей-ка воды, помоемся, — попросил Али Осман.
Еще не совсем рассвело, когда Дервиш с Сулейманом, прихватив заступы, пошли копать могилу. Остальные совершали ритуальное омовение. Халиль вымыл Хыдыру ноги.
К восходу солнца дождь прекратился. Листья деревьев и камни сверкали чистотой. Пахло цветами и травой. На далеких вершинах блестел снег.
Среди собравшихся перед мечетью было человек двадцать батраков, а из крестьян — только Коджа Абдуллах, Шакал Омар, Якуб и сторож Муса. Халиль и Коджа Абдуллах встретились взглядами, и Абдуллах опустил голову.
Биби-ходжа обмывал Хыдыра.
Халиль снова посмотрел на Абдуллаха: тот стоял, как-то по-детски сложив руки на животе, и Халилю стало жаль его. «Лютая смерть всех нас в конце концов уравняет», — подумал он.
Хыдыра завернули в саван. У людей были печальные, от скорби застывшие, как воск, лица, исполненные тревожного ожидания. Все стояли в совершенно одинаковых позах, тупо глядя на гроб. Когда Хыдыра опускали в гроб, казалось, будто кладут не человека, а белый куль. Раздался стук — опустили крышку, после чего поставили гроб на мусалла-таши[17]. Затем… Затем Биби-ходжа обратился к толпе:
— Правоверные! Настало время совершить погребальный намаз. Намаз — дело благое и для аллаха, и для души усопшего. После первого текбира[18] повторяйте слова молитвы за мной.
Ходжа воскликнул: «Аллахю экбер!» — и приступил к намазу. Неожиданно Халиль подумал о том, что сам Хыдыр никогда не молился. Кончив намаз, Биби-ходжа громко спросил:
— Мусульмане, прощаете ли вы его?
— Да, клянемся господом богом! Прощаем, и да простит его аллах, — отозвались голоса из толпы.
Кто-то крикнул:
— Эх, Хыдыр, был ты парнем что надо. Жаль, что помер.
Биби-ходжа трижды повторил свой вопрос.
Наконец гроб подняли и на плечах понесли на кладбище. Халиль смотрел на пожилых людей, которые вышли из своих домов навстречу похоронной процессии: женщины, низко опустив голову, шептали фатиху[19]; мужчины стояли, воздев руки к небу, словно принося еще одну искупительную жертву во имя того, чтобы хоть ненадолго продлить себе жизнь. Халиль и Али Осман шли первыми, держа гроб за передние ручки и наблюдая знакомую с детства картину: крестьян, веривших в то, что нести гроб — богоугодное дело, малышей, беспечно смеявшихся и махавших ручонками, детей постарше с испуганными лицами, стены домов и бесконечную грязную дорогу. Почему в глазах у людей столько страха? Не оттого ли, что смерть для них — грозное предупреждение, напоминание о том, что жизнь надо прожить, стремясь к добру, и потому они смотрят на гроб с таким смиренным, покаянным видом?
Эмине с отцом тоже стояла на пороге своего дома. Длинный Махмуд глядел на процессию так, словно много лет ждал этого часа и боялся его пропустить.
— Говорят, если ты один в целом свете, то за гробом твоим некому будет идти, — произнес он и присоединился к шествию.
Дервиш с Сулейманом уже выкопали могилу.
— Несут! — сказал Сулейман.
На веточках голых кустов, точно слезы, сверкали капли дождя. Земля была мягкой. Когда Хыдыра вынули из гроба и опустили в могилу, Биби-ходжа тоже спустился в могилу, развязал узел на саване, чтобы открыть лицо покойного, и крикнул:
— Эй, сын человечий! Ты порожден этой землей, и только она закроет твои глаза!..
С этими словами Биби-ходжа бросил на лицо Хыдыра горсть земли.
— Да, Хыдыр, — вздохнул Длинный Махмуд. — Эта земля кормит нас после нашей смерти, а при жизни в три погибели гнет. Других она и при жизни кормит, а нас — только после смерти.
И печально глядя на Хыдыра, Махмуд тоже бросил ему на лицо горсть земли. После того как каждый из пришедших на кладбище бросил свою горсть земли, Биби-ходжа прочел молитву, и могилу засыпали.
— Вот и нет с нами Хыдыра, — грустно сказал Халиль. Больше всех, казалось, был удручен Коджа Абдуллах. С кладбища возвращались молча. В душе людей рождались добрые чувства: желание помириться с недругом, никого не обижать. Смерть очищает сердца от злобы и вражды.
Халиль замыкал шествие. Коджа Абдуллах остановился и, подождав, когда Халиль с ним поравняется, сказал:
— Халиль, брат, позволь с тобой поговорить. — В глазах его стояли слезы.
— Что тебе?
— Прости меня, брат! Я обидел тебя. Сильно обидел, знаю. Но не сердись на меня, прости!
— Это ты прости меня, Абдуллах-аби.
— Не говори так. Теперь я понял, как перед тобой виноват. А ты парень хороший и смелый. Но даю тебе слово, аллах мне свидетель, никогда больше никого не обижу! Со всеми буду жить в мире: и со знатными, и с простыми, и с бедными, и с богатыми — всех уважать буду. Может, завтра и мы, брат, помрем. Что поделаешь, если нас нужда одолела! Это она, проклятая, и меня изуродовала. Как говорится, кто ест хлеб гяура, тот и дерется за него. Так и я. Чего скрывать от раба божьего то, что самому богу известно? Я, брат, человек бедный и работать не люблю. Ради пачки сигарет и куска хлеба на все готов.
Понимаешь ты меня, а? Ей-богу, на все. Это хозяева меня подлецом сделали. Я и раньше их людьми не считал, только своему хозяину верил. А сегодня понял, что ни от кого из них добра ждать не приходится. Хыдыр всю жизнь работал на Кадир-агу, а тот даже на похороны его не пришел. Ладно, Кадир-ага старый, ну а Дурмуш-ага? Он почему не пришел? Выходит, завтра умру я, так они и меня хоронить не придут? Прости меня, брат. Все пороги буду обивать, руки и ноги людям целовать буду, может, простят меня. А не простят — уйду отсюда навсегда…
Абдуллах обнял Халиля и заплакал как ребенок.
Он хотел поцеловать Халилю руку, но тот не позволил.
— Не сержусь я на тебя, Абдуллах-аби, — сказал Халиль, едва сдерживая слезы. — Зла в сердце долго не держу. А за эти твои слова уважать тебя буду.
— Ох, этот мир. Ох, этот проклятый мир! — вздыхал шагавший за ними Али Осман. К нему подошел Шакал Омар.
— Дядюшка Али!
— Что, родной?
— Дядюшка Али Осман, хочу с тобой посоветоваться, что мне делать. Только никому ни слова!
— Что у тебя, сынок, случилось?
Шакал взял Али Османа за руку.
— Давай отстанем немного.
Они замедлили шаг.
— Только никому не говорите, ладно, дядюшка Али?
— Зачем же мне тебя подводить? Ты хоть и сторонишься нас, но мы тебя очень любим. Я с твоим отцом дружил и готов заменить его тебе в любой момент.
Омар помолчал, потом набрался духу и сказал:
— Сколько прошло времени, как я женился, дядюшка Али? Четыре месяца?
— Почти.
— Так никому не скажете? — У Омара дрожали губы.
— Ну что ты, дорогой!
Омар долгим взглядом посмотрел на Али Османа и наконец проговорил:
— С того самого дня, как мы поженились, я, дядюшка Али, каждую ночь свою Халиме бью.
От удивления Али Осман даже остановился.
— За что же так?
— Я ее не девушкой взял. — Шакал опустил голову. — Да, дядюшка Али, так-то вот.
Они заметно отстали. Издали им было видно, как Коджа Абдуллах обнимал батраков, пытаясь целовать им руки.
— В первую же ночь я все понял, — продолжал Шакал. — Ох, дядюшка Али! Что за напасть такая? Мало я терплю, так еще эта потаскуха меня опозорила. Кому такое расскажешь? С кем поделишься своим горем? Ведь только попадись на язык, засмеют, сживут со свету, проходу не дадут, ты же знаешь, какой у нас народ! Потому я и молчал все время, а сам в душе терзался. Даже убить ее хотел. «Омар, — говорил я себе, — смой ее кровью свой позор». Но потом одумался, понял, что это тюрьмой пахнет, а то и виселицей.
Али Осман молча слушал, качая головой.
— Исстрадался я, дядюшка Али, сил моих нет. Ты погляди на меня — кожа да кости. Стыдно признаться, но я только в первую ночь переспал с Халиме, а потом отступился и теперь каждую ночь ее бью, она вся в синяках, места живого нет. Посоветуй мне, дядюшка Али, что делать.
— А кто ее испортил, ты знаешь?
— Знаю. Младший хозяйский сын, Селим, брат Дурду.
— Вот оно что!
— Я ведь так любил Селима, жизнь готов был за него отдать. А он вот что натворил!
— Хозяева — они такие. Это не первый случай. Скольких девушек испортили, жизнь им искалечили. Я даже знаю, кому именно, только не скажу, не могу.
— Что же это получается, дядюшка Али? Разве у нас гордости нет? Разве мы не люди, оттого что спину гнем на хозяев?
— Когда я был молодым, тоже как ты рассуждал, но потом понял, что в жизни все иначе.
— Но не рабы же мы, дядюшка Али?
— Вот что я тебе скажу: что было, того не воротишь. Прикуси язык и зажми сердце в кулак, потому что все мы обездоленные и надеяться нам не на кого. А руки замараешь в крови — себя же накажешь. — И Али Осман зашагал дальше.
— Может, мне уйти куда глаза глядят?
— Если что стряслось или кто помер — смириться надо.
— Что же мне делать, дядюшка Али, посоветуй, как отец, скажи!
— А чего тут советовать? Все и так ясно. Работник во власти своего хозяина. Тем более прислуга, работающая за харчи, как твоя Халиме. Разве могла она ему противиться?
— Жалко мне Халиме, дядюшка Али.
— Всех нас, дорогой, жалко!..
До самой деревни они шли молча. Али Осман — впереди, за ним, на некотором расстоянии, — Шакал Омар. У перекрестка они снова остановились, и Али Осман сказал:
— Запомни! Что бы ты ни сделал, против тебя же и обернется!
На том они и расстались.
В полдень Халиль пошел раздавать поминальную халву. Моросил дождик, словно и погода плакала, вспоминая о Хыдыре. Увидев Халиля, Эмине замерла на пороге.
— Отец дома? — спросил Халиль.
В дверях показался Длинный Махмуд.
— Здоровья тебе и счастья, Халиль!
— Спасибо, дядюшка!
Эмине не могла отвести от Халиля глаз: иссиня-черные волосы, ладно сбитая фигура, настоящая мужская осанка, полные грусти глаза, усы… Какие глаза! Какие усы!.. Халиль чувствовал на себе взгляд Эмине, и, когда протягивал ей халву, сердце у него защемило, будто обожженное огнем. Переданная из рук в руки, поминальная халва на мгновение превратилась в вестницу любви, в знак пробуждающегося в двух сердцах чувства. В глазах Эмине светилась робкая нежность.
Сердце Халиля переполняли радость и предвкушение любви. Эмине в один миг стала для него самой близкой, самой желанной, будто давным-давно им любимой. Казалось, пришел наконец заветный час, когда все, по чему Халиль так долго тосковал — ласковый взгляд, благоухание, гибкий стан, — слилось в образе Эмине.
Халиль разносил по деревне халву, неотрывно думая об Эмине, которую нашел таким чудесным образом, между смертью и жизнью, на пороге любви.
«Хыдыр, ох брат Хыдыр, — шептал он про себя, — кажется, я попался».
К Шакалу Омару Халиль зашел напоследок. Тот, мрачный, сидел дома один.
— Счастья тебе и здоровья, брат! — сказал Омар, встречая его.
— Спасибо!
Когда Халиль ушел, Омар долго смотрел ему вслед, потом прошептал: «Значит, помер Хыдыр…»
Дождливый, пасмурный день медленно клонился к вечеру.
Призрачные тени, разбросанные по земле, дома, мокрые ставни — все, казалось, таило в себе какую-то загадку и бередило душу Омара.
Ему вдруг стало жаль Халиме. Он с горечью вспоминал, как она корчилась от боли, когда он бил ее, и, словно птенец, беззвучно открывала рот после каждой пощечины, после каждого удара. «Чтоб у меня руки отсохли!» — корил он себя.
В комнате стало темно. Омар зажег лампу. Убогое жилье, холодные стены, беспросветная нищета… Чем больше думал об этом Омар, тем острее чувствовал свое одиночество. «Правду сказал дядюшка Али. Все оттого, что мы обездолены. С самого рождения обездолены».
Прошло, должно быть, немало времени. Легкий шум шагов вывел Омара из оцепенения. В дверях стояла бледная от страха Халиме. Она не привыкла видеть мужа в этот час дома и, растерянно глядя на него, робко спросила:
— Ты что, заболел?
— Нет, здоров.
Халиме продолжала стоять в дверях.
— Подойди сюда. Сядь.
Муж явился домой в неурочное время, к добру это или не к добру?
— Что тебе, Омар?
— Ничего. Иди садись!
Халиме нерешительно подошла ближе.
— Ешь! — сказал Омар, подвигая к ней халву.
«Отравить хочет», — мелькнуло в голове Халиме, и она испугалась еще больше.
— Это поминальная халва? — глотнув слюну, спросила она.
— Да.
— А ты ел?
— Нет. Ешь и мою долю.
Халиме еще ниже опустила голову.
— Омар! Не губи меня, Омар! — взмолилась она. — Я знаю, ты подсыпал в халву яду. Хочешь от меня избавиться. Только ни в чем я не виновата, Омар. Спала я тогда, бог свидетель. Он меня сонной взял, Омар…
Страдание на лице Халиме тронуло Омара.
— Халиме, — он приблизил к ней свое лицо. Женщина сжалась от ужаса.
— Не убивай меня, Омар! Я еще жизни не видела.
— Не бойся, Халиме, не бойся!
— Ты убить меня решил! Я знаю! Не губи мою душу! Аллах и так жестоко меня покарал, хоть ты пощади! Сжалься надо мной! А не можешь — позволь уйти от тебя…
— Не бойся, Халиме, я тебя больше не трону. Знаю, что виноват перед тобой! Прости меня! Пусть у меня руки отсохнут, если я тебя ударю! Не трону. Родной матерью клянусь!
Халиме, не веря своим ушам, растерянно смотрела на Омара. Он встал и принес, скалку, которой бил Халиме.
— Вот, возьми ее, Халиме! Возьми и бей меня, бей, сколько хочешь! Колоти меня изо всех сил! Сколько мук ты из-за меня приняла! Прости меня, родная! Бей же меня, лупи, колоти!
Чем больше говорил Омар, тем легче становилось у него на сердце. Он ощущал это почти физически. А Халиме по-прежнему не понимала, что происходит.
— В этом мире, Халиме, у нас с тобой никого нет. Одни мы, совсем одни. Руки твои буду целовать, ноги! Извел я тебя, Халиме, вконец измучил, родная. Прости! Я все забыл, забудь и ты! Дай поцелую твои руки, и помиримся.
Омар упал перед женой на колени, осыпая поцелуями ее руки и ноги. Халиме, сжимая плечи Омара, повторяла:
— Омар, Омар, милый мой Омар!
— Тяжко мне, Халиме! Мы все так любили хозяйского сына, а он что натворил!.. Ох, Халиме! Сердце горит, обливается кровью. Но что делать, если судьба у нас такая!
— Омар! Родной мой!
— Никогда больше руку на тебя не подниму, никогда! Вот подсоберу денег, куплю тебе, чего захочешь. В город тебя свезу, шашлыка поедим, пахлавы…
— Ничего этого мне не надо, Омар. Только не бей меня, не наказывай.
— Пусть у меня руки отсохнут!
Они осыпали друг друга поцелуями, и в душе у них рождалось то особое чувство, которое вызывает у людей примирение. Их охватила радость, рожденная надеждой жить по-людски, радость любящих сердец.
Руки у Халиме большие, заскорузлые, но сколько нежности в ее глазах!
Целую неделю только и было разговоров, что о Хыдыре. Вспоминали, как он ходил, как курил, кашлял.
Всем его как-то не хватало, особенно в первые дни. Вещи Хыдыра так и лежали на его постели. Початая пачка дешевых сигарет, огниво, трут, кинжал, грязный платок со следами крови…
Постепенно люди свыклись с тем, что Хыдыра больше нет, но он по-прежнему жил в разговорах, в воспоминаниях, во вспыхивающих огоньках сигарет, и всегда о нем говорили с любовью.
Как хороши нарциссы! Особенно в девичьих волосах! Аромат нарциссов — вестник близкой весны. Их беложелтые венчики радуют глаз в предвесенних полях.
От зимних дождей на полях целые озера, здесь плещутся зеленоголовые утки, бекасы, дикие гуси. Утихают дожди, и с полей сходит вода. Вот выглянуло долгожданное солнце, теплолицее, катится оно по небу, согревая землю. Земля подсыхает и становится маслянистой, рассыпчатой, трескается. Тогда-то и начинается пахота. Красная, мягкая, ароматная земля Юрегира. Ее запах как красивая грустная песня. Земля Юрегира пробуждается от спячки. Встряхивается. Это по ней идет февраль. А февраль в здешних краях — начало теплой поры. На кладбищах распускаются тюльпаны, фиолетовые лилии, в садах зацветает миндаль, приходит пора обрезать плодовые деревья…
Солнце Юрегира заливает землю разноцветными лучами. И она пробуждается в прекрасном весеннем убранстве. Земля готова принять в свое лоно семена. И вот уже сеют хлопок. Там зеленеют озимые, тут еще чернеет зябь. Земля бурлит, будоража все вокруг, и вместе с ней просыпаются люди, звери, насекомые и с новой надеждой начинают борьбу за жизнь. Из красноватой земли скоро появятся кусты хлопка в белых пушистых шапочках. Из века в век дарит земля человеку все самое прекрасное, что у нее есть: дружбу, любовь, доброту. И преданность. Два зеленых листка ждут, когда наступит их час и они, распрямившись, вырвутся из оболочки. Отслужив свое, оболочка спадает, и неожиданно поля покрываются ростками, трепещущими, как яркие зеленые крылышки.
Дороги наконец подсохли. У каждого дома выстроились в ряд цветочные горшки. Вода из образованного дождями озера постепенно ушла, оставив лишь небольшие лужи, в которых лениво полеживают буйволы. Едва ветви сливы надели белоснежный свадебный наряд, как и все остальные деревья решили покрасоваться перед весной во всем своем великолепии. Под древним небесным сводом пчелы, жуки, птицы, затянув вечную песню весны, предаются любви на глазах у древних богов. Земля, ветви, деревья, виноградные лозы завели между собой разговор. С треском лопаются почки бальзамовых деревьев.
Начался праздник весны и в саду у Кадир-аги — буйно зацвели розы, лилии, дикие маслины, апельсиновые деревья, источая щемящий сладкий аромат.
Весна наступила. Весна шагает по долине Юрегира, где идет извечная борьба между землей и человеком. И на ней, на этой земле, где весна непохожа ни на какую другую в мире, живут люди-братья, те, что ближе остальных и к солнцу, и к аду, те, что своим потом орошают землю, те, в чьей груди бьется доброе сердце, хотя им приходится вести жестокую борьбу за жизнь. Это в их заскорузлых руках расцветают цветы. Это они, с виду гру-бые, грязные, дикие, лучше всех знают цену дружбе. Их дружба нерушима и крепка, как земля, на которой они живут.
В труде Камбер обретал счастье. Потому что он был человеком земли. И наверно, земля была ему ближе брата, роднее отца или сына. Он любил эту землю искренне, и, хотя его любовь была безответной, любил и пашню, и деревья, и птиц, и листья, и каждую травинку… Труд, земля… И еще Али Осман… Это были самые близкие друзья Камбера. Он жизни себе не мыслил без них. Станет ему тошно — затянет свою любимую: «Верная любовь — черная земля…»
Дурмуш-ага застал Камбера в саду за работой.
— Бог в помощь, Камбер!
Камбер вздрогнул от неожиданности.
— Спасибо, хозяин!
Дурмуш-ага достал сигареты, взял себе одну, затем протянул пачку Камберу.
— Дела, я смотрю, идут хорошо.
Камбер вытер о штаны руки и кончиками пальцев вытащил сигарету из пачки.
— Хорошо, очень даже хорошо.
Дурмуш-ага выпустил струйку дыма.
— Как сын учится? В следующий класс перейдет?
— Откуда мне знать? Одному аллаху известно. Дурмуш-ага рассмеялся:
— Неразумно ты поступаешь, Камбер. Сам бедняк бедняком, а сына грамоте учишь. Зачем? Все равно сыну бедняка одна дорога. Или, думаешь, грамота его в люди выведет?
Камбер в нерешительности крутил сигарету в руках, не зная, что ответить, потом сказал:
— Пусть немного поучится, ага, а там посмотрим, может, он третий класс закончит.
— Что третий, что пятый — один черт! Пустое это занятие! Пусть лучше идет работать. Да и балуешь ты его зря. Иной раз и наподдать не мешает, да так, чтоб искры из глаз посыпались!
— За что же его бить, ага? Он у меня послушный.
— Ну и что? Все равно бей! И ругай! Крестьянский сын с детства должен привыкать к битью и ругани.
Камбер смотрел, как потихоньку гаснет в его руке сигарета.
А Дурмуш-ага продолжал:
— Слушай, Камбер, что я тебе говорю. Всыпь ему разок-другой, да так, чтоб его скрутило. Пусть привыкает. А то вырастет изнеженным, тогда ему же самому несладко придется. Батрачить — это не у отца с матерью жить на всем готовом. Надо с него спесь сбить… Верно?
— Откуда мне знать, ага?
— Слушай, что тебе говорю, Камбер! А то пожалеешь, да поздно будет!
Камбер стоял как вкопанный. Лишь когда хозяин исчез из виду, он тяжко вздохнул и присел, положив мотыгу на колени.
«Бить Ремзи и приучать его… К чему? К рабству?»
Под вечер к Камберу зашел Халиль. Камбер сидел небритый, мрачный, погруженный в невеселые думы.
— Что с тобой, дядя Камбер?
— Видел я нынче Дурмуш-агу. Он мне такое сказал, что до сих пор будто нож в сердце торчит. Ни о чем, кроме этого, и думать не могу, Халиль.
Послышался неясный гул. В вечернем сумраке поднималось облако пыли.
— Народ с поля возвращается, — сказал Халиль.
Камбер посмотрел туда, куда глядел Халиль. Возвращались батраки, неся на плечах мотыги и скопившуюся за долгие дни усталость. Ибрагим с женой ехали на своей тощей кобыле.
— Селям алейкюм! — поздоровался Ибрагим с Камбером.
Сторож Муса шел качаясь, будто во сне. Халиль встретился взглядом с Эмине и больше не слышал гула голосов, ничего не слышал.
— Что с тобой? — удивился Камбер.
Батраки прошли мимо и скрылись из виду.
В третьем классе шли экзамены. В тот день Камбер встал раньше обычного и принялся мотыжить сад, возбужденно бормоча:
— О аллах! Ты все про нас знаешь, сам видишь, как мы живем. И Ремзи моего знаешь, очень даже хорошо знаешь. Дай же ему ясный ум, чтобы труды его не пропали даром! Растет он у меня обездоленным, ходит разутый и раздетый. Это ты тоже знаешь и знаешь, что будет, если все его старания пропадут зря. Только бесполезно говорить тебе об этом.
Время тянулось медленно, едва ползло… Как только посветлело, стали гнать коров на пастбище. За стадом шли дети и женщины…
«И моего Ремзи, если не выучится, ждет такое же будущее», — подумал Камбер.
Первые лучи солнца позолотили деревья, упали на крыши домов, на дорогу, с которой Камбер не спускал глаз, поджидая, когда примчится Ремзи с радостным криком: «Папа, меня перевели в четвертый класс!» Около полудня в сад прибежала взволнованная Ребиш, и Камбер с ужасом подумал: «Провалился Ремзи. На второй год оставили».
— Что случилось, жена? Неужели Ремзи…
— Ах ты бессовестный, еще спрашиваешь? Отцом себя считаешь, а? Чтоб тебя корчи скрутили!
— Что случилось, жена, говори! Неужели Ремзи на второй год остался?
— Все отцы сидят там, рядом со своими детьми! А ты здесь околачиваешься!
— Как это рядом с детьми?
— Я в окно заглянула! И Дурмуш-ага, и Эмин-ага, и Мясник Абдуллах — все в классе сидят. А мой горемычный — один-одинешенек. Все отцы там, а ты? Постыдился бы!
— Разве мы им ровня? Они хозяева… А меня туда и на порог не пустят.
— Знать ничего не желаю! Иди к сыну! Не пойдешь — я сама пойду.
Камбер растерянно смотрел на Ребиш.
— Иди же! — прикрикнула Ребиш.
— Не пустят меня туда!
— Иди, тебе говорят!
— Ладно, только я ведь ничего в грамоте не смыслю.
— И не надо. Хватит того, что рядом с сыном посидишь.
— А сад кому сторожить, деревья окапывать?
— Я посторожу. Дай сюда! — Она выхватила у мужа мотыгу и продолжала: — Иди же! Только прежде умойся. И высморкаться не забудь! Да отряхнись немного!
— Сходить-то я схожу, а если не пустят?
— Меньше разговаривай!
«Вдруг меня прогонят? — думал Камбер, идя по дороге. — Скажут: „Чего тебе здесь надо? А ну-ка проваливай!“ Что я тогда отвечу? Аллах, не дай мне осрамиться! Смилуйся…»
У школы Камбер долго стоял в раздумье: ждать сына здесь или вернуться домой? Сквозь щель в двери он видел детей и сидевших рядом с ними отцов. Камбер подошел к окну, украдкой заглянул внутрь. Между Дурмуш-агой и его братом Хусейном сидел Джавид. Дурмуш-ага лузгал семечки. Остальные дымили цигарками, поглядывая, как их чада решают задачку. Вдруг Камбер заметил Ремзи: он сидел в последнем ряду, в сторонке, совсем один и, склонившись над партой, писал. Сердце у Камбера дрогнуло, таким одиноким и сиротливым показался ему сын.
Камбер сорвал с головы картуз, пригладил волосы, глубоко вдохнул, будто собирался нырнуть, и решительными шагами бледный от волнения направился к двери. Постучал. Учитель обернулся на стук, увидел в приоткрытую дверь Камбера, и на лице его засияла улыбка.
— Заходи, дядя Камбер! — приветливо сказал он. Ремзи поднял голову и увидел в дверях отца. Робея, как ребенок, отец мял в руках картуз и так жалобно смотрел на учителя, словно собирался заплакать.
— Заходи, садись рядом с Ремзи.
Дурмуш-ага сплюнул прилипшую к губе шелуху и крикнул:
— Эй! Ты на кого бросил сад, а?
— Жена сторожит.
— Доверить сад бабе?!
— Я ненадолго, хозяин, только глянуть на сына. Все отцы здесь, дай, думаю, и я зайду.
— Ладно, раз пришел, садись! — смягчился Дурмуш-ага.
Неподвижными, будто застывшими глазами Ремзи с болью смотрел на отца, которого так унизили при всех.
— Садись, дядя Камбер. Вот сюда, — указал учитель.
От волнения у Камбера пересохло во рту. Весь сжавшись, он примостился рядом с сыном, положил картуз на колени и украдкой взглянул на учителя. Когда тот заметил этот полный страдания и в то же время умиления взгляд, у него в груди что-то оборвалось.
Камбер шмыгнул носом и тотчас покраснел от стыда. Когда же его взгляд упал на предательски торчавшую из-под парты ногу, облепленную садовой грязью, по телу забегали мурашки, и он с виноватым видом попытался убрать ногу под парту, но обе ноги там не умещались. А тут еще картуз сполз с колен на пол. Камбер совсем растерялся. Его будто зажали в тиски. Не хватало воздуха. Он расстегнул воротник, потом принялся застегивать его дрожащими руками, подумав, что в таком виде неприлично сидеть перед учителем. От волнения он никак не мог попасть пуговицей в петлю. Отчаявшись, он перевел взгляд на тетрадь сына. Там чернели колонки цифр.
— Ну что, Камбер? Получается у твоего? Мой давно уже решил… — сказал Дурмуш-ага.
— Я… я… не разбираюсь в этом, ага, — набравшись духу, ответил Камбер.
— Чего же тебя сюда принесло, если не разбираешься? — расхохотался Дурмуш-ага, а вслед за ним и остальные. Дети тоже захихикали, глядя на Ремзи и Камбера.
— Это тебе не сад сторожить, а? — издевался над Камбером Мясник Абдуллах.
— Хватит вам! Постыдились бы! — возмутился Эмин-ага. — Он такой же отец, как и вы!
Ремзи кусал губы и нервно водил пером по бумаге. Затем поднял голову и, дрожа, посмотрел на учителя.
— Ну что, закончил, детка? — ласково спросил учитель.
— Да, закончил, — запинаясь, ответил Ремзи.
Пока учитель проверял тетрадь сына, Камбер едва сдерживал слезы. Стоило Ремзи взглянуть на отца, как его глаза тоже влажно заблестели.
— Хорошо, — кивнув, сказал учитель, — очень хорошо. Значит, и эту задачу ты решил.
— Решил? Он решил задачу, эфенди? И перешел в четвертый класс? — дрожащим голосом спросил Камбер.
— Да, перешел. Твой сын, дядя Камбер, перешел в четвертый класс.
Камбер обнял и поцеловал Ремзи.
— Ты перешел, сынок! — радостно воскликнул он, порылся в карманах, наскреб тридцать курушей и положил их перед Ремзи. Потом опять поцеловал его. По щекам Камбера катились слезы.
— Мой сынок, ага, оказывается, башковитый, — тихо сказал Камбер и торопливо вышел из школы.
Дурмуш-ага сердито покачал головой и с ухмылкой проговорил:
— Скажите, пожалуйста, башковитый. А остальные что же, безголовые? Да мне на твоего башковитого…
Он принялся с остервенением грызть семечки, затем повернулся к Ремзи:
— Отец твой не иначе как белены объелся. Башковитый, говорит. Да будь ты хоть трижды башковитый, что из того? Все равно в люди не выйдешь. Хоть и перешел в следующий класс. Не нынче, так завтра будешь у меня дерьмо таскать. И жрать будешь тоже дерьмо…
— Хватит вам, Дурмуш-ага! — вмешался учитель. — Ребенок не виноват.
— Это ты о чем, учитель, толкуешь?
— Учитель верно говорит, — вступил в разговор Эмин-ага. — Ребенок ни в чем не виноват.
— А что я такого сказал, что он решил меня поучать? Ты что, всех нас за детей принимаешь, Осман-эфенди, или думаешь, у нас головы нет?
— Такого я не говорил. Я только сказал, что ребенок ни при чем.
Дурмуш-ага в упор посмотрел на учителя и схватил сына за руку:
— Вставай, паршивец, вставай, и чтоб духу твоего больше здесь не было! Плевать мне на эту школу! Проку от нее никакого. А моих денег тебе на всю жизнь хватит и еще останется. Пойдем отсюда. Он собрался меня поучать, будто я дитя малое! Забыл, кто я такой?!
— Дурмуш! Дорогой! Что ты мелешь? Постыдился бы! — урезонивал его Эмин-ага.
— Да я, — не унимался Дурмуш-ага, — всего тебя с потрохами могу купить. Да, да, с потрохами! Или ты меня не признал, а? Подумать только, сын какого-то Биби-ходжи хочет меня учить уму-разуму. А помнишь, как однажды зимой я дал вам муки, спас от голода? Подохли бы, словно мухи. Да кто ты такой? Еще вчера на меня работал, а прочел две книжки — и вообразил себя человеком.
Тягаться со мной вздумал? Хоть все книжки на свете прочти, выше пупа не прыгнешь! Так-то!
— Будь у вас хоть капля человечности, вы бы не стали так говорить, — сказал учитель.
— Дурмуш! Дурмуш! — снова вмешался Эмин-ага. — Не срамись! Осман-эфенди детей наших учит, а ты его при них же поносишь! Никто не скажет, что ты прав… К тому же он здесь не чужой, а наш, деревенский. Не пристало тебе, почтенному человеку, вести себя подобным образом.
— И ты за него?! — обозлился Дурмуш-ага.
— Я за правду.
— За правду? Да твою правду…
— Придержи язык!
— А если не придержу?
Эмин-ага рванулся к Дурмушу и замахнулся тростью, но его вовремя удержали.
— Позор на твою голову! — закричал он. — Ты же в деревне хозяин! Люди тебя уважают, почет оказывают, человеком считают. А после этих твоих слов тебе любой в глаза может плюнуть…
Дурмуш-ага промолчал, но выместил злость на сыне, дав ему затрещину и пинок в зад.
— Что ты здесь торчишь, чертово отродье?! Пошел вон! И чтобы в школу больше ни ногой. Видели мы этих ученых — и инженеров, и адвокатов, и врачей! Все передо мной распинались, все в три погибели гнулись! И всегда будут гнуться, пока у меня деньги есть! Вот как. Если надо, всем глотку заткну! Моего добра и детям моим хватит, и внукам! А вам, дуракам, и на собственные похороны денег не скопить!
Эмин-ага снова рванулся к Дурмушу, но его опять удержали.
— Да накажет тебя аллах! Благодари отца своего, Кадир-агу, не то нашел бы я на тебя управу! Но правду пословица говорит: уважаешь хозяина — терпи и его пса!..
Мясник Абдуллах и еще несколько человек старались увести Дурмуш-агу.
— Этот Дурмуш полоумный, ей-богу, — говорил Эмин-ага. — Вы только посмотрите на него. Ты уж не сердись, Осман-эфенди. А что до детей, так это тебе решать: хочешь — переведи, хочешь — оставь на второй год. И как только у нас хватило совести сюда заявиться! Ты прости нас, мы сейчас уйдем.
Когда мужчины вышли, учитель повернулся к Ремзи:
— Не огорчайся, Ремзи, не принимай все так близко к сердцу.
Ремзи опустил голову.
— Ты и дальше хочешь учиться?
— В Кадыкёй буду ходить, учитель.
— У вас там кто-нибудь есть?
— Никого.
— Где же ты жить будешь?
— Я буду каждый день возвращаться домой.
— Что? — удивился учитель. — Сколько же времени ты будешь тратить на дорогу?
— Три часа туда, три — обратно.
Учитель ничего не сказал, он отвернулся к окну и молча глядел на дорогу…
Дети по очереди целовали учителю руку и уходили. Последним подошел Ремзи. Учитель пожал мальчику руку и сказал:
— Молодец, Ремзи! Я верю в тебя. Учись дальше!
— Я буду учиться, эфенди.
— Не отступишься?
— Не отступлюсь.
— Выдержишь?
— Выдержу.
Осман-эфенди обнял и поцеловал Ремзи.
— Счастливого тебе пути, сынок!
Ремзи ушел, а учитель сел за заднюю парту и устремил неподвижный взгляд на классную доску. Черная краска на ней кое-где уже стерлась, и проступали белесые пятна. Грустно было смотреть на старые, покосившиеся парты. В классе давно никого не было, но учителю казалось, что ученики все еще сидят на своих местах. Каждый из них — пока маленькое зернышко. Потом все они вырастут, и как деревья обрастают ветвями, так и их нежные лица зарастут усами и бородой. Одни будут продолжать учебу, другие наймутся в возчики, в пастухи…
До самых сумерек учитель просидел за партой наедине со своими думами. Потом вышел, запер дверь и медленно побрел домой.
Вечером у дома Дурмуш-аги собралась толпа ребят. Это были дети батраков, летом жившие в поле. С котелками и мисками в руках дети ждали, когда начнут раздавать похлебку. У некоторых за спиной были привязаны малыши — младшие братья и сестры. Ножки малышей торчали из пеленок, и было видно, какие они тоненькие. У детей были чумазые лица, трахомные глаза слезились. Сквозь дырявые штаны и рубашки проглядывало тело. Детвора жалась к стене: одни сидели на корточках, другие стояли.
Появился кашевар Мухиттин.
— Ну, сопливая команда, построиться в затылок! Шагом марш!
Дети засуетились. Запахло вечерней пылью. Крики, гомон… Толкаясь, гремя котелками и мисками, дети выстраивались в очередь.
— В армии с вас бы шкуру содрали! — кричал Мухиттин, колотя черпаком лезущих без очереди. — А ну, постройтесь как следует. Иначе не получите похлебки, да еще и родителей оставите голодными.
Рядом с котлом стояла корзина с лепешками из ячменной и пшеничной муки. Мухиттин помешал черпаком похлебку и сказал мальчишке, стоявшему в очереди первым:
— Утри нос, а то в рот потечет! Сколько там вас?
— Трое.
— Почему трое?
— Отец — раз, мама — два. И еще старшая сестра. Она тоже работает.
— Неужто Хатидже твоя сестра?
— Сестра, а ты что думал?
— Лучше скажи, когда отдашь ее за меня?
— Ишь чего захотел! Куда тебе до нее!
— Ах ты, сопляк! Чем же я тебе не по вкусу? Посмеиваясь, Мухиттин налил мальчику похлебки.
— И три лепешки возьми. А тебе на сколько человек? — спросил он следующего.
— На одного.
— Разве отец не работает?
— Папа болеет.
В чуть-чуть приправленной маслом чечевичной похлебке плавали большие куски лука. Мухиттин запустил черпак на дно котла и снова помешал.
— Слышь, — обратился он к третьему мальчику, — твой отец, говорят, в желтом бекмезе [20] измазался. Еще не нашелся охотник бороду ему облизать? Кто бы за это взялся, а?
Мальчик сделал вид, что не расслышал, но, получив похлебку и лепешку, выпалил: «Ты!» — и убежал.
Мухиттин улыбнулся. Подошла очередь сына Длинного Махмуда.
— Слыхал я, Вели, что твой отец молоденьких девушек на спине в баню возит. Неужто правда?
Вели в ответ сердито зыркнул глазами.
— Не обижайся, дорогой. Шучу. Отцу привет передай.
Длинный Махмуд поджидал сына у порога.
— Где ты, сынок, пропадал? Скоро мать придет, а в доме ни капли воды.
— Мухиттин-ага тебе привет передавал.
— Спасибо, спасибо! Возьми-ка ведро да сбегай за водой!
Взяв ведро, Вели вспомнил, как дразнят Садыка: «Ты куды? Принеси-ка воды!» — и вприпрыжку отправился к колодцу.
Когда вернулись домой Азиме с дочерью, они застали Длинного Махмуда улыбающимся.
— Эй, что это ты? — спросила Азиме. — Не свихнулся ли?
— Ничего особенного. Улыбаюсь, и все.
— С чего же это ты улыбаешься?
— Да так. Кое-что вспомнил.
— А Вели где?
— За водой пошел.
Азиме села, прислонившись к стене.
— Сил моих нет. Все косточки ноют. Ох и тяжело же махать мотыгой! Эмине, сходи-ка, доченька, за водой. А то Вели на донышке принесет.
Эмине нехотя встала и, взяв ведро, вышла из дому. У колодца собралось много народу: дети и вернувшиеся с поля батраки. Каждый норовил побыстрее наполнить свое ведро. Эмине огляделась, но Вели не увидела. Мимо медленно проезжали на мулах Али Осман, Сулейман и Халиль. Али Осман и Сулейман глянули на Халиля, потом на Эмине. Та опустила голову и повернулась к ним спиной, а когда они проехали, посмотрела им вслед; на едва плетущихся мулах сидели ссутулившиеся от усталости мужчины.
Эмине почувствовала, как к ее усталости прибавилась и усталость Халиля. Девушка вернулась домой с этим новым ощущением двойной усталости.
Зажгли лампу, ополоснули пыльные руки и лица, сели ужинать…
— Приятного вам аппетита, — раздался с порога голос сторожа Мусы.
— Заходи, поужинай с нами! — пригласил Длинный Махмуд.
— Спасибо.
— Где ты был, Муса? — спросила Азиме.
— Зашел в кофейню, чаю попил. Опять цыган Абди приехал.
— Чего ж ему не приезжать?! — сказал Махмуд. — Деревня большущая, а кузнеца нет. Цыган — мастер своего дела. Когда-то здесь работал кузнец Шевкет-уста. Потом он уехал в Гёгджели. А где Абди разбил свою палатку?
— Где всегда, у Мехмед-аги.
— А работники, нанятые Мехмед-агой, когда прибудут?
— Говорят, со дня на день. За ними уже поехали Фахри и Рахми.
— Скорее бы они приехали. Вот когда повеселимся!
— Тебе-то что до их веселья? — буркнула Азиме.
— А очень просто — арабов я люблю. Весь день мотыгой машут, зато вечером начнут веселиться — прямо как на настоящей свадьбе. Развеселый народ антакийцы[21]. Как ударят в бубны! Как зазвенят бубенчики! О-ох! Ноги сами в пляс идут. Будто оживаешь. И сразу молодость вспоминается.
— Ох уж эта твоя молодость! — заворчала Азиме. — То молчишь, молчишь, а то вдруг заведешь: «Моя молодость… Когда я был возчиком…» Знаю я твою молодость, и каким возчиком был, тоже знаю. Вшивый ты был в молодости, чесался вечно!
— Это я вшивым был? Видал, Муса, я, оказывается, вшивым был! Опомнись, жена! Да когда я был возчиком, я на себе такие тяжести таскал, что другим и во сне не снилось.
— Подумаешь! Вон и скотина тяжести таскает.
— Ладно, пусть будет по-твоему. Но почему ж ты так липла ко мне тогда? Ты ведь убежала со мной — бежала сломя голову, даже ногу занозила, помнишь? Я тебя не тащил, сама пошла.
— Так я же тогда молодая была, глупая. Вот ты и окрутил меня. А будь я умней, как сейчас, долго пришлось бы тебе меня ждать.
В разговор вмешался Муса:
— Нет, сестра, не говори так. В те годы Махмуд был не просто Махмудом, а знаменитым Длинным Махмудом. Шутить с ним было опасно. Ведь он был королем возчиков, королем! А на юрегирской земле быть возчиком — дело трудное. В то время в возчики шли самые смелые, самые отчаянные. Так-то вот.
Махмуд тяжко вздохнул:
— Видишь, Муса? Когда волк состарится, над ним и шакал смеется. Что поделаешь? Старые мы. И всякий нас обругать может.
К горлу Махмуда комок подступил. Эмине с жалостью посмотрела на отца. Он перестал есть, выпил кружку воды и сказал:
— Ты права, жена. Всегда права.
— Таков уж нынче мир, Махмуд, — заключил Муса и, вскинув на плечо мотыгу, заковылял домой. «А теперь, — думал он, — вместо того чтобы лечь спать, надо брать свою пушку и всю ночь сторожить деревню, дуть в свисток. А завтра — опять за мотыгу и опять сторожить, и так до конца своих дней…»
Халиль сидел на камне и думал. Его одолела усталость. Подошел Али Осман, сел рядом, молча свернул цигарку и протянул Халилю. У Халиля не шла из головы Эмине. Ее лицо чудилось ему и в огоньке цигарки, и в глазах Али Османа, и в темноте, и на свету, и в детских голосах. Везде была Эмине, только Эмине… И мало-помалу он стал понимать, что эта любовь изнуряет его.
Подошел Дервиш:
— Когда наконец этот Сулейман перестанет надо мной издеваться? Осточертело, ей-богу осточертело.
— Опять что-нибудь выкинул? — спросил Али Осман.
— Да он просто спятил.
— Чего вы не поделили? Никак не поладите.
— Ей-богу, друг, надоел он мне, опротивел! Клянусь матерью!
— Небось шутит он, а ты злишься. Его понимать надо.
— Понимать! Он так доведет, что и понимать перестанешь. Вот только сейчас вскочил мне на спину и орет: «Эй, ишак, покатай меня!» Ну скажи, не чокнутый он? Даже хворостину схватил меня погонять. Что я, скотина ему?
В это время показался Сулейман. Он шел вразвалку и кричал:
— Где это видано, чтобы ишак бросил хозяина посреди дороги? Али Осман! Эй, Али Осман! Я раздумал покупать кобылу. Ведь у меня есть отличный ишак, на нем и буду развозить товар.
Дервиш что-то буркнул в ответ и сердито покачал головой.
От Сулеймана несло винным перегаром. Он кинулся к Дервишу и стал его обнимать.
— Разве ты не мой ишак, а?
— Чего тебе надо от меня, Сулейман? Скажи! Знаешь, что я терпеливый, и издеваешься! Постыдился бы, ведь я тоже человек.
— Сулейман, сынок, — вмешался Али Осман, — не лезь к нему со своими шутками, раз он обижается.
— А что я ему такого сказал? Ладно, не понимает шуток — не надо, не стану больше с ним связываться. Ну а как твои дела? — обратился он к Халилю.
— Какие у меня дела? Как жил, так и живу.
— Ты это брось! Дела у тебя хорошо идут, даже отлично. Я все вижу. Глаз у меня наметанный.
Халиль сконфуженно улыбнулся. Сулейман опустился перед ним на корточки.
— Улыбайся, улыбайся, безбожник! И я бы улыбался, если бы встретил такую девушку, как Эмине. Чудесная девушка! Клянусь жизнью, матерью клянусь. Ты скажешь: а тебе что до этого? А то, что лучше тебя жениха не найти. Если не захотят отдать ее тебе в жены, помни, что за тебя вступится Сулейман. Тот самый Сулейман, который горы может своротить. Только прикажи — жизни для тебя не пожалею! Ты не думай, что я это спьяну болтаю. Не пьяный я, ей-богу не пьяный. А вот ему, — Сулейман бросил взгляд на Дервиша, — не верь. Он трус. Цыкни на него, и он уже… Сам понимаешь…
Сулейман встал и полез обниматься к Дервишу.
— Люблю я этого подлеца Дервиша, а он, чурбан этакий, не ценит моей любви.
Дервиш оттолкнул Сулеймана:
— Оставь ты меня в покое со своей любовью!
Сулейман снова облапил Дервиша, чмокнул его несколько раз и всего обслюнявил.
— Никого у меня на свете нет, кроме Дервиша, — продолжал Сулейман. — Если я вру, пусть выклюют мне глаза дохлые вороны, пусть мой труп унесут пересохшие реки, пусть рухнут на меня давно рухнувшие стены!
— Не обижайте друг друга, — рассмеялся Али Осман. — Потом совесть замучает, ведь жизнь людская коротка.
Халиль невольно вспомнил Хыдыра и помрачнел. Словно прочитав его мысли, Али Осман спросил: — Сколько уже прошло со смерти Хыдыра?
— Скоро пять месяцев… — поднявшись, ответил Халиль и пошел в сад. Там он увидел Камбера, осунувшегося, постаревшего.
— Выгнал меня Дурмуш-ага, — сказал Камбер. — Такими словами ругал всю мою семью, какими и скотину не ругают. А еще бил, и все по голове норовил ударить. Жену тоже прогнал — она у них в доме работала. Прихожу, а Ребиш плачет. «Ты чего?» — спрашиваю. «Прогнали меня», — отвечает. К вечеру об этом узнал Кадир-ага и велел нам вернуться. Я бы ни за что не вернулся, но что делать? Другого выхода нет.
— Я уже знаю. Мухиттин мне говорил, — сочувственно отозвался Халиль.
— Благодарение аллаху, сжалился он над нами: Ремзи мой перешел в четвертый класс. А то заел бы нас Дурмуш-ага, засмеял. Он-то хорошо знает, что тот, кто выучится, не останется в деревне, не погубит свою жизнь. Потому-то и не хочет, чтобы дети наши учились. Ему надо, чтобы все мы так и умерли его рабами. Но не бывать этому, Халиль, не бывать! Мой Ремзи кончит школу и уйдет отсюда, не будет работать на хозяина, не будет терпеть издевательств, — Говоря это, Камбер сокрушенно качал головой. И казалось, что он стареет прямо на глазах. — Если кому это не нравится, так пусть лопнет от злости. А мой Ремзи все же перешел в следующий класс!
Камбера будто прорвало — он говорил и говорил, видимо, находя в словах облегчение. Вынув кисет, он свернул цигарку и протянул кисет Халилю:
— Закуривай!
— Я, собственно, к тебе за советом, — сказал Халиль, посмотрел Камберу в глаза, помолчал и спросил. — Как ты думаешь, отдадут за меня Эмине?
Цветы груш разукрасили темноту белыми крапинками.
— Женитьба — дело хорошее, — ответил Камбер, — только бы не ошибиться. Иначе жизнь в ад превратится, начнешь жалеть, раскаиваться, когда изо дня в день пойдут ссоры да перекоры. Но Эмине — девушка хорошая, покладистая. А говорил ты с ней?
— Еще нет.
— Значит, прикипел ты к ней сердцем, Как это в песне: «У нее метелка из клевера стеблей. Ах, моя Эмине…» Спой давай, а мы послушаем…
— Не знаю я этой песни.
— Знаешь, знаешь…
— Знал бы — спел.
— Ладно, тогда я сам тебе ее спою" — Лицо Каммера вдруг удивительно подобрело.
— Только не смейся! — сказал он, откашлялся и запел хриплым голосом:
Песня об Эмине плыла над садом, деревьями, цветами, сливаясь с пением птиц.
Ветер неожиданно стих. Смолкли птицы. Все притихло, все замерло, словно ожидая чего-то.
— Что это? — спросил Халиль.
— Луна всходит, — тихо ответил Камбер. Лицо его в тусклом свете было неподвижно. Мрак быстро рассеивался, радостный свет заливал мир.
Медь, золотистая медь луны… Зашелестели листья, хрустнули ветки, будто луна, рождаясь на свет, ломала скорлупу. Луна словно знала, что мир истосковался по ее волшебному свету, свету надежды, словно знала, что Халиль влюблен.
— Эмине! — прошептал Халиль.
Он неожиданно понял, что никогда не сможет забыть Эмине, не сможет уехать, покинуть ее.
Камбер запел:
Песня смолкла. Халиль стоял, погруженный в свои мысли. Луна уже поднялась над горизонтом и посеребрила листья. Затрещали цикады.
— Камбер, — сказал наконец Халиль, — знаешь, чего я боюсь?
Камбер поглядел на Халиля.
— Боюсь, как бы меня не постигла участь Хыдыра.
— Не говори так.
— Хыдыр умер в одиночестве, а ведь в сердце его пылала любовь…
— Так ведь он болел.
— Он был таким же, как я. И тоже любил… Но что он мог сделать, если у него не было ничего! Ни крыши над головой, ни постели, не было никого, кто мог бы ему помочь. И у меня, дядя, ничего нет.
Камбер в ответ лишь покачал головой, а Халиль продолжал:
— Я решил все рассказать хозяину. Он ведь знает, что я сирота, что он мне и за отца, и за мать. Знает, как я его люблю. Да и он меня любит. Но прежде мне нужно получить согласие Эмине.
Камбер улыбнулся.
— Любовь, Халиль, все равно что весна. Влюбленному весь мир кажется цветником. Любовь пьянит, с ума сводит. Но после весны приходит лето, а потом и зима. Так и в жизни, так и в любви.
— И все же попытка не пытка, — уходя, сказал Халиль.
В три часа утра надсмотрщик Кямиль, по прозвищу Курд, пошел по деревне от дома к дому поднимать батраков на работу. Длинный Махмуд проснулся еще раньше и, сидя в постели, свертывал цигарку.
— Сестрица Азиме! Сестрица Азиме! — послышался голос Кямиля.
— Она уже проснулась, Кямиль-ага, — отозвался Махмуд.
Азиме принялась будить сладко спящую дочь, тормоша ее за плечо:
— Вставай, Эмине! Пора идти!
Деревня проснулась, зашумела, заговорила.
— Эмине, деточка, пора вставать! — Азиме никак не могла разбудить дочь.
Длинный Махмуд закурил, и дымок от его цигарки утонул в утреннем тумане. Со всех сторон неслось пение петухов. Превозмогая сон и усталость, Эмине с трудом открыла глаза и встретилась взглядом с отцом.
— Не выспалась, доченька? — с ласковой жалостью спросил Длинный Махмуд.
— Все уже ушли, — сказала Азиме.
Эмине, поеживаясь, встала. Ей так не хотелось расставаться с постелью. Все еще в полусне она оделась, умылась. Кое-где на плоских крышах домов трепетали от ветра белые полотнища, служившие пологом для ночевавших на крышах людей. По мере того как рассветало, полотнища становились все белей и белей. Продолжая спать на ходу, Эмине подвязала к поясу приготовленный с вечера узелок, в котором были две луковицы, щепотка красного перца, соль и две деревянные ложки.
Когда семья Длинного Махмуда вышла на улицу, первым, кого они увидели, был Муса с винтовкой.
— Подождите меня, я мигом, — попросил он. — Только положу винтовку.
Улица постепенно заполнялась женщинами, мужчинами, дрожащими от холода детьми. Одни выходили из домов, другие спускались по лестнице с крыш. Еще не совсем рассвело. Падала роса.
— Муса! Поторапливайся, милый, все уже ушли! — крикнула Азиме.
Наконец Муса вернулся, теперь уже с мотыгой на плече. Посмотрел на нахохлившихся белых голубей, возившихся у голубятни, и вздохнул:
— Ах, мой Али, ах, родной!
И пошутил, глядя на ежившуюся от утренней прохлады Эмине:
— Тебя, красавица, еще не похитили?
Они зашагали в сторону поля. А на дороге появлялись все новые и новые батраки. Маленькие группы вливались в людской поток, словно ручьи, вырвавшиеся из-под камней и по склонам гор устремившиеся к реке.
Прямо из-под ног то и дело взмывали вверх и тут же опускались на землю хохлатые жаворонки. Мимо, поздоровавшись с батраками, проехал на кобыле Телли Ибрагим с женой.
Когда люди добрались до поля, было уже почти светло. На хлопчатнике и на траве под порывами утреннего ветерка переливались капельки росы.
Мерно поднимались и опускались натруженные руки — рыхлили землю, и она меняла свой цвет, радуя глаз. Ритмично поднимались и опускались мотыги, и казалось, в воздухе звенит прекрасная песня труда, оглашающая поля, мечтавшие о свободе, как мечтают о свободе и равенстве батраки. Только мечта эта неосуществима. Каждую весну эта мечта пробуждалась с новой силой. Но проходило лето, наступала осень, а за ней зима, и все оставалось по-старому. Ветер уносил мечты вместе с опавшими листьями.
С каждым взмахом мотыги усталость вчерашнего дня понемногу отступала, руки наливались силой. Туман постепенно рассеивался, открывая панораму простирающихся до самого горизонта полей. А вверху, над полями, все ярче голубел небосвод, который, как ничто на свете, вселяет ощущение шири и приволья…
Якуб, продолжая мотыжить свою полосу, запел. Песню подхватили и другие батраки. Это была песня людей, встречающих солнце, песня влюбленных в солнце, влюбленных в землю, в свободу…
Надсмотрщик Кямиль бегал по полю, покрикивая на тех, кто оставлял за собой хоть травинку, плохо разрежал всходы или, на миг задумавшись, прекращал работу.
Вдалеке показались старые волы, тащившие телегу с бочкой, в которой привозили воду.
— Муса, Дервиш едет! — крикнул Кямиль.
Муса улыбнулся.
Дервиш остановился у края поля и первым делом освободил волов от ярма. Кямиль засвистел в свисток. Люди положили мотыги на землю и сели отдохнуть. К батракам подошел Дервиш с мешком лепешек.
— Селям алейкюм, люди!
Батраки дружно ответили. Дервиш начал раздавать лепешки, облепленные соринками и пахнущие мешковиной. Их посыпали солью и красным перцем и ели — кто с луком, кто с чесноком.
Муса жевал лепешку, а сам все поглядывал на Дервиша.
— Ну что уставился? — заговорил Дервиш. — Не могу, ей-богу, не могу сегодня, у меня дел по горло. Вот прямо сейчас и ухожу.
Ничего не отвечая, Муса продолжал заглядывать Дервишу в глаза.
— Ей-богу, некогда, зато завтра — во как помогу тебе! И послезавтра тоже!
— Ну поработай за него сегодня хоть чуть-чуть, Дервиш. Ведь он тебе друг, — сказал Кямиль.
— Давай, давай, Дервиш, поработай за него малость, — уговаривал Дервиша Плешивый Хасан. — По крайней мере будешь знать, как опаздывать с водой.
Дервиш взглянул на Мусу. Тот молча жевал свою лепешку.
— Не могу. Дело у меня неотложное.
Муса спокойно сидел, видимо, наперед зная, чем все это кончится. Кямиль опять засвистел. Люди поднялись на ноги. Только Муса продолжал сидеть и жевать. Дервиш, подбоченившись, спросил:
— Значит, не будешь больше мотыжить?
Муса отрицательно покачал головой.
Дервиш покорно взял мотыгу Мусы и пошел на его полосу.
Муса ухмыльнулся и, пошатываясь, направился в тень, отбрасываемую бочкой.
— Мусе не позавидуешь, — заметил Кямиль.
— Он все равно что нищий, — сказала Азиме.
— Бедняга ноги протянул бы, если бы жил на одно жалованье сторожа, — вмешался в разговор Телли Ибрагим.
— Где нищета, там и беда. Что погнало детей Аджема в город? Нищета, — проговорил Плешивый Хасан.
— А ты, Хасан, прямо помешался на этих детях, — с укором сказал Кямиль.
— Слушай, Кямиль-ага, подыщи-ка мне завтра мотыгу полегче, — попросила Азиме. — А то с этой я просто измучилась, до того тяжелая. Руки отнимаются.
— Ладно, Азиме, найду такой черенок для твоей мотыги, чтоб как раз по тебе был.
Особенно трудно приходилось Султан, женщине в летах. Она обливалась потом. Ее морщинистое, обгоревшее до черноты лицо покрылось темными пятнами.
— Ой, голубчики, худо мне, — проговорила она и, схватившись за голову, села.
— Что с тобой? — участливо спросил Кямиль.
— Голова закружилась… Ома-ар! Ома-а-ар! Где ты, дорогой мой сыночек? Приди, взгляни на свою мать. Она из сил выбилась, совсем плоха стала. Ома-а-ар!
Женщине брызнули водой в лицо, она поднялась и снова начала работать.
— Теперь уже ему недолго осталось, Султан, — принялся утешать ее Кямиль. — Потерпи. Ведь теперь не то что раньше, когда в армии служили всю жизнь.
Все выше поднималось солнце, все сильнее припекало, короче и короче становились тени хлопчатника. На лбу у Эмине выступили капельки пота и ручейком потекли по щекам. С трудом поднимавшие мотыгу дети стойкими худыми шеями, девушки с огрубевшей на солнце кожей, юноши с обгоревшими лицами, пожилые мужчины и женщины — все они страдали под нещадными лучами солнца.
Муса спал, подперев подбородок руками и подтянув колени к животу. По грязной рубашке ползали мухи. К нему подошел Дервиш и стал будить:
— Муса! Муса! Эй, Муса!
Муса что-то пробормотал сквозь сон.
— Вставай, дорогой, у меня полно дел. Я еще за кашей должен съездить.
— Брат, дай еще немножко подремать. Совсем немножко, — взмолился Муса, не открывая глаз.
— Я ухожу, а ты как знаешь! — сказал Дервиш и зашагал по направлению к деревне, гоня перед собой волов.
Когда он добрался до фермы, солнце жгло уже немилосердно. У стен, в узенькой полосе тени, возились оставленные без присмотра детишки. Цинковые крыши хозяйских домов ослепительно сверкали на солнце.
Во дворе фермы Али Осман, Сулейман и Халиль чинили волокушу. Пшеница была сжата. Через несколько дней пора будет возить хлеб на тока.
— Где ты так долго был, дядюшка? — спросил Халиль, увидев Дервиша.
— Вы что, Мусу не знаете?
Все засмеялись.
— Давай я отвезу кашу, а? — предложил Халиль.
— Ладно, — согласился Дервиш.
Халиль побежал на кухню. Мухиттин считал лепешки.
— Мухиттин-аби, я на хлопковое поле еду. Если каша готова, буду запрягать.
На телегу поставили котел, положили мешок с лепешками, большие миски, и Халиль выехал за ворота. Там его уже поджидала ватага батрацких детей, собравшихся следовать за телегой на поле. Эти изможденные мальчишки, растрепанные девочки — в лохмотьях, грязные, глядевшие исподлобья гноящимися глазами, — дополняли общую картину нищеты в деревне… За спиной у старших были привязаны запеленатые в тряпье малыши? В их безучастных взглядах, казалось, застыла покорность судьбе. Дети подождали, пока телега отъедет, а потом кинулись бежать за ней, обжигая босые ноги о раскаленную землю и кривясь от боли.
Халиль посмотрел на детей, затем перевел глаза на террасу господского дома, где, как всегда, заложив руки за спину и глядя вдаль, стоял Кадир-ага. Халиль, пока был на виду у хозяина, не осмелился посадить в телегу ни одного из детей. И те, словно понимая это, молча печально глядели на Халиля, терзая ему душу этой молчаливой печалью. Чтобы не смотреть на детей, Халиль кольнул волов стрекалом, и они пошли быстрее. Дети тоже прибавили шагу. Халиль снова кольнул волов, они пошли еще быстрее, а дети побежали. Они бежали и падали, но тут же поднимались, выпачканные в серой пыли, которая на их потных лицах сразу же делалась черной.
Халиль не вытерпел, придержал волов и усадил на телегу самого хилого на вид ребенка с малышом за спиной. Немного отъехав, он снова остановился и посадил еще одного, тоже с младенцем за спиной. Дети сидели затаив дыхание, благодарно глядя на Халиля.
Когда показалось поле, дети пустились наперегонки и обогнали телегу. Те, что сидели на телеге, тоже оживились. Даже младенцы-несмышленыши, и те принялись нетерпеливо размахивать ручонками.
Халиль остановил волов у бочки с водой и ссадил детей. Подошел Якуб помочь раздавать кашу.
Котел сняли с телеги и стали разливать кашу по мискам. Едва Кямиль свистнул в свисток, как матери кинулись к своим детям, желтым, больным, по которым они так соскучились, прижимали их к груди, целовали. Малыши, приникнув к материнской груди, жадно зачмокали, оживая прямо на глазах.
На пять-шесть человек выдавали одну миску каши. Каждый старался пристроиться в тени. Но Эмине с матерью не хватило места, и они сели есть под палящим солнцем.
— Вода-а-а! — крикнул Халиль.
Один за другим люди отпивали из кружки, чувствуя, как по телу медленно разливается живительная прохлада. Когда подошла очередь Эмине, сердце ее учащенно забилось. Она взяла кружку, пригубила и глянула на Халиля. Халиля бросило в жар.
— Ну как дела, мать? — спросил он Азиме.
— Сам, что ли, не видишь?
Халиль протянул Азиме кружку.
Поев, люди отходили в сторонку и в отпущенные полчаса передышки старались забыть о мучительной головной боли, думали каждый о своем. Раздался свисток, и батраки опять стали подниматься с земли, так и не успев отдохнуть. Добраться бы сейчас до прохладной мягкой постели, такой желанной в эти минуты… Вечер, белые пологи на крыше, подушка… В покрасневших глазах батраков застыли бессонница, тоска, безнадежность. Халиль не отрываясь смотрел на Эмине. Она украдкой глянула на него и пошла мотыжить.
Словно дрессированные, люди подходили к своим полосам и молча принимались за работу. Неожиданно и Халиль направился к батракам.
— Давай, мать, мотыгу, помогу немного, — сказал он Азиме.
— Бессовестный, — распрямляя спину, ответила Азиме, — что ж раньше не сказал, я бы еще посидела отдохнула. А то бегай взад-вперед.
Халиль принялся мотыжить. Рядом работала Эмине. В крепких руках Халиля мотыга казалась легкой как пушинка. Работал он в полную силу и очень проворно. Эмине старалась не отставать от него. Халиль разрыхлял землю, и она на глазах из серой становилась черной, прореживал чересчур густую поросль хлопчатника. Ему было приятно работать плечом к плечу с Эмине. Они все дальше и дальше уходили от остальных батраков. Казалось, что они одни в целом поле. Два молодых сердца хмелели от солнца, от земли, от зелени, от любви. Их любовь овеяна запахом земли… Они не решались взглянуть друг на друга, боясь, что, встретившись взглядами, рассмеются и волшебство исчезнет. Им хватало и того, что они рядом. Молчание было красноречивей всяких слов. Два сердца бились, как одно. А влюбленным ничего больше и не надо.
Жарко, нестерпимо жарко… Изнурительная работа, пот, усталость и простершаяся впереди бескрайняя земля — все это сблизило Халиля и Эмине.
— Было бы у тебя хоть немного своей земли… — сказала вдруг Эмине. — Поработал бы вот так…
Руки Халиля ослабели, и весь он как-то сник.
— Денюмов десять, всего-навсего десять денюмов, Халиль.
— Зачем ты об этом, Эмине? Не растравляй рану!
— Я не хотела сделать тебе больно, Халиль. Клянусь! Пришло вдруг на ум, вот и сказала… Трудиться на своей земле! Ради этого можно и недоспать. Правда?
— Откуда у меня земля? Я батрак, на других гну спину… Нет, все это пустые мечты.
— Пустые, но дорогие, Халиль. Еще какие дорогие! Иметь бы клочок своей земли — зубами и ногтями готов будешь ее обрабатывать, и днем и ночью, не покладая рук.
Некоторое время они мотыжили молча, захваченные чувствами, порожденными землей, солнцем, жарой и близостью друг друга… Оба устали и работали без прежнего рвения. Цепкие корни пырея упрямо не поддавались мотыге. Молодые люди случайно встретились взглядами, и Халиль ощутил новый прилив сил.
— Отдадут тебя за меня? — вдруг выпалил он и тут же смутился.
Эмине как ни в чем не бывало продолжала работать, будто не слышала вопроса.
— Что же ты молчишь?
— А что?
— Отдадут?
Эмине рассмеялась:
— Откуда мне знать?
— А сама ты что думаешь?
Девушка молчала.
— Вдруг твоя мать скажет: не отдам дочь за батрака, за безродного сироту!
— Тогда я убегу к тебе, Халиль! — твердо сказала Эмине.
— Убежишь?
— Убегу. Хоть на край света за тобой пойду, прикажи только! Я давно для себя решила. Еще когда ты вернулся из армии.
О таком счастье Халиль и мечтать не смел, а Эмине продолжала:
— Пусть нам придется сидеть на одном хлебе, все равно я согласна. А луковица найдется — прекрасно! Проживем. Было бы здоровье. И главное — знать, что я тебе нужна.
— Это правда, Эмине?
— Клянусь!
— Ты сама не знаешь, что ты сейчас сказала! — вне себя от радости воскликнул Халиль. — Да перед таким счастьем сама смерть отступится. Теперь мне нипочем и гору пробить.
— Как Ферхад[22]?
— Как Ферхад. Мне теперь все по плечу. После того, что ты сказала, у меня такая сила появилась — никто меня не одолеет. Даже пушка не возьмет!
Эмине рассмеялась.
— Ты чего?
— Пушка, говоришь, не возьмет? Да если из пушки по тебе пальнуть, от тебя мокрое место останется.
— Скажи спасибо, что люди здесь. Не то я бы тебя проучил, показал бы, как надо мной насмехаться.
— Ну и как бы ты меня проучил, скажи! — В глазах Эмине плясали смешинки.
— Это уж я сам знаю как.
— Ничего бы ты не сделал.
— Тогда бы ты не так заговорила!
— Ой, как страшно! А если бы я убежала?
— Я бы тебя догнал.
— И все равно бы ничего не сделал.
— Это меня надо спросить, сделал бы или не сделал. Так бы тебя обнял — косточки бы захрустели.
— И тебе не жалко было бы меня?
— Ничуть.
— Косточки бы захрустели, говоришь?
— Захрустели бы.
Подошла Азиме, и они замолчали.
— Иди, Эмине, отдохни и ты немного, — сказала Азиме.
Эмине посмотрела Халилю в глаза.
— Иди, иди! — торопила мать.
Эмине отдала матери мотыгу и ушла.
— Эй, сынок, имей совесть! Я не девчонка, мне за тобой не угнаться. Хватит, что дочь мою загонял.
Халиль смущенно улыбнулся.
Эмине выпила воды, потом плеснула себе на грудь и прилегла рядом с телегой, спрятав от солнца голову в тень от детской постельки, пристроенной между колесами. На лице у ребенка густо сидели мухи. Рядом какая-то девочка лепила из глины кастрюльки. В детстве Эмине тоже лепила такие кастрюльки, строила глиняные домики…
Над раскаленной землей трепетала легкая дымка. Все вокруг замерло, даже ветер. Жара, нестерпимая жара.
Эмине смотрела на Халиля и мечтала о том, как по утрам будет поливать и подметать дворик у их дома. Ей даже почудился запах влажной земли! Потом Эмине представила себе зимний день, проведенный вместе у очага, теплую постель…
"Я твоя, Халиль", — прошептала про себя Эмине, и по ее телу разлилась истома, а ноги вдруг стали легкими-легкими. Она чувствовала, как усталость струйками стекает с кончиков пальцев.
Полежав еще несколько минут, Эмине заторопилась в поле, чтобы сменить Халиля.
Сияя от счастья, Халиль усадил на телегу тех детей, которые несли малышей на руках. В лохмотьях, сопливые, с гноящимися глазами, изможденные, дети все равно вызывали у Халиля симпатию. И он крикнул остальным, что босиком ступали по раскаленной земле:
— Все сюда! Садитесь, довезу! Пусть хозяин сердится! Все равно садитесь.
Дети кинулись к телеге и, потолкавшись, наконец уселись. Халиль смотрел на них с ласковой грустью. Никогда еще не видел он их такими веселыми и красивыми.
— А ну-ка, спойте что-нибудь!
Дети с улыбками переглянулись, зашушукались, но Халиль уже думал об оставшейся в поле Эмине.
Наступило лето. Собаки, куры и дети прятались от солнца в тени домов. Ромашки, росшие по краям земляных крыш, засохли, растеряв редкие лепестки. Лето вступило в свои права. Почему все то прекрасное, что появляется весной, летом постепенно исчезает, блекнет? Почему летом все высыхает, буреет, а небо остается голубым? От лета к лету передается чувство одиночества. Оно в облике дервьев, домов, дорог, в пышущей жаром земле. Шелковичные деревья усыпаны ягодами. Тряхнешь — ягоды посыплются, знай собирай. А сколько их остается на земле! Ими лакомятся птицы, их поедают муравьи. И все потому, что наступило лето, и все во власти его законов. Немало цветов перебрало небо, прежде чем остановилось наконец на голубом — самом красивом.
Поля дымятся, словно горят. Изнемогает от жары земля, изнемогают люди, живущие на земле, те самые люди, которые едят ячменные лепешки, похлебку и совсем жидкий айран[23]. У них до крови потрескались губы. С болезненных, обгоревших на солнце лиц лоскутами слезает кожа. Вода, которую привозят им на поле, теплая, как кровь, и не утоляет жажды. Их исцарапанные ноги с потрескавшимися пятками похожи на ноги рабочей скотины. Теперь солнце не радует людей. Со лба каплями стекает на землю пот. Земля вся изранена, на лицах людей — извечная покорность судьбе… Устало и скорбно звучит песня, которую пели в далекие времена те, что отдали жизнь ради этой земли. Их и многих других сгубила эта земля, это солнце.
Лето. Оно в самом разгаре. Все вокруг полито потом, все вокруг связано с судьбой человека, со смертью человека. Люди любят землю, люди умирают на земле, любя ее.
Смерть зарождается вместе с любовью, и семена смерти прорастают в пору любви. Человек умирает. Он падает на землю, утыкается потным, обгоревшим лицом в упоительно теплую, прекрасную землю, которую только что лелеял и холил. Поэтому, возвращаясь в лоно породившей его земли, человек становится ее частицей, он превращается в цветок, в траву, в пыль…
Первые минуты раннего утра наполнены свежим, прозрачным воздухом. Но вот появляется солнце, и в деревне, раздарившей свою тишину дорожной пыли, бурьяну, деревьям, домам, все чаще и чаще слышится лай собак и кудахтанье кур. Навесы на крышах колышутся, и кажется, будто это белые голуби машут крыльями. Под тонкими пологами кое-кто еще спит, отодвинув подушку подальше от солнца.
Любил поспать и Сырры, средний сын Кадир-аги. И понежиться в постели любил. Сейчас он с удовольствием прислушивался к квохтанью кур и индюков. Оно почему-то напомнило ему нежные руки, ласкавшие его совсем недавно. Эх, проснуться бы сейчас в Адане, в объятиях какой-нибудь красотки, погладить бы ее шелковистые ароматные волосы, поцеловать в ярко накрашенные губы!
Сырры с тоской потянулся. Ну что за жизнь без карт, без женщин, без вина!
Отец, заложив руки за спину, ходил по веранде и сердито что-то ворчал себе под нос.
"Опять ворчит", — подумал Сырры.
Отец ворчит уже четвертый день: Сырры проиграл в карты отцовскую кофейню. Но Сырры, зная, чем взять старика, не перечит и только смотрит на него жалобными, виноватыми глазами, будто ему стыдно и ничего подобного он никогда больше не совершит.
— Спит еще этот бездельник? — гремит голос отца. — Ну-ка будите его, живо! У нас только собаки встают после солнца.
Сырры почесал в затылке и вылез из-под полога, край которого успел нагреться от солнца. Сунул ноги в шлепанцы и спустился с крыши. Утро только наступило, но было уже довольно жарко. Сырры чувствовал себя разбитым и вялым.
За столом Назмие, жена Дурмуш-аги, о чем-то разговаривала с Ребиш. Заметив Сырры, женщины замолчали. Потом Назмие сказала:
— Слава аллаху, проснулся.
Пропустив ее слова мимо ушей, Сырры пошел к умывальнику и стал не спеша намыливать руки, чтобы продлить удовольствие, но руки быстро привыкли к прохладе воды и перестали ее ощущать. Во всем, что бы Сырры ни делал, в любом пустяке, он старался найти для себя развлечение и отогнать одолевавшую его скуку. Как медленно льется вода — пока наберешь пригоршню, мыло начинает щипать глаза. Сегодня Сырры злило все: и умывальник, и мыло, и вода…
Умывшись, Сырры сел к столу.
— Что с тобой? Почему такой кислый? — спросила Назмие.
— Скучно мне здесь, невестка. Но что поделаешь! За глупость надо расплачиваться.
— В таком случае тебе еще ох как много раз придется за нее расплачиваться.
— Может быть. Ну а пока я все-таки не знаю, куда деваться от скуки.
— Слыхал, как разорялся утром отец?
— Он и сейчас ворчит. Вон только что кричал, что у вас, мол, только собаки встают после солнца, и еще что-то в том же духе.
— Позволь мне дать тебе один совет, мы с Ребиш как раз сейчас об этом говорили. Вставай утром пораньше и переходи спать в дом, чтоб отец тебя не видел. Тогда он не будет злиться. Ты своими картежными долгами его до бешенства довел, последние дни он сам не свой ходит.
— Я бы давным-давно все уладил, но с одной стороны Дурмуш-аби натравливает на меня отца, с другой — коротышка Хусейн, — сказал Сырры. — Я живу лучше, чем они, беру от жизни все, вот они и готовы лопнуть от зависти, а сами жить не умеют. Как они ни стараются, а я все равно обведу отца вокруг пальца. Меня-то он любит больше.
— Больше, — согласилась Назмие. — Мы это знаем. Но карты он тебе не простит. В тот раз гостиницу проиграл, теперь — кофейню. Разве можно после этого доверить тебе какое-нибудь дело? Распоряжайся своими деньгами как хочешь. Отец ведь не против, но проигрывать добро в карты он не позволит. Он даже в город тебя больше не пустит, будешь сидеть в деревне. Он говорит: пусть Сырры поработает как ишак, узнает цену деньгам.
Сырры пожал плечами.
— Это его Дурмуш-аби подстрекает. Недаром говорят: не тот виноват, кто сказал, а тот, кто подбил сказать. А подбил его Дурмуш-аби.
— Зря ты так. Дурмуш-аби тебя любит.
— Не любит он меня, невестка, не любит! Только дипломатию разводит. И получается это у него не хуже, чем у англичан. И отцу улыбается, и мне. А любить — не любит. И коротышка Хусейн тоже не любит.
— Ты не прав. Дурмуш-аби тебя любит, очень любит.
— Он любит только своего петуха, себя и деньги… В комнату вошел Хусейн, младший брат Сырры.
— Тебя отец зовет, аби, — сказал он.
— Опять отца против меня настраиваете? Послушаем, что вы ему еще наплели.
Сырры пошел к себе переодеться и вскоре вышел в белом пробковом шлеме, какой носят иностранцы, в галифе и сапогах, напоминая скорее охотника на львов, чем деревенского богатея.
— Зачем зовет? — спросил Сырры, повязывая на шее платок.
— Почем я знаю? Зови, говорит, и все.
— Зато я знаю, — бросил Сырры и ушел.
Отец стоял на веранде у окна и что-то рассказывал старшему сыну, Дурмушу.
Сырры приблизился к ним с жалким, страдальческим видом и, почтительно склонив голову, промямлил:
— Вы звали меня, отец?
— Слава аллаху, что ты наконец продрал глаза, — сердито сказал Кадир-ага. — Разве в деревне спят допоздна? Или, может быть, ты падишах, а? Тебе, наверно, известно, что в деревне только собаки просыпаются после восхода солнца и тот, кто следует их примеру, ленив, как собака.
Сырры слушал, опустив глаза.
— Знаешь, который час? Десятый. Скоро полдень. Ну скажи, можно так долго спать?
— Ваша правда, отец. Нельзя.
— Если нельзя, почему же ты спишь? Ты что, камни весь день таскал?
Сырры еще ниже опустил голову.
— Нездоровится мне, отец, голова болит.
— Как же ей не болеть, если ты чуть не до полудня валяешься в постели? Тут не то что голова — зад разболится.
— Вы совершенно правы, отец.
— Разумеется, прав. Видишь вон тех людей?
Сырры взглянул туда, куда указывал отец. Поле, солнце и цепочка батраков вдали.
— Посмотри на них, посмотри. Пробьет три часа ночи — они уже на ногах. И работают до семи вечера, да еще в такое пекло. А ты, как дохлая собака, весь день валяешься. Или я вру?
— Истинную правду говорите, отец.
— Живешь на всем готовом, забот не знаешь. Ни разу в жизни не потрудился, не попотел, как они. А заставь тебя поработать, так ты мигом окочуришься, ей-богу окочуришься. Верно говорю, а?
— Совершенно верно, отец.
— То-то и оно. Постыдился бы просаживать не тобой заработанные деньги! А карты твои мне опротивели. Хоть бы чуточку соображал! Да где уж тебе! Только и знаешь: дай, дай, дай! Не дело это, эфенди, не дело. Впредь будет так: не поработаешь — не поешь! Не заработанный своим потом кусок горло драть должен.
— Я понял, отец. Ваше слово для меня закон. Обещаю, что буду работать. Знали б вы, как мне стыдно, как я раскаиваюсь в том, что совершил, что доставил вам столько огорчений! Но вы меня простите…
— Хватит пустословить! Я тебя знаю. Бери лошадь и поезжай в поле, там сейчас хлеб убирают. Посмотри, как работают возчики, поучись у них зарабатывать деньги!
— Слушаюсь, отец!
— А потом скачи на хлопковое поле, там сейчас мотыжат.
— Слушаюсь!
— Эй, оседлай лошадь для Сырры-аги! — крикнул Кадир-ага Дервишу, качавшему насосом воду.
Сырры согнулся перед отцом в три погибели и промямлил:
— Разрешите идти, отец.
Кадир-ага не удостоил сына ответом. Сырры повернулся и медленно пошел, держась за голову, будто ему и в самом деле нездоровилось, а подойдя к лестнице, нарочно покачнулся. У Кадир-аги дрогнуло сердце.
— Сырры!
— Да, отец.
— Ты нездоров? — без прежней суровости спросил Кадир-ага.
— Ничего, — слабым голосом ответил Сырры. — Просто голова немного кружится и тошнота подступает, но это скоро пройдет.
— Оставайся-ка лучше дома.
— Нет, поеду. Может, легче станет.
И Сырры, держась, за перила, спустился с лестницы.
Кадир-ага в душе уже раскаивался, что отругал сына.
Над раскаленной стерней клубится марево. Земля как будто пылает. По стерне бредут люди — в поле вышли даже старики и дети, — они то и дело наклоняются, словно что-то ищут. Над их головами солнце, голод и жестокое небо. Усталые волы и мулы тянут на гумно волокуши, груженные сжатой пшеницей. Следом ползет борона, подгребая колосья и стебли. После этого мало что остается на земле, эту малость хозяева разрешают собирать людям. И люди, согнувшись, подбирают колоски.
Здесь и Длинный Махмуд с сыном Вели. Сделает на своих костылях шаг-другой и садится, подбирает, что поблизости лежит. Часто, чтобы ухватить какой-нибудь колосок, ему приходится тянуться всем телом, а то и ползти. Жара. По шее Махмуда, оставляя грязные дорожки, текут капли пота. Жалко и страшно смотреть на него. Выцветшие глаза глубоко запали, губы запеклись, во рту пересохло. Как и все остальные, отдавшие себя в неволю за горсть золотой пшеницы, за кусок хлеба, Махмуд, выбиваясь из сил, все ищет и ищет драгоценные колоски.
Ремзи в съезжающей на лоб отцовской шапке вел мула, впряженного в волокушу. Мальчик так загорел и исхудал, что его трудно было узнать. Лицо, казалось, вобрало в себя усталость, накопленную за долгие дни и месяцы. Измученный не меньше Ремзи мул покорно тащил свой груз.
Халиль одним махом серпа срезал огромную охапку пшеницы и откидывал на порожнюю волокушу. Волосатую грудь до черноты опалило солнце. Губы потрескались. В воздухе пахло потом, соломой и пшеничной пылью.
Немного поодаль работал Коджа Абдуллах. Он то и дело вытирал пот со лба, кряхтел, задыхался.
— Повей, ветерок, ну повей же! — кричал он. — Хоть чуть-чуть! Спасения нет от жары.
Но солнце, как нарочно, жгло все сильней. Его лучи будто прилипли к стерне — она стала оранжевой.
— Брат Халиль! Что же это аллах себе думает? Хоть бы какой ветерок послал!.. Так нет же, не шлет.
— Ну и пекло!.. — Халиль вытер лоб. — Оно и неудивительно. Говорят, ад прямо под землей Юрегира. За это аллах должен нам простить все грехи.
— Ну простит он, что из того? Все равно нашего брата в рай не пустят. Думаешь, пустят? Ни за что! И после смерти придется нам жариться на огне, вот как сейчас.
— А ты, Абдуллах-аби, хорошо будешь гореть, вон какой вымахал!
То и дело подъезжали волокуши, взлетали вверх натруженные руки.
— Погляди, кого это к нам нелегкая несет? — сказал Абдуллах. — А разоделся-то как!
— Ей-богу, это Сырры-эфенди! — сказал Халиль, воткнув серп в скошенную пшеницу. — Эй, народ! Сырры-бей едет!
Абдуллах вытаращил глаза, будто увидел чудовище.
— Ух ты! Что это он на себя напялил?! Вырядился, как немец.
Остальные, оторвавшись от работы, тоже уставились на приближающегося всадника.
— Верно я говорю, что он похож на немца?
— Я его в деревню вез, — сказал Халиль. — Хороший человек, не то что его братья.
— Ни разу не видел его в поле, хотя слыхал, что в деревню он частенько наведывается. Но ненадолго. Нынче приедет, а назавтра его уже и след простыл. А какой, говорят, кутила!
— Еще в обморок упадет, — сказал кто-то. — И как это он рискнул в жару из дома вылезти?
— В такой шапке можно в самое пекло спуститься. От нее голове холодно, — стал объяснять Абдуллах. — Но откуда вам это знать! Приезжал сюда как-то немец-механик, так у него точно такая же шапка была.
— Я слыхал, будто в этот раз он кофейню в карты продул, — заметил Алтындыш.
— Он что хотите в карты продует, — сказал Абдуллах. — Самому ему ничего не надо, а на отца и братьев наплевать. Только и знает, что кутить.
— Хватит, — вмешался Халиль. — Давайте работать.
Когда Сырры подъехал к батракам, Али Осман, Якуб и Сулейман заработали быстрее, без передышки разгружая то и дело подъезжавшие волокуши.
— Бог в помощь! — сказал Сырры.
— Добро пожаловать, бей! Добро пожаловать, хозяин!
Якуб спрыгнул со скирды и придержал хозяйскую лошадь, а когда Сырры спешился, привязал лошадь к волокуше.
Сырры сразу же отправился в тень скирды.
— Ну и жара!
— Да, жарковато!
— Дышать нечем… Возьму у вас немного воды лицо ополоснуть, вы уж не взыщите.
Якуб принес воду и полил Сырры на руки.
— Ох, освежился немного… — облегченно вздохнул Сырры и привалился спиной к скирде. — Можно я закурю?
— Не знаю, что и сказать, — ответил Али Осман. — Если загорится, хозяин с нас шкуру сдерет.
— Не бойтесь. Я осторожно, — ответил Сырры и, глянув на собиравших колосья, спросил. — Али Осман, сколько каждый собирает за день?
— Кто как. Кто пучков пять, кто десять. Да и пучки все делают разные: одни — помельче, другие — побольше.
— Словом, готовятся к зиме, так, Али Осман?
— Так точно.
В это время подъехал на волокуше Ремзи. Али Осман с Якубом мигом разгрузили ее, передавая снопы пшеницы Сулейману, который укладывал их в скирду. Сырры взглянул на Ремзи:
— Слушай, ты не сын ли нашей Ребиш, а?
Мальчик кивнул головой и, развернув мула, уехал.
— Али Осман, этот мальчик болен? — спросил Сырры.
— Хилый он. Сейчас работает, а зимой учиться будет.
— Неужели он учится?
— Ремзи перешел в четвертый класс, бей. Смышленый паренек, — сказал Якуб.
— Молодец. Учение — дело хорошее. А я вот не учился. На отцовское добро надеялся, — признался Сырры.
Длинный Махмуд извивался всем телом, стараясь дотянуться до колоска. Время от времени он вставал, чтобы отдышаться, делал несколько шагов на костылях и снова садился на землю, продолжая искать колосья. Остальные сборщики рассыпались по жнивью и, вытягивая шеи, пристально вглядываясь в землю под ногами, переходили с места на место. Солнце жгло нещадно. По соседству, на хлопковом поле, мотыжили батраки-арабы и пели свою песню.
Сырры задремал в тени под скирдой. Его разбудило громкое "Ох-ха-а!".
Это Дервиш привез на волах кашу, раздал лепешки и тотчас уехал. Ему еще надо было отвезти еду на хлопковое поле.
Батраки распрямили спины, собираясь передохнуть и поесть.
— Добро пожаловать, бей! — приветствовал Сырры подошедший Халиль.
— Рад тебя видеть, Халиль. Только было собрался съездить к тебе, а ты сам тут как тут. Я вот вздремнул малость. Совсем разомлел от жары. Вы все, наверно, сильно устали, Халиль?
— Устать-то устали. Но жара — еще хуже усталости, вконец извела.
— Добро пожаловать, бей! — поздоровался с хозяйским сыном Абдуллах.
— Рад тебя видеть.
Сборщики колосьев сошлись в тени у одной из скирд и развернули свои узелки. Разбивая луковицу кулаком, они макали ее в соль и перец и смачно жевали. Глоток воды, ломоть хлеба, лук…
Возчики и скирдовальщики расселись вокруг общих мисок.
— Просим, бей, поешьте вместе с нами! — предложил Халиль, обращаясь к Сырры.
— Спасибо, Халиль. Ешьте себе на здоровье. А мне пора.
Внимание Сырры привлекли Длинный Махмуд с сыном, которые продолжали собирать колосья чуть ли не на самой середине жнивья.
— Кто это? — спросил Сырры.
— Длинный Махмуд с сыном, — ответил Али Осман.
— Длинный Махмуд? Наш бывший возница?
— Да, когда-то он был возницей. Потом на него свалился котел, перешиб ногу, и ее отняли.
Халиль посмотрел на Сырры, взгляды их встретились, и Халиль медленно опустил голову, словно был в ответе за случившееся несчастье.
Сырры поднялся. Якуб бегом кинулся к лошади, отвязал ее и подвел к Сырры.
— Ну, всего вам! — Сырры вскочил на лошадь.
— Счастливого пути, бей!
Сырры поскакал прямо к Длинному Махмуду. Увидев приближавшегося хозяйского сына, Длинный Махмуд выпрямился, вытер пот со лба. Вели испуганно прижался к отцу.
— Папа, он нас прогонит?
— Не знаю, сынок, не знаю, дорогой.
Сырры остановил коня.
— Бог в помощь, Махмуд-ага! Что это ты здесь делаешь?
— Счастье свое собираем, бей. От вашей доброты и нам перепадает.
Сырры улыбнулся.
— А почему ты, Махмуд-ага, не идешь в тень отдохнуть? Неужели не устал?
Махмуд горестно покачал головой.
— Я, бей, калека, за другими мне не угнаться. Ну а Вели мой — еще дитя. Сколько он соберет? За весь день мы вместе с ним соберем от силы семь-восемь пучков. Это несколько горстей пшеницы. И на том спасибо. Нам ведь тяжко приходится. Вы, бей, и представить себе не можете, как тяжко.
Сырры помолчал, не зная, что ответить, затем сказал:
— Но трудно ведь собирать колосья таким способом?
— Терпеть голод, бей, куда труднее. А когда дети голодают, это совсем страшно. Нынче не помучаешься, бей, завтра зубы положишь на полку. Руки не протянешь, никто ничего не подаст! Вам, бей, этого не понять!
Сырры призадумался, вынул пачку сигарет, сунул одну в рот, спросил:
— Закуришь, Махмуд-ага?
— Спасибо, бей, не откажусь.
Махмуд вытер руки о штаны, провел языком по сухим, потрескавшимся губам. Поймав брошенную ему пачку, осторожно вытащил одну сигарету, остальное сунул в руку Вели. Тот поднес пачку Сырры.
— Не надо, Махмуд-ага, возьми себе.
— Всю пачку? — не поверил Махмуд.
— Конечно.
Махмуд обрадовался как ребенок, чуть не заплакал от счастья, широко улыбаясь, он посмотрел на сына. Тот тоже едва сдерживал радостную улыбку.
— Спасибо, бей, пребольшое спасибо! Да превратит аллах в золото все, чего вы коснетесь!
Растрогавшись, Сырры сказал, указывая пальцем на лежавшие перед ним снопы пшеницы:
— Видишь эти снопы, Махмуд-ага? Так вот, иди, садись около них и рви колосья. Сколько нарвешь до вечера — всё твоё.
Махмуд опешил. Сигарета, которую он хотел поднести ко рту, задрожала в руке.
— Прямо из снопов? — запинаясь, спросил он. — Можно рвать прямо из снопов? Правда?
— Ну конечно же, правда. Сколько успеешь нарвать, все будет твоим, Махмуд-ага.
— Махмуд за вас жизнь отдаст, бей. Ноги ваши целовать будет. Не иначе как сам аллах послал вас нам. — Махмуд потушил сигарету и, пряча окурок в карман, спросил: — И Вели может рвать, бей?
— Может.
Опираясь на костыль, Махмуд всем телом подался вперед и, припав к сапогам Сырры, стал целовать их, бормоча:
— Жизнь за вас отдадим. И Вели, и вся моя семья…
— Ладно, Махмуд-ага! — Сырры тронул коня. — Всего вам доброго.
— Спасибо вам, бей! Спасибо! Да пошлет вам аллах счастливого пути!
Сырры улыбнулся Вели и пришпорил коня.
Махмуд торопливо заковылял к снопам, словно их собирались увозить. Вели уже был там и дожидался отца.
— Рви, сынок! Рви, дорогой! — закричал Махмуд. — Не теряй времени, рви!
Махмуд уселся возле снопа и, что-то тихо бормоча, принялся за работу. Он молился за здоровье Сырры и одновременно вырывал из снопа колосья, набирая их в руку столько, сколько помещалось между большим и указательным пальцами, связывал концы соломой и аккуратные пучки укладывал в ряд. Он представлял себе, как обрадуются жена и дочь, и то уносился мыслями далеко-далеко, то возвращался к действительности. Он почти боготворил своего благодетеля.
Вдруг Махмудом овладело беспокойство. А что, если подъедут возчики и увезут снопы? Махмуд оглянулся и увидел Халиля, шедшего к нему с миской в руке, двумя лепешками под мышкой и серпом на плече.
— Бог в помощь, дядя Махмуд! — еще издали крикнул Халиль.
— Спасибо, дорогой. Это Сырры-бей разрешил мне рвать здесь колосья, вот я и рву. Так и сказал: рвите до самого вечера.
— Ну и спасибо ему. А я принес вам немного каши и пару лепешек, — сказал Халиль, ставя миску.
— Неохота мне есть, Халиль, — поспешно ответил Махмуд и повернулся к сыну. — А ты, Вели, поешь! Поешь, детка!
Каждый день, когда батраки отдыхали, Халиль приходил помогать Махмуду собирать колосья.
— Хоть немножко поешь, дядя Махмуд. На голодный желудок не наработаешь.
— Ей-богу, не хочется.
Халиль, опустившись на колени, стал связывать колосья в пучки. Вели принялся есть, а Махмуду, хотя он и проголодался, было сейчас не до еды.
— Ну хоть кусочек лепешки съешь, — уговаривал Халиль.
Махмуд нехотя откусил лепешку.
С наступлением сумерек батраки прекратили работу. Халиль помог Махмуду погрузить на волокушу его колосья. Под уставшим вечерним небом по пыльной дороге вереницей потянулись домой усталые скирдовальщики с серпами на плечах, усталые мулы, усталые сборщики колосьев. В самом конце ковылял Махмуд.
Всю дорогу Махмуд предвкушал радость встречи с женой и дочерью. В этот вечерний час чувства человека обострены, все кажется ему трогательным, как грустная песня, как плач по усопшему, как конец ненастья. Радость Махмуда не знала границ: подумать только! — из колосьев будут выбиты зерна, потом зерна провеют, чтобы очистить их от шелухи, и хоть на часть зимы семья будет обеспечена пропитанием. Теперь каждый ломоть хлеба, каждая горсть пшеницы будут напоминать сегодняшнюю радость. Махмуд представлял себе озаренные нежданной радостью лица жены и дочери, прекрасные и такие милые! Восторг, так не вязавшийся с жалким существованием калеки, с удушливым степным воздухом, с запахом пыли, с колючей стерней и уставшими полями, делал Махмуда похожим на большого ребенка.
Вели бежал рядом с волокушей и, то и дело оборачиваясь на порядком отставшего отца, смотрел на него сияющими глазами, широко улыбаясь. Махмуд отвечал сыну улыбкой, радостно повторяя:
— Сыночек мой, родной ты мой!
Махмуд мысленно представлял себе, как дома его встретят жена и дочь, прекрасные, какими они рисовались ему сейчас в воображении, как он расскажет им обо всем, не упустив ни одной подробности. Если же Вели его опередит, то они будут встречать Махмуда как настоящего героя, и не где-нибудь, а на самой окраине деревни. Махмуд заранее сиял от гордости, от счастья…
Подходя к дому, Махмуд увидел, что волокуша стоит у ворот и Халиль разгружает ее. "До чего же славный парень! — подумал он. — Славный-то славный, только до Сырры ему далеко". Махмуд ускорил было шаг, но споткнулся и упал. Упал и сам над собой рассмеялся. Поднявшись, он стал отряхиваться. Влажная земля прилипла к его щеке. Махмуд заковылял быстрее, он спешил домой к своим колосьям. Какой длинной казалась дорога! Он торопился, обливаясь потом, словно боялся не дойти до дому. Светившаяся на его лице радость растекалась по запавшим глазницам, морщинам, седине на висках. А ведь это был самый обычный южный вечер, один из тех обычных вечеров, когда с пастбищ возвращается скот, над деревней поднимается пыльное облако, пахнущее навозом, скотиной, вечерним покоем, придавая воздуху ласковую безмятежность. И деревня оставалась прежней, какой была всегда. Но дома, деревья, небо — все вокруг в тот день казалось Махмуду иным, он будто впервые увидел их. Возможно, в былые времена, когда он работал возницей, и выпадали такие же счастливые деньки. Возможно, тогда он так же искренне радовался жизни. Но такой гордостью, таким чувством собственного достоинства он преисполнялся не часто — пожалуй, лишь когда выходил победителем из больших драк.
Отчего же сегодня во всем: в суетливом копошении кур, в белеющих сквозь сумерки стенах домов — казалось, звучала какая-то особая мелодия? Отчего обыкновенные пшеничные колосья, неожиданно ставшие своеобразным итогом всей его жизни, так преобразили вечер? Махмуд каждой клеточкой своего тела ощущал эту перемену. Земля скользила под ним, мелькала перед глазами.
Лишь дома Махмуд почувствовал, как сильно он устал. Он долго не мог отдышаться. Но с лица его не сходило выражение радости. Вели носил пучки колосьев на крышу. Жена и дочь еще не вернулись с поля.
Махмуд, прислонившись к стене, крикнул сыну:
— Вели, там наши не идут? Глянь-ка, детка! Тебе с крыши виднее.
Вели посмотрел сверху на желтевшую в сумерках дорогу. Вдали, в пыльной дымке, тянулась цепочка батраков.
— Идут! — крикнул мальчик, стремглав сбежал с лестницы и помчался навстречу матери и сестре.
Махмуд заволновался, прикидывая, что расскажет им Вели, и поглядывая на оставшуюся у двери кучку колосьев. В который раз он вспоминал свой разговор с Сырры, восстанавливая мельчайшие подробности, улыбался — и лицо его преображалось. Он закурил одну из подаренных Сырры сигарет, а пачку положил на видное место. Наконец послышались голоса. "Пришли!" — подумал он.
При виде целой горы колосьев Азиме отбросила в сторону мотыгу и застыла с разинутым ртом. Затем со слезами в голосе воскликнула:
— О-о! Неужели все это наше?
— А то чье же?
— Эмине! Доченька! Иди скорее сюда! Это все наше, ей-богу!
Эмине глазам своим не верила.
— Ну что, врал я вам? — торжествующе спрашивал Вели.
Азиме обняла и расцеловала сына.
— Вот видишь, жена! А ты еще говорила, что от Махмуда никакого проку. Ты только погляди, сколько мы набрали.
— Спасибо Сырры-бею, спасибо! Он и к нам на поле нынче заезжал, — сказала Азиме.
— Подошел он ко мне, — рассказывал Махмуд, — и спрашивает: "Как дела, Махмуд-ага?" Ты только подумай, жена. Не кто-нибудь, а Сырры-бей, сын Кадир-аги, назвал меня агой. Тот самый Сырры-бей, что за ночь шутя проигрывает в карты тысячи лир. Даже сигаретами меня угостил, целую пачку дал! Видали? Да за такого хозяина душу можно отдать, верно, жена? Дал мне эту пачку и говорит: "Все твои".
— Не пошли нам, аллах, печали после такой радости! — вздохнула Азиме.
Махмуд недовольный, что его перебили, выпустил дым прямо в лицо жене и продолжал:
— Потом он мне говорит: "Иди к любому снопу пшеницы, садись и рви колосья, пока не стемнеет. Сколько успеешь нарвать, все твое. Считай, говорит, это поле своим". Тогда я спросил его: "И Вели может рвать?" "Может", — ответил он. Лучшего эфенди и представить себе трудно. Халилю тоже спасибо, подсобил нам. Он всегда помогает.
Махмуд готов был рассказывать о Сырры без конца. Эмине вместе с Вели переносила на крышу колосья.
Подошел Муса, усталый, разбитый.
— Поздравляю, брат!
— Спасибо, Муса! А ты откуда узнал?
— Да все, брат, знают, все до единого знают, как тебе повезло. Только и говорят про это.
— Да ну! Иди-ка, я угощу тебя сигаретой. Не курево, а настоящий бальзам для легких! Иди, иди, не стесняйся. — Махмуд протянул Мусе пачку.
— Вот это да! — Муса даже глаза вытаращил. — Где ты их раздобыл? Такие только господа курят.
— Когда едят виноград, про виноградник не спрашивают. К тому же, учти, теперь и я агой считаюсь. Кури! Угощаю!
— Ну и везет же простофилям!
— Пусть я простофиля, зато сердце у меня чистое. Понимаешь? Чистое! Бери, бери! Еще бери, не стесняйся!
Муса взял вторую сигарету и заложил ее за ухо.
— Ей-богу, слава Сырры-бею! Таким и должен быть хозяин. Отцом должен быть для бедняков. А наших хозяев аллах нам в наказание послал.
Ночью Махмуд долго думал о Сырры. Постепенно события прошедшего дня вместе с усталостью отодвинулись куда-то далеко-далеко, и Махмуд уснул.
Проснулся он еще затемно, посмотрел на звезды, потом выглянул из-за полога: в предрассветный час слабо вырисовывались очертания домов и деревьев. Дул легкий ветерок. Махмуд с наслаждением вдохнул в себя запах утра. Жена, дочь и сын спали как убитые, казалось, они никогда не проснутся. Вели лежал, зарывшись головой в подушку. Махмуд закурил. Вьющийся от цигарки дымок, легкое трепетание полога, спящие жена и дети, неподвижные складки на одеяле — все это делало царившее вокруг безмолвие еще более глубоким и навевало грусть.
Неожиданно ночную тишь нарушил протяжный свист. Это свистел в свисток сторож Муса. Расколовший безмолвие свист долго отдавался в ушах Махмуда.
"Горемыка Муса!" — подумал Махмуд, и, будто снежная лавина, обрушились на него мысли о бедности. А ночь меж тем упивалась последней предрассветной тьмой.
Махмуд посмотрел на Вели. Жалко будить мальчонку! Сделал еще затяжку, не спуская глаз с сына, потом тихо позвал:
— Вели!
Вели не шелохнулся.
— Вели, детка! Вставай, родной! Пора!
Махмуд легонько толкнул сына. Вели высунул голову из-под подушки.
— Вели, сынок мой родной! Отец тебя очень любит, но вставать пора.
Что-то пробормотав, мальчик снова спрятал голову под подушку.
— Вели, сынок!.. Вставай, родненький! Я бы не будил тебя, если б мог. Я растил бы тебя, как растят своих детей хозяева. Ходил бы ты у меня в ботинках, в красивых рубашках, пил молоко, ел мясо. Я знаю, как надо любить своих детей, хорошо знаю. Только вот нищета — чтоб она сгорела! — замучила.
Махмуд опять легонько потряс мальчика за плечи.
— Вели!.. Сынок!.. Просыпайся!
— Дай хоть еще немножко поспать! — чуть не плача попросил Вели. — Хоть минутку!
— Опоздаем мы, сынок.
Вели наконец сел, посмотрел вокруг невидящими, пустыми глазами и снова плюхнулся на подушку.
— Детка, родной мой, пора идти. В поле поспишь, — целуя сына, умолял Махмуд. — Еще несколько дней потерпи, стисни зубы, а там отоспишься досыта. Пусть руки у меня отсохнут, если буду тебя тогда будить! А сейчас… Если мы опоздаем… Сам подумай: что с нами будет? — Он нежно погладил сына по голове.
Начинался день. Новый день. Горланили петухи. Махмуд стал одеваться. Было прохладно, пахло росой.
— Вели!
— Еще немножко, папа, вот столечко.
— Ради всего святого, Вели, — жалобно просил Махмуд, обнимая сына. — Сборщики колосьев уже ушли. Скоро пойдут и скирдовальщики. Когда же мы с тобой доберемся до поля? Я ведь калека, еле двигаюсь. Подумай, что будет с нами зимой? Отец тебя любит, сынок, очень любит. Каких я тебе повозок и волов налеплю из глины! А хочешь, из дерева вырежу?
Махмуд покрывал поцелуями лицо, глаза, волосы сына.
— Спроси меня, Вели, хочется мне тебя будить? Не хочется! Ох как не хочется! Сердце разрывается на части, но что поделаешь, сынок?
Всхлипывая, Вели открыл глаза и, совсем как взрослый, сказал:
— Лучше бы аллах прибрал мою душу! Я б хоть не мучился.
— Потерпи, Вели. Через несколько дней закончится перевозка снопов, и нам уже нечего будет собирать в поле. Тогда и отоспишься. А я тебе игрушечную повозку смастерю.
Махмуд одел ребенка, умыл его. Проснувшаяся от шума Азиме смотрела на них из-за полога.
Когда они вышли из дому, темнота понемногу стала рассеиваться. Небо светлело, отчетливее виднелись поля. По дороге Махмуд мечтал о том, чтобы снова приехал Сырры и разрешил им рвать колосья. Вели сонный, с закрытыми глазами плелся за отцом.
Звяканье жести, звон колокольчиков, гул земли… Махмуд оглянулся. Невыспавшиеся батраки тянули за собой своих мулов, волокуши и усталость, которая так и не прошла за короткую ночь.
— Что это вы сегодня запаздываете, дядя Махмуд? — спросил, подходя, Халиль.
— Вели моему нездоровится.
— А что с ним?
— Не знаю. Просто нездоровится.
— Что с тобой, Вели?
Вели, надув щеки, посмотрел на Халиля. Рядом ехал верхом на муле Ремзи. Халиль поднял Вели и усадил его позади Ремзи. Мальчики посмотрели друг на друга и рассмеялись.
Батраки, обгоняя Махмуда, здоровались с ним и спешили дальше. Мимо проходили, засунув руки в карманы, заспанные мальчишки и девчонки. Лениво плетущиеся мулы тоже оставляли Махмуда позади.
Запыхавшийся, потный, Махмуд добрался до поля лишь с восходом солнца. Вели спал в тени под скирдой. Осторожно, чтобы не разбудить сына, Махмуд положил под скирду сверток с едой.
— О создатель, открой мне врата счастья! — произнес Махмуд и принялся собирать колосья, то и дело поглядывая на дорогу. — Услышал бы аллах мою мольбу и послал бы сюда Сырры-бея!
Вскоре проснулся Вели и тотчас поспешил отцу на помощь.
К полудню Дервиш привез кашу. Халиль, поев, как обычно, пришел помочь Махмуду и принес с собой немного каши и две лепешки.
— Приехал бы и сегодня Сырры-бей! Вот было бы здорово! Что ты на это скажешь, Халиль?
— Сегодня утром, дядя, Сырры-бей уехал в Адану. Мне только что Дервиш сказал. Он его до шоссе довез.
Бодрое настроение покинуло Махмуда. Халиль вынул из кармана смятую пачку сигарет и протянул ему…
Часть третья
МОРЕ
Под лучами утреннего солнца Енидже походит на добродушного старика, покуривающего толстую цигарку, время от времени сплевывая липнущие к губам табачные крошки. Мотыжение, прополка, скирдование — со всем этим покончено. Молотилки успели пережевать скирды и разбросать по жнивью кучи соломы, похожие на остроконечные колпаки. Запахи смазочного масла, пшеницы, мазута и пыли исчезли так же, как и появились, — вместе с грохотом молотилок. Добродушный старик совсем выбился из сил и теперь отдыхает. По утрам, до самого восхода солнца, он отсыпается, около полудня ест кашу и салат, после еды выкуривает цигарку, а по вечерам, помыв ноги, лезет на плоскую крышу под белый полог и, отдав себя во власть ночной прохлады, засыпает.
В последние дни Эмине то и дело охватывает тревога. Каждое утро, когда сон уже покидает девушку и она готова проснуться, ей кажется, что она опоздала в поле. И тотчас жизнь становится невмоготу. В ужасе открывает Эмине глаза и, только поняв, что не нужно идти в поле, успокаивается. Эти рождающиеся в полусне страхи как бы продолжение недавней изнурительной страды, вконец вымотавшей ее душу и тело. И сегодня, проснувшись, она не сразу избавляется от чувства тревоги. Красная герань, розовая гвоздика, белые пологи — красива деревня в лучах солнца. Радостно смотреть на белизну полога, ощущать мягкость постели и подушки, наслаждаться одиночеством, свободно, как захочется, двигать руками и переворачиваться с боку на бок. Ощущение этой свободы наполняет душу истинным блаженством. От слегка покачивающихся ярко-красных цветов герани веет покоем. Эмине смотрит на цветы и делится с ними мыслями. Она верит, что в будущем, которое рисуется ей в мечтах, сохранится что-то и от этих мгновений, этого настроения, красок этого утра…
Закрыв лицо ладонями, Эмине снова и снова думает о том, что уже столько раз думано-передумано…
Во дворе Азиме вальком для белья выбивала зерна из колосьев. В тени под навесом Махмуд и Вели с увлечением мастерили игрушечные повозки из кусочков дерева.
— Вот это, — разъяснял Махмуд, показывая тонко выструганный стерженек, — будет ось. Если ось крепка, не бойся, нагружай сколько влезет. А вот из этого куска сделаем колеса — и повозка готова.
— А волы?
— С волами дело проще.
— Один пусть будет рыжим, другой — черным. И непременно чтоб с рогами. Большими-пребольшими — вот такими!
— Не беспокойся. Я тебе таких волов сделаю, что во всем Юрегире лучше не найдешь.
— Только чтоб были большими-пребольшими!
— А я тебе и сделаю больших-пребольших.
— А потом, папа, давай возницу вырежем. И усы ему приделаем.
— Тоже скажешь! Как можно, глупыш, свою повозку доверять другому! Нет лучше возницы, чем ты сам. А теперь перекур. Сейчас свернем цигарку потолще и закурим. Ладно?
— Ладно.
— Знал бы ты, сынок, каким возницей был твой отец! — свертывая цигарку, заговорил Махмуд. — На весь Юрегир славился. Это уж точно, на весь Юрегир! Да только проклятая судьба обломала мне крылья и забыла про меня… А ведь, бывало, скажет кто-нибудь: "Вон Длинный Махмуд из Енидже!" — и все расступаются. Остальные возницы твоего отца как огня боялись. И вот на тебе — согнула меня судьба в бараний рог.
Махмуд тяжко вздохнул, послюнил цигарку языком и заклеил.
— Папа, а я смогу стать возницей, когда вырасту?
— Зачем тебе быть возницей? Ты, Вели, учиться будешь. Выучишься — человеком станешь. Вон смотри, Ремзи, сын Камбера, закончил нашу школу, а в этом году, говорят, в Кадыкёй пойдет учиться. Далековато, правда, но он от своего не отступит. Так что бери с него пример. Этой осенью ты тоже в школу пойдешь. Накуплю тебе тетрадок, карандашей, книжек.
— А я выучусь, а потом возницей стану.
— Так не годится, сынок. Ты должен стать настоящим эфенди. Разве пристало грамотному возницей быть? Теперь возница в Юрегире — последний человек, все равно что батрак-молотильщик. Возниц и молотильщиков стороной обходить надо, потому что их занятие, сынок, истинно божья кара. Хорошенько запомни мои слова: молотильщики — раз, возницы — два! Запомнил?
— Молотильщики — раз, возницы — два! — повторил Вели.
— Точно. В мое время возницы были совсем другими. Тогда эта профессия считалась почетной. Перед нами люди расступались. А теперь? Теперешние возницы и в подметки прежним не годятся…
— А Халиль-аби?
— Халиль не такой. Про него плохого не скажешь. Это ты верно подметил. Его ведь Али Осман с Сулейманом учили, а они возницы старого закала, вроде меня.
Эмине зачерпывает подносом пшеницу и веет ее. Ветер относит мякину, а красные пшеничные зерна падают на расстеленное покрывало, образуя горку. Шелуха летит по ветру, метется по земле, покрывая ее золотой чешуей.
Азиме, устав молотить, утерла пот и крикнула:
— Эмине! Иди-ка помоги, а то у меня руки отваливаются.
Эмине садится вместо матери и принимается бить вальком по колосьям, С каждым ударом колоски делаются все тоньше, зерна выскакивают в шелухе или совсем чистые. Ласково пригревает солнце, но день еще хранит утреннюю свежесть. Пахнет пшеничным зерном, в воздухе носятся золотые чешуйки, и под размеренный стук валька Эмине думает о Халиле. По лицу девушки блуждает счастливая улыбка, в глазах светится надежда…
После полудня, когда тени домов заметно удлинились, все краски стали более мягкими, бархатистыми, как всегда бывает в эту пору дня.
Махмуд спал, посапывая. Вели играл с глиняными волами, которых смастерил для него отец. Азиме с дочерью молча ссыпали зерно в торбу. Проснувшись, Махмуд почесался, сплюнул и спросил:
— Азиме, когда хозяева на море отправляются?
— Откуда мне знать? Будто других забот у меня нет.
Махмуд прислонился к стене и принялся сворачивать цигарку.
— Да я просто так спросил. Эх, жизнь наша! Было время, когда я сам их на море возил. Они ехали всем семейством, сразу на нескольких повозках. Я первой повозкой правил. Тогда еще был жив старый Сырры-ага, отец Кадир-аги. А я был совсем молодой.
— Что прошло, того не вернешь. Ты в сегодняшний день смотри.
Широко размахивая руками, к ним шла Ребиш. Еще издали она, улыбаясь, прокричала:
— Бог в помощь, сестрица Азиме!
— Пусть и тебе он поможет, как мне!
— Ну, ты легка на помине, Ребиш, — сказал Махмуд. — Ей-богу, мы только что вспоминали о тебе. Разве не так, жена?
— Что же тут удивительного, — весело ответила Ребиш. — Недаром говорят: вспомнишь доброго человека, а он тут как тут.
— Скажешь тоже! Да если бы все были добрыми вроде тебя, мир давным-давно сгинул бы. Мы, к примеру, ни одного доброго дела от тебя не видели, чтоб тебе пусто было!
Ребиш рассмеялась;
— Да не угаснет твой очаг, Махмуд!
— Добро пожаловать, — сказала Эмине, подавая гостье миндер[24].
— Рада тебя видеть, Эмине. Да пошлет тебе аллах здоровья!
— Что ж это ты, Ребиш, такая-сякая, совсем нас забыла? — спросил Махмуд.
— Как я могу вас забыть, Махмуд? Старый друг врагом не станет. Вот видишь, пришла!
— Хватит увиливать. Говори прямо! Зачем пожаловала? Ты ведь просто так не придешь. Дело есть?
— Да образумит тебя аллах, Махмуд! Разве к друзьям только по делам ходят? Дай, думаю, схожу погляжу, как там Азиме и Махмуд поживают, о здоровье справлюсь. А ты…
— Добро пожаловать! — перебила ее Азиме. — Милости просим! Не обращай на него внимания. Он вечно ворчит. Это у него задушевным разговором называется.
— Значит, можно сказать, все дела переделали, — продолжала Ребиш. — Ни мотыжить больше не надо, ни жать, ни колосья подбирать. А булгур когда варить собираетесь?
— Даст бог, на следующей неделе. Так, Эмине?
— Да, мама. Раньше не управимся.
— Ну, хватит, безбожница, выкладывай, зачем пришла! — перебил их Махмуд.
— Ладно, раз тебе так уж невтерпеж, скажу.
— А что я говорил?! Эта обманщица без дела не заявится.
Ребиш взглянула на Эмине. У девушки оборвалось сердце.
— Так что же у тебя за дело? — спросила Азиме.
— Я за Эмине пришла.
— А зачем она тебе понадобилась?
— Назмие-ханым передает вам всем большой привет и говорит…
— Что же она, интересно, говорит, эта Назмие-ханым? — спросил Махмуд.
— Говорит, что через два дня они уезжают на море. Она просила передать вам привет и еще просила, чтобы вы разрешили Эмине поехать с ними.
— Ты, Ребиш, не виляй, а говори прямо, — сказал Махмуд. — Знаешь басню про ишака? Пригласили ишака на свадьбу. А он подумал-подумал и с вьючным седлом туда отправился. Спрашивают его люди: "Зачем тебе седло на свадьбу?" А ишак и отвечает: "Раз ишака на свадьбу зовут, значит, надо им или дров натаскать, или воды, а то б не позвали".
— Да не угаснет твой очаг, Махмуд! — рассмеялась Ребиш. — И откуда ты все эти басни знаешь? Но не бойся, работы там будет немного.
— Пусть работы немного. Но разве я не знаю, какие делишки творятся на этих курортах?
— Ну что ты, Махмуд! Пойми, мне одной не управиться: весь дом на мне. В кои-то веки попросила, так неужели не выручите?
— Когда едете? — спросила Азиме.
— Послезавтра. Какой же это день будет? Не среда ли?
— Среда.
— Ну вот, значит, в среду.
— А ты, дочь, что скажешь? — спросила Азиме.
— Что мне говорить? Как велите, так и поступлю.
— Тут, дочь моя, мы тебе не указ, — сказал Махмуд. — Работать ведь тебе. Послушай, что я тебе скажу, а потом решай. Вставать будешь чуть свет. Завтрак сготовишь, посуду вымоешь, постираешь, а там, глядишь, за обед приниматься надо. Пообедают хозяева — будешь им кофе варить, потом снова мыть посуду. Еще и за детишками придется присматривать, хозяйка целыми днями из моря не вылезает. Так и будешь до самого вечера волчком вертеться. Ночью тоже не отдохнешь. Ее ублюдок всю ночь орет, будто его режут. Какой уж там сон…
— Будь ты неладен! — прервала Махмуда Ребиш. — Сам не знаешь, чего мелешь. Эмине, доченька, не верь ты ему.
— Отец не станет тебе врать, — возразил Махмуд.
Эмине улыбнулась:
— Ничего я не знаю. Как велите, так и сделаю.
— Но ты хоть скажи, хочется тебе ехать или не хочется, — настаивала мать.
— Скажете ехать — поеду.
— Ясно. Тебе хочется поехать, — рассудил Махмуд.
— Теперь слово за вами. Дайте свое согласие, и дело с концом, — сказала Ребиш.
— Что скажешь, муж? — спросила Азиме.
— Пусть едет, раз ей хочется.
— А ты что молчишь? — обратилась Азиме к дочери.
— Скажете ехать — поеду, — повторила Эмине.
— Сестрица Ребиш, вы только жалейте там Эмине, чтобы она не очень устала от этой поездки. Бедняжка и без того в поле извелась, — попросил Махмуд.
— Я, Махмуд, люблю Эмине не меньше тебя, — сказала Ребиш. — И забочусь о ней не меньше вашего. Так что не беспокойся.
— Прошу тебя, Ребиш, — взмолилась Азиме, — не давай девочку в обиду.
— Будь спокойна.
— Смотри, сестрица, чтобы с чадом моим ничего не случилось, чтобы в море не утонула. Эмине — наше единственное сокровище.
— Надо же такое сказать, — проворчал Махмуд и повернулся к дочери: — Эмине!
— Что, отец?
— Хочешь поехать, дочка?
— Если прикажете, поеду!
— Ладно, поезжай. Только будь осторожна.
— Так и быть, пусть едет, — повернулась Азиме к Ребиш и спросила: — Когда же ей прийти нужно?
— Да хоть сейчас. Нам ведь подготовиться к отъезду надо.
— Ладно, пусть сейчас и идет. Вещи пока не бери, Эмине, я сама уложу что надо.
— Только умойся, причешись да приоденься, — распорядился Махмуд.
Эмине вскочила и помчалась собираться. Умывшись, подбежала к зеркалу, повязала платок, который, по ее мнению, был ей очень к лицу, надела чистую кофточку и шаровары. Лицо девушки сияло. Она чувствовала себя красавицей, которую ждет небывалое счастье. Глаза ее блестели. Охватившее Эмине возбуждение укрепляло в ней предчувствие перемен.
По дороге Эмине улыбалась.
— Что это ты, доченька? — спросила Ребиш.
— Ничего, просто так.
— Просто так не бывает. Да пошлет аллах тебе счастья, проказница! Думаешь, я не знаю?
— О чем вы?
— Дядя Камбер мне все рассказал.
Эмине тихонько засмеялась и с нескрываемой радостью спросила:
— А кто из возчиков едет?
— Али Осман и Сулейман.
— Ради аллаха, говори правду.
— Клянусь аллахом, дочка, Али Осман и Сулейман.
Эмине сразу как-то сникла.
— А Халиль? Халиль не едет?
— Зачем тебе Халиль, негодница эдакая?
— Тогда и я не поеду.
— Что вас с Халилем, веревкой связали?
— Не поеду, Я только и согласилась из-за Халиля. Иначе нечего мне там делать, на этом вашем море. Думаешь, я дура? Ехать, чтобы сносить обиды, унижения? Не поеду! Пропадите вы все пропадом! Без Халиля шагу не сделаю!
— И вправду не поедешь?
— Да чтоб я ослепла, если вру!
— Шагай, шагай, не бесись!
Эмине повела плечами, надулась как ребенок, готовый заплакать, потом вдруг сказала:
— Я пойду домой, — и повернула обратно.
Ребиш схватила ее за руку:
— Ишь, беспутная, распрыгалась! Давай шагай! Едет твой Халиль. Едет, чтоб его перекосило!
— Едет? Это правда? Если не поедет… с полдороги убегу, клянусь аллахом!
— Да успокойся ты! Едет он. Кто, кроме Халиля, может нас туда отвезти?
— Откуда мне знать? Поверила твоим словам, вот и испугалась.
— Ты что, доченька, так любишь этого Халиля?
— Ох, если б ты знала, что со мною творится! Сердце на части разрывается! А ему хоть бы что. Только раз поговорил со мною, в поле. И ни разу после этого не подошел, даже не смотрит на меня. Вчера проходил мимо, так — веришь? — головы не повернул.
— Может, ты чем обидела парня?
Эмине остановилась.
— Умереть мне молодой, если я ему хоть словечко обидное сказала!
— Чего остановилась? Иди и рассказывай.
— Глядит на меня косо, будто я у него что украла!
— Может, забота у него какая есть?
— Какая у него может быть забота? Сама подумай!
— Все мужики такие, чтоб им околеть! Вечно молчат и думают, будто могут что-то путное придумать. Не волнуйся, все образуется. Как говорится, нет худа без добра. Подожди только маленько.
Чем ближе подходили они к господскому дому, тем сильнее волновалась Эмине. Войдя в ворота, она сразу же приметила Халиля. Он стоял с топориком на телеге и мастерил перекрытие из веток шелковицы. Халиль и Эмине посмотрели друг другу в глаза и замерли.
— Хватит тебе, проказница, — прошептала Ребиш, — успеешь насмотреться. Пошли!
Эмине стояла неподвижно, будто не слышала.
— Вот божье наказание, иди же наконец! — ущипнула ее Ребиш, потеряв терпение, и потащила Эмине за собой.
Девушка поплелась за Ребиш, поминутно оглядываясь назад, пока не исчезла в дверях дома.
В ушах у Халиля зашумело, его обдало жаром… Али Осман, не сводивший с дверей глаз, покачал головой. Халиль отвернулся и принялся снова гнуть ветки, привязывая концы к краям повозки.
Халиль проснулся под своим пологом на крыше хлева и, сидя на постели, курил. Тоска, снова тоска. Она лишила Халиля покоя. Лишь изредка мечты отвлекали его от жизненных невзгод, но и то ненадолго. Будь он таким жизнерадостным, как улыбка Эмине, таким жизнелюбивым, как сама Эмине, он разогнал бы грызущую его тоску! Стоило Халилю подумать о том, сколько надо денег, чтобы содержать семью, и ему делалось страшно. Он приходил в отчаяние и замыкался в себе. Халиль понимал, что для полного счастья одной любви мало, что мечты его несбыточны, и не мог избавиться от тоски, потому что все, с чем он сталкивался, возвращало его с небес на землю, приводило в уныние. Где-то в глубине его сердца жила боль, то почти угасавшая, то нестерпимая, и тогда он с особой остротой чувствовал свое одиночество.
Последние месяцы прошли в душевных муках. Он маялся от своей любви, понимая, что будущее его беспросветно. Порой он стыдился своих чувств к Эмине, ругал себя за то, что в разговорах с ней городил всякую чепуху. "Я горы для тебя сворочу!" — вспоминая эти слова, Халиль от злости скрежетал зубами. "Это ты горы своротишь?! Ты, несчастный батрак, голодранец! Ни дома у тебя нет, ни денег, даже кружки своей нет. Где тебе мечтать о любви, о семье?"
Невидящими глазами смотрел Халиль в пустоту и думал, думал, думал. "Надо быть богатым, ну, на худой конец, иметь коня. Непременно белой масти. Садись на него, хватай Эмине и гони. Были бы деньги, был бы и конь, белый конь, а потом была бы и Эмине!"
Али Осман, Сулейман, Дервиш и Мухиттин спали на земляной крыше на разложенных в ряд соломенных матрацах. Тихое место под открытым небом — это все, что у них было. Может, потому и казалось, что освещавшее их своим ровным светом утро рождалось только для них одних. Стоявшие у постелей старые башмаки удивительно напоминали своих владельцев. Изодранные, грязные, разбитые, со стоптанными каблуками… Можно подумать, что башмаки жили жизнью Али Османа, Дервиша или Сулеймана.
А солдатские ботинки, изрядно поношенные? Ведь и они тоже чем-то походили на Халиля. С виду еще крепкие, они таили в себе безысходность, тоску.
Али Осман приоткрыл глаза и увидел сидевшего на постели Халиля. У него было такое печальное лицо, что сердце Али Османа сжалось от боли.
— Что с тобой? — встревоженно спросил Али Осман.
Халиль не ответил на вопрос, но тотчас встал и начал одеваться.
— Сам себя изводишь.
Халиль уже слышал когда-то эти слова, и они всколыхнули в нем воспоминания.
— Не надо принимать все так близко к сердцу.
Халиль взял картуз, ударил им несколько раз по коленям и, не говоря ни слова, посмотрел в глаза Али Осману. Затем, опустив голову, пошел к лестнице. Али Осман глядел ему вслед. Халиль медленно спускался: ступенька, еще одна, еще… Он словно куда-то проваливался и наконец исчез, оставив после себя безмолвие, как упавший в воду камень. В этом безмолвии утонул весь двор. Вскоре в окне господского дома засветился бледный огонек. Потом вспыхнул такой же тусклый глазок на небе.
— Сулейман, эй, Сулейман, пора вставать! — крикнул Али Осман.
Распахнулось одно из окон господского дома.
— Халиль! Халиль!
Халиль умывался.
В окне показалась Ребиш… Из-за ее спины выглядывала Эмине. Халилю было неприятно, что Эмине как будто пряталась и часть ее лица была скрыта от него. Он не мог разобраться в своих чувствах, понять, отчего вдруг начинает злиться на Эмине, старается всячески ее унизить, представить себе ее уродливой, высохшей под палящим солнцем на хлопковом поле… Имя Эмине связывается у Халиля не столько с самой девушкой, сколько с его чувством к ней. И боль утраты этого чувства, вычеркнутого Халилем из сердца, постоянно его терзает. Он пытается убежать от своей любви, но от самого себя не убежишь. Как ни уговаривает себя Халиль забыть Эмине, она продолжает жечь его сердце огнем любви.
Почему не идет у него из головы ее образ, почему она вспоминается ему в изодранной одежде с заплатами? Откуда эта тоска? Иной раз он понимает, что причина его душевной слабости в нем самом. Стремление заглушить или убить чувство, украшающее его жизнь, рождено сознанием собственной ничтожности. Стоит ему вспомнить об Эмине во время работы, когда с него ручьями катится пот, или когда рядом с ним стоит кто-то из хозяев, или же когда он валится с ног от усталости, и Эмине теряет в его глазах всякую привлекательность. Но в другие минуты Эмине для него — луч надежды, свет, боль… И Халиль это знает. Но у него нет дома, нет денег, нет ничего и никого…
У дверей дома Халиля ждала Ребиш.
— Иди-ка, милый, сюда! Никак не можем справиться вон с тем мешком. И так мы с Эмине пробовали, и эдак — ничего не получается.
Халиль представил себе, как Эмине пытается поднять тяжелый мешок, как она тужится, кряхтит. Наверное, лицо ее в этот момент делается уродливым, вызывает отвращение.
Посреди коридора высился огромный мешок. Рядом с ним, потупив глаза, стояла Эмине. Халиль почувствовал щемящую жалость и раскаялся в том, что так думал о девушке. Он поглядел в лицо Эмине. Она, конечно, ничего не заметила. На Халиля смотрели воспаленные от недосыпания, усталые глаза, лицо у девушки было совсем еще детское, но измученное. Всегда грустная, сегодня Эмине выглядела совсем несчастной.
Халиль подошел к мешку, потрогал его.
— Этот?
Мешок и в самом деле оказался тяжелым. Из комнат доносились голоса: господа, видимо, только-только просыпались.
"Я, как и ты, Эмине, обездоленный, — сказал про себя Халиль. — Иначе разве бы я допустил, чтоб ты ходила со склоненной головой, как сирота?"
Халиль пригнулся, подставил спину. Ребиш и Эмине взяли мешок за углы, помогли Халилю взвалить его на спину. Халиль медленно выпрямился, подтянул мешок повыше, чтобы он был точно посередине спины, и начал спускаться с лестницы. Эмине смотрела Халилю вслед, ей казалось, что она на себе ощущает тяжесть этого мешка.
— Эмине! — позвала Ребиш.
— Да.
— А ты, доченька, отнеси вот эти подушки.
Эмине схватила подушки и побежала. Халиль тяжело ступал, согнувшись под огромным мешком. Эмине, не смея обгонять Халиля, шла сзади, в двух шагах от него.
Дервиш поил волов. Али Осман и Сулейман умывались. Они помогли Халилю снять мешок. Освободившись от ноши, Халиль почувствовал себя легким, почти невесомым.
Эмине с подушками в руках стояла, глядя в сторону, точно провинившийся ребенок.
— Куда их положить, Халиль?
Халиль взял подушки и швырнул на повозку.
— Кто тебя сюда послал? Мать, что ли? Чего ты не видала на этом море?
— Если не хочешь, я не поеду, Халиль.
Халиль задумался.
— Не хочешь, чтоб я ехала, — так и скажи, я тотчас же вернусь домой. Как скажешь, так и поступлю.
Подошла Ребиш, неся множество свертков и узелков.
— Что с тобой?
— Ничего, — буркнула Эмине и, взяв у Ребиш свертки, понесла их к повозке.
— Чтоб тебе пусто было! — накинулась Ребиш на Халиля. — Чего тебе надо от бедной девушки?
— Ничего не надо.
— Что он тебе сказал? — пристала Ребиш к Эмине.
Эмине метнула взгляд на Халиля.
— Ничего. Что он мог мне сказать?
— Сказал, я по его лицу вижу, что сказал.
Эмине молчала.
— Не скажешь, что он тебе говорил? — не унималась Ребиш.
— Сказать? — спросила Эмине Халиля.
— Говори, если есть о чем сказать.
— Он не хочет, чтобы я ехала, — ответила Эмине, улыбаясь Халилю.
Ребиш подбоченилась:
— Это почему же, а?
— Тебе, мать, нечем больше заняться, что ли? Если будете застилать дно повозок, то начинайте. Утро уже, вот-вот господа выйдут.
Халиль вскочил на повозку.
— А ты помолчи, — шепнула Ребиш Эмине. — Уж я его проучу!
Втроем они начали стелить на пол первой повозки коврики, раскладывать подушки с шелковыми наволочками, обвязали волам шеи разноцветными платочками, и повозка стала похожа на свадебную.
Один за другим просыпаются хозяева и гости, съехавшиеся в господский дом, чтобы вместе отправиться на море. Во дворе начинается оживление. Каждый год в это время, когда с полевыми работами покончено, а урожай собран и обмолочен, деревенские богачи с семьями отправляются на две-три недели к морю. Таков издавна заведенный обычай.
В ночной сорочке до пят и тюбетейке Кадир-ага, похожий на привидение, смотрит с веранды на готовые к путешествию повозки.
Его дети, сноха, внуки и слуги, точно стадо баранов, толпятся во дворе.
— Ничего не забыли? — строго спрашивает Кадир-ага.
— Все в порядке, хозяин, — отвечает Халиль.
Дурмуш-ага подзывает к себе Мухиттина, наказывает неусыпно следить за петухом, угрожая спустить семь шкур, если что случится.
Раздается утренний эзан[25]. Повозки начинают выстраиваться в ряд, В это необычное утро дети, женщины, мужчины громко и возбужденно разговаривают, обмениваются шутками. Уже рассевшиеся по повозкам женщины перекликаются друг с другом, малыши плачут.
Вначале к месту сбора подъезжают три повозки Кадир-аги. Следом за ними — повозки Дурмуш-аги и его брата Хусейна. Возницы располагают повозки в строгом порядке, так, чтобы впереди каравана шли четыре повозки, предназначенные для мужчин. Кто подает назад, кто выезжает вперед. Халиль везет женщин. Ребиш с детьми устроилась в повозке Али Османа.
Становится все светлее. Деревенские улицы постепенно стряхивают с себя ночное оцепенение. Просыпаются люди, животные, птицы, просыпается все, даже валяющиеся на улице куски жести ярко вспыхивают под лучами солнца.
— Эй, люди, все готовы?
— Готовы, готовы!
— Тогда трогай!
Одна за другой повозки трогаются с места.
— Счастливого пути!
— Счастливого пути!
— И вам всего хорошего!
Колеса начинают тихо поскрипывать, затягивают им одним понятную песню. Колеса сами ее сочиняют.
Когда повозки выезжают из деревни, суета и галдеж постепенно стихают.
Сквозь стенки повозки почти не слышны визг и крики избалованных детей, бессмысленные и скабрезные разговоры людей, пресыщенных жизнью. Сиротливо остаются позади последние сады и дома, погруженные в деревенскую тишину. Некоторые из уезжающих провожают их грустным взглядом, словно расстаются с ними навсегда. Для одних это грустное расставание, для других — праздник, начало веселого путешествия. Утро прихорашивает деревенские дома, по небу бегут редкие облака, наслаждаясь прохладой, и та самая деревня, из которой обычно норовят убежать, сейчас манит к себе, как любимое дитя. Скрипят колеса. Темно-зеленые кроны оставшихся позади деревьев вскоре превращаются в круглые зеленые шары, постепенно сливающиеся в сплошную зеленую полосу. Полоса эта мало-помалу распадается на отдельные темные островки, которые все уменьшаются под тяжестью небосвода.
Перед восходом солнца землю, дороги, поля заливает мягкий ласковый свет. В солнечном восходе кроется удивительная тайна, и потому так хорошо мечтать в этот ранний час. Под необъятным небосводом, в утреннем тумане, который вот-вот рассеется, людей охватывает изумление перед волшебной силой природы, суть которой невозможно постичь, но которая, презирая расстояния, связывает воедино великое множество мыслей, великое множество неведомых красок, великое множество букашек, птиц, кустов, трав, цветов, земель…
Бренчат ведра, подвязанные к осям повозок, плывет дорога под колесами, отступают поля. Под неумолчный скрип колес, к которому время от времени примешиваются голоса, крики, детский плач, караван уходит все дальше и дальше.
— Селим едет!
— Селим едет!
— Селим-аби едет!
Халиля передернуло от злости, так не любит он этого Селима. Он оборачивается: оставляя за собой облачко пыли, их догоняет всадник.
Шакал Омар, который едет на одной из последних повозок, тоже питает жгучую ненависть к Селиму. Краем глаза смотрит он на свою Халиме. Она, как и все остальные, разинув рот, глядит на дорогу. Это еще больше злит Омара, и он вымещает злость на волах. Волы делают рывок, сидящие в повозке валятся друг на друга.
Селим едет на своем белом коне. От ветра волосы у Селима растрепались. Красный платок, повязанный вокруг шеи, очень идет ему. Подъехав к повозкам, Селим кричит:
— Привет народу!
— Привет! — отвечают ему.
Назмие, жене Дурмуш-аги, явно льстит, что к ее брату проявляют такой интерес.
— Где это ты задержался, Селим?
— И не спрашивай, сестра, — ответил он, игриво улыбаясь, после чего перекинулся несколькими словами с девушками и чем-то их насмешил.
Что бы ни делал Селим, все казалось Халилю омерзительным. В каждом его слове и поступке Халиль чувствовал фальшь и презирал тех, кто перед Селимом заискивал. Заметив, что Эмине, высунув голову, с улыбкой глядит на Селима, Халиль со злостью подумал: "А тебе, дрянь, чего надо?"
Селим погарцевал у повозок, в которых ехали мужчины, потом, обдав их пылью, поскакал вперед.
"Будь у меня лошадь! Вот такая, как эта…" — подумал Халиль и вспомнил свои недавние мечты.
Под лучами солнца простиравшиеся по обе стороны дороги хлопковые посадки и пустые, скошенные поля, стряхнув с себя сумрачность, засверкали яркими красками. К полудню раскаленное солнце уже набрасывалось на людей и волов, как бешеная собака. Люди под навесами притихли, дремлют, сморенные жарой, обливаются потом. В мерно покачивающихся повозках их убаюкивает, как в люльке. Пышащий жаром проселок стелется под колесами и, словно стекая, уходит назад. Солнце на полпути к закату, ветер дует как-то нехотя, словно чертыхаясь сквозь зубы. От ветра трепещут навесы. Звонко посвистывая, над холмами порхают синицы. Вдоволь выспавшись, вылезают из повозок дети. Они сонно таращат глаза, потом вдруг замечают, как все изменилось вокруг, пока они спали. В этих краях, где все краски словно смешаны вместе, даже солнце, даже пыль и земля выглядят иначе.
В повозках, где едут мужчины, расстелили скатерти, на них анисовая водка и закуска. Звучат песни. На обочину высыпали из повозок мальчишки и девчонки. Они гоняются друг за другом, забегают на чью-то бахчу, срывают все, что попадется под руку: початки кукурузы, арбузы, большие дыни и пахучие маленькие дыньки… Каждый год во время поездок к морю происходит одно и то же. Там, где побывают дети, все опустошено, словно после налета саранчи. Нет большего удовольствия для детей, чем забраться в чужой сад, на чужую бахчу.
Под огромным деревом у дороги семь могил. Те, кому доводилось проезжать здесь, знают, что на эти могилы принято ставить свечи. Сделав привал на несколько минут, путники по традиции привязывают к веткам дерева у могил пестрые лоскуты, загадывая самые сокровенные желания[26]. В этих могилах, как гласит предание, покоятся семь братьев, чьи семь звезд сияют нам с неба. Братья в один час пали на поле брани, но смерть не в силах была разлучить их, и вот теперь каждый вечер из глубины небес ослепительным блеском сияет созвездие. Семь звезд горят и лучатся светом сердец семи добрых и мужественных людей.
Селим давно уже доскакал до могил и теперь отдыхает в тени дерева… После короткой остановки караван снова трогается в путь. На этот раз Селим едет рядом с повозками и по очереди катает на своей лошади детей.
Теперь почти все идут пешком. Одним надоело в душных повозках, другие вылезли поразмяться. Оживились даже самые старые. Они с удовольствием идут по дороге, по которой ходили давным-давно. Мальчишки прыгают от восторга. И вся эта пестрая толпа спешит вслед за повозками.
Чем заметнее удлиняются тени, чем мягче и свежее становится воздух, чем ближе дыхание моря, которое несет с собой ветер, тем радостнее у всех на душе. Кто-то тихонько затягивает песню, кто-то подхватывает, и вот уже все поют:
Халиль заметил, как шедшая рядом Эмине поглядывала на него, особенно когда пели последний куплет. "Вот уж точно бабья порода. Только что Селима глазами ела, теперь за меня принялась", — подумал Халиль. Но хоть он и злился на Эмине, не удержался и тоже посмотрел на нее. Эту песню будто сочинили для них двоих. Смех Эмине, такой далекий от всяких недобрых мыслей, ее по-детски чистый взгляд вновь ранят сердце Халилю. А люди опять вполголоса поют песню — воспоминание о былых днях, поют почти все. А одна из дорог Енидже все так же извивается. Далеко позади осталась деревня Енидже, но и ей, наверно, передалось грустное настроение, порожденное этим мигом, этой песней…
Спустился вечер. Вереница повозок остановилась у какой-то реки. Напоили, накормили волов. И сами поели. Зажгли фонари и керосиновые лампы. Медленно течет вода в реке, поблескивая под луной, в воде отражается каменный мост, поросший мхом, — все вокруг напоминает ночь из волшебной сказки. И дети, не раз слышавшие такие сказки, воображают себя героями одной из них.
Вскоре повозки с грохотом и скрипом выезжают на утрамбованную земляную дорогу, которая словно хочет убежать прочь от света фонарей.
С наступлением ночи голоса стихают и воцаряется тишина: все спят. Возницы молча курят, погруженные в старые, привычные думы.
Тем, кто спит, чудится сквозь сон колыбельная песня. Каждый слышит ее по-своему, но всем от нее спится одинаково легко и безмятежно. Временами тряска становится особенно сильной, человек невольно приоткрывает глаза, в сновидения врывается матовая голубизна неба, белые облака… Постепенно белого и голубого становится все больше. Непривычная свежесть заставляет поеживаться, будит, словно спешит сообщить радостную весть о том, что люди попали в совсем другой мир. Издали несется шум, необычный для слуха деревенских жителей. Он растет, ширится, надвигается все ближе. На короткое время воцаряется тишина, чтобы тут же взорваться грохотом… В повозки бесцеремонно врывается ветерок, пропитанный запахом рыбы, соли. Всем ясно: это море.
— Море!..
Не досмотрев своих снов, люди второпях вскакивают с постелей. Перед ними простирается темная гладь, но это не поле. Деревенские богатеи, привыкшие к покою и раз навсегда установленному порядку, стараются сейчас скрыть свое волнение глупыми смешками. Тех, кто еще не проснулся, тормошат:
— Просыпайтесь! Море!
Да, это море. Но сначала — широкая полоса песка, который мнит себя достойным соперником виднеющихся вдали темно-синих гор. А за песком — море, оно не умещается в своем ложе, и кипит, бурлит весь простор до самого горизонта.
Последними просыпаются дети. Их босые горячие ноги касаются песка, впитавшего в себя ночную прохладу. Эта прохлада разливается по всему телу. Дети шумно радуются и что-то кричат, глядя на море… Безбрежное утро, безбрежное море, ветер, пахнущий солью… Волы устали, с их морд стекает пена. Дети, юноши, девушки и вспомнившие молодость пожилые люди бегут по песку, оставив далеко позади ползущие повозки. Морские волны набегают на берег, распластываются, как хорошо раскатанное тесто, затем отступают, чтобы снова вернуться. Кажется, они испытывают огромную радость оттого, что касаются детских ног. Дети резвятся, носятся по берегу, кричат. И песок не остается к ним равнодушным: он играет с детьми, тает у них под ногами. Перед постоянно сменяющими друг друга волнами тянется пенистая полоса. Ремзи смотрит то на детей, то на море и думает, насколько ничтожны все они перед этим величественным и необъятным простором.
Наконец караван останавливается у облюбованного места. Разгружают повозки, устраивают очаги. Еще немного, и лагерь разбит. Можно подумать, что все эти палатки и повозки не только что появились, а стоят здесь давным-давно.
Незаметно время подходит к полудню. Женщины купаются в своих длинных свободных платьях. Разноцветные платья, надуваясь, походят на огромные водяные цветы. Рядом с женщинами в воде барахтаются дети. Мужчины чувствуют себя неловко в белых, ниже колен трусах, и они действительно выглядят смешными.
Эмине и Ребиш суетятся, готовя обед. Из кастрюль идет пар, на скатерти раскладывают еду. Пахнет жареной рыбой.
После обеда шум и суматоха поутихли. Шумит только море. Все остальное подчинилось власти его мерного гула. Господа улеглись спать. Халиль смотрел на повозки, на разбросанные по берегу палатки. Казалось, они тоже отдыхают, воспользовавшись тишиной, нарушаемой лишь дыханием моря. Волны плавно накатывают на песок и так же плавно скользят обратно.
Эмине мыла посуду. Чуть поодаль, перед палаткой Дурду, мыла посуду Халиме. Одни спали, другие работали.
Сидя на корточках, Эмине время от времени вытирала пот со лба и с улыбкой поглядывала на Халиля. Потная, с руками, пахнущими жиром и рыбой, она совсем не походила на ту Эмине, которая жила в мечтах Халиля. А эта, эта Эмине постоянно менялась и в один и тот же день могла казаться Халилю то красивой, то отталкивающей, то вызывающей жалость. Вот и сейчас, в лучах яркого солнца, она казалась ему жалкой, и он чувствовал досаду.
Халиль видел, как, вымыв посуду, Эмине боязливо вошла в море в своем стареньком платьице. Вода еще не доставала ей до колен, а она уже поспешила сесть, и платье ее раскрылось, как зонт. Волны плотно прибили края платья к воде. Эмине несколько минут, не двигаясь, посидела у берега и вышла из воды. Другие, купаясь, веселились, радовались, а Эмине была какой-то робкой, скованной. Она как-будто пугалась каждого взгляда, стыдилась даже находившихся рядом женщин.
Халиль с негодованием смотрел, как она выходила из воды. Платье прилипло к телу, четко обрисовав грудь и ноги. Халиль ревновал. Эмине стремглав юркнула в палатку и, высунув оттуда голову, улыбнулась Халилю. Тот осуждающе покачал головой.
Под вечер жара заметно спала. Берег окутала приятная прохлада. Халиль неподвижно сидел, курил цигарку за цигаркой. Селим, сын Кадир-аги Хусейн и другие сынки богачей состязались, кто дальше прыгнет. Халиль зло покосился на Селима. Не любил он его. Между тем все были с Селимом в приятельских отношениях.
Парни по очереди прыгали, но никто не мог прыгнуть дальше Селима. За состязанием с интересом следили и те, кто был на берегу, и те, кто оставался в палатках.
— Где им тягаться с моим братом, — то и дело повторяла Назмие.
А Селим хвастливо добавлял:
— Я пожму руку любому, кто прыгнет дальше меня.
Несколько парней снова попробовали свои силы, но опять потерпели неудачу, и в конце концов на площадке не осталось больше желающих. Проведенная куриным пером черта, до которой допрыгнул Селим, так и осталась недосягаемой для других. Халиль подумал, прикинул, огляделся. Потом медленно поднялся, глубоко вздохнул и направился к площадке. Он смерил взглядом расстояние от места толчка до прочерченной пером линии, затем посмотрел на палатки. Затаив дыхание, на него глядела Эмине. Халиль снял ботинки, закатал штаны до колен, засучил рукава и снова посмотрел на Эмине, будто она могла прибавить ему силы. Эмине поняла его взгляд.
Халиль разбежался, с силой оттолкнулся, прыгнул и обошел Селима на целую пядь.
После захода солнца все вокруг изменилось: и запах моря, и ветер, и песок. Вечер окутал берега лиловым туманом. Быстро темнело. Вскоре перед палатками и повозками зажгли фонари, снова задымили печки, зашипел жир, заплакали дети, а море стонало и шумело, вызывая ощущение бесконечности и освежая сердце, словно благодатный дождь. И люди невольно обращали лица к морю, переживая один из прекраснейших дней своей жизни; казалось, они лишь сейчас поняли, что жизнь не вечна и надо спешить жить.
У палатки ужинали Дурмуш, Хусейн, Назмие и дети. Эмине и Ребиш прислуживали. Ремзи поглядывал то на хозяина, то на мать, то на море и думал о своем. В такие минуты он с особой остротой чувствовал, что ему непременно надо учиться.
В стороне Али Осман, Сулейман и Халиль кормили волов.
Чем дальше продвигалась ночь, тем тише становилось вокруг, тем отчетливее слышался шум моря. Фонари перекочевали внутрь палаток, всего несколько осталось снаружи. Их тусклого света не хватало, чтобы отодвинуть темноту хотя бы до кромки моря. В такие часы хочется покурить, не спеша побродить по песку, полюбоваться морем, таким гордым в своем одиночестве, прислушаться к гулу волн, нескончаемой чередой набегающих на берег и отступающих назад, шурша песком. Халиль слышал, как при каждом его шаге под ногами, как под волнами, тоже шуршит песок. Было темно, и Халиль разделся догола. Когда ноги коснулись воды, он от неожиданности рассмеялся. Остановившись, Халиль сделал последнюю затяжку и выбросил окурок. Все так же радостно смеясь, побежал вперед и нырнул. Накрывшая его соленая вода, ее запах стали частью его самого. Казалось, он давно ждал этой мягкой, дружеской ласки моря. Уныния как не бывало. Халилю даже подумалось, что наконец-то он освободился от всего, что отравляло ему жизнь. Плеск волн ласкал слух, как любимая песня. В тусклом, призрачном свете фонарей палатки и повозки казались сказочными видениями, а от волов будто остались лишь плоские половинки — те, что были обращены к свету. Халилю вдруг захотелось, чтобы волы, как люди, могли радоваться, веселиться, купаться в море. Но он тут же улыбнулся своим нелепым мыслям: "Ну и башка у меня! Они же волы! Чего от них ждать?!"
Халилю казалось, что эта ночь спустилась на землю для него одного, что он был ее избранником.
Не спалось и Эмине. Рядом с ней расположились Ребиш, двое детей Дурмуша и Ремзи. Эмине выглянула из палатки и посмотрела в ту сторону, где стояла повозка Халиля. "Спит", — решила девушка и вспомнила, как Халиль с первой же попытки прыгнул дальше Селима. "Вот молодец!" Ей до боли захотелось очутиться сейчас рядом с Халилем. А море пело свою вечную песню, наполняя ею сердце Эмине. Мелькнула тень дежурившего в эту ночь Шакала Омара. Затем послышался голос Халиля:
— Искупался я на славу…
"Не спит!" — Сердце Эмине бешено застучало, и она решилась на невозможное: пойти к Халилю, броситься в его объятия, а потом… Эмине на мгновение заколебалась. Но какая-то сила будто толкала ее: "Иди!" Девушка снова выглянула из палатки. Халиль одевался. Фонарь на повозке Али Османа высветил его обнаженное тело. Шакал Омар ушел. Все остальные спали.
"Будь что будет!" — решила Эмине. Тихонько поднявшись с постели, она осторожно выскользнула из палатки. Шуршание песка под ногами грохотом отдавалось у нее в ушах.
Халиль уже кончал одеваться, когда к нему подошла Эмине.
— Ты что, рехнулась?!
Эмине села рядом с Халилем.
— Все спят, Халиль.
— Ну и что? А если увидят?
— Кто нас увидит?
Эмине наклонилась и нащупала в темноте руку Халиля. Он тотчас же ее отдернул.
— Уходи, Эмине!
— Халиль!
— Иди спать, говорю тебе! Не выводи меня из терпения!
— Чем я провинилась перед тобой? Почему ты со мной так…
Халиль оттолкнул Эмине, и она упала, ударившись головой о колесо телеги. Халиль уже раскаивался, что так поступил, но виду не подавал. Держась за голову, Эмине приподнялась:
— Тебе совсем меня не жалко?
— Что мечтать о несбыточном, Эмине! Я многое передумал за это время. Не быть нам с тобой мужем и женой. Я сам честный и на чужую честь не зарюсь. Раз мы не сможем пожениться, к чему все это? Уходи, Эмине! Уходи! Так лучше будет.
— Почему, Халиль? Разве мы не имеем права на счастье, как другие?
— Нет, Эмине, потому что мы бедняки. А обо мне и вообще говорить нечего. Местный крестьянин — одно, а батрак-пришелец — совсем другое. Сама посуди: жить нам с тобой негде, даже спать не на чем. Как мы поженимся, когда ни куруша нет за душой? Что ты мне посоветуешь? Увести тебя в горы? Или привести в хлев, где я сам живу, к мулам и волам? Отвечай!
— Мы, Халиль, еще молодые. На все заработаем. Ну помучаемся вначале. Так ведь нам не привыкать. Дня без мучений не проходит. Верно я говорю? А боишься, что на свадьбу денег не раздобудешь — увези меня, и дело с концом.
— Так нельзя, Эмине.
— Почему? За год, за два, ну от силы за три на все заработаем. Я колоски буду собирать, из хлопка постель сделаю, найдем себе какую-нибудь хибару и будем жить, как сможем. Роптать не станем. Наладится у нас жизнь, Халиль, вот увидишь.
— Скажи, Эмине, что ты во мне хорошего увидела? Лицом я не вышел, денег нет, жилья тоже нет.
— Вот сумасшедший! Ей-богу, Халиль, ты сумасшедший. Неужто не понимаешь? Я сердце тебе отдала, а оно не разбирает: красивый — некрасивый…
— Отчего же тогда ты на Селима пялишься?
— Когда это я на него пялилась!
— Сколько раз замечал.
— Аллах помилуй твою грешную душу — вот все, что я могу тебе сказать. Клянусь, ты сумасшедший. И вдобавок слепой. Зачем мне на чужого пялиться?
Халиль закурил.
— Может, ты ревнуешь, Халиль? — продолжала Эмине. — А? Ну скажи ради аллаха! Ревнуешь?
— Вот еще выдумала! С какой стати я буду тебя ревновать? Делай что хочешь! Хоть сейчас беги кидайся ему на шею!
— Накажи тебя аллах! Сумасшедший ты, это точно! Да если бы мне захотелось кинуться кому-нибудь на шею, я все одно к тебе бы кинулась.
— А мне это ни к чему.
— Раз ревнуешь, значит, любишь. Да, Халиль? Любишь меня, правда?
— Уходи!
— Ответь ради аллаха!
— Уходи! — крикнул Халиль и так толкнул Эмине, что она снова упала в песок.
— Все равно ты любишь меня. Вот нашу Фатьму муж тоже бьет, потому что любит. Я это знаю.
— Ни черта ты не знаешь.
— Ей-богу, ты меня любишь!
— Да что в тебе, глупая, любить? Самая что ни на есть обыкновенная чернявая тощая девчонка. Одни кости. Полежишь с тобой — все бока исколешь. Или ты как та фасоль, что сама себя нахваливает: вкуснее-де нету?
— А с чего мне толстой быть? Ты посмотри, как господа едят! Объедки, которые они нам кидают, куда лучше того, что мы едим каждый день. Грех тебе так говорить, Халиль!
Халиль и сам жалел, что обидел Эмине. Он виновато посмотрел на нее. Ведь и он сегодня ел объедки вместе с Али Османом и Сулейманом.
— Твоя правда, — согласился он.
— Зачем же тогда ты со мной так разговариваешь?
— Не обижайся, Эмине! Само вырвалось, не подумал. Прости. И нас сегодня объедками кормили.
— А теперь, Халиль, скажи: любишь ты меня? Правда?
— Не люблю.
— Прибери аллах твою душу! Прибери ее, чтобы я у тебя в изголовье постояла! — Эмине в сердцах дернула Халиля за мокрые соленые волосы.
— Не трогай! — крикнул Халиль и, схватив руку Эмине, заломил ее назад.
— Ты мне руку сломал, — жалобно сказала Эмине. Затем неожиданно изогнулась и укусила Халиля в плечо.
Халиль рассмеялся.
— Ну и острые же у тебя зубы! — сказал он и схватил ее за нос.
— Пусти!
— А будешь кусаться?
— Не буду.
— Честное слово?
— Честное слово.
— Поклянись.
— Клянусь.
Халиль, сам не понимая, что он делает, внезапно дал Эмине пощечину.
— Ой, до чего же тяжелая у тебя рука. На вдове женишься. Ей-богу!
Ни слова не говоря, Халиль запустил пальцы в волосы Эмине и пригнул ее голову к своим коленям. Эмине растянулась у его ног, как ласковый котенок. Некоторое время они, застыв, прислушивались к шуму моря.
— Я озябла, Халиль.
— Тогда иди спать. Да побыстрей, чтобы никто не увидел.
— Я вовсе не хочу спать. Мне хочется быть рядом с тобой. Как только у тебя начнут слипаться глаза, я тотчас уйду.
— А я и с открытыми глазами могу спать. По-заячьи.
— Так я тебе и поверила.
Халиль рассмеялся. Эмине приподнялась и дернула его за волосы. Халиль тоже схватил ее за косы. Им обоим было приятно ощущать легкую, будоражащую боль. Халиль обнял девушку и привлек ее к себе. Эмине обвила руками шею Халиля. Их лица и руки пылали.
— Халиль! Ой, Халиль! — вырвался у Эмине тихий, как шепот, чуть хриплый стон.
Вдруг девушка забилась в объятиях Халиля, крикнула:
— Не надо! Перестань! — Она вырвалась и побежала прочь.
Халиль еще не успел прийти в себя, когда раздались шаги Шакала Омара.
Дни сменялись днями. И каждый прошедший день уносил с собой частичку пережитого.
Как-то вечером, доедая то, что осталось от господского ужина, Эмине вспомнила отца с матерью и брата. Должно быть, они сейчас тоже ужинают, едят постную пшеничную кашу. Мать едва держится на ногах от усталости. Только доберется до постели и тут же заснет. Отец, пожалуй, еще немного посидит, покурит, послушает тишину. Вспомнила Эмине, что брату нечего надеть, вспомнила бедность… Мало-помалу Эмине вновь погружалась в заботы своей, уже успевшей забыться крестьянской доли, а обманчивая красота и преходящая легкость здешней жизни отступили на задний план. Мечты, которым Эмине предается здесь, не имеют ничего общего с той, настоящей жизнью в отчем доме. Эмине становится грустно. Сейчас в Енидже ее мать, отец и брат, измучившись за день, спят на крыше, А каким жалким выглядит Вели по сравнению с детьми хозяев, которые весь день бездельничают и не думают ни о чем, кроме собственных удовольствий. В деревне Эмине ждут прежние заботы, горе и нужда. Они как забытая одежда, которую вскоре предстоит надеть снова. Та жизнь, как бы далека она сейчас ни была, — жизнь настоящая, ее жизнь.
А море по-прежнему шумит. Очнувшись от забытья, Эмине снова устремляется мыслями к этому морю, к этому воздуху, к своему Халилю…
Халиль ходил между повозок и курил. Время от времени он останавливался, оглядывался по сторонам и снова принимался ходить. Он в эту ночь сторожил. Еще немного побродив, Халиль возвратился к своей повозке. Там его ждало одиночество.
Эмине огляделась — в палатке все спали. Тихонько выскользнув из постели, она побежала к повозке Халиля.
— А, заявилась? — сказал Халиль. — Знаешь, чем все это кончится? Увидят нас — стыда не оберешься.
— Сон ко мне не идет, Халиль. Мать вдруг вспомнилась.
— Скучаешь?
— Очень. Каждый вечер о ней думаю. А ты вспоминаешь свою мать, Халиль?
— Иногда.
— Она давно умерла?
— Давно. Я совсем маленьким был. — Халиль умолк, посмотрел на Эмине и продолжал. — А отца моего убили. Вообще в нашем роду никто своей смертью не умирал. Всех поубивали в горах. А чтоб меня не убили, мать убежала со мной в эти края. Эх, Эмине, знала бы ты, какие красивые у нас горы. А сосны! Как чудесно они шумят! Будто колыбельную поют. В горах человеку ни матраца не надо, ни одеяла. Никто никому там не указ. Живи, как тебе хочется. Хочешь — проснешься до солнца, хочешь — в полдень, а то и вечером. Наши горы ни с какими не сравнить, Эмине. Они особенные.
— Если увезешь меня, так непременно в те горы, правда, Халиль?
— Нет, Эмине. Уйти в горы — все равно что умереть. Туда уходят только с отчаяния, когда ничего больше не остается. Так уж оно повелось. И Хыдыр говорил: нас только горы и приберут.
Халиль задумался. Некоторое время они молчали, слушая шум прибоя.
Зябко поеживаясь, Эмине сжалась в комочек и придвинулась к Халилю.
— Замерзла?
— Замерзла.
Халиль накинул ей на плечи шинель.
— Тебе грустно, Халиль, вспоминать о матери?
— Грустно. Мать много горя в жизни видела, очень много. Все мы, конечно, умрем, но когда я думаю об этом, то говорю себе: сегодня мы живы-здоровы, а завтра Азраил постучится к нам в дверь и скажет:
"Хватит! Отжили вы свой век. Отдавайте-ка души!" Эмине еще ближе придвинулась к Халилю.
— Мир этот, Эмине, насквозь лживый, а жизнь в нем пуста. Видишь, вот и Хыдыр наш помер.
— Говорят, он был без памяти влюблен. Это правда, Халиль?
— Да, он собирался увести Алие в горы. Там они оба погибли бы.
— А мы с тобой, Халиль, что будем делать?
— Не знаю.
— Уйдем отсюда, Халиль. Где-нибудь пристроимся.
— Куда идти, Эмине? В горы, в пустыню?
— У тебя нигде нет знакомых?
— Нет.
— Что же с нами будет?
— Говорю тебе, не знаю. Хоть ты меня не трави, и без того тошно.
— Я тебя люблю, Халиль. Ты и представить себе не можешь, как сильно я тебя люблю.
— Да что во мне любить, Эмине?
— Откуда я знаю? Все в тебе люблю: и как ходишь, и как смотришь. Даже когда брови насупишь и становишься противным, я все равно люблю. А ты что во мне любишь?
— Ну что в тебе, глупая, такого есть, чтобы любить?
— Врешь ты все.
— Зачем мне врать?
— Раз нечего во мне любить, чего ты меня каждый раз целуешь?
— Да это просто так. Не обращай внимания. Любовь — другое дело.
— Поклянись, что правду говоришь.
Халиль кивнул.
— Тогда я ухожу. Уйти, Халиль, а?
— Уходи.
— Еще гонишь. Да чтоб ты провалился!
Халиль рассмеялся тихо, почти беззвучно.
— Смеешься? Чтоб тебя аллах прибрал! Чтоб на тебя корчи напали!
— Ладно, чего тебе от меня надо?
— Чего надо? Сидеть с тобой рядом, вот чего надо! Халиль ничего не ответил, тогда Эмине придвинулась к нему вплотную и стала ласкаться, словно кошка: сунула голову ему под мышку, рукой забралась под рубашку и начала его щекотать.
— Ты совсем не боишься щекотки?
— Что я, женщина, чтобы щекотки бояться?
— Глупый, разве щекотки только женщины боятся? Вот мама как пощекочет отца, тот сразу начинает смеяться.
— То твой отец, а то я.
— Ну и что?
— Ничего.
Эмине снова принялась щекотать Халиля.
— Эй, хватит! — прикрикнул Халиль и сам стал щекотать Эмине. Эмине засмеялась, а потом отпрянула от него:
— Оставь, а то закричу! Убери руку! Еще раз так сделаешь, близко не подойду! А ведь говорил, бессовестный, что не заришься ни на чью честь!
Халиль хотел обнять Эмине, но она, смеясь, оттолкнула его руку.
— Совсем стыд потерял. Попадись тебе — все косточки переломаешь.
Халиль снова попытался обнять ее.
— Э, с тобой шутки плохи! — сказала девушка и убежала.
Ремзи не столько любил само море, простирающееся куда-то в бесконечность, сколько небольшой прозрачный заливчик, огороженный мшистыми скалами. Широко раскинувшийся морской простор вселял в мальчика ощущение зловещей таинственности, смешанное со страхом. Ремзи целые дни проводил на заливе: здесь было очень интересно и можно было даже делать маленькие открытия. Ремзи нравилось, бросив в воду камушек, прислушиваться к всплеску, смотреть, как расходятся дрожащие круги, как камушек, идя ко дну, кружится, точно падающий лист. Тишина укромного залива, крики чаек, многокрасочные переливы заката, когда солнце садится в море, привлекали Ремзи гораздо больше, чем шумные игры и беготня на берегу. Ремзи стеснялся своей худобы и почти никогда не купался при людях. Он выбирал отдаленные, скрытые от чужих глаз места и купался один или дожидался вечера.
Его мать и Эмине вставали спозаранку, готовили господам завтрак, а после завтрака сразу начинали варить обед. В море они купались редко, в играх и подавно не участвовали. Иногда, правда, его матери удавалось уговорить Эмине побыть хоть недолго в обществе девушек. Эмине нравилась Ремзи больше всех. А после Эмине ему нравился Халиль. Чем-то они оба были ему близки. Халиль весь день работал, почти ни с кем не вступал в разговоры. Привезет из соседних деревень воду, рыбу, фрукты, а затем коротает время за цигаркой в тени своей повозки.
Берег, где жизнь била ключом, к полудню оказывался во власти волн, солнца и чаек. Все спали. Из палаток не доносилось ни звука. Лишь из-под некоторых повозок поднимался дымок от цигарок да смачно чавкали жующие арбузные корки волы. Ремзи думал о том, что вот люди покинут эти места и здесь опять не останется ни души, а море будет шуметь лишь для себя, и старался представить, как здесь будет без людей и без их неугомонной суеты. Осиротеет скала, на которой он сейчас сидит и мечтает, и море, в даль которого он смотрит, подперев ладонями виски…
В полдень Халиль, как обычно, сидел в тени повозки, попыхивая цигаркой. Ремзи щелчком послал в его сторону камушек. Халиль обернулся к Ремзи, и они улыбнулись друг другу.
Осторожно, чтобы не нарушить шуршанием песка сонную тишину, Ремзи подошел к Халилю.
— Ты чего не спишь, Ремзи?
— А я никогда не сплю днем.
— Что ж это ты? И в игры ни в какие не играешь, и не спишь.
— Я хожу вон к тем скалам.
— Один? И не боишься?
— Чего бояться?
— Это верно. Я так спросил, слова ради. Ты по отцу соскучился?
— Соскучился.
— А по деревне?
— И по деревне, но больше по отцу.
— И я соскучился по твоему отцу. Веришь? Дядя Камбер, поди, сидит сейчас под навесом.
Ремзи кивнул и сказал:
— Когда пойдете купаться, возьмите меня с собой.
— Пожалуйста, буду брать тебя с собой хоть каждый день. Согласен?
— Конечно.
— Значит, договорились. Вечером идем купаться.
К концу дня Шакал Омар, Халиль и еще один возница, собрав в палатках все бидоны и кувшины, отправились в соседнюю деревню за водой. Ремзи уселся в повозку рядом с Халилем, который стал его учить погонять волов.
— Кольнешь стрекалом в этот бок — вол пойдет в эту сторону, — показывал Халиль, — а если в тот бок, то в ту. Не сильно, а то взбесится. За волами нужен глаз да глаз. А колоть их надо почаще просто так, для острастки.
Ремзи ловил каждое его слово затаив дыхание, с неистощимым детским интересом. И Халилю нравился этот интерес, это стремление все понять. Он одобрительно приговаривал:
— Да ты, Ремзи, прирожденный возница.
Мальчик в ответ довольно улыбался.
Наполнив водой бидоны и кувшины, они двинулись в обратный путь. Дорога пролегала меж хлопковых полей. Коробочки уже начали созревать, и на зеленом фоне листьев появились красные, желтые, розовые и белые пятна. Трава и листья у обочины дороги были серыми от пыли.
— Халиль! — окликнул друга Шакал Омар.
— Что, брат?
— Через месяц, пожалуй, можно будет начать сбор хлопка. А?
— И того раньше.
— Если снова будем работать в паре, нас никто не обгонит, правда? Все возницы Енидже будут плестись в хвосте!
— Оно так, — ответил Халиль и, повернувшись к Ремзи, спросил: — Значит, дальше будешь учиться, а?
— Да, буду.
— В Кадыкёй будешь ходить?
— В Кадыкёй.
— Далековато, Ремзи.
— Ничего.
— Правильно, ничего страшного! Учеба — дело хорошее. Учись, брат, учись! С такой головой, как у тебя, можно учиться.
— Я буду учиться. Чтобы мама и отец когда-нибудь перестали быть батраками.
У Халиля от этих слов защемило сердце.
Прошло десять дней, и рано утром, последний раз искупавшись, все тронулись в обратный путь. Берег, привыкший к людям, вновь возвращался к своему одиночеству. Все глуше, все слабее позади гул моря. Самого моря уже не видно. Видно лишь лазурно-голубое небо над ним. И дети с любовью поглядывают на это небо. Морской шум, прежде рождавший приподнятое, восторженное настроение, теперь вызывает чувство грусти. Чем дальше от моря, тем живее в памяти подробности пережитого там, где небу надоело быть небом и оно превратилось в море. Проведенные у моря дни с их играми, шумом прибоя, песчаными берегами, чайками-рыболовами начнут постепенно стираться из памяти, но воспоминания о них каждый раз будут вызывать грусть.
Часть четвертая
ДОРОГА К СПАСЕНИЮ
Ремзи проснулся и стал смотреть на едва теплившийся в керосиновой лампе огонек. Фитиль был прикручен, стекло закоптело. В окне зияла темнота. Дверь, улица, двор, спящая мать, керосиновая лампа — все пребывало в покое, но покой этот был рожден одиночеством. Усталость и горечь на лице матери вызвали в Ремзи новые для него чувства. Ему чудилось, будто под одеялом лежит не мать, а призрак, взявший себе ее лицо, крашенные хной волосы рассыпались по подушке. Призрак этот уже жил много тысяч лет назад, но он, Ремзи, так истосковался по нему! Ремзи видит все это, как сквозь тюлевую занавеску или матовое стекло, скорее не видит, а вспоминает. И как будто он только что увидел мать после долгой разлуки, лицо у нее еще более грустное и изможденное, чем обычно. Да, Ремзи узнал ее, свою маму: она была именно такой, она ничуть не изменилась, не состарилась, а ведь Ремзи замечал, что мама с каждым днем стареет… До чего же он ее любит, как она дорога ему! И сколько у него с ней общего. И лицо у него, как у мамы, и руки. Он привязан к матери, все думы, все мечты его с нею. Стоит вспомнить ее или поглядеть ей в лицо, и душу охватывает щемящее, ни с чем не сравнимое чувство. И сейчас, глядя на мать, Ремзи чуть не плачет: мать для него самый любимый человек, самый близкий друг — словом, все на свете. Как ему хотелось обнять ее, поцеловать, прижаться щекой к ее щеке! Синие жилки на ее руках казались ему удивительно красивыми, словно он в жизни не видел ничего прекраснее. Может быть, на самом деле все было иначе, но именно такой виделась Ремзи его мать.
Он посмотрел на свою новую куртку и штаны, приготовленные еще с вечера. Сшитые из домотканой материи, они лежали на табуретке, не обращая ни малейшего внимания на хозяина, которому так не терпелось поскорее их надеть. И грубые коричневые ботинки, решительно не желавшие блестеть при чахлом свете лампы, пребывали в таком же полнейшем равнодушии, словно давным-давно привыкли и к Ремзи, и к своему месту на полу. Под тиканье недавно купленного будильника изменившие вид комнаты новые вещи постепенно привыкали к выпавшей им доле. Приподнятость и праздничность, переполнявшие Ремзи, как будто разделились поровну между этими вещами, и они стали частичкой самого Ремзи. Купленные отцом на с трудом сэкономленные деньги, они представлялись Ремзи первыми товарищами на его новом пути. Ранец, старательно обернутые в бумагу книжки и тетрадки, карандаши, резинка… И у каждой вещи свой, присущий только ей запах. Эти запахи, привыкавшие к новому окружению и сами придававшие ему новизну, в сочетании с противоречивыми и восхитительными ощущениями утра рождали в Ремзи безумные и дерзкие надежды.
Перед Ремзи открывалась новая дорога. После окончания трехлетней сельской школы он записался в пятилетку, которая находилась в большом селе Кадыкёй. Сегодня, в первый день нового учебного года, Ремзи от волнения лишился сна. Он ждал.
Кто-то, тихо покашливая, бредет по улице. Это отец! Ремзи безошибочно узнает кашель отца, его шаркающую походку. Мальчик вскакивает с постели и бежит открывать дверь. Рука отца, поднявшаяся, чтобы постучать в дверь, повисла в воздухе. С улицы пахнуло свежестью. У отца поднят воротник латаного-перелатанного пиджака, он стоит, втянув голову в плечи. В зубах догорает цигарка.
— Ты уже проснулся, сынок?
Ремзи подкручивает фитиль в лампе. Камбер прикрывает дверь.
Просыпается Ребиш. Звенит будильник. Его звук так приятен Ремзи, что он смеется от удовольствия. Камбер нажимает кнопку, и будильник умолкает.
— Ты уже проснулся, сынок? — спросила Ребиш. Ремзи молча кивнул. Камбер обнял сына.
— Вот выучишься — в люди выйдешь. Доживет ли отец твой до тех дней, когда ты перестанешь батрачить и станешь настоящим эфенди? Если доживу, принесу предкам нашим в жертву петуха. Только бы дожить! Будем надеяться, сынок, что аллах не даст пропасть трудам твоим. А коли даст — я не буду считать его аллахом!
Глаза у Камбера наполнились слезами. Он поцеловал Ремзи.
— До Кадыкёя далеко, родной. Но что поделаешь! Если все будет благополучно, на следующий год куплю тебе ослика. Летом будешь за ним ухаживать, а зимой и в ненастье — в школу на нем ездить. Ну а в этом году стисни зубы. Знаю, нелегко тебе придется, но ты сам видишь, что другого выхода нет. Верно, родной?
Ребиш затопила печь. Пламя озарило лица. На стенах заиграли розовые блики.
— До дождей, сынок, я тебе и сапоги куплю. А о нас не думай. Есть у нас сапоги или нет — один черт. Главное у нас — это ты. Что же еще тебе сказать? Все, что в такой день положено говорить, ты и так знаешь. Знаешь и про то, что говорил Дурмуш-ага, Послушать его — так быть тебе у него подпаском. Помнишь, он сказал: "Все равно не станет человеком, хоть и будет учиться…" Так и сказал. А я, детка, верю в тебя. Учись, родной, трудись, не позорь нас, не дай, Ремзи, врагам нашим порадоваться. Ты, родненький, знаешь, как тяжело нам живется, всю нашу бедность, всю нужду знаешь.
Ребиш поставила перед ними похлебку и вздохнула:
— Доживем ли мы, Ремзи, до светлого дня?
Ремзи совсем не хотелось есть, но мать и отец пристально смотрели на него, и мальчик без всякого желания проглотил несколько ложек.
— Больше не хочешь? — спросил Камбер.
Ремзи покачал головой.
— Ну и ладно…
Ремзи поднялся. Мать с отцом стали помогать ему одеваться. Приближалась минута расставания. Натягивая длинные, до самых колен, черные носки, Ремзи с улыбкой поглядывал на родителей, вот-вот готовых заплакать. Камбер незаметно смахнул слезу. Он кусал губы, часто моргал, широко раскрывал глаза, но ничего не помогало — слезы снова и снова наполняли глаза.
Когда Ремзи оделся, было пять часов утра. Только начинало светать. Ремзи поцеловал матери руку. Они обнялись, и Ребиш дала волю слезам.
— Да откроет аллах перед тобой все дороги! Да вознаградит тебя за труды, — запричитала она, потом сунула в руки Ремзи сверток с едой.
— Счастливого тебе пути, сынок!
Камбер проводил сына до самой околицы, неся его ранец и сверток. У последних виноградников они остановились.
— Ну, с богом, сынок!.. — сказал Камбер. — Иди своей дорогой и ничего не бойся, родной. Помни, что я — с тобой!
Ремзи поцеловал отцу руку.
— Настанет день, родной, и ты забудешь все свои огорчения. Все, что тебе пришлось вытерпеть.
— Счастливо оставаться, отец!
— Всего тебе наилучшего, сынок, всего наилучшего! Не бойся! Скоро взойдет солнце. Ничего не бойся, я — с тобой!
Ремзи взял ранец, сверток с едой и двинулся в путь. Он чувствовал, что вот-вот расплачется, и поэтому шел не оглядываясь. Шел и думал о том, что позади, там, где кончаются виноградники, стоит отец и смотрит ему вслед. Ремзи с трудом поборол желание оглянуться. Но пройдя уже довольно далеко, не выдержал и оглянулся. Отец крикнул ему:
— Не бойся, Ремзи! Ничего не бойся! Иди, не останавливайся!
Голос отца был еле слышен. Часть слов развеял утренний ветер, но те, что донеслись, дошли до самого сердца.
У Ремзи на глазах слезы, но это слезы радости. Он все идет и идет, оставляя отца позади, в утренних сумерках. Шаги его становятся все тверже, все уверенней. Ему хочется плакать, и перед этим желанием, как перед лавиной, не устоять. Ремзи плачет. Он оглядывается, снова смотрит на отца. Отца почти не видно, но Ремзи инстинктивно чувствует, что отец бежит вперед, к нему, Ремзи, машет рукой, что-то кричит. Ветер уносит его слова. Ремзи ничего не слышит. Но он знает, что кричит отец: "Не бойся, Ремзи! Я с тобой! Иди, родной!" А ветер поет и поет свою вечную песню одиночества, песню, неизменно звучащую в этих полях. Ему подпевают травы, колючки, красные листья хлопчатника, пожелтевший чертополох. Фигура отца становится все меньше, постепенно она сливается с зеленью виноградника, с проволочной изгородью, с землей. И Ремзи чувствует себя под этим небом совсем маленьким, совсем одиноким, осиротевшим… Но он знает, что позади в утренней дымке стоит отец, который верит в него, и это придает Ремзи силы… Он идет дальше, и ему кажется, что прямо перед ним в обрамлении зеленых деревьев высится белое здание с красной черепичной крышей и флагом. Да, там, впереди, — деревня Кадыкёй, а в деревне школа — его надежда, его будущее, все, что у него есть в жизни.
И он бежит вперед, глотая слезы.
— Я буду учиться, учиться, учиться! — твердит он вслух и бежит не останавливаясь. — Я стану человеком!.. Я спасу родителей, они не будут батрачить!.. Отцу куплю новый пиджак, маме — платье. Что бы ни случилось, я буду учиться. Все стерплю, а учиться буду. Я докажу этим богатеям! Не придется им радоваться! Я буду учиться! Я стану человеком!
И в Ремзи все больше крепнет уверенность, что он дойдет до заветной цели, вырастет, добьется своего… В нем рождается упорство. Поскорее бы выучить все науки, вырасти… В ушах звучат слова отца: "Не бойся, Ремзи! Не бойся, родной! Иди!"
А дорога, как назло, не кончается. Уже рассвело, уже взошло солнце, уже раскрылись розы. Все ярче, все лучезарней небо. Над головой разбегаются мягкие пушистые облака.
Прошагав три часа и порядком устав, Ремзи наконец подошел к первым виноградникам и домам села. Солнечные лучи уже золотили побеленные стены. Площадки перед домами были политы водой. Совсем маленькие девочки подметали дворы. Дети шли в школу. Их лица сияли радостью и от этого казались красивыми. Собаки, бежавшие рядом с детьми, дружелюбно поглядывали по сторонам и не собирались ни на кого кидаться. То было счастливое утро счастливого понедельника.
Красно-белая школа, словно пестрый цветок, стояла посреди большого сада, огороженного голубым забором. Посыпанные речным песком дорожки были обсажены цветами и кустарником. На скамейках, выкрашенных, как и забор, в голубой цвет, сидели чистенькие, симпатичные дети, их родители и родственники. Учеников старших классов можно было легко отличить от робевших новичков. В одном из окон Ремзи увидел свое отражение. Какое у него бледное испуганное лицо! Но он тотчас заставил себя вспомнить напутствие отца…
Звенит звонок. Дети выстраиваются в ряд и поют "Марш независимости"[27]. Ремзи охватывает необычное волнение. Затем к ученикам обращается с речью седой учитель в очках. Все внимательно слушают, что он говорит. Ремзи с волнением вспоминает отца и мать.
Первый урок. Незнакомые лица, учитель…
Ремзи кажется, что все это уже когда-то было, что происходящее с ним сейчас — лишь яркое, сохранившееся со всеми подробностями воспоминание о чем-то случившемся давно, настолько давно, что он с трудом припоминает лица товарищей. Эти лица, окна, портреты и рисунки на стенах, особый запах школы — все радует его сердце, как знакомая песня. Черная доска, меловая пыль, войлочная тряпка, кусочки мела, лицо учителя Хасана мелькают у него перед глазами, как в тумане. Через окно видно шелковичное дерево, за ним — поля. Под деревом — окруженный ягнятами пастух.
Стоит теплый осенний день, ласковый и солнечный, один из тех, что располагают к воспоминаниям и навевают грусть. Учитель о чем-то рассказывает, но Ремзи не понимает о чем. Перед его мысленным взором проносятся какие-то до боли знакомые события и сцены, сменяющие друг друга стремительно, словно во сне. Не то сон, не то явь. Но все это давно пережито, осталась только печаль, чувство забытого, дорогого. Видения сменяют друг друга, потом исчезают, превращаются в пыль, как рисунки на классной доске. И сквозь пелену этой пыли на Ремзи смотрит доброе, улыбающееся лицо учителя…
На землю возвращается вечер. Ремзи опять в дороге. Вот и Енидже показалась в вечерней дымке. Над виноградниками нависло облачное небо. По тому, как шагает Ремзи, видно, что он поверил в свои силы. Ему есть о чем рассказать. Деревня, дома, деревья, виноградники бегут навстречу, и все быстрее уплывают назад поля вдоль дороги. Еще немного, и он увидит отца с матерью, поджидающих его на краю деревни. Слышится вечерний эзан. Глухой голос Биби-ходжи несется над деревней, над дорогами, полями, призывая к молитве. Волнение Ремзи растет. Не выдержав, он пускается по дороге бегом, и навстречу ему бегут мать и отец. Они бегут встречать своего сына, словно героя, возвращающегося с войны.
Камбер обнимает Ремзи, крепко прижимает его к груди, мать целует сына и ласково гладит по голове.
— Правда, ты не боялся? — спрашивает отец.
— Нет, нисколько.
— Все будет хорошо, сынок, все образуется…
Ремзи подробно рассказывает о виденном и слышанном: о ягнятах, об учителе Хасане, о классной комнате, пахнущей мелом. Мать готовит сыну его любимую еду. Поев, Ремзи просматривает учебники. Усталость берет верх. Он то и дело зевает, а потом засыпает прямо за книжкой. Тихонько, чтобы не разбудить сына, Ребиш стелит постель. Отец берет мальчика на руки и укладывает спать. Камбер и Ребиш вдвоем раздевают сына, накрывают одеялом.
— Все, родной, образуется, — негромко говорит Камбер.
Ремзи спит как убитый. Отец с матерью молча сидят у изголовья.
— Как же наш малыш устал! — говорит мать.
Отец прикладывает палец ко рту:
— Тише! Он спит…
— В этой деревне, отец, на нашу долю не хватает хлеба. Сколько лет мы здесь мучаемся, терпим притеснения, а толку нет. Что мы зарабатываем? И с каждым днем нам все труднее и труднее. Нищие мы, отец, нищие! Жизнь меняется, а ты будто ничего не видишь. Вот посмотри на детей Аджема. Ушли они отсюда в Адану и прекрасно живут. А мы как бедствовали здесь, так и бедствуем.
Кель Хасан уговаривает отца уехать. Мать, жена и дети Кель Хасана сидят у стены и прислушиваются к разговору. Кель Хасан показывает рукой на окруженный живой изгородью огород — десять шагов на двадцать — и продолжает:
— Вот и все наше богатство! Что у нас есть? Ровным счетом ничего. И никогда не будет. Кого же прокормит этот клочок земли? Вот вырастут дети, отец, потому что дети не могут не расти, а что их ждет, нищих? Говорят, сыновья Аджема каждый божий день работают, а детей в школу отдали. А у моих, несчастных, штанов нет, с голым задом ходят, босые… Неужели, отец, ты хочешь, чтобы и они работали на чужих, чтобы в пастухи пошли, в возницы или навоз в корзинах таскали?
Отец, щурясь, смотрит на сына, слушает.
— Если так уж тебе приспичило, — говорит он наконец, — уезжай. Никто тебя не держит. Уезжай. А я с места не сдвинусь. Я привык к деревне — вот тебе мой ответ. Нет мне без нее жизни. А ты уезжай. Счастливого пути!
— Земля теперь, отец, не та, что прежде. Ей не прокормить нас. Раньше нас было трое: ты, я да мать. Теперь у меня жена и дети. Лучше бы им не родиться! Работая всего три месяца в году, семью не прокормишь. Нужна постоянная работа. А в деревне где ее возьмешь? Сейчас Хасан-ага купил машины, а на будущий год и другие хозяева их купят. Что тогда с нами будет? Хозяева теперь не те, что раньше, не та земля, не та деревня, отец. Настали новые времена. Народ тянется в город, на фабрики, на заводы.
Держась за поясницу, отец медленно поднялся и пошел в огород.
— Это ты верно говоришь, нынешнее время — не прежнее. Словом, раз хочешь — уезжай. Бросай отца с матерью и уезжай. Оставь их без куска хлеба. Для того ли я растил тебя, сукин ты сын? Ясно: кому мы такие нужны? Кому нужны старые, немощные? Уезжай, сынок, уезжай! Скатертью дорога! Бери жену и детей и езжай! Пусть твои старики с голоду помирают!
— Зачем ты так говоришь, отец? Пока я жив, я буду о вас заботиться, не брошу в беде. Да ты и сам это знаешь. Еще как знаешь, а все равно свое твердишь. Ты посмотри, отец, на этих малышей. Неужели тебе их не жаль? Они, отец, голодные, разутые, раздетые. У человека должно быть достоинство. А ты глянь на Сэло. У него зад голый. Какое с голым задом достоинство?! Жалко детей, ей-богу, жалко. Мне уже тридцать пять, а кто со мной считается в этой деревне? И детей моих ждет такая же участь. В городе они по крайней мере выучатся и, глядишь, заживут безбедно. А здесь все мы сгинем, и они сгинут, ей-богу сгинут. Это уж точно. Не знаю, как отблагодарить аллаха за то, что он создал нас рабами и оставил на чужой земле, за то, что он создал нас крестьянами?! И кто, черт побери, придумал это слово — крестьянин? Нет никаких крестьян, есть рабы! Так хоть ты не казни нас, отец. Давай уедем! Сыновья Аджема…
— Сыновья Аджема, сыновья Аджема… — прервал его на полуслове отец. — У всех только они на языке. Ну и кем они стали, эти шаромыжники? Беями стали, пашами или кем там еще? Как только кому-нибудь туго становится, детей Аджема вспоминают. Будь все вы неладны — и вы, и они!
Мать Кель Хасана печально поглядывала то на мужа, то на сына.
— Ты слушай, сукин сын, что тебе отец говорит. Придет час, и я умру. Здесь! — Отец показал рукой на огород. — А ты хоть в Феццан [28] отправляйся. Аллах нас не оставит. Найдутся добрые люди, подадут кусок хлеба.
— Ты, отец, ей-богу, только о себе думаешь. А я ведь и об этих горемычных пекусь. В последний раз спрашиваю тебя: поедешь с нами?
— Не поеду!
Хасан повернулся к матери. Покорно склонив голову, она смотрела перед собой невидящими глазами.
— Ради бога, хоть ты, мать, скажи, а то отец совсем спятил. Руки и ноги целовать тебе буду, только скажи: поедешь с нами?
— Как отец твой, сынок, так и я. Скажет он: "Иди в ад!" — пойду в ад!
Хасана тронули детское смирение матери, ее испуганный вид, готовность покориться своей участи. Он опустился перед матерью на корточки, поцеловал ей руки.
— Мама, мамочка! Хоть раз в жизни я причинил тебе боль? Сказал грубое слово? Ослушался тебя? Знаю, как тяжело вам с отцом было растить меня! Да вознаградит вас за это аллах! Вот и я хочу вырастить своих голозадых. Перед нами два пути: или остаться здесь рабами и детей обречь на рабство, или же, как это ни тяжело, уйти в Адану, Скажи, мать, как должен поступить твой сын? Остаться или уехать?
Женщина посмотрела на сына, потом на мужа. Дети, затаив дыхание, слушали разговор взрослых.
— Скажи, мама.
— Езжай, сынок, — ответила мать. — Езжайте, спасайте себя и деток своих. А мы уже свое отжили. Не сердись, сынок, на отца. К нему, упрямому, и на козе не подъедешь. Я-то его хорошо знаю. Ни шагу он отсюда не сделает. Все молодым себя считает.
Кель Хасан припал к руке матери и заплакал.
— Уговори отца, мама, и мы вместе уедем. Не пропадем. Будет кусок хлеба — на всех разделим. Нынче поголодаем — завтра досыта поедим. Я еще четыре года назад решил отсюда уехать, да только бросить вас не мог, совесть не позволяла. Но больше откладывать нельзя. Поеду я, мама. Будь что будет! Теперь ничто меня не остановит. А не поеду — от чахотки умру. Давай уговорим отца уехать с нами.
— Раньше я, может, и уговорила б его, а сейчас мое слово ничего не значит.
— В этом году, — продолжал Кель Хасан, — мы, не зная отдыха, пололи, мотыжили, хлопок собирали, даже детей заставляли работать, а что получили? Ничего! Не знаю, как продержимся шесть зимних месяцев. На наши заработки ни одеться, ни прокормиться.
Кель Хасан вышел из дома и направился к отцу, стоявшему во дворе, затем повернулся и посмотрел на детей. Вдруг он заметил, что за ними наблюдают соседи, и крикнул:
— Эй, люди! Хоть вы посоветуйте, как поступить Кель Хасану!
Никто не сказал ни слова. Тогда Хасан обернулся к отцу.
— Отец, ради аллаха, давай уедем!
Словно не расслышав, отец продолжал смотреть вдаль. Кель Хасан снова заговорил:
— Знаю, вы с матерью сердитесь на меня. Знаю, что без меня будете голодать, но оставаться здесь — дело безнадежное. В конце концов все отсюда уйдут, отец! Если бы в свое время ты это понял, мы не стали бы нищими. Вот сыновья Аджема…
Последние слова вывели отца из терпения:
— Неблагодарный ты пес! О ком же твой отец думал, если не о тебе? Для вас дети Аджема чуть ли не пророки. Не успели эти самые дети Аджема уехать, как всех вас в город потянуло. Ну и ты уезжай!
— Уеду, отец, ей-богу уеду!
— Ну и катись!
— Я уеду, отец, но на душе неспокойно будет. Что вас ждет здесь? Голод, болезни и смерть. И никого рядом не будет, кто бы саван купил, могилу выкопал. Погибнете вы здесь, отец, погибнете.
Отец ударил сына по одной щеке, затем по другой. Кель Хасан задрожал, заскрежетал зубами, глаза налились кровью, но он сдержался и проглотил обиду.
— Уедем же, отец! Пожалей моих детей! Видишь, как они на тебя смотрят? У меня сердце на части разрывается, когда думаю, что покину тебя, но я все равно уеду!
Мать тихо плакала, закрыв лицо руками.
— Решил, ну и уезжай! Отправляйся хоть в пекло! Ведь я пока еще жив. Или ты считаешь, что я уже ни на что не годен?! Да и деревня наша еще не одного такого, как я, может прокормить. Даже этот огород меня прокормит. Посею баклажаны, помидоры, перец, продавать их буду и как-нибудь проживу. Хоть и мал этот клочок земли, а прокормит. Разве ты, сукин сын, знаешь цену земле? А не прокормит — мотыжить пойду, хлопок собирать. Не умер пока Мустафа, жив еще!
— Ноги твои, отец, готов целовать, поедем, не упрямься!
— А дом я на кого оставлю? А землю? Пусть ее две пяди, но она моя! И это дерево мое. И изгородь эту я собственными руками сажал. Это же мой дом, сукин ты сын! Мой отец отдал ему всю свою жизнь. И мы на него всю жизнь положили. Как после этого я могу все здесь бросить? Подумай!
— Отец! Умоляю тебя, ноги целовать буду…
— У Мустафы есть только одна дорога — в могилу! Только смерть уведет меня отсюда, а не ты! Заруби это себе на носу.
Кель Хасан с трудом сдерживал поднимавшийся в душе протест.
— Ей-богу, я с ума сойду! О аллах, посоветуй рабу своему Хасану, как быть. Кого пожалеть? Мать с отцом или детей? Эй, люди! — обернулся Кель Хасан к соседям. — Скажите же: что мне делать?
Никто не ответил. Тогда Кель Хасан взглянул на жену и решительно сказал:
— Собирайся, жена! Кто не хочет, пусть не едет. Доберемся до шоссе, а там найдем какую-нибудь повозку или грузовик. Я сейчас схожу к Телли Ибрагиму, попрошу у него лошадь, чтобы до шоссе доехать.
Телли Ибрагим и его сын Мемед трамбовали земляную крышу. Жена и дочь сушили на солнце постель, выбивали палкой пыль.
— Бог в помощь, Рабие, — поздоровался Кель Хасан.
— Спасибо, Хасан, на добром слове.
Хасан взглянул на крышу.
— Бог в помощь, Ибрагим-ага!
Ибрагим, упершись рукой в бок, выпрямился и посмотрел вниз.
— Тебе бы такую помощь, Хасан! Давай поднимайся сюда!
Кель Хасан поднялся по лестнице на крышу.
— Так когда, Хасан, в путь-дорожку?
— Если ничего не помешает, завтра. Ибрагим-ага, просьба у меня к тебе.
— Наперед знаю, Хасан, что попросишь. Не иначе как лошаденку.
Хасан рассмеялся.
— Ты угадал, Ибрагим-ага, ей-богу. И как только ты сообразил?
— Сообразить нетрудно.
— Ведь грузовик из Тузлы только через пять дней будет. Да и дорого, обдерут, бессовестные, как луковицу. А мы люди бедные. Другое дело, если доберемся до шоссе. Там нас подбросит до города какая-нибудь повозка или грузовик. Это подешевле будет. Уж ты разреши на твоей лошади барахло до шоссе довезти.
— Ладно, Хасан, дам я тебе лошадь. Одно только скажу: не дело ты затеял. Вот и Мемед наш вбил себе в голову то же самое. Уедем да уедем. Ну а отца-то ты уговорил?
— Нет, Ибрагим-ага, не уговорил. Умру, говорит, а никуда не уеду. Голова у меня кругом идет, а не ехать нельзя.
— Все старики одинаковы, Хасан, и осуждать их, право, не стоит. Привык человек к своей деревне, а на новом месте нелегко прижиться. Возьми меня, к примеру, так и сижу здесь всю жизнь, ни разу никуда не ездил. Вначале, когда Мемед сказал: "Давай, отец, уедем!" — сердце у меня ёкнуло от радости. А потом, брат, чувствую: не могу решиться. Не могу, и все тут. Хотя зарекаться не буду. А вот Мемед — тот поедет. Напористый он у нас. Значит, завтра и отправишься, Хасан?
— С божьей помощью.
— Когда кобылу возьмешь?
— Если можно, прямо сегодня вечером. Утром погрузим пожитки и в путь. Договорились?
— Делай, как тебе лучше, Хасан. Утром к вам Мемед зайдет, поможет что нужно, а когда до шоссе доберетесь, кобылу назад приведет.
— Спасибо, Ибрагим-ага! Может, когда-нибудь смогу отплатить тебе за твою доброту.
— Ну что ты, Хасан! В этом мире, сынок, ничего нет дороже доброты. Разве все мы не помрем, не покинем этот мир? Почему не помочь человеку? Мы же люди. Эх, доброта, доброта… Она одна после нас и останется. Деньги, вещи и все прочее — это пустое!
— Пошли нам аллах побольше добрых людей! Если мир еще не рухнул, то лишь благодаря им.
— Оно верно.
— Я пойду, Ибрагим-ага. Надо попрощаться с друзьями. Люди смертны — не успеешь оглянуться, а человека нету. Вечером зайду. А пока до свидания!
— Счастливо тебе, сынок!
Хасан спустился с лестницы.
— Значит, завтра уезжаете? — обратилась к нему жена Ибрагима.
— Да, завтра.
— Счастливого вам пути! Передай жене, чтобы зашла к нам.
— Хорошо, сестра. Она и так зашла бы попрощаться. Но я, конечно, передам. До свидания, сестра!
— Всего лучшего, Хасан!
Как только вещи были собраны, Кель Хасан и его жена Хатидже, взяв с собой детей, пошли прощаться с соседями. Когда они пришли к Длинному Махмуду, уже заметно стемнело.
— Очень даже правильно поступаете, — сказал Махмуд. — Придет день, и в нашей Енидже никого не останется.
— Другого выхода, дядя Махмуд, у нас нет, — ответил Кель Хасан. — Сам знаешь, как мы живем. Раньше еще куда ни шло, а нынче хуже некуда. Не о себе пекусь, о детях. Там хоть ремеслу какому-нибудь выучатся и в люди выйдут. А здесь что? Только рабство и нищета! Сыновья Аджема припеваючи живут. Даже их дети работают. Посмотрел бы ты, как они одеваться стали — настоящие эфенди.
На следующий день на рассвете Кель Хасан навьючил на лошадь тюки с постелями, жена взвалила на спину мешок с посудой, старший сын, Селяхаттин, усадил себе на плечи младшего, а сам Кель Хасан нёс мешок со всем прочим имуществом. Мать Кель Хасана проводила их до околицы. В это время шел в школу Ремзи. Он остановился, поглядел им вслед. "Уходят", — сообразил он, а потом вдруг подумал, что и им когда-нибудь придется вот так же уйти из деревни.
Долго стояла на дороге мать Хасана и, покачивая головой, смотрела, как в предрассветных сумерках исчезают ее дети и внуки.
— Ох, Хасан, ох! Родимый ты мой! — плакала и причитала убитая горем женщина. — Уехали, уехали, родненькие мои, уехали.
Еле держась на ногах, она вернулась в деревню. Плакать она уже не могла, выплакала все слезы. Пока шла, разговаривала сама с собой. Дома муж сидел на постели и свертывал цигарку, стараясь ничем не выдать своего горя.
Женщина остановилась в дверях.
— Уехал мой Хасан, — прошептала она и разрыдалась.
Потом долго глядела на опустевшую комнату, словно искала внучат, невестку, Хасана…
— Уехали… Кто знает, доведется ли еще свидеться. Вот так, взяли и уехали.
В глазах старика появился влажный блеск.
— Доброго пути!.. — с трудом проговорил он, и слезы сами потекли из глаз. — Кто мог подумать, что наш Хасан так быстро вырастет, обзаведется семьей и покинет нас? Ведь еще недавно он был совсем мальчишкой. Помнишь, я говорил: "Эй, Мустафа, придет день, и он вырастет, но доживешь ли ты до этого?" Уж больно мал он был тогда. Я его, бывало, спрашивают: "Сынок Хасан, как кричит сова?" А он мне так смешно: "Гу-у-ук!"…
— А ты даже не дал ему руку свою поцеловать. Обидел сына, огорчил.
— Уехал, значит, наш Хасан… Остались мы, жена, одни-одинешеньки.
— Хасан хороший мальчик. Мухи не обидит. Сердце доброе, чистое. Да пошлет ему господь того, что он заслужил!
Женщина закрыла дверь, села в углу.
— Что мы теперь делать будем?
— Аллах, жена, он все видит. С голоду не пропадем.
— Как думаешь, добрались они до шоссе?
— Не успели еще.
— Хоть бы ты ему позволил руку поцеловать. Мало ли что может случиться? Помрем, а вы и не попрощались.
— Да я и сам не знал, что делал. В голове помутилось.
Когда Мустафа вспомнил, что наговорил сыну, потолок, показалось ему, стал еще ниже и давил на него. Сердце ныло. Дом опустел. Не было рядом Хасана, снохи, детишек. Жена плакала, устремив неподвижный взгляд на дверь.
— Душно мне, жена, открой эту чертову дверь!
Женщина распахнула дверь. Деревья в саду стояли почти голые, лишь несколько желто-бурых листьев трепетало на ветру.
— Вот и зима пришла.
— Весной посадим баклажаны, помидоры, перец… — заговорил Мустафа, но тут же умолк, понимая, что крохотный клочок земли их не прокормит.
Они долго сидят молча. Утро уже заливает светом деревья, двор, изгородь. И чем ярче разгорается день, тем тоскливее становится у них на душе. Неугомонная беготня детей, их драки, сладость поцелуя в детскую щеку, ребячья ласка и теплота — все постепенно превращается в воспоминания. И в памяти одна за другой всплывают какие-то подробности, какие-то мелочи, которые, казалось бы, давно позабыты. Мустафе вспоминаются детские, юношеские годы Хасана… Куда бы теперь ни посмотрели старики, они везде примечают что-то, так или иначе связанное с Хасаном, с его семьей. Вот гвоздь, который когда-то вбил Хасан в балку, поддерживающую навес. Глядя на этот гвоздь, они словно видят перед собой Хасана, слышат стук его молотка.
Свернутая цигарка неподвижно замерла в руке. Мустафа тяжело вздохнул и покачал головой, словно пытаясь стряхнуть воспоминания.
— Уехали…
Мустафа ударил огнивом о кремень, посыпались искры, задымился трут, и Мустафа вдруг вспомнил, как нравился Хасану запах тлеющего трута.
— Наш сын любил этот запах, — сказал он и беззвучно заплакал.
Гудел ветер. В душном, смрадном хлеву сидел у окна Камбер и глядел на дорогу. Сумрак, окутавший хлев, будто сливался с туманной мглой, в которой исчезла дорога. Волы, лошади, мулы терпеливо жевали сено, фыркая, шумно вдыхая теплый, влажный воздух. По углам темнота стала совсем непроницаемой, лишь возле окон было немного светлее.
Погода испортилась, полили дожди. Темные, хмурые тучи заволокли небо, проглотив его голубизну. Дождь не прекращался, громыхал гром, сверкали молнии. Озеро наполнилось до краев, превратившись в море. Как и в прошлые годы и как всегда, с первыми дождями в Енидже пожаловали ягмурджу. Прошли с песнями по деревне — и поминай как звали…
Камбер, нервничая, зажег еще одну цигарку. Видневшаяся из окна улица утопала в грязи и мутной мгле. С узелков колючей проволоки, огораживающей сад, падали капли дождя: кап… кап… кап… Деревья угрожающе шумели. В их густой листве прятались воробьи. Будто осиротев, стоял без дела колодезный насос.
Дождь гулко барабанил по раскисшей земле. Камбер волновался: ливень и не думал прекращаться. Дороги, судя по всему, залиты водой. Смятение в душе Камбера росло, он то и дело шумно вздыхал. Халиль сидел на постели и латал свою шинель. Наконец он перекусил нитку, спрятал иголку и, подойдя к окну, стал внимательно рассматривать заплату. Затем накинул шинель на плечи, обулся и подсел к Камберу.
— Если хочешь, дядя Камбер, я пойду встречать Ремзи.
— Нет, сынок, я сам.
— Ты же болен, давай лучше я схожу.
— А ты не гляди, что я болен. Нам, батракам, на роду написано работать, пока душа с телом не расстанется. Знаешь ведь, какой он, наш Ремзи. Еще подумает, что мне надоело его встречать, и обидится.
Ремзи вставал спозаранку и в любую погоду — в дождь, в слякоть и грязь — отправлялся в школу. Дни стали короче, и большую часть дороги Ремзи теперь шел в темноте.
Дорога в Кадыкёй превратилась в настоящее болото, и однажды, не сумев перебраться через затопленное место, Ремзи в слезах вернулся домой. Камбер тут же посадил сына на плечи и донес его до самой школы. Он дождался конца уроков и вместе с сыном вернулся домой. Так продолжалось несколько дней, но сегодня Ремзи решил пойти в школу один: он изучил все тропки и знал, как миновать опасные места. А дождь сегодня лил целый день.
Завернувшись в мешковину и ежась от холода, Ремзи возвращался домой, с трудом вытягивая ноги из вязкой грязи болота…
Камбер поднялся.
— Я пошел! — сказал он, напяливая на голову мешок.
Али Осман, Сулейман и Дервиш посмотрели на Халиля.
— И я с вами, дядя Камбер, — предложил Халиль.
— К чему, сынок? Не такой уж я старый, — Камбер открыл дверь и вышел.
— Уперся, не хочет. А то бы я каждый день на плечах носил Ремзи в школу и обратно, — проговорил Халиль.
Если соединить в одно целое силу своего воображения, свои надежды и любовь — все то, что скрашивает человеку жизнь и заставляет забывать огорчения, — можно обрести такую веру в собственные силы, что не будут страшны никакие трудности. Камбер шагает под дождем и представляет себе, как сын его растет и выходит в люди. Камбер словно видит перед собой уже совсем взрослого и счастливого Ремзи. Камбер уверен, что его сын будет счастлив, и эту уверенность не могут поколебать ни дожди, ни невзгоды, ни нищета. Эта уверенность придает смысл его существованию, заставляет думать, что жизнь прожита недаром. Да, прожита, потому что Камбер превратился в безмолвного живого мертвеца, пусть еще мечтающего, но уже мертвеца. И лицо у него желтое, морщинистое…
Камбер идет, пристально всматриваясь в даль. Глаза его ищут среди луж и грязи маленькую фигурку Ремзи, которому пора бы уже возвращаться. Ступая по колено в воде, Камбер доходит до того места, где обычно поджидает сына. Но Ремзи не видно. Все вокруг залито водой. В голову лезут мрачные мысли: может, Ремзи свалился в канаву и утонул? Сердце Камбера болезненно сжимается.
— Ремзи, родненький мой! — стонет он и чувствует, как по щекам катятся слезы. — Ремзи! Голубчик ты мой!
Камбер ускорил шаг. Он шел, не разбирая дороги, спотыкаясь о кусты хлопчатника. Поля затоплены мутной водой. Над головой ползут черные тучи. И нигде ни души. Только вдали, в тумане виднеется село Кадыкёй.
— Ремзи! Родной мой! Ремзи-и-и! Я иду, Ремзи!
Ему хочется бежать, но нет сил, он с трудом вытаскивает из грязи то одну, то другую ногу.
— Ремзи! Не бойся! Твой отец идет к тебе! Не бойся, Ремзи! — Камбер кричит, словно одержимый, повторяя одни и те же слова. — Накажи меня аллах за то, что я бросил тебя одного на дороге! Ремзи! Родной мой! Ремзи!
Камбер то и дело останавливался около глубоких канав, в отчаянии шарил в них руками. Неожиданно он заметил, что довольно далеко от него что-то темное барахтается в грязи. Сердце Камбера замерло, он рванулся вперед и хрипло крикнул:
— Ремзи! Это ты? Иду, сынок! Иду!
Он задыхался в бессильном отчаянии, не в силах ускорить шаг.
— Я иду, Ремзи! Твой отец здесь, сынок!..
Чем короче становилось расстояние, отделявшее Камбера от Ремзи, тем отчетливее было видно, как мальчик барахтался в канаве, по грудь в воде. Он пытался выбраться, но руки скользили, и он снова погружался в воду.
— Ма-ма!.. — кричал Ремзи.
В мутной воде плавал мешок, которым мальчик укрывался от дождя. Дождь хлестал, сёк, барабанил по воде.
Завидев отца, мальчик заплакал в голос. У Камбера перехватило дыхание.
— Вот я, сынок! Здесь…
Собрав все силы, Камбер устремился вперед, увязая в жидком месиве. В эти минуты он еще острее ощутил свою дряхлость, свою немощность. Куда ему теперь до прежнего Камбера!..
— Вот я и пришел! Давай руку, сынок!
Камбер наклонился, схватил сына за руку, вытащил из ямы и крепко прижал к груди.
— Все будет хорошо, сынок, не бойся.
Мальчик стучал зубами. С него струйками стекала грязь. Ранец размок. Камбер посадил сына себе на плечи и зашагал домой.
— Сейчас придем домой, сынок. Все будет хорошо… — повторял Камбер.
Ребиш грела воду. Она приготовила корыто, чистое белье для Ремзи. С того дня, как зачастили дожди, мальчик возвращался домой весь в грязи. Ребиш сразу же стирала его одежду, чтобы до утра она высохла.
Ребиш попробовала пальцем, нагрелась ли вода, и подумала: "Сегодня они запаздывают". Она подошла к двери, приоткрыла ее и прямо перед собой увидела Камбера с Ремзи на плечах. По тому, как тяжело ступал и дышал муж, ясно было, что он очень устал. Оба — отец и сын — с головы до ног были в грязи.
— Ой, да вы в яму угодили, что ли? На кого вы похожи?
— Точно. В яму угодили, — ответил Камбер.
Ребиш глянула на сына и расплакалась.
— Ох, деточка моя! Ох, мой родненький! — запричитала она.
— Перестань хныкать! — прикрикнул Камбер. — Лучше переодень ребенка.
Родители вместе раздели сына, вымыли его, надели на него согретое у печки белье и уложили в постель. Ремзи сразу же уснул.
Камбер и Ребиш сели возле сына и не сводили с него глаз. Время от времени Камбер щупал лоб ребенка и удрученно смотрел на Ребиш — с мальчиком творилось неладное: он сильно потел, его бросало то в жар, то в холод. Мать и отец — оба боялись, что сын умрет, но не решались и заикнуться об этом и избегали смотреть друг другу в глаза.
— Дядя Камбер! Эй, дядя Камбер! — раздался снаружи голос Халиля.
Ребиш открыла дверь.
— Заходи, Халиль.
Халиль зашел и тихонько опустился на пол у самого порога.
— Представляю, как вы, дядя, намучились. Даст бог, все обойдется.
— Спасибо, Халиль, на добром слове. Ремзи, бедняга, в яму угодил.
— Да вы что?
— Ей-богу.
Они перешли на шепот.
— Снимай сапоги и усаживайся поудобнее, Халиль! — сказала Ребиш.
— И так, мать, хорошо.
Халиль не знал, что делать, чем помочь, и молчал, поглядывая на пышущее жаром лицо Ремзи. Убогая комната и вид молчаливо сидевших людей напомнили Халилю ту ночь, когда он с друзьями сидел подле мертвого Хыдыра.
— Ты ужинал, Халиль? — спросил Камбер.
— Ужинал, спасибо! Дядюшка Али Осман беспокоится, велел проведать вас.
— Скажи ему от меня спасибо. Али Осман — давний мой друг. Во всем хозяйстве Кадир-аги, Халиль, не найти работников старше нас с ним. Мы перешли в эту деревню еще при Сырры-аге. У него было трое сыновей: Хасан-ага, Мамед-ага и наш Кадир-ага. Так вот, после смерти отца сыновья разделили деревню. Мы попали к Кадир-аге, а отец Шакала Омара оказался у Хасан-аги. Все, кто тогда с нами в батраках был, уже поумирали. Одни мы и остались, очереди своей ждем. Али Осман — настоящий человек, он мне дороже родного брата. Нас сама судьба связала, чего только мы не вытерпели!..
Ребиш принесла Халилю стакан мятного отвара и опять села около Ремзи, заметив:
— Вот, Халиль, до чего довело нас ученье-мученье!
— Бабы вечно одно талдычат, — сказал Камбер. — Разве им понять: не познав горя, человек не познает радости. И даже хорошо, что так случилось. Потому что все надобно испытать, тогда и жизнь поймешь.
Ремзи застонал. Родители испуганно переглянулись. Камбер приложил руку ко лбу сына.
— Да он весь горит!
Халиль докурил цигарку и ушел. Камбер с женой остались сидеть у постели Ремзи.
Дождь прекратился, и стал слышен шум ветра. Он завывал, гнул ветви деревьев, громыхал по крыше.
Когда родился Ремзи, шел такой же дождь, было так же мрачно… В памяти Камбера и Ребиш всплывают голенькое тельце, ручки, к которым страшно было притронуться, красное личико. Они смотрят на спящего сына и вспоминают счастливое время: забавный детский лепет, первые шаги, первые слова, смешные, нелепые… И если в этот час муж с женою чувствовали себя близкими людьми, то лишь потому, что оба думали о сыне. Только любовь к сыну и связывала их. Ребиш с жалостью смотрела на мужа, на его небритое лицо, залатанный пиджак, большие ноги, видела, как он устал и постарел. Она вспоминала то давнее время, когда они жили в мире и согласии. Сейчас у нее и в мыслях не было винить Камбера в их частых ссорах. Сейчас она жалела мужа так же, как жалела Ремзи. Лицо Камбера, окутанное облаком табачного дыма, его глаза, казавшиеся в свете лампы совершенно черными, грязный воротник с поломанной пуговицей, печально поникшие у двери чарыки — от всего этого веяло глубокой человеческой скорбью. Ребиш понимала, что Камбер — человек сломленный и в этой жизни его поддерживают лишь любовь к сыну и надежды, которые он возлагает на Ремзи.
Ребиш нравилось, как Камбер молчит, как, слегка прищурив глаза, молча курит, как почесывает нос. Она уже раскаивалась в том, что часто его обижала, говорила ему горькие слова. Чего, собственно, они не поделили? Да и что было делить, кроме нужды? Соединились они в убогой хижине под земляной крышей, и в первые же дни совместной жизни любовь угасла. Настал час, когда ни с того ни с сего между ними началась ссора. В своем разочаровании, во всех своих горестях они винили друг друга, стараясь не думать о собственной беспомощности. Оба поняли, что не обрели счастья, на которое так надеялись. Но почему после первых, полных любви, счастливых ночей снова пошла будничная жизнь, этого они понять не могли. Было у них здоровье, была сила, была крыша над головой, а счастья не было.
Ремзи приоткрыл глаза. Взгляд ребенка остановился на отце.
— Ну как ты сейчас, сынок? — взволнованно спросил Камбер.
Ремзи улыбнулся. Искренняя, чистая улыбка сына согрела сердце Камбера.
— Воды… — тихо попросил Ремзи.
Ребиш налила в стакан теплого мятного настоя и дала мальчику попить. Ремзи чувствовал, что внутри у него все горит, во рту горько, голова отяжелела, в висках стучит. В грустных глазах отца и матери, казалось, сосредоточились сейчас все беды их и горести, вся их беспомощность. Стоило Ремзи приоткрыть глаза, и мать поднимала налитые усталостью веки, вглядывалась ему в лицо. Камбер развертывал окурок за окурком и ссыпал табак в кисет.
— Тебе лучше, малыш? — спросил он.
— Голова болит, — хрипло ответил Ремзи.
Камбер поцеловал сына в лоб.
— Твой папа, Ремзи, готов себя в жертву принести, только бы у тебя ничего не болело. Голова у тебя скоро пройдет. Утром будешь совсем здоров. А летом я тебе осленка куплю, будешь на нем ездить. А не хочешь — вообще не ходи больше в школу. Словом, сам решай.
— Нет, я буду ходить в школу. Умру, а буду!
— Тогда, Ремзи, я каждый день буду носить тебя в Кадыкёй на спине. Ты окончишь школу, выйдешь в люди, пусть мне ради этого даже побираться придется! И настанет день, когда ты забудешь все, что пришлось тебе пережить. Не знаю только, доживу ли я до этого дня.
Ремзи приятно было слушать отца, но еще приятнее было мечтать. Он поправится и бегом побежит в школу, бегом! В голову лезли воспоминания о ягнятах и чабане под шелковицей. На уроке Ремзи нарисовал эту шелковицу и ягнят. Он рисовал их такими, какими они ему представлялись, и очень жалел, что не может цветными карандашами изобразить по-настоящему облака и воздух, а небо на белом фоне у него получилось совсем невсамделишным. Он подумал, что небо есть всюду, под ним — разные страны. И, хоть небо на всех одно, люди живут по-разному…
На веревке сушилась одежда Ремзи. И штаны, и носки, и рубашка почему-то выглядели сейчас смешно и нелепо…
— Поешь, деточка? — спросила Ребиш.
— Не хочется, мама.
— Ну хоть ложечку.
Ремзи приподняли и подложили ему под спину подушку. Зачерпнув из кастрюли чечевичной похлебки, мать принялась кормить Ремзи, но он проглотил несколько ложек и поморщился.
— Хочешь, сынок, завтра мама приготовит тебе ун хельвасы[29]?
Ремзи кивнул и чмокнул губами.
— А я тебе завтра конфет куплю. Ладно? Настанет день, когда ты выбьешься в люди, вернешься в деревню и зайдешь поздороваться с нашим хозяином, — дай аллах мне дожить до этого дня, чтобы навсегда забыть все мои горести! Пусть тогда увидят, какой сын у Камбера!
Ремзи перевел глаза на мерно тикавший будильник. Было четыре. Часы словно метили бег времени, отсчитывая каждое мгновение. "Тик-так, тик-так" — это билось сердце безмолвия. Время, пролетая над подушками, бледными лицами, лампой, стенами, над всем живым и неживым, уносило с собой частичку молодости, жизни и, протиснувшись сквозь щели в двери и окнах, улетало неизвестно куда. Люди, отгороженные от остального мира четырьмя стенами и низким потолком, сами того не замечая, отдавали времени ту частичку себя, которой уже было суждено состариться. Они постепенно расходовали себя, постепенно старели, постепенно умирали. И однажды, раздав остаток своей жизни на память нескольким близким, они навсегда покидали мир.
Ремзи снова уснул. Печь потухла, в комнате стало холодно.
— Затопить? — спросила Ребиш мужа.
— Затопи, затопи.
Ребиш наложила в печь хворосту, зажгла смолистую сосновую лучину. Хворост тут же воспламенился. На стенах заплясали тени. В комнате постепенно становилось теплее. Опять начался дождь, по окну застучали крупные капли.
Прислонившись спиной к стене, Камбер свертывал цигарку. Ночь выдалась тихая. Моросило. Халиль помешал в печке. Поблескивавшие, словно глаза, угольки покрывались пеплом и рассыпались. Халиль угрюмо глядел на золотые огоньки, тускневшие под серым пеплом, и на душе у него становилось еще тяжелее.
— Если так будет продолжаться, — сказал Камбер, — в деревне никого не останется. Кель Хасан уехал, Кёр Али уехал, Коджа Абдуллах тоже уехал. А теперь и Ал-тындыш собирается. Как говорят: потянулась нитка — носок распустился. Пустеет деревня, скоро от нашей Енидже одни развалины останутся.
Халиль погрузился в давние тревожные думы. Словно наяву, видит он перед собой безмолвный поток людей. Пустеют дома, двери открыты настежь. Навьючив на себя тюки с матрацами и одеялами, люди уходят, дороги забиты беженцами, уходят близкие ему люди, бредут вереницей, забрав с собой детей, собак, вшей. Дома, дворы, поля, в которых они бок о бок трудились, мотыжили землю, пели песни, даже цветы на окнах и герань в горшках на крышах — все сиротеет. В промозглой тьме томятся в одиночестве смирившиеся со своей участью камни, оконные рамы, бурьян… Ветер свободно гуляет по деревне, хлопая створками окон, скрипучими дверями… Халиль представляет себе, как на опустевшую деревню хлынет дождь. Мокрые дома, из-под осыпавшейся штукатурки торчат саманные стены, и все вокруг заштриховал дождь, никогда не кончающийся дождь…
Неожиданно Халиль заметил, что наступила тишина, привычный шум исчез.
— Дождь перестал, — сказал Камбер, поднялся и распахнул окно.
Тучи разошлись, кое-где поблескивали звезды. В комнату ворвался свежий воздух, запах дождя. Ночную тишину нарушили журчание стекавшей по трубам воды и звонкие удары последних капель.
Издали донесся призыв к полуночному намазу. Глухой голос Биби-ходжи то слышался отчетливо, то совсем пропадал. Подперев рукой подбородок, Ремзи в задумчивости слушал: голос Биби-ходжи вызывал у него странное чувство.
Камбер закрыл окно и переглянулся с сыном.
— Уроки учишь? Учи, учи!..
Ремзи снова углубился в учебник.
— Ну, я пойду, дядя, — поднимаясь, сказал Халиль.
— Посидел бы еще.
— Поздно уже.
— Ладно, иди! — не стала удерживать его Ребиш. — Только не забывай, о чем мы тут говорили.
— В деревнях на холостяков всегда косо смотрят, — сказал Камбер.
Это Халиль знал и без него. Конечно, ему самому надоело жить в хлеву, хотелось носить чистую сорочку, забыть о вшах, спать на белых простынях…
Халиль натянул сапоги.
— Скоро вернется сын Мусы, да и Омару, сыну Султан, пора появиться, — продолжала Ребиш. — Придут — считай, что Эмине тебе не видать. В дураках останешься. Лучше бы поторопился ты со свадьбой. Омар — парень не промах, не то что другие. Уж он не упустит такую девушку, как Эмине. Ей-богу, схватит ее в охапку — и в горы!
Халиль усмехнулся:
— Не так-то это просто.
— Кому не просто, а кому и просто.
— Ах, мать! Я хоть сейчас готов, да грехи не пускают. Какая девушка согласится войти в дом, где одни голые стены? Нужна постель, одеяло и еще много всякой всячины. А у меня совсем ничего нет.
— Дурья твоя башка! Да ты пальцем помани девчонку — прибежит. Ей нужен не дом, не барахло твое, а ты. Я, говорит, работать буду, землю грызть буду. Перетерпим, а самым необходимым обзаведемся. Вот как она говорит. Не обездоль, Халиль, девочку. Грех возьмешь на душу.
Халиль вздохнул.
— Разве я сам, мать, этого не хочу? Еще как хочу! Но проклятая нищета… Я знаю, как жить надо. А тут ведь даже на барабанщика денег не наскребешь.
— Тебя, Халиль, видать, свадьба пугает, — вмешался Камбер. — Так ведь можно без нее обойтись. Увези Эмине — и все тут.
— А потом что? На аллаха надеяться? Ладно, поздно уже. Ну, будьте здоровы! — И Халиль ушел.
Ребиш повернулась к Ремзи:
— Тебе не хочется спать, сынок?
— Нет, мама.
— Я все же постелю.
Ребиш взяла сложенную в углу постель, бросила матрац на пол. Запахло пылью. Заколыхались листы в тетради и в книжке.
Ремзи поглядывает на отца. В его памяти отец навсегда останется таким, как сейчас. Ремзи будет с грустью вспоминать об этих днях. Отец, мать, прохладная подушка, вода, стекающая по дождевым трубам, — все в эту ночь словно застывает в его глазах, обретая какой-то новый смысл. Ремзи слышит, как по двору, шурша ветвями деревьев, гуляет ветер. У отца сквозь распоротую на плече рубашку просвечивает тело. Мать расправляет одеяло.
На улице непроглядная тьма. Халиль идет, не разбирая дороги. В усталой голове роятся невеселые мысли.
И от этих мыслей, от редких тусклых огоньков в окнах, от хлюпающей под ногами грязи в душе Халиля рождается отчаяние — жизнь сломала его, раздавила. Одиночество, безнадежность… Халиль сам не понимает, что с ним творится.
Халиль остановился, глядя на видневшиеся в тумане очертания господской фермы. Вот хлев, в котором он прожил долгие годы, — ведь это его тюрьма, где он отбывал срок.
Тучи, проносящиеся над крышами, мерцающие в просветах облаков звезды заставляют Халиля по-иному взглянуть на окружающий его мир. Он словно проваливается в пустоту, и им овладевают противоречивые, путаные, непонятные чувства.
В трех шагах от него белеет камень, тот самый, памятный ему камень, на котором они часто сидели с Хыдыром. Халиль закурил, присел и задумался. Только теперь Халиль понял причину внезапной смерти своего товарища. Хыдыра убила вовсе не болезнь. Волю к жизни в Хыдыре поддерживала его любовь к Алие. А смерть пришла тогда, когда Хыдыра покинула надежда. И Халиль словно увидел его в темноте — вот он покашливает, склонив голову набок, лицо белое, как у мертвеца, и он что-то говорит глухим, проникновенным голосом. Халиль не слышит его слов, да и не может их услышать, но в душе понимает, что именно хочет Хыдыр сказать. Да, понимает, и от этого у Халиля возникает щемящее чувство, как будто он слышит хватающие за сердце звуки саза, или тоскливую песню, или жалобный плач ребенка.
— Ох, проклятый этот мир, безбожный мир!
Нет больше Хыдыра. Потускнела память о нем, и сам он ушел в вечное небытие вместе с любовью своей, мечтой и надеждой. В эту ночь под сенью темноты одиночество особенно мучило Халиля, словно его выбросили на улицу, как слепого котенка. И он брел неведомо куда, не находя дороги. Всюду его ждала та же жизнь, та же бесконечная тьма. Выхода не было.
Скоро полтора года, как он вернулся из армии. А что изменилось с тех пор? От чего ушел, к тому и пришел. Опять он спит в хлеву, вместе со скотом. Хватит! Пора ему поселиться в доме и спать в чистой, удобной постели, Халиль вспомнил, как говорили ему в день возвращения из армии: "Ты должен уйти отсюда! Здесь не жизнь!"
Послышался свисток сторожа Мусы. Халиль прислушался. Ночь была тихой, спокойной.
Халиль поднялся и пошел в хлев.
В эту ночь дежурил Али Осман. Не говоря ни слова, Халиль снял сапоги, размотал портянки и растянулся на постели.
Часть пятая
УГНЕТЕННЫЕ
Затянувшаяся зима с нескончаемыми дождями и ветрами наконец выдохлась. Небо, привыкшее быть голубым, привыкшее к тому, что все называют его голубым, предстало перед уходящей зимой во всем своем блеске — украшенное грядами белых облаков, луной, солнцем, алыми зорями. Снова пришла весна. Пробудились насекомые, пробудилась земля, а вместе с ними — надежды людей. Природа вновь заиграла свежими красками. День, вечер, ночь и утро преображали мир каждый по-своему.
Крестьяне, почти всю зиму не выходившие из душных и тесных хижин, поглощенные постоянной нуждой и заботами, с наступлением теплых деньков высыпали на солнце, вынесли во дворы матрацы, одеяла…
Муса, стороживший всю ночь деревню, еще отсыпался, когда во дворе раздались шум и крик. Дверь распахнулась, и на пороге показался Вели, сын Длинного Махмуда.
— Дядя Муса! Дядя Муса! С вас причитается! Али вернулся!
Не успев очнуться от сна, Муса поднял голову, сонным взглядом посмотрел на Вели и опять уронил голову на подушку. В дверях теснились соседи, их лица светились радостью: они пришли с приятной новостью.
— Эй, Муса! — закричал Длинный Махмуд. — Поздравляю, брат! Али твой вернулся.
Муса снова приподнял голову.
— Что?
— Сын твой приехал, сын!
— Сын? Это правда?
— Ей-богу правда. Вставай быстрее!
— Али приехал! Али приехал! — повторяли соседи.
Муса отбросил одеяло и, как был в нижнем белье, кинулся к двери. Его волнение передалось соседям.
— Слушай, штаны хоть надень! — крикнул Махмуд.
Муса бежал, не обращая внимания на крики, несшиеся ему вдогонку, и во весь голос звал:
— Али! Сынок!
За Мусой с шумом и гамом толпой бежали крестьяне. Впереди мчались дети. Держась обеими руками за поясницу, плелась за толпой сгорбленная мать Мусы. Навстречу им в окружении товарищей шел Али.
— Али! Дорогой мой! Али!
Али, худенький, среднего роста, черноглазый паренек с сазом на плече, едва не заплакал, когда увидел отца. И бегом устремился к нему.
— Али! Родной мой Али!
Отец с сыном обнялись.
— Ну слава богу! Спасибо этому дню, спасибо всевышнему, что послал мне его!
Плача от радости, Муса покрывал лицо сына поцелуями.
— С возвращением! — поздравляли Али соседи. А он целовал руки старшим, обнимал товарищей.
— Дайте дорогу, чтоб вам ослепнуть! Дайте взглянуть на моего Али! Али, внучок, где ты? — кричала мать Мусы, силясь пробиться через толпу.
Али припал к рукам совсем одряхлевшей, сгорбившейся старухи, а когда выпрямился, она обхватила руками его лицо и осыпала поцелуями.
— Мы, сынок, — говорил Муса, — все глаза проглядели, на дорогу смотрели, тебя дожидались. Только и думали о тебе, родной. Какое счастье, что ты вернулся! Я совсем голову потерял, видишь, в каком виде выскочил! Ты уж не взыщи. Прямо с постели сорвался!
Наконец все направились к дому Мусы… Впереди шли Муса с матерью и Али, а за ними товарищи, соседи и детвора. Старуха то и дело останавливалась:
— Дай-ка, Али, я еще разок тебя поцелую!
И она снова и снова целовала внука.
Муса рассказывал сыну о деревенских новостях, о том, кто еще покинул деревню.
— А Якуба, — говорил он, — в армию взяли. За твоей борзой я смотрел и за голубями ухаживал. Они и не почувствовали, что хозяина нет, столько голубей развелось, столько их развелось…
Они вошли во двор, и Али тут же плюхнулся на сушившийся на солнце матрац. К Али подбежала его борзая, стала ласкаться, лизать ему лицо, вилять хвостом, потом, повизгивая от радости, растянулась у ног Али.
— А пес-то меня не забыл, — сказал Али.
— Да разве мог он забыть? — радостно закричал Муса. — А ты на голубей посмотри! Как надулись! Это они тебя приветствуют.
Громко воркуя, около голубятни шествовали по кругу белые голуби. Соседи все подходили и подходили. Они поздравляли Мусу, желали счастья. Все искренне радовались. Только мать Якуба не переставала сокрушаться, что ее сына взяли в армию, и горестно хлопала себя по коленям. Али заметил соседскую девочку Эмине. Как она выросла! Давно ли была ребенком?
— С возвращением, брат Али! — приветствовала его Эмине.
Али чуть было не сказал: "Спасибо, сестрица!" — но, вовремя спохватившись, ответил:
— Спасибо, Эмине!
— Али! Миленький! Где мой Омар? Что с ним? Ты без него вернулся? — раздался из толпы голос Султан, и Али сразу помрачнел: что ей сказать?
Али поцеловал руку Султан, а она приласкала его, словно перед ней был ее сын Омар.
— Где же мой Омар, Али, где он? Вы ведь вместе ушли в армию, почему же он не вернулся?
В глазах у женщины стояли слезы.
— Мать! — сказал наконец Али. — Омар жив-здоров. С божьей помощью скоро вернется. "Омар, меня уже отпустили домой", — сказал я ему. "Возвращайся, Али, — ответил он и добавил: — Только не забудь передать моей матери большой, большой привет, поцелуй за меня ее руки да скажи, чтобы не беспокоилась".
— Ты мне, Али, объясни лучше, почему Омар не пришел?
— Придет, мать, придет…
Али растерянно посмотрел на товарищей, и они, словно обо всем догадавшись, опустили головы, стараясь не встречаться взглядами с Султан.
— Мать, — снова заговорил Али, — я тебе все равно что сын, верно? И пока Омар не вернется, буду делать все, что скажешь. И ухаживать за тобой буду. Не хочешь — не работай, переходи к нам жить. Вели мне камни ворочать — буду камни ворочать, вели умереть — умру! Только не волнуйся. С человеком, мать, всякое может случиться. Еще и не такое. Попал тут Омар в одну историю… Но, ей-богу, мать, ничего страшного.
— О аллах! — воскликнула Султан. — Какая еще беда свалилась на мою бедную голову?
— Говорю тебе, ничего страшного. С кем не бывает? Подрался Омар с одним подлецом. Тот его чуть не убил. Но Омар сумел увернуться и сам его ранил.
— За что ж покарал меня аллах?
— А разве было бы лучше, если бы Омара убили и ты сына потеряла?
— Ох, мой Омар! Ох, мой родной!
— Ему всего полтора года дали. Не успеешь оглянуться, как его срок и кончится. Чувствует себя Омар хорошо, ей-богу хорошо. Я виделся с ним перед отъездом. Он даже пополнел. Велел передавать тебе привет и просил поцеловать за него твои руки. — И Али, поцеловав руки Султан, сказал: — Это за Омара.
Султан побледнела и опустилась на землю.
— Значит, мой Омар в тюрьме?
— Вроде бы так, но эта тюрьма совсем на тюрьму не похожа.
— Как же это, Али, как ты мог оставить друга в беде и вернуться домой? Разве настоящий друг так поступит?
— Да я там Омару совсем не нужен. Иначе никогда бы его не оставил. В носильщики пошел бы, чтобы ему помочь. Я, мать, знаю, что такое дружба. Но клянусь, Омару там совсем неплохо.
— Разве так настоящие друзья поступают? — не унималась Султан.
Длинный Махмуд и Муса стали успокаивать старуху.
— Послушай, говорят же тебе, что сыну твоему там хорошо, чего ж убиваться? — сказал Махмуд.
— Ты это моему сердцу скажи, Махмуд. Если бы ты знал, как оно болит!
— Выслушай меня, мать, — снова заговорил Али. — Омар — парень смышленый. За это все его любят, даже офицеры.
— Не обманывай меня, Али. Какие в тюрьме офицеры?
— Так это же военная тюрьма. Пусть я ослепну, пусть моя молодость прахом пойдет, если я вру. В той тюрьме и офицеры сидят. Еще сколько!
— Значит, ты оставил моего Омара? Оставил друга на чужбине, а сам пришел! Сколько же мне теперь ждать моего сына? Горе мне, горе!
Султан потеряла сознание.
Ей брызнули водой в лицо, а когда она очнулась, взяли под руки и увели домой.
— Охо-хо! Это же ее родное дитя, легко ли ей?! — заметил Махмуд.
Али взглянул на Эмине. Они вместе выросли — у одних и тех же стен. В детстве сколько раз дрались. Но сейчас перед Али была совсем другая Эмине — взрослая красивая девушка, свежая, светящаяся радостью, как это ясное, солнечное утро. В армии Али вспоминал об Эмине не больше, чем о других соседях. Теперь же он с первого взгляда почувствовал, что какие-то невидимые узы связывают его с Эмине, и понял: если сердце его не обманывает, если не обманывают его эти первые весенние дни, его ждет счастье.
Пришла пора мотыжить землю, и крестьяне от зари до зари трудились в поле.
Было за полдень. Дул свежий ветер. Батраки, ритмично поднимая и опуская мотыги, пели песню. Али старался заменить ушедшего в армию Якуба. Он запевал, а батраки ему вторили. Ремзи, который к этому времени уже перешел в пятый класс, энергично взмахивал тяжелой мотыгой. Ему приятно было работать бок о бок с этими людьми, сроднившимися с землей, с солнцем, с усталостью. В первые дни Ремзи пришлось туго. Он натер себе мотыгой ладони. Совсем еще детские руки быстро покрывались мозолями. Батраки любили Ремзи. В их глазах он был настоящим героем. "Когда выучишься и станешь большим человеком, не забудь про нас", — говорили ему. По вечерам уставший за день Ремзи едва доплетался до постели, но засыпал не сразу. Он думал о своей деревне, о земле, о батраках, о богатых хозяевах…
Али снова запел:
Вместе со всеми Ремзи повторял: "Не одевайся в белое, чтоб не узнали…" Он мотыжил рядом с Эмине. Ели они тоже вместе. Во время отдыха, если поблизости была тень, Эмине клала голову Ремзи к себе на колени, накрывала ему лицо и убаюкивала, как убаюкивают ребенка. Эмине — настоящий друг. Она всегда была рядом и своей улыбкой, взглядом, лаской придавала Ремзи силы.
— Настанет день, Ремзи, всему этому придет конец, — сказала она.
Ремзи улыбнулся. Он очень устал, хотя Эмине ухитрялась мотыжить и за него.
— Когда выучишься и станешь большим человеком, не забудешь нас?
— Разве смогу я забыть вас, сестра?
— Забудешь, Ремзи. Вот увидишь! Даже здороваться перестанешь. Что, неправду я говорю?
— Неужели, сестра, такое может случиться? Неужели можно забыть всех, даже тебя? Ведь ты ко мне так добра!
— Не забудешь, правда? Не забудешь наши мучения, если даже выйдешь в люди? Ведь тебе не придется тогда ни полоть, ни мотыжить. Будешь хорошо одеваться, вкусно есть. В жены возьмешь себе грамотную, такую же, как ты сам. Да я, Ремзи, буду счастлива, если ты хоть поздороваешься со мной, спросишь: "Как поживаешь, сестра Эмине?" Нет, не сестра, просто Эмине.
— Ты для меня всегда будешь сестрой.
Эмине вздохнула, задумавшись о будущем.
— Ну-ка, орлы, поднажмите, — крикнул надсмотрщик Курд Кямиль. — Перед такими, как вы, ни камни, ни горы не устоят! Живее, живее! Сын хозяина едет. А ну-ка, покажите себя!
Важно восседая на коне, к батракам подъезжал младший сын Кадир-аги — Хусейн.
— Бог в помощь, люди!
— Здравия желаем! — в один голос, по-солдатски, ответили батраки. Хусейн спешился и жестом подозвал Ремзи:
— Привяжи-ка, Ремзи, лошадь!
Отложив мотыгу, Ремзи подбежал к хозяйскому сыну.
— Смотри только, не упусти! Башку размозжу! Ремзи натянул уздечку и повел коня.
— Ну как, Кямиль? — спросил Хусейн. — Дело, я вижу, идет неплохо. К завтрашнему дню управитесь с этим участком?
— Управимся, хозяин.
Хусейн протянул Кямилю сигарету.
— Закуривай!
Эмине смотрела на Ремзи, она очень боялась, что он упустит коня, но мальчик уже привязал его и возвращался.
— Друзья, — обратился Хусейн к батракам. — Может, у вас жалобы есть или нуждаетесь в чем? Говорите прямо, не бойтесь!
— Какие, хозяин, могут быть жалобы? Единственное наше желание, чтобы вы пребывали в полном здравии, — поспешил ответить Кямиль.
— Мы не то что другие хозяева. Мы желаем знать, как нашим людям живется, — сказал Хусейн, — есть ли у них какие-нибудь жалобы.
— Никак нет, ага! — опять ответил Кямиль. — Никаких жалоб нет. Правду я говорю, люди?
— Правду! — отвечали батраки.
К Эмине подошел Ремзи.
— Я так боялась, что ты упустишь лошадь, — призналась Эмине.
— Тогда он, ей-богу, убил бы меня. А деньги за лошадь записал бы на отца. Тому до конца жизни столько не отработать.
На поля, на дороги спускались вечерние сумерки.
— Вечеру — почтение! — воскликнул Кямиль.
— Вечеру — почтение! — повторили батраки.
— Утру — благословение! — продолжал Кямиль. — Ибрагим-паше[30] — вечное упокоение! Нашему правительству — укрепление! Нашему аге — возвеличение! Нашему карману — пополнение! Слепому дьяволу — презрение! Пророку — благодарение!
Батраки хором повторяли за Кямилем. Потом все двинулись по домам. Эмине и Ремзи шли рядом. Вскоре их догнали батраки с других полей. Халиль, ехавший верхом на муле, подозвал к себе Ремзи.
— Ты, я вижу, в дружбе с Эмине. Хочешь, посватаем ее за тебя?
— Да разве можно? Она мне все равно что сестра.
— Ну и что? Посватаем, и все тут. Эмине — девушка красивая.
— Разве можно жениться на сестре?
— Так это же только говорится, что сестра. А ты с ней в самом деле дружишь?
— Конечно. Она мне помогает. И свой ряд мотыжит, и мой.
— Вот подрастешь — тоже будешь ей помогать, да?
— А то как же?
— Не забудешь?
— Никогда!
— Значит, ты любишь сестру Эмине?
— Конечно, люблю.
— Очень?
— Очень. А ты?
Халиль улыбнулся.
— Я? Я ничего про себя не знаю, Ремзи.
— А она тебя любит.
— Это она тебе сказала?
— Она не говорила, но я точно знаю.
Халиль обернулся. Его глаза мигом нашли Эмине в толпе батраков. Ох, до чего ж усталый был у нее вид!
Жизнь в долине Юрегир днем проходила в поле, ночью — на плоских крышах под белыми пологами. По вечерам сын сторожа Мусы играл на сазе. Вот и сейчас, слегка коснувшись струн, он запел:
Вот возьму и в горы убегу с тобою, На горе высокой я шалаш построю.
Эмине лежит под пологом и слушает Али. Она знает: он к ней неравнодушен. Она поняла это в тот самый день, когда Али вернулся из армии. Да и песни, которые он поет в поле, как будто нарочно для нее выбирает. А как он на нее смотрит! "Смотри, Али, смотри, сколько тебе угодно! — думает Эмине. — Осталось всего четыре месяца. Бедняжка Али! Нет больше прежней Эмине. Она отдана Халилю. Тому самому Халилю, который батрачит у Кадир-аги… А ты, Али, смотри, смотри, бедняжка. Четыре месяца осталось, четыре длинных, бесконечных месяца… Сто двадцать дней. Но ведь сто двадцать дней не так уж много — они промчатся. Вот следующий месяц — июль. Мой самый нелюбимый месяц. А после июля — жаркий август. А после августа, и оглянуться не успеешь, придет сентябрь. Все переселятся на хлопковое поле, поставят там палатки. Тогда-то уж придется пожариться на беспощадном солнце. И врагу такого не пожелаешь. Ну а затем начнется октябрь. Люди в деревню возвратятся. А там еще немного, и наступит долгожданная ночь. Халиль мне знак подаст, возьму тогда я свой узелок, на мать с отцом взгляну, уж очень мне их жалко оставлять, но что поделаешь: Халиль меня позвал! Так из века в век заведено: девушка льет слезы, но все равно уходит к любимому. Так и мать моя ушла вслед за отцом. И я уйду. Бегом буду бежать. Потом скажу Халилю: "Дай мне руку!" Схвачу его за руку и больше не отпущу. А ты, Али, бедняжка, смотри на меня, сколько хочешь. Но пусть не затаится в твоей душе злоба. Теперь уже недолго… Сердце Эмине принадлежит Халилю… Возьму я за руку Халиля и уйду с ним. Уйду и никогда не пожалею, не оглянусь назад. Мы выйдем из деревни, и Халиль обнимет свою Эмине, опустится вместе с ней на траву, а потом… Эх, Али, сам догадайся, что потом.
Еще четыре месяца, Халиль! Четыре долгих месяца, родной! Если аллах захочет душу мою взять к себе, то пусть возьмет ее, когда я буду в твоих объятиях. Еще четыре месяца осталось ждать…"
Голос Али звучал все нежнее.
Казалось, струны рыдают под его пальцами.
"Напрасно изводишь себя, Али. Ей-богу напрасно. Думаешь, мое сердце свободно? Отдано оно, отдано дру-тому. И лучше его нет на свете. Он всех беднее, а мне — всех милее…"
Ночь давно вступила в свои права. Умолк саз Али. Деревня в плену у ночной темноты. Ночь постепенно стирает воспоминания о дневном шуме, о мирской суете… Длинный Махмуд, Азиме и Вели спят. Не спится только Эмине. Она беспокойно ворочается в постели и все думает. Снова и снова считает, загибая пальцы: "Июль — он быстро пройдет, в августе попотеть придется, в сентябре от зари до зари будем работать на хлопковом поле, в октябре все вернутся домой. И все же как долго еще ждать!"
Порой девушке кажется, что цепочка бегущих дней бесконечна, что мечтам не суждено сбыться, что на пути вдруг вырастет непреодолимое препятствие. А между тем они с Халилем решили бежать сразу же после сбора хлопка. Эмине даже подарила Халилю платок в знак согласия. Возьмутся за руки и убегут. Им ничего больше не остается. Все из-за бедности. Ведь негде взять денег даже на барабанщика для свадьбы. Халиль предлагал бежать еще два месяца назад, но Эмине не согласилась. Она не могла оставить родителей до сбора урожая. Ведь только на ней, Эмине, и держится дом. Не работай она, отцу табака не на что было бы купить. У матери заработок нищенский. Поэтому Эмине и решила изо всех сил потрудиться осенью, собрать как можно больше хлопка, а потом уже бежать с Халилем, оставив родителям все, до последнего куруша. Эмине так хотелось, чтобы была свадьба, чтобы в волосы ей вплели золотые и серебряные нити, чтобы на голову накинули алую фату, руки окрасили хной. "Но ничего этого не будет. Такая уж у меня доля", — думает Эмине.
Вот еще о чем уговорились они с Халилем. Если Халиля хозяин пошлет в Адану, он непременно зайдет к Кель Хасану и попросит приютить их с Эмине на неделю-другую. Кель Хасан не откажет, тем более что жена Хасана всегда любила Эмине. Это она первая ей сказала: "А Халиль-то на тебя засматривается".
Эмине знала, что огорчит родителей, но утешала себя мыслью о том, что вскоре вымолит у них прощение. Отец поймет, что у нее с Халилем не было другого выхода, и они помирятся. Все остальное уладится. Они с Халилем найдут какую-нибудь развалюху, приведут ее в порядок и будут там жить, платить за нее придется не больше десяти лир. Постелью на первых порах будет служить кусок холста. Бросят в печку немного хвороста — и в постель. Прижмутся друг к другу и будут спать, согреваясь теплом друг друга. "Тем, у кого два сердца слились в одно, и на соломе рай", — часто повторяла себе Эмине. Они будут работать. Первым делом купят одеяло, потом — простыни, а уж потом и два покрывала. И на огне их очага непременно будет стоять кастрюля, пусть даже пустая. Чтоб люди не думали, что они голодают… А потом настанет день, когда им не стыдно будет распахнуть настежь окна и летом спать на крыше.
"Год, два, ну пусть, на худой конец, три года промучаемся, — думала Эмине, — а затем все пойдет своим чередом, все наладится".
Была уже поздняя ночь. Утомленная бесконечными думами, Эмине тщетно старалась уснуть. Халиль, только Халиль и ее мечты, октябрь, счастливые дни, и снова — Халиль, Халиль, Халиль. Новые мечты, новые думы. У Эмине разболелась голова. Боль все усиливалась. Поспать бы! Но уснуть Эмине не могла.
Спать, спать, спать… Халиль, октябрь, любовь, мягкая земля, усталость, мгла, туманы — и наконец сон.
Наступило утро.
— Эмине! Доченька! — звала мать. — Эмине, дитя мое! Доченька! Все уже в поле идут.
Наконец Эмине открыла глаза.
— Еще ведь совсем темно.
— Какое там темно? Отец и тот уже ушел.
Ни отца, ни Вели действительно не было видно. Ушли собирать колосья. Эмине села на постели и, покорно склонив голову, сказала:
— Иду…
— Не заболела ли ты? Если нездоровится, не ходи, доченька. Поспи еще немного. Я одна пойду.
Эмине в нерешительности помедлила, не зная, идти ей или остаться дома. Потом она все-таки встала, оделась, несколько раз ополоснула лицо. Во дворе Али кормил голубей. Они громко ворковали: "Гуррк! Гуррк!" Ясно было, что Али поджидает Эмине.
По дороге в поле Эмине только и думала, как бы поспать. Вот она засыпает, спит, спит, спит… Спит, положив голову на прохладную подушку… Ах, растянуться бы на этой свежей росистой земле и поспать! Отоспаться или умереть… Только сейчас в полной мере сказалась накопленная за полтора месяца усталость, Эмине не слышала ни звучавших рядом смешков, ни разговоров. Сейчас она не только не боялась смерти, но думала о ней как о единственной спасительнице. Вот она, смерть, прямо под ногами ее мягкое ложе, покрывало и прохладная подушка. Смерть… Прижаться бы губами к ее сладким щекам, отдать себя в ее ласковые объятия.
До поля было уже недалеко. Оно начиналось сразу же за виноградником Хасан-аги. Напротив виноградника было кладбище. Какой длинной казалась Эмине дорога! В винограднике Эмине увидела сторожа Шакала Омара. Его лицо словно проплыло мимо в какой-то призрачной дымке…
Наконец Эмине добралась до поля. Ей мерещилось, что зелень у нее под ногами, смешиваясь с землей, превращается в зыбкую, колышащуюся муть… Она подошла к своему ряду, начала работать, машинально поднимая и опуская мотыгу. В глазах все темнело и плыло… Она никого не узнавала и видела только полную горечи улыбку на лице Ремзи.
К девушке подошел Курд Кямиль:
— Что с тобой, Эмине?
— Голова от боли раскалывается… — ответила Эмине, чуть не плача.
— Потерпи малость, скоро воду подвезут. Ополоснешь лицо, и полегчает.
— Что-то ей нездоровится, — сказала Азиме. — Я сегодня насилу ее добудилась.
— Ничего, пройдет, — сказал Кямиль и направился к Султан.
— Султан! А Султан! Когда же вернется твой Омар? Султан горестно покачала головой:
— Не береди мою рану, Кямиль.
— Вернется Омар — тогда отдохнешь. Видишь, приехал Али, и Муса теперь целыми днями только и делает, что дрыхнет да табачок покуривает. Не жизнь, а блаженство.
— Ох, скорее бы он приехал, мой сыночек! Думаете, легко в моем возрасте работать целыми днями? Всех нас так извела работа, что едва ноги таскаем, Ох, Омар мой, ох!
— Да, это ты верно сказала, Султан, — вмешался в разговор Телли Ибрагим. — Раньше я никогда так не уставал, а теперь для меня утром подняться — хуже смерти. Не знаю, что со мной стало? Не иначе как постарел. Вот вернется Омар, отдохнешь. Сын не даст тебе надрываться. Птичьим молоком поить тебя станет, ей-богу! Я знаю Омара!
— Только бы он вернулся. Я своего единственного петуха тогда в жертву принесу. Зарок уже дала. Совсем сил у меня не осталось, с трудом мотыгу поднимаю.
— Потерпи еще немного. Недельки через две кончите мотыжить, тогда хоть до самого вечера спи, — сказал Кямиль.
— Ясно, Кямиль-ага. Мы спим, а хозяева хлеб нам прямо ко рту подносят. Разве крестьянское горе когда-нибудь кончится?
— Кончится, кончится. Аллах велик.
— На аллаха положиться — лучше в могилу сразу ложиться.
— Кончится или нас прикончит, — вставила Азиме.
— Нечему кончаться, сестрица. Мы давно уж конченые люди, — сказала Султан.
— Усталость с ног валит, а тут еще такая жарища. Вода — точно кровь, в глотку не лезет. А хлеб! Собаке брось, и та жрать не станет, — пожаловался Телли Ибрагим.
— Ты про это Марко-паше расскажи[31]! — усмехнулся Алтындыш.
— Слушай, Алтындыш, — оборвал его надсмотрщик. — Вспомни Кель Хасана. Он тоже об этом твердил, а после взял да и махнул в город. Может, и ты собираешься?
— Сам не знаю, Кямиль-ага, что делать. С того дня, как появился… этот… ну как его… трактор, жизни нам нет. Теперь и Хасан-ага трактор купил. Еще три такие машины, и мы с голоду подохнем, выгонят нашего брата отсюда.
— Терпения, чуть-чуть терпения! Знаете пословицу: дервиш терпения набрался и своего дождался. Это в вас усталость говорит, Вот кончите мотыжить, проспите два дня кряду, и от усталости вашей следа не останется, — сказал Кямиль.
"Мне и двух месяцев не хватит", — печально улыбнулась про себя Эмине. Ремзи, привыкшему всегда видеть Эмине жизнерадостной, сейчас было больно смотреть на нее. Он изо всех сил старался, чтобы полоть и свой, и ее ряд. Эмине видела это и устало улыбалась. Глаза у нее покраснели, лицо покрыла бледность.
— Али, сынок! У тебя что нынче, язык отнялся? Посмотри, как высоко уже солнце. Спел бы что-нибудь людям, чтобы им на душе легче стало!
Но Али было не до песен: он видел, как бледна Эмине.
— Настроения нет, Кямиль-ага, а то спел бы.
"Это он из-за меня такой грустный, — подумала Эмине. — Эх, Али, спел бы ты свою: "Вот возьму и в горы убегу с тобою, на горе высокой я шалаш построю".
Эмине была близка к обмороку, работала машинально. А когда привезли завтрак — хлеб и воду — и все пошли к телеге за своей долей, Эмине где стояла, там и легла, сразу же уснув, Ее подняли, Эмине ополоснула лицо, но это не помогло. Жара усиливалась, и девушка теряла последние силы.
— Ну что же ты, Али, давай запевай! — настаивал Кямиль.
— Не хочется.
— Ты только начни. Самому легче станет.
В глазах у Эмине потемнело. Она схватилась за голову и опустилась на землю. К ней подбежали люди. Азиме испуганно крикнула:
— Эмине!
— Ничего страшного! — сказал Кямиль.
Эмине брызнули в лицо водой.
— Хватит тебе работать! — говорила Азиме. — Будем надеяться, что аллах и так нас не оставит. Иди, доченька, домой, отлежись.
— Нет! — ответила Эмине, — я останусь.
— Тогда пойди отдохни часок-другой в винограднике, — предложил Кямиль. — А я пока за тебя поработаю. Станет лучше — возвращайся, а нет — иди домой. Хотя жаль, день пропадет, целый день!
— Спасибо, Кямиль-ага! — поблагодарила Эмине и, глянув в сторону виноградника, спросила: — А можно мне туда, ругаться не будут?
— За что же ругать? Ведь не украдешь же ты тень деревьев. Сторож Шакал Омар и слова не скажет.
— Да пошлет тебе аллах здоровья! — поблагодарила Кямиля Азиме.
В это время Али запел:
До виноградника было недалеко, но Эмине казалось, что она идет целую вечность. Она устало шла и думала лишь о том, как упадет сейчас в тень и мигом уснет. Удары мотыг по земле, голоса людей, пение Али эхом отзывались в ушах.
Эмине перелезла через колючую проволоку ограды и без сил упала на землю под раскидистой шелковицей, щедро дарящей прохладную тень. Запах земли, свежесть, виноградные кусты, скрывшие от девушки поле, а наверху — шелковичные листья, голубые пятна неба, шелковичные листья, голубой, голубой цвет. Эмине подложила под голову башмаки, платком прикрыла лицо. Постепенно она отдалялась от поля, от листьев, от голубизны, погружаясь во что-то мягкое и ласковое. Чириканья воробьев на дереве уже не слышно, оно словно растворилось в бездонной тишине. На лицо Эмине упала крупная ягода, но Эмине не почувствовала этого. Сон принял девушку в ласковые объятия, повел за собой в свои безмолвные владения. Еще немного, и Эмине засыпает крепким, непробудным сном, будто мертвая.
Сын Хасан-аги, Селим, бродил по краю виноградника, где росли фруктовые деревья. Одну за другой он срывал покрытые нежным дымчато-белым налетом красные и желтые сливы и с наслаждением отправлял их в рот. Подойдя к шелковице, Селим увидел лежавшую в тени девушку. Лицо ее было покрыто платком.
Он выплюнул косточку, подошел к девушке и опустился на корточки. Кончиками пальцев осторожно поднял платок. "Так ведь это же Эмине. И зачем она здесь?" Он посмотрел в сторону поля — люди работали и пели.
Грудь Эмине мерно поднималась и опускалась. Селим проглотил слюну. Он подумал, что сторож Шакал Омар еще не скоро вернется с фермы, и, снова приподняв платок, пристально вгляделся в лицо Эмине: до чего же хороша!
— Эмине! — чуть слышно позвал Селим и легонько толкнул девушку.
Эмине не слышала. Селим медленно перевел взгляд на шею девушки, прикоснулся к ней. "Какая горячая! Словно огонь", — мелькнуло у него в голове.
Им все сильнее и сильнее овладевало желание. "А что, если?.." — по телу Селима пробежал трепет. Он положил руку на грудь Эмине и, слегка сжав ее, прошептал:
— Ох, Эмине!
Вдруг послышался какой-то шум. Селим вздрогнул, но это оказалась черепаха, шуршавшая сухими листьями. "Напугала меня, проклятая!" Придя в себя от минутного испуга, Селим вновь протянул руку к девушке. Пальцы, нащупав упругую грудь, замерли, а самого его обдало жаром. Во рту пересохло. Сердце отчаянно забилось, руки дрожали, в глазах помутилось. Эмине мерно дышала во сне. Осмелев, Селим огляделся и, лаская грудь девушки, негромко сказал:
— Эмине! Ты ведь не спишь. И тебе приятно, правда?
Эмине молчала. "Да она и в самом деле спит. Ее и пушками не разбудишь. Ну а мне спать грех. Кто спит, того аллах не любит, раб не жалует".
Селим осторожными, легкими движениями начал раздевать погруженную в сон девушку.
Эмине почувствовала, что тело ее налилось тяжестью. Потом ее обожгла боль. Эмине с трудом открыла глаза и в тот же миг совсем рядом услыхала чей-то вопль и хрипение. "Где я?" — испуганно подумала она. Между лоз она увидела бежавших к ней батраков. С криками они неслись через поле, размахивая мотыгами. "Куда они бегут? Почему кричат?" В растерянности она приподнялась, села. А когда хотела встать, снова ощутила боль. Неожиданно она заметила, что полураздета, и, начав приводить себя в порядок, обнаружила на одежде красное пятнышко.
— Кровь! — вскрикнула Эмине и только сейчас увидела, что рядом под деревом Шакал Омар душит Селима.
Так ничего и не поняв, Эмине, ошеломленная, поднялась на ноги. В тот же миг у изгороди появились батраки с мотыгами в руках. Искаженные гневом лица, и среди них лицо матери, надвигаются на Эмине…
— Ах ты, шлюха! Сгубила ты нас! — кричит диким голосом мать. Мелькают лица мужчин, женщин… И вдруг мать заносит над Эмине мотыгу. Металл блеснул у самых глаз Эмине, и мотыга опустилась ей на плечо. Эмине падает. "Это смерть! Убьет меня мать!" Люди кричат, яростно рубят мотыгами виноградник.
Али и еще несколько мужчин с трудом оттащили Шакала Омара, вцепившегося в горло Селима. Кямиль приподнял голову Селима и тотчас опустил.
— Ой, да он мертв!
Шакал был страшен, по перекошенному злобой лицу струился пот, жилы на шее вздулись.
Азиме била Эмине рукояткой мотыги.
— Ты что, проклятая, натворила? Ты что наделала, шлюха? Уняла, уняла свою похоть, тварь?
Прикрыв голову руками, Эмине корчилась, прижимаясь к корням дерева. Она хотела подняться и убежать, но мотыга снова и снова опускалась ей на спину.
— Эй! — закричала Султан. — Спасите! Держите эту сумасшедшую! Она свою дочь убьет! Держите ее, а то поздно будет!
Эмине была вся в крови. Лицо ее стало неузнаваемым. Несколько человек схватили Азиме.
— Не трогайте меня! Пустите! Эта шлюха опозорила нас. Девка взбесилась и осрамила отца. Дом наш сгубила, всю семью обесчестила!
— Люди! Да он же помер! Помер! — в ужасе закричал Кямиль.
— Помер?! — переспросил Омар и, посмотрев на Селима, вскинул кулаки и потряс ими в воздухе. — И поделом ему, Кямиль-ага, и поделом! Этот гад испортил Эмине, он и мою Халиме испортил. Слышите, люди? Этот подлец жизнь им искалечил! Что же, значит, за кусок хлеба человек честью своей им платить должен? За кусок хлеба! Бедняк для них — нищий, за кусок хлеба все стерпит… Да, я убил его! И правильно сделал! Оживет — снова убью! Спящего даже змея не тронет, мимо проползет. Даже змея. А этот мерзавец спящую обесчестил, спящую! И мою жену обесчестил, когда она спала!
Не зная, что делать, народ в страхе смотрел на Омара. Только Азиме била себя по коленям и причитала.
Вдруг Омар тряхнул головой и шагнул вперед — все расступились перед ним, а он кинулся бежать в деревню.
— Халиме-е! Халиме-е-е! Я убил его, Халиме! Убил! Я отомстил ему, я рассчитался с ним, Халиме! Я убил его… Убил!.. Убил!..
Слова Омара эхом отзывались в ушах людей, стучали в сердцах, вызывали слезы сочувствия.
Ремзи стоял над Эмине и плакал.
— Эй, парни! — крикнула Султан. — Отнесите Эмине в деревню, а то бедняжка, того и гляди, душу отдаст. Ей-богу, еще помрет здесь.
Из толпы вышел бледный Али. Его била дрожь. Он поднял Эмине и понес в деревню.
— Эмине! Эмине! Не бойся, дорогая! — повторял он. Следом шла Азиме, она плакала и руками била себя по коленям. За ними толпой повалили крестьяне. Им наперерез кинулся Кямиль:
— Люди, куда вы? Остановитесь! Не засчитают день, платить не будут. А за уход с работы, ей-богу, хлопот не оберетесь!
Кое-кто, послушавшись Кямиля, остался, остальные, что-то сердито буркнув, ушли.
Азиме причитала:
— У-У, сука поганая! Взбесилась девка! Как я теперь людям в глаза смотреть буду? Как из дому выйду? Что отцу скажу? Чтоб тебе околеть, шлюхе проклятой.
— Успокойся, Азиме, замолчи, сестра! — пытался унять ее Телли Ибрагим. — Что было, того не вернешь. Говорят же тебе, спала твоя дочка. Понимаешь? Спала!
— Не надо было спать. Чтоб ее черная земля приняла! Как можно было так спать?
У выхода из виноградника толпа столкнулась с Хасан-агой, его сыном Дурду и группой крестьян.
— Хасан-ага! Хасан!.. — успела крикнуть Азиме и упала под ударами Дурду. Он бил ее кулаком и пинал, ругая последними словами.
Ибрагим поднял Азиме с земли. Из носа и изо рта у нее текла кровь.
— Вот сволочи! Глядите, люди, как изуродовали женщину!
— Аллах милосердный, — стонала Азиме. — Что они со мной сделали!
Шакал Омар крепко запер дверь и забаррикадировал ее всем, что было в доме. Халиме плакала.
— Зачем ты его убил, Омар? Теперь тебя в тюрьме сгноят. Что я тогда буду делать? К кому приткнусь, Омар?
— Не бойся! Не бойся, Халиме! Аллах велик.
— Выгонят нас. Из дома выгонят и из деревни. Прогонят и вышлют.
— Ну и пусть! Разве лучше было оставить его в живых, чтобы он и дальше насиловал девушек? В тюрьму, говоришь, засадят? Пусть сажают! Пусть в кандалы закуют! Ты в душу мне загляни, в душу! Теперь я больше не раб, Халиме, я высоко держу голову. Честь и достоинство — прежде всего! Они нас людьми не считают, мы для них хуже собак! А разве в груди у нас не бьется сердце? Для них наша честь — забава, но разве у нас нет чести?
— Ах, Омар! Против богачей не пойдешь! Что я теперь делать буду?
— Работать будешь, Халиме! Чего тебе бояться? Ты ничего не сделала. Вот и будешь работать. Здесь или в другую деревню уйдешь… Жандармам, должно быть, уже сообщили. Скоро нагрянут. А пока мне надо сидеть дома, не то прикончат. Или, может, Халиме, лучше, чтобы сразу прикончили? Ах, Халиме! Все во мне, родная, горит. Ведь подлец и Эмине попортил. Кто теперь на ней женится? Халиль хотел, но разве возьмет он ее после того, что случилось?
Омар задыхался от волнения. На лице выступили капельки пота. Он отер лоб и сказал:
— Ну и язык у него! Здоровенный, как у ишака. А глаза — так и вылезли на лоб.
— Не знаю, что ты возьмешь с собой в тюрьму? — растерянно бормотала Халиме. — Ведь у тебя ничего нет, даже шерстяных носков.
Во дворе послышался шум. Сквозь щель в ставне Халиме увидела, что возле дома собираются крестьяне. Показался Дурду с ружьем в руке. Толпа шарахнулась в сторону.
— Ой, Омар! Погибли мы. Дурду пришел. Убьет он тебя, Омар.
Омар припал к щели.
— Эй ты, Омар! Шакал проклятый! Сволочь! Неужто думаешь, что я оставлю тебя в живых после того, как ты убил моего любимого брата! Да весь ты с потрохами ногтя его не стоишь. Изрешечу тебя! И жену твою, и тебя! Открывай, гад, дверь! Открывай!
Халиме, дрожа, прижалась к Омару.
— Что делать, Омар?
Омар отвел Халиме в угол и там усадил. Слышно было, как Дурду ломится в дверь.
— Открой, сволочь! Открой! А то дверь высажу! Я тебе покажу, как людей убивать!
Халиме еще крепче прижалась к Омару.
— Они убьют нас, Омар!
Дурду несколько раз выстрелил в воздух.
— Омар! — крикнула Халиме. — Нас убьют, Омар!
— Ну и пусть убивают!
— Все равно не дам тебе жить, Омар! Сволочь ты, дерьмо собачье! Да я за тебя самого паршивого пса не дам! На кол посажу и тебя, и жену твою! Посреди деревни, при всем народе! Жена твоя — последняя сука в нашей усадьбе, а ты — последний дворовый пес. Твоя жена у нас за подстилку была, мы ее в решето превратили, а отбросы тебе кинули. Вот кого ты в жены взял! Какой же ты мужчина!
— О аллах! Сжалься над нами, не оставь без защиты!
— Поджигай дом, поджигай! Чего ждешь? — послышался голос Хасан-аги. — Разве этот дом не мой? Жги! Разве они не мои дворовые псы? Жги же!
Халиме посмотрела на Омара.
— Омар! Родной мой! Нас заживо сожгут!
На глазах у Омара выступили слезы. Он качал головой и, словно о чем-то давно уже решенном, сказал:
— Да, Халиме, сожгут.
В окна полетели камни.
— Хозяин, хозяин, — умолял Телли Ибрагим. — Руки и ноги твои целовать стану, хозяин! Не поджигайте дом! Людей жалко! Грех страшный!
— Разве они люди? — кричал Хасан-ага. — Голодранцы! Я здесь хозяин, а какой-то голодранец убил моего сына! И дом этот моя собственность, и они… Хочу — и сожгу!
— Они и в самом деле сожгут их.
— Керосин принесли.
— Люди! Эй, люди! Неужели среди вас нет ни одного правоверного? Неужели нет ни одного мусульманина?
— Старосту позовите!
— Позовите других хозяев, пусть придут!
— Позовите Кадир-агу! Позовите Мехмед-агу! Они братья. Может, вразумят их.
— Да лейте же керосин, лейте! — вопил Хасан-ага.
— Поджигают!
— Люди, дом жгут!
— Кадир-ага, Кадир-ага идет.
— Быстрее, Кадир-ага, быстрее!
— Ради аллаха, господин, быстрее! Омара сожгут!
— Заживо сожгут!
— Ты что делаешь, Хасан? — раздался голос Кадир-аги. — Сдурел, что ли?
— Может, ты заодно с ними? Они убили твоего любимого племянника. Селима убили, брат! Погубили, погубили!
— На то есть законы, Хасан. Помни, тебя же и обвинят. Засадят в тюрьму, ей-богу засадят!
— Ну и пусть! Жги, Дурду, жги! Чтоб с треском горело! Что сделает закон этому выродку? Дадут ему лет пять — десять, а завтра сменится правительство, объявят амнистию, и эта сволочь преспокойно, вразвалочку выйдет из тюрьмы. Жги, и все тут! Жги же!
— Смотри, — говорил Кадир-ага, — тяжкий грех на душу берете. Перед аллахом ответ будете держать, как грешники, а перед властями — как преступники. Тогда уж пеняйте на себя. Так вам всыпят — дым пойдет. Не делайте глупостей, предупреждаю! Это ребячество, Хасан!
— Чего ты ждешь, собачий сын?! — снова прогремел голос Хасан-аги. — Поджигай!
Шум снаружи усилился.
— Поджигают!
— Горит, горит!
— Неужели у вас жалости нет?
— Пожалейте их, будьте людьми!
— Народ! Эй, народ! Держите их! Держите! — крикнул Кадир-ага.
Омар и Халиме слышали, как Дурду поливал керосином их окна и дверь. Лужица под дверью медленно растекалась по сторонам. В нос ударил запах керосина.
— Держите их! — шумели вокруг.
— Ни с места! — гаркнул Дурду. — Клянусь, всех перебью! Пусть моя мать женой мне станет, если не перебью! Прочь отсюда! Прочь, собаки!
— Подожгли! Подожгли несчастных! — крикнул Алтындыш.
— Горит!
— Пусть моя мать женой мне станет, если не перебью вас всех!
— Эй, люди! Эй, народ!
Раздались выстрелы, послышались крики, беготня… Опять прогремели выстрелы.
Загорелась дверь. Пламя перекинулось на сваленную у двери постель. Омар вскочил. Схватив миндер, стал сбивать им пламя. Но огонь поднимался все выше, вот он уже начал лизать потолочные балки. Миндер в руке Омара загорелся. Дым заполнил всю комнату. Запахло горелой бязью и ватой, керосином, землей.
— Загубили нас, Омар! — кричит Халиме.
Она тоже пытается погасить огонь. Ставни сгорели, и теперь видно, что происходит во дворе. Крестьяне, каждый как может, стараются потушить пожар. Улучив момент, они льют на огонь воду, бросают землю и тут же увертываются от разъяренного Дурду.
— Сгорим мы, Омар!
В комнату падает пылающая дверь. Халиме и Омар в отчаянии.
У Халиме загораются волосы. Омар не знает, что делать. Халиме мечется по комнате, хватаясь руками за голову.
— Пропала я, Омар! Умираю! Пропала я! Ма-ма!
Тошнотворный запах горелых волос, горелой кожи. Обезумевшая Халиме кидается в проем двери, прямо в огонь. На ней воспламеняется одежда. Халиме бежит с душераздирающим криком. Часть крестьян бросается вслед за ней. Все это происходит мгновенно, Омар не успевает опомниться. Только сейчас он начинает понимать весь ужас происходящего.
— Халиме! — кричит Омар и кидается к двери. У самого проема, за пеленой дыма и пламени, он видит Дурду и два направленных на него, Омара, дула. В то же мгновение из одного дула брызгами вылетает огонь. Омар видит этот огонь. Со всех сторон Омара охватывают языки пламени. И это он тоже видит. Как подкошенный, падает Омар, прижав руку к животу. Кровь! Она течет тоненьким ручейком. Раздается треск, грохот. И тут же пламя, пламя, пламя, дверной проем, небо, множество чьих-то лиц. Постепенно Омар уходит в небытие. Он уже не слышит воплей Халиме. На лицо ему падает горящая балка. Вспыхивают волосы. Омар лежит неподвижно. Только кровь, потрескивая и дымясь на огне, все течет и течет. Пахнет кровью, горелой кровью. Пахнет горелыми волосами.
В этот день, как и в другие дни, наступил вечер. Он был ясным и тихим. Все уже знали о случившемся — не знал только Халиль. Он недавно вернулся на телеге с поля и теперь распрягал мулов.
Управившись с делами, Халиль вымыл руки и ноги, освежил водой побритое накануне лицо. Как всегда в это время, взобрался на крышу хлева и прилег на постель.
Появился Али Осман. Принес на всех похлебку. Пришел и Сулейман, а вслед за ним — Дервиш. Все они избегали смотреть на Халиля. Молча уселись вокруг миски. Подошел и Халиль. Накрошил хлеба в похлебку. Так и поужинали, не произнеся ни слова.
— Благодарение всевышнему! — произнес Халиль, отодвинул миску и встал.
После ужина все легли и принялись дымить цигарками. Халиль сел на краю крыши и молча смотрел на улицу. Али Осман шептался с Сулейманом. Когда Дервиш принес оставшийся с обеда айран, они опять стали шептаться. Халиль обернулся, посмотрел на них, и они сразу притихли.
— Что, дядя? Случилось что-нибудь?
Али Осман уже собрался заговорить, но придержал язык и посмотрел на товарищей. Те отвернулись.
Халиля разобрало любопытство.
— Что это вы все шепчетесь? Что-то скрываете от меня? Говорите, что случилось.
— Нынче много чего случилось. Много…
— Что же вы молчите? Говорите же.
Али Осман перевел взгляд на Дервиша.
— Ты лучше знаешь, Дервиш. Ты и расскажи. Халиль вопросительно поглядел на Дервиша.
— Шакал Омар Селима убил! — выпалил Дервиш.
Халиль вскочил.
— Да ты что? Как же это случилось?
— Утром убил его. Задушил. Ну и его самого, Халиль, тоже убили. Спалили заживо.
— И Халиме спалили. Сожгли несчастную.
— Да ты что говоришь!
— Собственными глазами видел. Она вся в огне была, все на ней горело. Кричала страшным голосом, потом кинулась к колодцу. Но никто уже ей не мог помочь. Свалилась у колодца, стонет, вся корчится в судорогах, по земле катается, словно прирезанная курица. Так до самого конца и корчилась, пока дух не испустила, прямо у всех на глазах.
— Что вы говорите?! — Халиль был потрясен.
— Так до конца и билась в судорогах, — повторил Дервиш.
— И кто же это ее так?
— Сын Хасан-аги — Дурду… Потом пришли жандармы, но Дурду уже и след простыл. Сейчас его разыскивают.
Али Осман сокрушенно покачал головой.
— Много чего произошло, дорогой, много. Людей понаехало, власти прикатили на джипах.
— Понаехать-то понаехало, да только никто и слова не сказал Хасан-аге, — продолжал Дервиш. — А людям строго-настрого велено молчать, будто они ничего не знают.
— Так вышло, Халиль, будто Хасан-ага не виноват. А ведь все это он затеял. Вот какие дела!
— Собака собаке на хвост не наступит, а тут вон что сделали!
— Ладно, — сказал Халиль. — А с чего все началось? За что Омар задушил Селима? Из-за Халиме?
Али Осман запнулся. Все переглянулись.
— Видишь ли, Халиль, — начал было Али Осман, но тут же осекся. — Нет, не могу я этого сказать. — Он встал и по лестнице спустился с крыши.
— Из-за Эмине все началось! — выговорил наконец Дервиш и испуганно посмотрел на Халиля.
Халиль торопливо, словно стараясь отогнать неизбежное, спросил:
— А с Эмине что случилось?
— Селим… — Дервиш не смог договорить.
Остальное рассказал Сулейман. Говорил он медленно, часто делая паузы, обдумывая каждое слово. Эмине, сказал он, увезли в Адану. Мать мотыгой пробила ей голову. И теперь неизвестно, выживет ли девушка.
Халиль не понимал, отказывался понимать эти больно хлеставшие его слова. Он чувствовал только злость. Эмине опять представлялась ему безобразной, все в ней вызывало в Халиле неприязнь, близкую к ненависти: и то, как недавно она взмахивала мотыгой, и ее старый платок, и грязные длинные пальцы с чернотой под ногтями, и серая от пыли тонкая шея, и, наконец, ее назойливые заигрывания. А потом Халиль представил себе девушку в объятиях Селима, ее взгляд, полуоткрытый рот, прищуренные глаза, и все это он соединил воедино — в образе проститутки, которая привычно опускается на ложе и зовет: "Иди сюда, котик!"
— Азиме, — между тем говорил Дервиш, — так ее избила, что живого места на ней не осталось.
— Эмине спала, — добавил Сулейман.
Халиль тихонько поднялся, посмотрел на товарищей так, словно стыдился их, и, опустив голову, направился к лестнице.
— Халиль! Ты куда, племянник? — спросил Дервиш.
— Оставь его! — вмешался Сулейман. — Не трогай парня! Пусть идет!
Халиль бесцельно бредет неведомо куда. Над головой простирается усеянное звездами небо, под усталыми ногами — земля, мягкая, прохладная земля. Ступишь — и нога отдыхает. Сердце Халиля опустошено, весь мир для него — пустота, бесчувственная, беспорядочная, утратившая всякую ценность. Эта опустошенность порождена чувством отчаяния, одиночеством, крушением всех надежд. И в пустоте этой только двое: Эмине и спасающийся от нее бегством Халиль, Кто знает, куда приведет его это бегство, эта тянущаяся в ночь узкая дорога?..
Халиль открыл глаза: он среди каких-то развалин. Ноют кости. Лицо обросло щетиной. Не хочется думать. У поломанной двери валяются окурки. Рядом — скомканная сигаретная пачка, Халиль проводит рукой по лицу. Когда же он успел так обрасти? Сколько дней он не брился? В голове роятся обрывки мыслей, смутные догадки, предположения, они сменяют друг друга так быстро, что невозможно в них разобраться. Халиль хочет встать, но нет сил. Все тело болит, кости ноют, будто его избили. Халиль оглядывается по сторонам: на фоне неба виднеются две потолочные балки, сбоку — разбитое окно, из окна видны большие пустые дома, ставшие владениями полчищ голубей, и деревья, а дальше сплошные развалины. Развалины… Халиль не сразу понял, где он находится. Возле домов на всех улицах густо растут лопухи и высокая трава с неприятным запахом. Неужели это Енидже! Что с ней случилось? Вот здесь стоял дом Омара Шакала. Его сожгли. Усадьбу хозяина разрушили. И все дома разрушили. Халиль вспомнил об Эмине. "Ох, Эмине, все из-за тебя! Значит, на тебе одной держалась Енидже, а мы не знали. Значит, на тебе одной держался мир, а мы не замечали. Вот во что превратилась из-за тебя Енидже!"
Куда ни глянь — всюду руины, все наполнено тоской и болью. Халиль встает и подходит к разрушенной стене. Над ним, шурша крыльями, пролетает стая голубей. Вокруг — ни души. На всем печать мертвого одиночества. И Халиль уже не тот, что был. Глаза запали, лицо покрылось желтизной, свойственной людям, которые часто плачут и всегда чего-то боятся. Халилю кажется, будто он пробуждается ото сна. Сбросив с себя сонное оцепенение, он снова осматривается.
— Так ведь это не Енидже! — произносит он. — Это Маласча! Маласча!
Перед глазами Халиля оживает все слышанное о Маласче, и душу холодит страх. Почти все хибарки сровнялись с землей, только большие дома еще кое-как держатся. Да и то крыши, балки и стены наполовину разрушены. Рядом ручеек. Он еле слышно журчит, словно тихонько рассказывает страшную историю Маласчи.
— Так будет и с Енидже!
Сколько раз Халиль думал о том, что Енидже пустеет, что люди постепенно покидают ее! Сколько раз думал он о заброшенных домах и пустующих улицах! Но никогда раньше мысль об этом не терзала, не пугала Халиля так, как теперь.
— Значит, и Енидже ждет такая же участь? Значит, и ее дома превратятся в руины?
Халиль подумал об Эмине, подумал о Енидже, подумал о будущем и, не сдержавшись, заплакал. Он бил кулаком землю и плакал, бил землю и плакал, плакал.
Часть шестая
1950
День медленно клонился к вечеру. Длинный Махмуд сидел под навесом, скручивал цигарку и думал. Давно небритая борода была совсем седой. Время от времени издали доносились крики детей, тревоживших осиные гнезда, а потом снова наступала тишина. Сын сторожа Мусы, Али, гонял голубей — он свистел, размахивая длинным шестом с белой тряпкой на конце. По вечерам голуби долго парили в воздухе, а потом, сложив крылья, камнем падали на землю.
Длинный Махмуд сильно постарел. Он был теперь совсем тощ и дряхл. Задумчиво послюнявив край бумаги, Махмуд склеил цигарку. Где-то рядом снова раздался детский крик, потом постепенно стал удаляться и пропал. На Махмуда вновь навалилась привычная тишина. Он курил, глядя на безлюдные улицы деревни. Цигарка дымилась, а погруженный в задумчивость Махмуд тупо глядел на пепел, долго державшийся на конце цигарки.
Наконец он стряхнул пепел и жадно затянулся. Детских голосов больше не слышно. Лишь изредка тишину нарушает свист Али и звонкий шелест голубиных крыльев.
— Здравствуй, Махмуд-ага!
Махмуд поднял голову. Перед ним стоял Кямиль.
— Добро пожаловать, Кямиль-ага!
— Рад тебя видеть!
Кямиль присел рядом и извлек из кармана кисет.
— Попробуй моего, Кямиль-ага! — Махмуд протянул Кямилю свой кисет. — Заходишь к нам раз в сто лет, так хоть нашего табачку отведай.
— Ладно, Махмуд-ага, пусть будет по-твоему, хоть и ни к чему между нами такие церемонии.
— Оно так, и все-таки покури моего табачку.
Кямиль взял щепоть табаку из кисета Махмуда и свернул толстую цигарку.
— Как, выйдет твоя семья в этом году на сбор хлопка?
Закусив губу, Длинный Махмуд призадумался.
— Ты уж наперед скажи, чтобы мне, дорогой друг, расчет вести и соответственно рабочих набирать.
— Не знаю, Кямиль-ага, что и сказать тебе, — не поднимая головы, ответил Махмуд.
— Ты только скажи: да или нет?
— Ей-богу, голова кругом идет. Пойдешь — плохо, не пойдешь — еще хуже. Зима уж на носу, а у нас, как говорится, и в одной руке пусто, и в другой — ничего. Знаю, не будем работать — ноги протянем. Никто за так хлебушка не даст, А тут еще к нищете нашей это горе прибавилось. Я знаю, Эмине не виновата, это точно, да кто поверит? Даже родная мать не верит, решила держать дочку взаперти. Вот уже год прошел, а моя Эмине сидит, будто в тюрьме.
— Не дело это, брат мой Махмуд. Что было, того не воротишь.
— Господь свидетель, я и сам так думаю, а Азиме свое: с голоду помру, твердит, а дочь на люди не выпущу.
— Ну и что дальше будет? Жена твоя в своем уме? Зимой что есть будете, если Эмине на работу не выйдет? Хватит того, что в прошлом году держали ее дома. Все знают, как туго вам пришлось.
— И не говори. С голоду чуть не померли.
— А дочь твоя ни в чем не виновата. Всем это говорю и говорить буду. В тот день она чуть с жизнью не рассталась. В глазах у нее помутилось, без памяти упала. Я ей сам велел идти на виноградник поспать.
— Пошли тебе аллах здоровья, Кямиль-ага! Только поди растолкуй это Азиме.
— Послушайте меня и выходите на сбор хлопка. Ну а если вам так уж хочется голодать, тогда ничего не поделаешь; вольному воля. Словом, как знаете, так и поступайте.
Эмине слышала весь этот разговор. С того злополучного дня она жила затворницей. Выйдя из аданской государственной больницы, где она пролежала двадцать три дня, Эмине вернулась в деревню, но из дому никуда не выходила. Мечты о счастье, которые она связывала с Халилем, рухнули, и жизнь теперь рисовалась Эмине в мрачном свете. Лишившись девственности, а значит, и чести, самой главной в глазах деревни человеческой ценности, Эмине потеряла всякую надежду на будущее. Зимой и летом сидела она в дальнем углу комнаты, коротая дни за вышиванием… для других невест. Мать настаивала на переезде куда-нибудь подальше от Енидже. "Кто тебя такую возьмет?" — твердила она. Мать боялась, что, если семья останется в Енидже, Эмине ждет участь деревенской шлюхи.
— Нет, так нельзя! — говорил Кямиль.
— Ты поговори, Кямиль-ага, с Азиме, может, она тебя послушается, согласится.
Но уговоры не подействовали на Азиме, она твердила свое:
— Я, брат мой, с этой девкой на люди не выйду. Хватит, один раз уже опозорились. И не говори мне о хлопке.
— Что было, то было, сестрица Азиме. Чего старое ворошить? Все уже давно забыли, зачем же, как говорится, напоминать ишаку о любимой арбузной корке?
— Послушай меня, жена! Ну, не выйдем мы собирать хлопок. А зимой что делать станем? Есть что будем? Ведь с голоду помрем. Побираться пойдем: "Подайте хлебушка…" Только и крошки никто не подаст, Камиль-ага верно говорит: что было, то было. Пора об этом позабыть. Дитя наше не виновато. А негодяя аллах наказал. Что ж тебе еще нужно? Эмине — родная дочь, кровинка наша. Не жалко тебе ее? Второй год пошел, как бедняжка взаперти сидит.
— Не жалко? Да она перед всем миром нас осрамила, погубила нас, а он о жалости говорит. Да я кровь из нее высосу, все равно не успокоюсь.
— Стыдно так говорить! — пытался образумить ее Кямиль. — Еще люди услышат!
Эмине сидела понурившись и думала о том дне, который сделал жизнь ее невыносимой. Болью отдавались воспоминания о Халиле. Вдруг до нее донесся голос отца:
— Так вот, Кямиль, возьмешь нас с дочкой? Говори, возьмешь? Я, правда, много не наработаю, зато дочь у меня сноровистая. Возьмешь, Кямиль-ага? Возьмешь, брат мой? Говори!
Эмине чуть не расплакалась от жалости к отцу. В его голосе звучали слезы.
— Возьму! — ответил Кямиль. — Возьму, но почему сестрица Азиме упорствует?
— Ну и пусть дома сидит, брат мой! Пусть. А я пойду. С дочерью и сыном пойду. Может, у нее надежда какая есть? А мне не на что надеяться. Так не помирать же с голоду! Одному аллаху известно, как мы настрадались прошлой зимой. Ты только скажи, возьмешь нас, Кямиль-ага?
— Возьму, брат, возьму.
— Тогда подкинь нам немного деньжат. А то у нас хоть шаром покати, а кое-что припасти надо. Как-никак месяц или полтора в поле будем жить.
— Может, пойдешь с нами, сестрица Азиме? — снова спросил Кямиль.
— Не пойду! — отрезала Азиме.
— Значит, ты, как это говорится, отделяешься от стада? — продолжал Кямиль.
— Оставь ее в покое и в свой расчет не бери. Пойду я, с дочкой и сыном.
Наступило молчание. Эмине стало легче на душе. Хлопковые поля, белые палатки, телеги, телеги и, конечно же, Халиль. Все он, все Халиль.
— Ладно, — сказал Кямиль, — немного денег я дам. А сколько тебе нужно, Махмуд-ага?
— Совсем немножко.
— Понятно. Вот… Это пять, это десять, а это пятнадцать… Хватит?
— Добавь еще пять лир, Кямиль-ага. Ей-богу, брат, в доме пусто, ни капли жира нет, на сухом хлебе сидим. А мяса — веришь? — год не видели. Только в праздник, когда люди баранов резали, перепало два кусочка, вот и все. В деревню то и дело наезжают торговцы, а мой сынок Вели, как нищий, поглядывает на них, а у самого слюнки текут. Так что прибавь, брат, еще несколько лир.
— Ладно. Говорят, берущий в долг берет из своего же кармана. Вот тебе еще пять лир. Итого — двадцать, верно? Давай-ка на всякий случай запишем, а то еще забуду. Значит, двадцать лир… Ну вот, кажется, все. Счастливо оставаться! А ты, сестрица Азиме, подумай хорошенько.
— Всего наилучшего тебе, Кямиль-ага! Всего наилучшего, брат мой!
Кямиль ушел.
— Эмине! — позвал Длинный Махмуд.
— Что, отец? — Эмине отложила работу и вышла на порог. Она сразу заметила, что отец повеселел.
— Дней через десять выходим на хлопок. Собери, что нужно, да смотри ничего не забудь! Поняла?
— Поняла, отец!
— И еще, теперь когда захочешь, тогда и выходи из дому. Конец твоей тюрьме. Поняла?
— Спасибо, отец!
— Подойди ко мне, я тебя поцелую! — Эмине наклонилась, и Махмуд поцеловал ее в лоб. — Ну а теперь иди, доченька!
Махмуд положил на колени кисет, подул на пачку папиросной бумаги, листки зашелестели. Он оторвал один и воскликнул:
— Нет, не помер еще Длинный Махмуд!
Эмине посмотрела на мать и, тронутая ее печальным видом, быстро вошла в дом.
— Ты, жена, видать, на что-то надеешься.
— Чего мелешь? На что мне надеяться?
— Тогда почему ты не хочешь выходить на хлопок? Ханым, видите ли, не хочет. Скажите, какая ханым-эфенди нашлась! Ни дать ни взять господская жена. А ты подумала, что мы зимой есть будем? Может, навоз?
Азиме не ответила. Махмуд спокойно свернул цигарку, запалил и стал попыхивать. Они долго сидели молча. Наконец Азиме сказала:
— Можно подумать, что Эмине только твоя дочь, а у меня за нее душа не болит! Еще как болит! А ругаю я ее так, со зла. Разве я не люблю Эмине? Несчастная моя девочка! Искалечили ей жизнь. Никто ее теперь не возьмет. Потому и хочу уехать отсюда подальше, где нас не знают. Из-за любви к Эмине хочу уехать! Вдруг ей на новом месте счастье улыбнется?
— Зачем же тогда ты дочь поедом ешь? Ей и без того тошно!
— Все со злости, ей-богу. Ты же знаешь: язык мой — враг мой!
— Ладно, скажи лучше: пойдешь с нами или не пойдешь?
— Пойду! Конечно, пойду! — Азиме понурила голову. Слушавшая их разговор Эмине вспомнила, как сама когда-то говорила: "Пойду, конечно, пойду!" И перед ее глазами снова ожили поблекшие картины одного из давних осенних дней, когда она, счастливая, на вопрос чумазого паренька: "Пойдешь со мной, Эмине?" — ответила: "Пойду, конечно, пойду!" Воспоминания о прошлом, несбывшиеся мечты были невыносимы… А вот теперь эти слова: "Пойду, конечно, пойду!" Эмине отогнала думы о прошлом, и взгляд ее упал на стену, где висело зеркало. Когда-то в этом зеркале жила пусть некрасивая, но кому-то желанная Эмине. Теперь Эмине совсем одинока. Девушка сняла со стены зеркало. Какой у нее пустой, равнодушный взгляд! Эмине не может теперь думать о будущем, о том, что оно сулит ей.
На следующий день приступили к сборам. Латали, штопали, запасались съестным. Отдельно сложили полотно и рядна для палатки. И вот наступил день, когда на телегах и повозках Кадир-аги сборщиков хлопка стали перевозить к озеру Катыр, расположенному прямо среди хлопкового поля.
Еще на заре каждая семья выставила свои пожитки у порога. Только было подумала Эмине, кто за ними приедет, как у ворот послышался голос Али Османа.
— Селям алейкюм!
— Алейкюм селям! — ответил Махмуд. — Ну что вы за друзья! Без дела и не вспомните о нас.
— Что правда, то правда. Ни дружбы у нас не осталось, ни теплоты человеческой, как дохлые стали, совсем дохлые.
На телегу погрузили тюки, мешки, посуду.
— Ну, ни пуха ни пера, Али Осман! Поехали, брат! — сказал Махмуд.
— А где же Азиме? — спросил Али Осман.
— Не собралась еще. Потом приедет. Трогай.
— Ладно, — ответил Али Осман и кольнул волов стрекалом.
Впервые за целый год Эмине снова увидела улицы, фасады домов, стены. Ей казалось, что лица женщин и детей сияют. Девушка то радовалась, то грустила, то стыдилась, то жалела самое себя.
Волы еле тащились. Махмуд свернул цигарку и протянул ее Али Осману.
— До чего же быстро летит время, а, Али Осман?
— И не говори! Жизнь наша, как дорога, незаметно пролетела. У тебя хоть свой очаг, свой угол есть. А у меня и этого нет.
— Не знали мы, Али Осман, цену нашей жизни! Только сейчас и понимаешь, что всю ее мы на навозной куче прожили.
Они хмуро курили свои цигарки, а встречаясь взглядами, покачивали головой.
— Это точно: на навозной куче.
Звеня колокольчиками, навстречу им неслась двуконная повозка, она быстро приближалась.
— Кто это, Али Осман? — спросил Махмуд.
— Халиль.
— Да ну?
По мере приближения повозки все отчетливее виднелось лицо Халиля. Он стоял во весь рост и подстегивал лошадей.
— В самом деле Халиль, — удивленно воскликнул Махмуд.
Подъехав поближе, Халиль осадил взмыленных лошадей.
— Селям алейкюм!
— Алейкюм селям!
Разукрашенная повозка, нарядные лошади, кнут с ременными кистями — Эмине не могла оторвать глаз. За то время, что Эмине его не видела, Халиль возмужал, стал еще красивее. Теперь у него были густые усы.
— Ну и отменные у тебя лошади! — сказал Махмуд.
— Они молодые еще, дядя Махмуд, необъезженные. Лягаются, бесстыжие.
Халиль был по-прежнему дорог Эмине, по-прежнему волновал ее сердце.
— Слушай, Али Осман, а Халиль стал парнем хоть куда! — заметил Махмуд, когда Халиль отъехал.
— О чем ты говоришь, Махмуд? Прошлой осенью Халиль всех юрегирских возниц обставил. Притом без помощника. Страху нагнал на знаменитых возниц из Ой-маклы. А хозяин кофейни "Колокольчик", тот прямо дрожит, как услышит звон бубенцов Халиля. "Опять беда на наши головы", — говорит. Словом, Халиля здорово побаиваются.
— Да ну! Мне говорили, а я не верил.
— А прозвище у него какое! Гяур Халиль.
— Ну и ну! Гяур Халиль, значит.
— Да, Гяур Халиль.
— Вот это да! Еще недавно малявкой был и все время мерз. В хлеву забьется, бывало, в угол, съежится и зубами стучит. Недаром говорят: живучего и аллах бережет.
— А нынче каким стал? Дурмуш-ага, говорят, души в нем не чает. То молодцом назовет, то скажет: "Ты самый верный мой человек". Помнишь, когда-то Кадир-ага и к тебе так относился. А у Халиля прямо дух спирает от гордости. Вот он и усердствует. Работает за пятерых, себя не жалеет.
— Точь-в-точь как я, бывало, — гордо выпятив грудь, сказал Махмуд.
— Это верно.
— Значит, не жалеет себя Халиль, говоришь, как я не жалел?
— Не жалеет, Махмуд! Халиль, говорю я ему, ты не очень-то верь их словам. А он и слушать не желает.
— Это все молодость, Али Осман. Она ни совета не признает, ни дороги. Кровь в нем бродит. А когда у человека кровь бродит, он никого не слушает. Потом раскается…
— Да только поздно будет.
Крестьяне, прибывшие до них, уже успели подготовить участок для палаток; собрать с него хлопок, расчистить. Сын сторожа Мусы, Али, устанавливал палатку для Мустафы, отца Кель Хасана. Держась одной рукой за поясницу, Мустафа подметал площадку, а жена его складывала очаг.
— Готово! — объявил Али. — Все в порядке!
— Спасибо. Да не пошлет тебе аллах горя! — поблагодарил Мустафа.
— Я, дядя Мустафа, всегда готов вам помочь. На земле, на воде, в беде и в еде, словом — везде. Вы только позовите, Али для вас реку остановит.
Мустафа засмеялся.
— Спасибо тебе, Али, на добром слове!
В это время показалась телега, и из нее выпрыгнула Эмине. Обрадованный Али поспешил к девушке.
— Добро пожаловать всем вам, дядя Махмуд!
— И мы, сынок Али, рады тебя видеть.
Али помог Махмуду сойти с телеги. Пока Али Осман сбрасывал на землю тюки и мешки, Вели возился с волами.
— Где собираетесь ставить палатку, дядя Махмуд? — спросил Али.
— Не знаю, Али. А где лучше?
— Давайте там разобьем. — Али показал на еще не занятое место у дороги.
— Да это же обочина, пылищи полно. Лучше вон там, сбоку.
— Давайте там. Сейчас разобьем.
Первым делом собрали хлопок, повыдергали кусты хлопчатника, затем Али мотыгой вырыл ямки для столбиков…
Послышался звон колокольчиков. Это катила двуконка Халиля. Дети с радостным криком: "Едет, Гяур Халиль едет!" — кинулись ему навстречу.
Глядя, как мчится Халиль, Махмуд вспомнил былые времена. "С ветерком летит, орел, с ветерком!"
Халиль въехал на поле и резко осадил лошадей, мигом разгрузил повозку и снова умчался. Вслед за ним с шумом и гамом побежала детвора.
Телеги все подъезжали и подъезжали. Вечерело. Установив палатку, Али помогал Эмине складывать очаг. Снова послышался звон колокольчиков, и дети снова зашумели, кинулись бежать навстречу двуконке. На этот раз Халиль привез Азиме. У нее был такой вид, словно она только что чудом спаслась от гибели.
— Слава аллаху, живыми добрались! — проворчала она.
Халиль быстро сгрузил вещи Алтындыша, соскочил с повозки, напился из бочки, набрав воду в пригоршню, вытер о штаны руку. Заметив Али рядом с Эмине, остановил на них короткий, пристальный взгляд. Затем резко обернулся и, вскочив на повозку, щелкнул кнутом:
— Ну, трогайте!
Звякнули колокольчики, зашумела детвора. Повозка покатилась, оставляя за собой облако пыли.
— Парень и себя загонит, и лошадей! — заметил Махмуд. — Сколько раз он уже успел обернуться!
Эмине смотрела Халилю вслед.
— Ну и прыткий же он! — сказала Азиме. — За какие-нибудь две минуты все пожитки Алтындыша погрузил. А лошадей так гнал, бессовестный, что у меня душа в пятки ушла. Будто спешил доставить султану голову казненного.
Эмине, грустно понурив голову, медленно вернулась к очагу. От взгляда Али это не ускользнуло. "А правду говорили, что Эмине вздыхает по Халилю", — подумал он.
Стало смеркаться. На столбах возле палаток зажгли керосиновые фонари. В этот теплый, мягкий вечер в воздухе разливался запах земли, запах хлопка, запах масла и плыл над людьми, скотиной, насекомыми, полем…
Откуда-то появился Кямиль и крикнул:
— Эй, люди! Слушайте меня!
Женщины, мужчины, дети — все высыпали из палаток.
— Люди! — продолжал Кямиль. — Все мы, в общем-то, устроились. Так когда приступим к сбору: завтра или послезавтра?
— Завтра! Завтра! — послышались голоса.
— Мы, брат, — сказал Алтындыш, — приехали сюда работать, а не веселиться. Зачем день терять?
Жена Кавалджи Хасана — Фатьма ударила в дюмбелек [32] и вышла на середину.
Люди захлопали в ладоши, стали подпевать.
— Молодка Азиме! Выходи-ка, покажи, как ты пляшешь! — шутил Кямиль.
Все рассмеялись.
— А чтоб тебе аллах добра послал, Кямиль-ага! Видел ты хоть раз, чтобы я плясала?
— Ну и что с того, что не видел! А сейчас посмотрю! Прислонившись к столбу, Али наблюдал за веселившимися, то и дело поглядывая на Эмине.
С выходом крестьян на сбор хлопка деревня опустела, двери и окна домов были крепко заперты. Оставшиеся без хозяев собаки блуждали по улицам, а в самый зной дремали у стен. Стало тихо, безлюдно. Не опустели только дома богачей.
Лавочник Сабри валялся на тахте, обливаясь потом, дремал. Ему лень было даже шевелить рукой, покоившейся на волосатой груди.
Наконец он все же не выдержал и отогнал досаждавших ему мух. Куда деваться от скуки? Он приподнялся, глянул в открытую дверь. Все то же: желтый свет, желтая дорога. Сабри почесал грудь, свернул цигарку, закурил. Густой дым поплыл по лавке-кофейне. Сабри встал, взял ведро с водой, побрызгал пол. Запахло влажной землей. Набирая пригоршнями воду, он несколько раз плеснул себе на лицо, вытер руку о полу минтана [33] и снова сел на тахту.
Некоторое время он неподвижно сидел, потом, тяжко вздохнув, на лету поймал муху и раздавил ее.
— Ну что, доигралась?
Затем мухобойкой собственной конструкции он убил несколько мух, положил их в спичечный коробок и сделал соответствующее количество отметок на грифельной доске.
— Ну, мушиная орда! Самые страшные наши мучители — это мухи и хозяева. И от тех, и от других больше всего напастей.
Постепенно угомонившись, мухи пристроились на потолке и на стенах у самого потолка.
— Провести меня решили, паршивцы? Сейчас я вам покажу! Думаете, не доберусь до вас?
Сабри взял стул, поставил на стол, взобрался на него, покончил еще с несколькими мухами, но, когда захотел дотянуться до остальных и встал на цыпочки, стул зашатался, и Сабри потерял равновесие. Он упал, угодив на край одного из столов, и покатился к дверям. Придя в себя, Сабри пустил в ход всю отборную ругань, какую только знал. Вдруг у порога он заметил ноги в башмаках на резиновой подошве, до того запыленных, что определить их цвет не представлялось возможным. Продолжая лежать, Сабри поднял глаза и увидел перед собой незнакомца с заросшим, обветренным, потным лицом и рыжими усами. Сабри поднялся. Мужчина, на вид ему можно было дать лет тридцать пять — сорок, молчал, пристально глядя на Сабри зловеще поблескивающими глазами.
— Тебе, земляк, кого надо? — спросил Сабри.
Мужчина посмотрел на перевернутые столы и стулья, заглянул в спичечный коробок с мухами.
— Спать, проклятые, не дают, — объяснил Сабри. — Их у нас прямо тучи. А в ваших краях много мух?
— В деревне кто-нибудь есть? — спросил незнакомец на ломаном турецком языке.
"Не иначе как курд, и притом разбойник", — решил Сабри.
— Конечно, есть! Где это видано, чтобы деревня была пустой? Все, как один, на месте.
Мужчина огляделся.
— Ты знаешь Халиля?
Сабри задумался.
— Халиля, говоришь?
— Халиля? Заза [34] Халиля. Сейчас ему должно быть лет двадцать.
— Халиль? Халиль и притом заза?
— Ге, заза Халиль.
Сабри подался назад, к изголовью тахты, сел и, притворившись, будто силится что-то вспомнить, сунул руку под подушку. Нащупав пистолет, он зажал его в руке, а палец положил на курок. Затем, подняв голову, переспросил:
— Значит, Халиль, притом заза Халиль, так?
Мужчина кивнул:
— Его привела сюда мать, давно привела.
— А зачем он вам?
— Он наш родственник. Десять лет его ищем. У него на родине много земли.
— Вот как! Стало быть, наш Халиль богатый!
— Да, богатый.
— Есть у нас Халиль, но тот ли он, которого вы ищете, я не знаю.
— Заза, — обрадовался незнакомец, — Халиль.
Сабри встал, подошел к двери и показал на ворота фермы.
— Там спроси Халиля, он, наверно, и есть тот, кого ты ищешь.
Чуть подальше, у стены, сидел и курил пожилой мужчина. Сабри его тоже не знал.
— Сагол, брат! — поблагодарил незнакомец и зашагал к ферме.
В тени у стены эти двое стали о чем-то шептаться. Время от времени они поглядывали на Сабри. Ему эти люди показались подозрительными, особенно их лица. Незнакомцы направились к ферме. Пожилой остался у ворот, а молодой, сказав ему что-то, вошел.
"Неспроста все это", — решил Сабри и, взяв из-под подушки пистолет, сунул его за пояс. Эти люди явно что-то затевают против Халиля. У Сабри в таких делах был кое-какой опыт. Он сидел во многих тюрьмах, всяких людей повидал.
Вскоре появился тот, что ходил на ферму. Они поговорили, поглядели на стоявшего в дверях кофейни Сабри, снова поговорили. Затем неторопливым шагом подошли к нему. Пожилой жестом приветствовал Сабри.
— Чай есть? — спросил молодой.
— Найдется, — ответил Сабри, пропуская их в дом. Они вошли, сели на тахту. На пожилом, несмотря на жару, была накидка из грубой шерстяной ткани. Лицо было покрыто испариной.
Сабри пошел к печке, чтобы заварить чай, и обернулся: вдруг они его пристрелят? Но пожилой свертывал цигарку, а молодой пристально следил за Сабри.
Взяв себя в руки, Сабри спросил:
— Заваривать покрепче?
— Покрепче, — ответил молодой.
Сабри заварил чай, подал. Незнакомцы, звеня ложечками, стали размешивать сахар в стаканах.
— Халиля видели? — спросил Сабри.
— Не видели. Под вечер приедет, — ответил молодой.
Старший упорно молчал.
— Будете ждать?
Оба разом закивали, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся.
— Табак есть? — спросил молодой.
— Есть.
— Дай пачку.
Сабри протянул ему пачку табаку. Молодой распечатал ее и положил перед собой на стол. Затем принялся перебирать табак. Молчание курдов и их напряженные лица все больше наводили на Сабри тревогу.
Близился вечер, а они и не думали уходить: попивали чай и курили. Сабри прислушивался. Но ни на дороге, ни в самой деревне ничто не нарушало зловещей тишины. Вот послышался звон колокольчиков. Пожилой отставил стакан и настороженно, как-то по-кошачьи подняв голову, прислушался. Молодой, напрягшись всем телом, словно перед прыжком, повел носом, будто к чему-то принюхивался. Пожилой встал, подошел к двери. Через окно Сабри увидел приближавшуюся повозку, груженную тюками с хлопком, и тоже поспешил к двери.
— Это Халиль? — спросил молодой.
— Нет, — ответил Сабри.
Халиль сидел на тюках. Сабри с порога стал знаками показывать Халилю, чтобы тот проезжал дальше. Но Халиль, не поняв, остановил лошадей и спрыгнул.
— У меня к тебе дело, Сабри-ага!
Сабри продолжал делать ему знаки.
Халиль, ничего не замечая, протянул Сабри две с половиной лиры:
— Вот возьми и пошли нашим десять пачек сигарет "Кёйлю". Ты знаешь куда — все сейчас на озере Катыр. А мне дай попить, в горле пересохло.
Все попытки предостеречь Халиля оказались тщетными. Сунув в руку Сабри деньги, Халиль вошел в лавку, приветствовал стоявших у дверей людей и пошел прямо к кувшину с водой. Он пил, а незнакомцы затаив дыхание, точно зачарованные, впились в него глазами.
— Ты Халиль? — спросил наконец молодой на курдском наречии заза.
Халиль расплылся в улыбке.
— Да, — ответил он. — Вы заза?
Лицо пожилого перекосила дикая гримаса. Халиль смотрел на него, ничего не понимая.
— Спасайся, Халиль! Они убьют тебя! — крикнул Сабри.
В тот же миг в руке пожилого оказалась винтовка "мартини". Халиль опешил. Дальше события развивались с бешеной скоростью. Еще миг, и Халиль увидел — в руке молодого блеснул пистолет. Два дула глядели на него в упор. Халиль рванулся вперед и выплеснул воду в лицо незнакомцам. В ответ один за другим прогремели два выстрела. Халиль упал. Перед его глазами пронеслись лица Хыдыра и Эмине. В голове мелькнуло: "Неужто это смерть?" И снова перед глазами всплыло лицо Эмине. Острой болью обожгло колено. "Еще не конец…" Нет, он должен выжить, спастись…
— Он жив! Он еще жив! — сипло крикнул пожилой заза.
Напуганные выстрелами лошади сорвались с места. Халиль вскочил на ноги и стрелой кинулся из лавки наперерез лошадям. Повозка проскочила между ним и незнакомцами. Халиль, петляя, побежал к ямам, где хранилось зерно. Выстрел, потом еще один… Халиль с разбегу прыгнул в пустую яму и притаился. "Я в ловушке", — сообразил он и со страхом подумал, что теперь смерти не избежать.
— Разве для этого мы десять лет искали его?! — орал пожилой на своего напарника.
Халиль приложил ухо к стенке ямы и услышал приближающиеся шаги.
— Халиль! Беги! — раздался голос Сабри. — Они близко, Халиль! Они убьют тебя!
Но страх перед неминуемой смертью парализовал Халиля. И опять перед глазами мелькнуло лицо Эмине. Как она будет переживать его смерть! Он вспомнил Хыдыра, его похороны… На Халиля нахлынула горькая тоска, как в ту ночь, перед похоронами, стало нестерпимо жалко себя. И в этот миг, как никогда, стало ясно: Эмине — самое близкое и дорогое ему существо во всем мире.
Голос Сабри вывел его из оцепенения.
На дно ямы что-то упало. Халиль инстинктивно отпрянул. У его ног лежал пистолет. Халиль схватил его, попытался унять нервную дрожь, глотнул воздух пересохшим ртом.
— Халиль! Они рядом!
Спустив предохранитель, Халиль на секунду выглянул из ямы и выстрелил по бежавшим курдам. Пожилой кинулся в одну сторону, молодой — в другую. Оба упали на землю. Затем пожилой приподнялся на колено и выстрелил. Халиль успел пригнуться. Над головой одна за другой со свистом пролетели пули. И снова послышались быстрые шаги. Халиль выглянул. К яме бежал молодой курд. Халиль прицелился, выстрелил, и парень упал, словно ему подставили подножку. Он корчился и извивался, как недорезанная курица. Халиль прицелился в пожилого, выстрелил, и тот повалился на бок, схватившись за руку.
— Это они убили моего отца! — сквозь зубы процедил Халиль.
Его охватило желание мести. "Две пули… Для этого потребуется всего две пули, — подумал он. — Затем… затем разлука с деревней, тюрьма. А Эмине?.. Нет, он не способен на подлый выстрел в спину…"
Вокруг все затихло. Не было слышно ни звука. Халиль удивленно посмотрел вокруг. Высокие стены ямы… Запах земли, пыль и мусор на земле, кровь на земле. Земля и Эмине… Это земля заставила его вспомнить об Эмине, понять, как он по ней истосковался… То, что недавно казалось ему невозможным, вновь ожило в его душе, вновь вспыхнула искра надежды. Недалеко от Халиля опустилось на землю несколько пугливых воробьев. В деревне как будто началось движение. Так оно и было. Из ворот фермы несмелыми шагами вышел Камбер, огляделся. Вскоре показался Мухиттин. Только теперь Халиль заметил, что ветви деревьев колышутся, что дует ветерок, что поют птицы. Послышался голос Сабри:
— Халиль! Халиль!
— Я здесь, Сабри-ага.
— Как ты там?
— Ничего. Они ушли?
— Не видать. И голоса, гады, не подают.
"Интересно, что подумает Эмине, когда узнает обо всем этом?"
Халиль сознавал, что за это короткое время он возмужал, стал совсем другим человеком. Теперь он не тот, что прежде. Одно событие перевернуло всю его жизнь. В нем не осталось былого недовольства собой, он не в мечтах, а в действительности вел себя как настоящий герой.
— Выходи, Халиль. Их и след простыл, — слышится голос Сабри.
— Нет, нет, Халиль, погоди, мы сначала осмотрим все вокруг! — это кричит Камбер.
Конечно же, и для Сабри, и для Камбера, и для Кадир-аги, и для Эмине он теперь не тот Халиль, что прежде. Еще долго, много лет будут говорить о том, как он обратил в бегство своих врагов. Тем более что в деревне давным-давно и выстрела-то настоящего не слыхали, если не считать стрельбы на свадьбах.
Вновь послышался голос Сабри:
— Халиль! Это я иду, брат!
"Боится", — решил Халиль, и по его лицу расплылась улыбка.
Сабри робко приближался к яме. Встретившись глазами с Халилем, он вновь крикнул:
— Это я, Халиль! Это я, брат!
— Они ушли?
— Убежали. Будто ветром сдуло.
Халиль вылез из ямы. Он потерял много крови. Земля в яме была красной.
— Они ведь тебя чуть не убили, — сказал Сабри.
Халиль кивнул.
— Так бы оно и было. Пистолет бросил ты?
— Я.
— Спасибо! Большое тебе спасибо, Сабри-ага! Ты меня спас. Не брось ты мне пистолета, в этой яме лежал бы мой труп.
— Ты видел, у них аж глаза кровью налились, когда они тебя узнали. Вот негодяи! Заморочили мне сначала голову, сказали, будто ты родственник им, будто наследство тебе досталось, и все в таком духе. Ну, я и поверил.
— Что поделаешь. Бывает.
— И все-таки ты, брат, легко отделался. Ну и молодец! Не дай бог, чтоб такое повторилось, но ты, Халиль, хоть и не полагается хвалить в лицо, настоящий герой. Дверь моего дома отныне всегда для тебя открыта. Не знал я, что ты такой храбрый. Я храбрых люблю. Приходи ко мне, когда захочешь. Может, трудно станет, или заскучаешь, или деньги понадобятся — непременно заходи. Вот так.
— Спасибо, Сабри-ага. Прими с благодарностью, — сказал Халиль, протягивая Сабри пистолет.
Сабри удержал руку Халиля:
— Слушай, Халиль, коня, жену и оружие никому, как известно, не доверяют. И все же подержи эту штуку пока у себя. Мало ли что может случиться. Бывает, оружие помогает лучше самого близкого друга.
Халиль в нерешительности молчал.
— Бери! — настаивал Сабри. — Может, и пригодится. От подлецов всего можно ждать. Думаешь, они отказались от своих намерений? Я тебе и запасные обоймы дам. Носи пока пистолет при себе.
— Спасибо, Сабри-ага, спасибо!
— Ну вот, так бы сразу. Эти подлецы весь день прождали тебя в моей лавке. Сабри, сказал я себе, они замышляют недоброе против Халиля. Надо его предупредить. А в это время ты, как нарочно, возьми да и заявись! Я тебе глазами знаки делаю, чтобы дальше ехал, а ты не понимаешь. Ну да ладно. Главное, чтобы больше такое не повторилось. Не напрасно говорят: кровь, которой суждено пролиться, в жилах не задержится.
Сабри положил руку Халилю на плечо, и они зашагали в лавку. Вдруг Халиль остановился.
— Слушай, — сказал он, — я ведь про свою повозку забыл.
Напуганные стрельбой лошади стояли на самом краю деревни.
— Ишь куда, бессовестные, забрались! Я мигом за ними сбегаю, Сабри-ага, ладно?
— Ладно, брат, ладно.
Халиль глянул на пистолет. Сабри дружески хлопнул Халиля по плечу и улыбнулся.
— Не стесняйся! Пользуйся, как своим собственным. А в дороге не зевай!
— Спасибо, Сабри-ага! Ей-богу, не так-то легко им убить меня, — сказал Халиль и с пистолетом в руке побежал за повозкой.
Вскоре о происшествии узнали и на озере Катыр. Спустился вечер, батраки вернулись к своим палаткам и, кольцом окружив Али Османа, с любопытством и тревогой слушали его рассказ.
— Бандюги с двух сторон насели на Халиля. Такую пальбу открыли, такую пальбу! Ему, бедняге, с трудом удалось спрятаться в яме. А у этих подлецов — у одного ружье в руке, у другого — наган. Сабри подумал: "Все, теперь они прикончат парня". Тогда-то он и бросил Халилю свой пистолет. А бандиты все стреляют и стреляют. Под таким огнем и головы не поднимешь. А Халиль все равно из ямы высунулся. "Вот тебе!" — и всадил в одного пулю. "А это тебе!" — и всадил пулю в другого. Те кинулись к своим лошадям: они ведь на лошадях прискакали и лошадей оставили в канаве, за виноградником Мехмед-аги. Камбер там был и видел, как они дали деру. Халиль у нас настоящий герой! В бегство обратил подлецов. А как он их искалечил! Кровь ручьем текла.
— Пошли аллах ему здоровья! — воскликнул Кямиль.
— Так-то так, — сказал Алтындыш, — но вы ведь знаете, что такое кровная месть. Эти люди не оставят Халиля в покое. Рано или поздно убьют.
— Даже не поцарапают, — заявил Али Осман. — Теперь у Халиля пистолет за поясом. Он один против целой банды выстоит.
— Молодец, Халиль! Не парень, а орел! Настоящий герой! — возбужденно твердил Длинный Махмуд.
— Что и говорить! — подтвердил Алтындыш. — Орла видно по полету. Как он лошадей гонит! Как ветер, мчится! Недаром же его прозвали Гяуром.
Эмине в это время что-то варила возле палатки, жадно прислушиваясь к разговору мужчин. Чем больше хвалили Халиля, тем больше гордилась им Эмине… Ветер шевелил пыльные листья хлопчатника. Пахло созревшим хлопком, чертополохом. Из печек шел дым, уходил вверх и скапливался над палатками темным облаком.
— Вот увидите, рано утром Халиль уже будет здесь, — сказал Алтындыш.
— Соображать надо, Алтындыш! — возразил Кямиль. — Ты что, голову на солнце перегрел? Как он может к утру быть здесь, если выехал нынче под вечер?
— Вот увидите, к утру будет здесь. Хочешь, побьемся об заклад?
— Значит, по-твоему, Халиль будет здесь до восхода солнца?
— Да, Кямиль-ага. Солнце еще не взойдет, а он уже здесь будет. Не приедет — куплю тебе кило суджука[35]. Приедет — ты мне купишь, договорились?
— Идет! Но знаешь пословицу? Кто пловом пренебрегает, пусть ложку сломает!
— Ей-богу приедет, — заявил Али Осман.
— Парень этот погубит себя, — заговорил Длинный Махмуд. — Думаете, легко за ночь такой путь проделать? Но я знаю Халиля — он непременно приедет. Вот увидите, спор выиграет Алтындыш. А кончится все это тем, что парень здоровье потеряет. Так и со мной было когда-то. День и ночь работал, чтобы похвалу услышать. Только пустое все это. Лишился Махмуд ноги, и никому до него дела нет. Пусть хоть с голоду помирает. Вышвырнули вон — и все. То же самое ждет и Халиля. Искалечит себя — и выгонят его в шею. И тогда даже аллах забудет о нем, потому что у аллаха и без того полно дел, некогда ему возиться с каким-то там батраком. Плохо кончит Халиль, ой как плохо!
— А чего еще в деревне ждать, Махмуд? — сказал Кямиль. — Халиль отличный возница. Я ахнул, когда увидел, как он грузит солому. Ни отдыха не знает, ни передышки. Круглые сутки работает. По-моему, какое-то горе у парня, вот он и работает день и ночь, чтобы о горе своем забыть. Верно я говорю, Али Осман?
— Не знаю, — ответил Али Осман вставая. — Ну, я пошел на гумно.
Проводив глазами Али Османа, Кямиль заметил:
— У Халиля какое-то горе, это уж точно. Какое — Али Осман знает, да только молчит. Видали, как убежал?
— Что у Халиля может быть за горе, Кямиль-ага? — спросил Алтындыш. — Он молодой, силы есть, на здоровье не жалуется…
— Не говори. У молодых тоже бывает горе.
— Так оно или не так — не знаю. Знаю только, что в деревне работе нет конца, знай гни спину. Так оно было, так и будет.
— Верно, — подтвердил Кямиль. — Беда, если человек без поддержки остался, без помощи! Вы посмотрите на родителей Кель Хасана! Оставил он их, несчастных, а сам уехал. И никого у них нет в целом свете. Думаете, легко им, старым, работать? Счастье еще, что в нашей деревне добрые люди не перевелись, соседа могут уважить. Кто им похлебки пошлет, как прошлую зиму, кто — кусок хлеба. Кое-как перебились горемыки.
— И опять-таки, — вставил Длинный Махмуд, — все доброе, все хорошее идет от простого, неимущего люда. Дал ли этим беднягам что-нибудь хоть один из хозяев? Не дал. Наши богатеи на Кель Хасана зло затаили за то, что он ушел из деревни.
— Да, нынешние хозяева еще почище прежних, — сказал Алтындыш. — Будь на то их воля, заставили бы нас задарма работать. Так что или уходить надо, пытать счастье в других местах, или же оставаться здесь и терпеливо ждать смерти.
— Выходит, либо надо жить по старинке, либо уехать из этих краев, это ты хотел сказать? — спросил Длинный Махмуд.
— Слыхали, друзья, — вступил в разговор Телли Ибрагим. — В гяурской деревне Салих-ага заимел какую-то новую машину для мотыжения. Ее тянет трактор на резиновых колесах. Так у этой машины пятнадцать мотыг, сразу пятнадцать человек заменяет.
— Да, — вздохнул Кямиль, — доконает нас эта машина. По миру пустит.
— Зачем далеко ходить за примером? Хасан-ага купил повозку, которую тоже тянет трактор на резиновых колесах, и возницы остались без работы. Раз эта повозка заменяет пять обычных телег, сам подумай, к чему дело идет, — продолжал Телли Ибрагим.
— Словом, друзья, — сказал Алтындыш, — все на стороне богатеев, ей-богу, даже аллах. Нам остается одно: уходить отсюда! Никто в этом мире о нас не позаботится.
— У того Салих-аги, — вспомнил Длинный Махмуд, — и впрямь гяурская голова. Он, подлец, учился, учился и чему только не выучился! Да вдобавок жена у него англичанка.
— С нее все и началось, с англичанки, — кивнул Алтындыш. — Не купи Салих-ага трактор, никто его сроду не купил бы. Трактор — нам первейший враг, а хозяину — первейший друг. В общем, в путь-дорожку собираться надо. Тому трактору, что ползает на широких цепях, здесь делать нечего, а этот, на резиновых колесах, другое дело. Вот он-то и лишит нас куска хлеба.
— Да-а! — протянул Кямиль. — Слыхал я, что и наш хозяин собирается покупать трактор на резиновых колесах. Не могу, говорит, отставать от братьев!
— Появятся в нашей деревне три таких трактора, и тогда хоть плачь. И без того живем впроголодь.
— Работая на других, себя не прокормишь! Нынче сыт, завтра голоден, — сказал Алтындыш.
— А я, брат, вот что думаю, — заговорил Длинный Махмуд. — Настанет день, и Енидже превратится в Маласчу. Попомните мои слова. Уже сейчас народ бежит. А что будет, когда у каждого хозяина появится трактор! Хозяин скажет тогда: трактора — ко мне, крестьяне — прочь! Вот когда начнется светопреставление. Разве станет плясать голодный медведь? Кто не сможет себя прокормить, тот, конечно, уйдет.
— Я осенью собираюсь, — признался Алтындыш. — Виделся я с детьми Аджема. Ей-богу, прекрасно устроились. Сыновья на заводе работают, их жены — на табачной фабрике. Бабушки за внучатами ходят, стряпают. Наконец-то, говорят, мы свободно вздохнули. Вот и я перееду, на завод поступлю. Здесь ведь не жизнь — мучение. Весной два месяца мотыжим, осенью месяц собираем хлопок, а остальное время хоть в потолок плюй. За три месяца столько не заработаешь, чтобы прокормиться. У крестьянина желудок не такой, как у городского жителя. Горожанину два ломтика хлеба — и он сыт. А нашего брата не так-то легко досыта накормить: желудки у нас больно велики.
— Да, — покачал головой Длинный Махмуд. — Три месяца работы не прокормят.
— Погодите, дорогие мои, — сказал Кямиль. — Пока ведь у нас в деревне нет трактора на резиновых колесах, чего же тревогу бить?
— Как же это нет?! — возразил Алтындыш. — У Мехмед-аги есть, и у Хасан-аги тоже. Да и Кадир-ага собирается купить.
— А ведь сколько народу раньше работало на Сырры-агу! — с грустью вспомнил Телли Ибрагим. — Мы и пахали на мулах, мы и хлеб жали серпами, а молотили вручную. Потом появился трактор и все вверх ногами перевернул. Ну а теперь еще на нашу голову свалился этот, на резиновых колесах. У хозяев дела идут в гору, а на нас что ни день, то новый камень валится. Все, Кямиль-ага, против нас оборачивается. Чем лучше живется хозяевам, тем больше мы гнем спину. До прошлого года никто и не думал уходить из деревни. Говоря откровенно, мы даже осуждали Кель Хасана. А сейчас? Сейчас нам самим ничего не остается, как тоже уйти в город. Или же в какую-нибудь другую деревню, где мало машин и много работы…
— Где нынче, Ибрагим, найти такую деревню? — спросил Алтындыш. — Нет, повидавшись с детьми Адже-ма, я стал думать по-другому. Отработают они свои восемь часов, а вечером в кино идут.
— А что это такое — кино? — поинтересовался Длинный Махмуд.
— О, это, брат, расчудесная штука, — ответил Алтындыш. — Меня туда сыновья Аджема водили. Огромное оно, это кино, как хлев Кадир-аги.
— Теперь понял. Кино — это хлев, только шикарный, — сказал Махмуд.
— Никакой это не хлев. Просто величиной с хлев. Кино есть кино. И свет там горит особый. А на стене висит что-то вроде здоровенной белой простыни.
— Вот это да! Тут никак простыню для постели не купишь, а там ими стены обвешивают! — удивился Длинный Махмуд.
— Ну дай ты мне договорить! Я эту штуку простыней назвал, чтобы понятнее было. Словом, это белая бязь, полотно. Понял теперь?
— Так бы и говорил. Что такое бязь, каждый знает. А ты простыней своей только запутал всех.
— Так вот, — продолжал Алтындыш, — на той бязи полно мужчин и женщин. Поглядел бы ты, какие там бабы, — слюни текут, когда смотришь. После них жену обнимать не захочешь. Как бы моя не услышала, а то со свету сживет! И лошадей там много, и женщин, и один парень. Парень что надо. Только все они гяуры.
— Где же это они набрали столько гяуров? — спросил Длинный Махмуд.
— Ну и чудак же ты, Махмуд, — вмешался в разговор Кямиль. — Адана — огромный город. Там сколько хочешь гяуров: и немцы среди них есть, и итальянцы, и французы. Так что гяуров там хоть отбавляй — на любой вкус. Деньгами поманишь — сами прибегут.
— Я тоже так думал. Но там все по-другому, — продолжал объяснять Алтындыш. — Там за стенкой есть машина, а из той машины идет свет. И вместе со светом на простыню выползают гяуры и начинают всякие штуки выделывать.
— А как же это они со светом всякие штуки выделывают? — недоумевал Длинный Махмуд.
— Слушай, Махмуд, — сказал Кямиль, — неужели тебе неизвестно, что гяур на все руки мастер?
— Что ты мне, брат, заливаешь? Так я и поверил, что гяуры не нашли ничего лучшего, как со светом забавляться! Что они, майские жуки какие, что на свет летят?
— Да я и сам не очень-то хорошо во всем этом разбираюсь, — признался Алтындыш. — Младший сын Аджема мне все толком объяснил, а я запамятовал. В общем, одно могу сказать: кино — это, друзья мои, диво дивное. Все вроде взаправдашнее, а на самом деле — чистейшее вранье. Там даже умирают нарочно.
— Неужели умирают? — не переставал удивляться Махмуд.
— То-то и оно, что умирают. А сколько там разных типов в шапках, похожих на чугунные котелки! И все пройдохи, каких мало, а тараторят так, что и не поймешь. Они человека убьют, не моргнув, а потом еще и на сазе сыграют.
— Они людей убивали, а ты сидел и спокойно смотрел! — с возмущением воскликнул Длинный Махмуд.
— Все смотрели. Что же, по-твоему, мне одному отдуваться?
— Как же можно на такое зверство спокойно смотреть?
— Говорю же я тебе, брат, что это все понарошку. Морочат головы честным людям, вот и все. А в делах этих гяуров сам черт не разберется.
— Ладно, хватит рассказывать про кино! Мы все поняли, теперь вовек не забудем. Ты лучше о детях Аджема расскажи, — попросил Кямиль.
— Дети Аджема хорошо живут, откровенно тебе говорю. Мы работаем по шестнадцать часов, а едим хуже, чем они. Они едят мясо раз в два-три месяца, мы — раз в год, в праздник жертвоприношения, и то два маленьких кусочка. К тому же у них весь год работа есть — и летом, и зимой.
— Неужто правда? — не поверил Кямиль.
— Жаль, что я не могу толком вам все рассказать.
Плохой из меня рассказчик. Вот Джумала, так тот бы рассказал. После этого никто из вас здесь бы не остался!
Все замолчали, призадумались. Алтындыш покачал головой и продолжал:
— Там, братья, жить можно. Пусть только закончится сбор хлопка. Алтындыш знает, что ему тогда делать. Когда ушел Кель Хасан? Два года назад? А и они с женой успели устроиться.
Эмине постелила скатерть на полу и начала расставлять еду.
— Эй, муж! — позвала Азиме. — Хватит языком чесать, иди есть!
Опираясь на костыли, Длинный Махмуд поднялся.
— Раз жена зовет, надо идти, — сказал он и заковылял к палатке.
— Не останови тебя, до утра болтать будешь, — проворчала Азиме.
— Чего только, жена, не говорят люди. Мир перевернулся, а мы и не знаем.
— Ну и пусть говорят. Ты не слушай. Поговорят, а куском хлеба не угостят. Ешь лучше.
Махмуд вздохнул и обмакнул кусок лепешки в похлебку.
— Эх, была бы у меня здоровая нога, посмотрела бы ты, на что твой муж способен. Но что сделаешь, если судьба скрутила меня в бараний рог?
Эмине слушала рассеянно, думая о чем-то своем.
— Что с тобой, доченька, — ласково спросил Длинный Махмуд. — Черные думы одолели?
Эмине поглядела на отца.
— Какие там еще думы? — заворчала Азиме. — Просто устало дитятко наше.
— Бедная моя девочка! Совсем измучилась, — пожалел дочь Махмуд.
— Будешь измученной! Работа какая! — все так же ворчливо сказала Азиме.
Эмине, не поднимая головы, молча ела.
— Знаешь, жена, о чем я часто мечтаю? Взял бы аллах да приказал: "Ну, раб мой Махмуд, бросай костыли и шагай!" — и твой муж зашагал бы легкой, пружинистой походкой.
— Это на твоих-то ногах?
— Да причем тут ноги? Если аллах скажет: "Иди", любой калека пойдет. Аллах есть аллах! Получишь его приказ — хоть на четвереньках побежишь. А что? Можно и вверх ногами ходить, тогда у человека все нутро выворачивает. Нынче мы именно так и ходим. Такой способ всевышний счел самым подходящим для крестьян. Так и повелел аллах: "Да будут крестьяне передвигаться вверх ногами!" И еще сказал он: "Крестьяне никогда не должны наедаться досыта. Да будут они вечно полуголодными. А то наедятся — греховодничать начнут". Так и сказал. Потому что, если крестьянин сыт будет, с ним ни аллах не справится, ни рабы божьи. Для того-то аллах и посадил хлеб на лошадь, а крестьянину велел пешочком идти. Хлеб убегает, а мы его догоняем. Только попробуй догони! Предположим, догнал ты его. И тогда досыта не наешься. Аллах и это предусмотрел. Для этого-то он и дал нам большие желудки, а хлебам велел прорастать крохотными зернышками. Аллах свое дело знает. Создал он крестьян и видит: не оберешься с ними хлопот. Вот и решил вообще не вмешиваться в их дела, пусть, дескать, сами разбираются.
Широко раскрыв глаза, Азиме испуганно вскрикнула;
— Что ты болтаешь! А ну быстро повтори: "Господи, прости! Господи, прости!" — не то всевышний рот тебе перекосит.
— Ах, жена, жена! Будь я аллахом, клянусь, я бы делал все по-другому.
— Вот горе-то! Муж совсем спятил. Вот оно, божье наказание!
Азиме в ужасе смотрела на Махмуда.
— Да не сошел я с ума, не бойся! Ум у меня на месте.
— Горе мое горькое! Так вот почему с Эмине случилась беда! Ты же ни разу не сходил помолиться в мечеть. Твой лоб ни разу не коснулся молитвенного коврика. Из-за этого все и произошло. Из-за твоих грехов Эмине теперь страдает.
— Не трогай ее! Если Эмине из-за меня страдает, то я из-за кого? Замолчи лучше!
— У людей дочери замуж выходят, люди свадьбы играют, а моей Эмине остается лишь глядеть на чужое счастье.
— Не каркай, жена! Замолчи!
— Как мне молчать, если душа горит. Горит, как горел дом Шакала Омара. Другие девушки — невесты, а моя Эмине…
К горлу Эмине подступил жгучий комок, глаза наполнились слезами. Не выдержав, девушка встала. Махмуд отодвинул еду и сказал жене с упреком:
— Видишь, что ты натворила? Радуйся теперь! Ну что, этого ты добивалась?
— Душа у меня горит! Огнем полыхает!
Отвернувшись, Эмине тихонько плакала. Азиме сокрушенно качала головой. Махмуду было невыносимо тяжело смотреть на плачущую дочь, и он чувствовал, как ее беда камнем давит ему на сердце.
Уставшие от чужого горя, от однообразия жизни своих владельцев, палатки готовились встретить утро. Выпала роса. На столбике одной из палаток висят тыква-горлянка и небольшая корзина, около постели стоят женские башмаки с приставшими к ним соломинками и шелухой от лука, рядом лежит собака. На ее шерсти поблескивают капли воды. В земле возятся какие-то насекомые, бегают деловитые муравьи…
Из крана бочки капает вода: кап… кап… кап… Этот монотонный звук и белизна палаток придают свою, особую красоту дышащему прохладой утру. Батраки просыпаются. Медлительные, усталые, они не замечают окружающую их красоту и ощущают лишь боль во всем теле, горечь во рту, тяжесть в голове. У одного немеет поясница, у другого — рука или нога.
Вскоре, прихватив корзины, кувшины, еду, все отправляются на работу. Идут, растянувшись цепочкой. Идут, шурша кустами. В палатках остаются только маленькие дети, муравьи и хлебные крошки. Муравьи тащут крошки, запасают на зиму.
Батраки становятся в ряд, каждый на то место, где он кончил работать накануне. Хлопчатник влажный, весь в росе. Пахнет хлопковыми семенами, пахнет росой. Коробочки мягкие, податливые, они не колются, не царапаются, не ранят рук, их острые, как штыки, концы пока не опасны. Дует прохладный ветер, он бодрит, рассеивает сонное оцепенение, рассеивает и мрачные утренние думы. Кое-где мелькают распустившиеся цветы полевых вьюнков — розовые, желтые, белые. Узкие бутоны ждут, когда придет их очередь распуститься. Через день-два настанет и для них праздник. Вьюнки будут цвести и цвести, будут хорошеть день ото дня. Кажется, не будет конца цветению, пиршеству красок. Белые, розовые, желтые, синие колокольчики готовы цвести без устали…
Искусные руки порхают от коробочки к коробочке, срывая комочки хлопка. Горсть за горстью хлопок отправляется в корзины, в торбы. Пахнет хлопковыми семенами, пахнет хлопком. В часы утренней прохлады батраки работают во всю силу. Пальцы привычно сжимают белый комочек и в одно мгновение начисто опустошают коробочку. Полная пригоршня белизны…
Позади остаются общипанные красно-бурые кусты с небольшими островками зеленых листьев. Неприкаянно торчат пустые коробочки… Становится все светлее. Трясогузки, грациозно покачивая хвостиками, перелетают с куста на куст.
Кямиль выпрямился, крикнул:
— Эй, Алтындыш! Что-то тебя не слышно. Не помер ли?
Алтындыш рассмеялся:
— Размечтался я, Кямиль-ага. Представил себе, как буду нынче уминать суджук.
— А я, Алтындыш, думаю, что этот суджук самой судьбой мне предназначен. А?
— Придется аллаху изменить свое предопределение. До восхода еще есть время, не торопись, а то шайтан попутает. Наш с тобой спор, Кямиль-ага, колокольчики лошадей Халиля разрешат. Погоди самую малость.
— До восхода солнца, можно сказать, минуты остались. Считай, что я уже ем твой суджук.
— Приятного аппетита! На здоровье!
Длинный Махмуд ковылял, опираясь на свой костыль, и время от времени садился собирать хлопок то в ряду Вели, то в ряду Эмине, а затем ковылял дальше. Услыхав, что Кямиль с Алтындышем говорят о Халиле, он крикнул:
— Эй, Кямиль-ага! Не забывай, что Халиль гяурской породы. Увидишь, он будет здесь еще до восхода!
Эмине наполнила хлопком торбу, закинула ее за спину и направилась туда, где ссыпали хлопок. Она радовалась, что все хвалят Халиля, но радость тут же сменялась горечью.
Каждый ссыпал хлопок в определенное место. Али Осман сбил свой хлопок в плотную кучку и, улегшись на нее, заснул. Эмине высыпала хлопок из торбы и принялась подбирать отлетевшие в сторону комочки. Подбирала, а сама поглядывала на Али Османа, видимо, хотела ему что-то сказать, но Али Осман спал.
Когда она снова подошла ссыпать хлопок, Али Осман проснулся и свертывал цыгарку.
— Эта роса доконает нас, — откашлявшись, пожаловался он.
— Дядя Али! — обратилась к нему Эмине и умолкла.
— Говори, деточка, говори! — Али Осман с жалостью посмотрел на девушку.
— Дядя Али, скажите Халилю, чтобы не губил своего здоровья. Ведь совсем не щадит себя.
Али Осман кивнул с таким видом, словно сам уже думал об этом.
— Халиль теперь не тот, что был прежде. Никого не слушает. Слова ему не скажи. И я, и все мы очень за него беспокоимся…
Занималась заря. На востоке по небу протянулась полоса, она все росла, ширилась.
Эмине вернулась на свой ряд.
— Алтындыш, солнце всходит! Ты погляди! — радостно крикнул Кямиль.
— Ну и пусть!
Всплывало солнце. Все умолкли. Алтындыш весь обратился в слух, надеясь, что вот сейчас раздастся звон колокольчиков.
— Проиграл, Алтындыш! Проиграл! — торжествующе заявил Кямиль.
— Едет! — воскликнул Алтындыш. — Едет!
Батраки изумленно переглянулись. Оставляя за собой облако пыли, приближалась повозка.
— Ай да молодец, Халиль! На руках тебя носить надо!
Эмине чуть не заплакала от радости. "Эх, Халиль! Искалечили нам жизнь, загубили нас, в рог бараний скрутили!" Али, следивший за Эмине, догадывался, что творится у нее в душе, он теперь знал все, но не мог отказаться от своей любви, забыть свои мечты. Порой ему казалось, что Халиль недостоин любви Эмине, а иногда он чувствовал, что тягаться с Халилем ему не по плечу. Вот и сейчас ему казалось, будто он проиграл в соревновании с Халилем.
Халиль гнал лошадей, стоя во весь рост. Колокольчики звенели не умолкая.
Длинный Махмуд сидел на земле, махал обеими руками и кричал:
— Халиль! Орел мой! Ну и молодец!
— А что ты бесишься? — сердито оборвала Махмуда жена. — Один едет, другой суджук выиграл, третий проиграл, а тебе что до того?
— Как это, жена, что? Когда я вижу Халиля, у меня грудь распирает от гордости. Вспоминаются былые деньки. Возницы понимают друг друга. Вот и я люблю Халиля.
— Хорошо бы и он ценил тебя по заслугам!
— Халиль меня любит, жена. Только виду не подает.
— Очень он тебя любит! Хоть бы разок пришел помочь! Если бы не Али, туго бы нам пришлось.
— Ничего ты не понимаешь. Да и где тебе твоим бабьим умом понять?
— Думаешь, ты один понимаешь, да?
— Не суй, жена, нос не в свое дело! Помолчи лучше! Длинный Махмуд посмотрел на Халиля, который пил из кувшина воду, потом на Эмине — она не сводила с Халиля глаз. Махмуд догадывался, что происходило между Халилем и Эмине.
Халиль шел, широко шагая, в руках у него был небольшой кулек. Еще издали он крикнул:
— Бог в помощь, люди!
Батраки наперебой закричали каждый свое: "Не дай бог, чтобы такое опять повторилось!", "Добро пожаловать!", "Ты еще легко отделался!"…
— Я вам конфет привез, — сказал Халиль, показывая на кулек. — Угощайтесь.
— Легко ты, Халиль, отделался, — сказал Кямиль. — Мы так беспокоились, когда узнали об этой истории. Пусть такое больше не повторится!
— Спасибо, Кямиль-ага.
— Пусть такое больше не повторится, Халиль! — подхватил Алтындыш и добавил. — А знаешь, благодаря тебе мне кило суджука привалило.
— Благодаря мне? — удивился Халиль.
— Мы с Кямиль-агой поспорили: я говорил, что ты до восхода приедешь, а Кямиль-ага не верил.
— Я рад, что ты выиграл. Теперь лет десять тебе будет о чем рассказывать, — сказал Кямиль.
— Радуйся, если через десять лет мне надоест об этом рассказывать, — не полез за словом в карман Алтындыш.
— Будем считать, что ты, Алтындыш, суджук уже съел, — сказал Халиль. — Верно?
— Конечно, съел! В один присест, — засмеялся Алтындыш.
Халиль улыбнулся и пошел угощать односельчан конфетами. Он протянул кулек Махмуду.
— Не надо мне твоих конфет! — отрезал Махмуд. — Зол я на тебя!
— Что случилось, дядюшка Махмуд? В чем я провинился?
— Ты забыл нас, даже привета от тебя не дождешься. Третью неделю мы на сборе хлопка, а тебе и в голову не пришло нам помочь.
— Ты прав, дядя Махмуд, сто раз прав! Я готов любое наказание понести.
— Прав я или не прав, но ты, Халиль, не должен нас забывать, не должен, сынок.
Халиль протянул конфеты Эмине, и их взгляды встретились. И Халилю вспомнился тот далекий день, когда он, Халиль, разносил поминальную халву после похорон Хыдыра. Вспомнилась Эмине, какой она была в тот день, ее глаза и сам он, Халиль.
Едва Халиль успел раздать конфеты, как послышался свисток Кямиль-аги.
— Перерыв на завтрак! Перекусите немного, и шагом марш к мешкам! Сейчас набьем мешки, а к вечеру, к приезду Сулеймана, еще разок.
Батраки закинули за спину торбы и корзины с хлопком. Не смогла поднять свою торбу только Султан, мать Омара. К ней подошел Халиль.
— Дай, мать, я отнесу! — И, взяв торбу, Халиль понес ее туда, где ссыпали хлопок. За ним плелась Султан и монотонно причитала:
— Кто мог подумать, что мой Омар попадет в тюрьму? Поддался, значит, соблазнам шайтана. Каких только бед, каких несчастий не навлечет на голову человека плохой друг!
— Теперь уже недолго ждать, — утешал женщину Халиль. — Две-три недели — и Омар дома. А что такое две-три недели?
— Ах! Расцеловала бы я тебя за такие слова. Но как дождаться того счастливого дня?
Халиль высыпал хлопок из торбы Султан. Махмуд, Вели, Азиме и Эмине сели есть. Их похлебка уже подернулась застывшим жиром.
— Халиль, поешь с нами! — предложил Махмуд.
— Разве он станет с нами есть? Теперь он возгордился.
Халиль чувствовал, что после истории с курдами люди на него смотрят по-другому.
— Иди, Халиль! Поделимся, сынок, тем, что аллах послал.
Махмуд так просил, что Халиль не мог отказать и, к великой радости всей семьи, сел есть вместе с ними.
— Значит, те негодяи чуть было тебя не убили?
— Все это, дядюшка, пустяки. Ты старый возница, стало быть, лучше меня знаешь такие дела.
— Конечно, знаю.
— Видать, Халиль, ты бедным помогал, вот аллах и воздал тебе, — сказала Азиме.
Они быстро поели. Халиль поблагодарил за угощение, встал и направился к повозке. Взвалив на плечо кучу пустых мешков, он подходил к сложенному горками хлопку и у каждой горки, в зависимости от ее величины, оставлял по одному или по два мешка. После еды батраки стали набивать мешки хлопком.
— Омар, Омар! Родной мой, ну когда же ты вернешься? Спаси, сыночек, мать от этой напасти. Сил больше нет, сынок. Возвращайся, родной, скорее! — причитала Султан.
Халиль отдыхал, растянувшись в тени повозки, но, услышав жалобный голос Султан, приподнялся. На душе у него стало муторно. Он заметил, что Али помогает Эмине, и его разобрала злость.
— Приди же, сыночек! Где же ты? — повторяла Султан, наполняя мешок.
— Вот я, мать, и пришел! — сказал, подходя к ней, Халиль. — Считай меня своим сыном. Пойди отдохни в тени, а я за тебя поработаю.
— Ах, Халиль! Был бы мой Омар здесь, разве я бы так страдала! Трудно мне, сынок, сама жизнь мне теперь в тягость. Старая я, никого у меня нет. Был Омар, да и тот в тюрьму угодил.
— Подожди, мать, еще две-три недели, вернется твой Омар.
— Неужели это правда?
— Конечно, правда.
— Я посижу отдохну.
— Посиди, дорогая, посиди!
Сокрушенно качая головой, Султан побрела в тень. Халиль метнул взгляд на Али и поймал его ответный взгляд. Повернувшись к Али Осману, Халиль крикнул:
— Эй, дядюшка Али! Иди подержи мешок! Что тебе стоит?
Халиль как следует отвернул края мешка. Али Осман держал мешок, а Халиль бросал в него охапками хлопок и приминал кулаками. Затем он влез в мешок и стал утрамбовывать хлопок ногами.
Али, сын Мусы, поглядывая на Халиля, заработал быстрее. Халиль заметил это и подумал: "Значит, ты решил обставить меня? Хочешь угодить Эмине? Что ж, попробуй, покажи, на что ты способен!" И он снова стал охапками бросать хлопок в мешок. Али с Эмине старались не отставать от него. Халиль усмехнулся, подумал: "Все равно обойду вас". Он насквозь пропах хлопком. Запах был резким и, казалось, горячим.
Вскоре батраки поняли, что между Халилем и Али идет состязание. Теперь уже все старались раззадорить соперников, посыпались шутки, колкие замечания. Одни болели за Халиля, другие — за Али. Когда мешок Али был уже наполовину заполнен, Султан смекнула, что у Али больше помощников, и вскочила на ноги.
— Смотри, Халиль, сколько их там. Э-э-э, так не пойдет! Тогда и я буду тебе помогать.
Султан охапками подносила хлопок, а Али Осман обеими руками придерживал мешок, чтобы он не опрокинулся.
Алтындыш, стоявший ногами в своем мешке, крикнул:
— Тут не в быстроте дело. Отец мой тоже быстро работает, а что толку: больше сорока килограммов не набивает.
Вокруг рассмеялись. У Халиля лицо было красное, злое. И Али, и Халиль обливались потом. Они утаптывали хлопок так рьяно, словно пинали кого-то ненавистного.
Эмине знала, что это состязание вспыхнуло из-за нее. И то, что Халиль боролся с таким задором и упорством, вселило в девушку новую надежду. Нынешний Халиль постепенно начинал походить на прежнего. Изменилось даже выражение его лица. Стоило ему взглянуть на Эмине, как он принимался работать с еще большим азартом.
Султан без умолку повторяла:
— Молодец, Халиль! Давай, давай! Обгони их! Кто-то кричал:
— Жми, Али, жми!
Вскоре Халиль был уже на самой вершине мешка. Он утрамбовал хлопок, взял бечевку и, продевая ее из петли в петлю, туго затянул мешок. Али было за ним не угнаться. Он еще только что залез в мешок и сейчас утрамбовывал хлопок.
Вспотевший, усталый, Халиль презрительно посмотрел на соперника.
— Ну и молодец ты, Халиль! — воскликнул Алтындыш.
— Да, ничего не скажешь! — подхватил кто-то из толпы.
Батраки окружили Халиля, похлопывали его по плечу. Али был подавлен, он тяжело переживал победу соперника. Нехотя завязав мешок, Али покосился на Эмине. Она во все глаза смотрела на Халиля, и это окончательно добило Али. В одно мгновение все вокруг опостылело ему. Но он пересилил себя и сказал:
— Ты победил, брат!
Было в голосе Али столько горечи, что Халилю стало жаль его. Али и в самом деле чуть не плакал. Провожаемый взглядами батраков, он взял свою корзину и молча зашагал к кустам хлопчатника.
На какой-то миг Эмине показалось, что Али стал ей близок, она жалела о его поражении. Халиль — вспыльчивый и грубый, Али — мягкий, деликатный и по-детски добрый. Как он заботился о ней эти полтора года!.. Да, подумала Эмине, сердце ее теперь будет принадлежать Али…
Стали взвешивать мешки. Мешок Халиля потянул сто шестьдесят килограммов, мешок Али — сто восемь. Мешки погрузили в повозку, закрепили веревками. Раздался свисток Кямиля, и все снова принялись собирать хлопок.
У весов остались только Али Осман и Халиль.
— Послушай, что я тебе скажу, — заговорил Али Осман, — только не сердись и не ругайся.
— Говори, дядя.
— Не отворачивайся ты от Эмине. У нее и без того в сердце рана. Так хоть ты не терзай ее.
Халиль ничего не ответил, вскочил в повозку и стал подтягивать веревки.
— Эмине любит тебя, — продолжал Али Осман, — еще как любит. Аллах и без того пригнул ее к земле, хоть ты не добивай ее, Халиль. Знаешь, что она нынче мне сказала? Дядя Али, говорит, скажите Халилю, чтоб пожалел себя, не надрывался. Загубит он себя.
Халиль долгим взглядом посмотрел Али Осману в глаза, потом спросил:
— Зачем вы все это говорите, дядя?
— Затем говорю, что ты единственная ее надежда. Что она будет делать, если и ты отвернешься от нее?
— Пусть делает что хочет. Она меня не спрашивала, когда с Селимом развлекалась… Шлюха!
— Не виновата она, Халиль. Она ведь…
— А я виноват? — перебил его Халиль. — Я-то в чем виноват?
— Не презирай ее, Халиль. Поговори с ней, улыбнись… Что тебе стоит?
Халиль посмотрел на собиравших хлопок батраков и вдруг выпалил:
— Скажи ей, пусть ждет меня сегодня в полночь в том месте, где хлопок ссыпают.
— В полночь?! Ты разве успеешь вернуться?
— Успею. Пусть ждет, — сказал Халиль и стегнул лошадей. Звякнули колокольчики. Халиль уехал.
Вскоре к тому месту, где сидел Али Осман, подошла Эмине и высыпала из корзины собранный хлопок.
— Халиль уехал, — сказал ей Али Осман.
— Счастливого ему пути…
— И сегодня же ночью вернется.
— Сегодня ночью? Видать, он и впрямь хочет себя угробить.
— Чего не знаю, того не знаю. А тебе он велел передать, чтобы в полночь ждала его там, где ссыпают хлопок.
— Правда?
— Ей-богу.
Эмине старалась убедить себя, что Халиль навсегда вычеркнут из ее жизни, что ее сердце теперь принадлежит Али. Но сейчас ее опять охватили сомнения… Халиль или Али? Халиль?.. Али?.. Халиль!
— А что он, дядя, говорил обо мне?
— Ничего не говорил. Сказал: пусть ждет, и все.
— Больше ничего?
Али Осман покачал головой.
До самого вечера Эмине мучилась, не зная, как быть. От горестных дум она совсем извелась. Ей казалось, будто она в чем-то провинилась перед Али, и от этого мучилась еще сильнее, хотя понимала, что нужен ей только Халиль, один Халиль!
Стояла тяжелая, темная, как смола, ночь. В непроглядной тьме смутно белели палатки — немые свидетели людских горестей.
Эмине дала себе слово, что никуда не пойдет, и все же пришла на хлопковое поле задолго до назначенного времени.
— Ты что так рано? — удивился Али Осман.
Эмине уселась на ссыпанный в кучу хлопок, нервно теребя пальцы.
— Сама не знаю, дядюшка. Я думала, уже полночь.
— Терпения нет, оттого и пришла. Ждать еще долго, поспала бы немного.
— Не хочется, дядюшка.
— Оно понятно. Любовь спать не дает.
— Думаете, он опоздает?
— Не знаю. Ведь у Халиля раз на раз не приходится. Да, Эмине, не повезло тебе…
Эмине молчала. Она думала о Халиле и не слушала, о чем говорит Али Осман. Наконец она сказала:
— Халиль, дядюшка, был моей единственной надеждой. Но аллах рассудил, что такое счастье не для меня…
А я ведь ничего особенного не хотела. Была бы у нас только крыша над головой. Я бы насобирала хлопка, сделала бы постель. На первых порах нам бы и этого хватило…
Эмине замолчала. Вокруг царила тяжелая, гнетущая тишина.
Вдруг послышалось, как что-то продирается сквозь кусты, потом зафыркала лошадь.
— Спрячься, доченька! — сказал Али Осман.
Эмине скрылась за грудой хлопка.
— Кто идет? — крикнул Али Осман.
Ответа не последовало.
— Отвечай, или пристрелю!
— Сделал бы такую милость…
Сердце Эмине замерло. "Он!" — прошептали ее губы.
Эмине ждала, что ответит Али Осман. Она слышала, как остановилась лошадь, как она фыркнула. Затем — шепот, шуршание хлопчатника. "Идет!" — Эмине прижалась к груде хлопка.
— Где же ты, Эмине? — спросил Халиль.
Эмине еще не различала в темноте его лица.
— Здесь я… — прошептала она.
Халиль тихонько подошел, сел рядом, вынул сигарету, закурил. Оба молчали. Молчание становилось тягостным, но никто из них его не нарушал, словно им нечего было сказать друг другу. Оттого что Халиль молчал, Эмине чувствовала себя униженной и уже жалела, что пришла. Халилю же казалось, что стоит ему заговорить, и вся прелесть, все волшебство этой встречи пройдет.
— Зачем ты меня звал, Халиль? — спросила наконец Эмине каким-то чужим, полным горечи голосом, похожим на стон. Халиль молчал, будто не слышал ее вопроса.
— Я тебя с самого вечера жду, Халиль. Что ты хотел мне сказать? Говори!
— Что я могу тебе оказать?
— Откуда я знаю? Ты звал — я и пришла. А не нужна — могу и уйти!
— Ну и уходи! Кто тебя держит?
Эмине встала.
— Только знай: позовешь — больше не приду.
— Как хочешь! А сейчас — уходи! Нечего мне глаза мозолить!
Эмине сделала несколько шагов и остановилась.
— Ей-богу, Халиль, уйду.
— Хоть в преисподнюю.
— Ты в самом деле хочешь, чтобы я ушла? — В голосе Эмине звучали слезы. Халиль молчал. Эмине еще немного постояла, а затем, покорно опустив голову, подошла к Халилю и села у его ног.
— Раз ты меня позвал, скажи что-нибудь. Зачем ты так жесток со мной? Ты ведь знаешь: гнать станешь — все равно не уйду. Хоть веревки из меня вей. — Девушка еще ближе придвинулась к Халилю. — Я предана тебе, как собака. И это ты тоже знаешь. — Эмине, как ребенок, прижалась головой к коленям Халиля. — Ты был моей единственной надеждой на счастье. Но аллах рассудил, что я тебя недостойна, и отнял тебя.
Халиль чувствовал теплоту тела Эмине, слышал ее дыхание. Он осторожно обнял девушку и почувствовал, как его обдало жаром. Он привлек Эмине к себе, крепко прижал к груди.
— Делай со мной что хочешь, Халиль… — прошептала Эмине. — Что хочешь делай, — шептала она, с нетерпением ожидая ласки.
Но Халиль с размаху ударил ее по лицу. Ошеломленная, Эмине замерла. Снова пощечина. Эмине съежилась, прикрыла лицо руками. В ночную темноту поплыл ее приглушенный горький плач.
— Ты и себя погубила, и меня.
— Не виновата я, Халиль. Спала я тогда. Пусть покарает меня аллах, если хоть в чем-нибудь виновата.
Халиль перевел дух, затем холодно произнес:
— Уходи, Эмине! Уходи! А то я за себя не ручаюсь. И не гляди на меня больше, я на тебя тоже глядеть не буду. Забудем друг друга. Завтра я принесу тебе твой платок. А сейчас уходи! Не то я убью тебя! Себя пожалей и меня тоже…
— Убей, если тебе от этого лучше станет. Все равно не быть мне ничьей женой. Задуши, меня, убей, раз я тебе не нужна! Смерть для меня спасением будет!
— Уходи, говорю тебе!
— Убей меня, Халиль!
Халиль схватил Эмине за шею и стал душить, теряя голову от ярости. Эмине хрипела и билась в его руках, как птица. Пальцы Халиля разжались. Эмине закашлялась и глотнула воздух.
— Погубила ты меня!
Эмине с трудом поднялась и неверными шагами побрела прочь. Темнота поглотила ее. Она ушла, но не ушло чувство, терзавшее душу Халиля. Он стоял и прислушивался к биению своего сердца, отчаянно колотившегося в груди.
Только под утро приехал Халиль в деревню. Ему было тоскливо, а когда на небе показалось солнце, стало еще тоскливее. Казалось, вот-вот оборвется нить, связывавшая его с жизнью… Халиль привязал лошадь под навесом. Тоска комом подступила к груди. Халиль присел на камень у порога, закурил, но тоска не хотела его отпускать. Тогда он поднялся, сплюнул и пошел в виноградник.
Заметив стремительно шагавшего сквозь кусты Халиля, Камбер, стороживший виноградник, окликнул его. Халиль подошел. Лицо его, серое от бессонницы, осунулось.
— Ты что, так и не спал? — спросил Камбер.
— Не спится мне, дядюшка.
— Губишь ты себя, сынок. Жалко мне тебя, молодость твою жалко.
— Я, дядя, не в себе. Как будто все понимаю, а сделать с собой ничего не могу. Пошел я по дороге, с которой назад не вернешься. Словно в болоте завяз.
— Знал бы ты, как я за тебя страдаю, как переживаю! Ты ведь мне как сын. Ты палец ушибешь, а у меня душа болит!
— Я, дядя, будто умом тронулся. Сам не знаю, что делаю.
— Да что же ты так мучаешься!
— Вся жизнь моя прахом пошла. Ни на что я больше не гожусь. Как неживой стал. Иногда прямо с ума схожу. Иди, говорю себе, убей эту тварь!
— Но это же безумие, сынок. Ведь девушка ни в чем не виновата. Виноват подлец, который ее обесчестил.
— Да, но его нет в живых. Он уже ни страдать не может, ни кару принять. Все, что случилось, на мою голову обрушилось. Погубил он мою жизнь. Эх, если бы он не подох! Тогда задушил бы его вот этими руками. Но этот гад преспокойно в земле лежит, а у меня сердце кровью обливается.
— Так уж случилось…
— Эх, был бы он жив!
— Как думаешь, повесят Дурду?
— Да что ты, дядя! Разве он сдался бы властям, если бы ему грозила виселица? К тому же амнистия вышла. Пусть ему тридцать лет дадут, просидит всего десять. Амнистия на две трети срок скостила. Сердце у меня ноет, дядя, ох как ноет! А погляди на Хасан-агу! Разгуливает себе по деревне как ни в чем не бывало. А ведь он — главный зачинщик. Это по его указке убили Омара и дом сожгли, а всю вину на Дурду свалили — правду боятся сказать. Видел бы я это собственными глазами — не побоялся бы. Пошел бы и все как есть рассказал. Хасан-ага в открытую твердит: не быть мне, говорит, Хасан-агой, если я не вызволю своего сына! Говорит, что за деньги достанет справку, будто сын его ненормальный, и тогда его не смогут судить по всей строгости. Дадут лет пятнадцать, а отсидит пять, не больше. Вот тогда-то и повалятся на наши головы шишки, тогда они нам покажут.
— Плохи дела у нашего брата-крестьянина, Халиль. Чем ниже склоняешь голову, тем хозяева удобнее на нее садятся. Еще много, ох как много придется нам страдать. И у меня, Халиль, горе. Весь день нынче голова кругом идет.
— Что случилось?
— Ремзи — вот мое горе, Халиль. Все из-за него. Позавчера крепко обидела его жена Дурмуш-аги. У них в тот день хлеб пекли. Так Назмие велела Ремзи взять корзину и принести соломы. А он отказался. Назмие разозлилась и давай кричать: "Твой отец всю жизнь, высунув язык, дерьмо корзинами таскал, а ты что тут из себя корчишь?!" Ремзи обидно стало, он возьми да скажи: "А почему вы сына своего не пошлете?" Тут она прямо взбесилась — плюнула ребенку в лицо и заорала: "Ах, наглец! Как ты смеешь равнять себя с моим сыном?!" Отхлестала Ремзи по щекам и избила.
— Избила?
— В том-то и дело, что избила. И в лицо ему плюнула, и избила. Он весь в слезах домой пришел. А когда рассказал все как было, у меня, Халиль, сердце кровью облилось. Сколько лет работаем на них, а они нас, оказывается, и людьми не считают. Хотят, чтобы и мой Ремзи стал их рабом. Ремзи плакал и все повторял: "Помоги мне, отец, выучиться, помоги! Умоляю тебя, помоги! А не можешь, ей-богу, удеру отсюда". Видал, что у ребенка в голове творится?! Я сам — человек конченый. Ну, проживу еще годков пять, самое большее десять. А в деревне ни за что не останусь. Ради Ремзи в город уеду, работать там буду, милостыню просить пойду, но Ремзи непременно выучу. Сколько раз говорил мне учитель Осман: "Камбер-ага, непременно учи сына". Человека, Халиль, учение красит. Ученый человек и посочувствует тебе, и уважение окажет. Добрый он, этот учитель Осман. Да, Халиль, милостыню буду просить, а сына грамоте выучу. Смотри, пятый класс лучше всех закончил. Выучится — спасет себя. А здесь что его ждет? Станет подпаском у Дурмуш-аги, будет землю мотыжить и корзины с навозом таскать?! Трудно жить безземельному. А у кого она есть в нашей деревне, земля? У семи хозяев. Остальные — голые и голодные. Дай бог мне дожить до того дня, когда Ремзи в люди выйдет. А не доживу, так хоть сейчас на душе спокойно будет, что сын учится.
— Ты-то, дядя, уедешь и наверняка выучишь Ремзи, а вот я отсюда никуда не уеду! Я уже сейчас будто покойник.
— Станет тебе совсем невмоготу, тогда поймешь, что нет тебе жизни в этой деревне, у твоего хозяина. Приходи ко мне. Где бы я ни был, хоть на другом конце света, дверь моя всегда для тебя открыта. Я поделюсь с тобой последним куском хлеба. Ты для меня все равно что Ремзи. Мы тебя родным считаем.
— Я, дядя, даже подумать не могу, чтобы уйти из здешних мест. Я, как Хыдыр, умру в хлеву. Погубила меня эта девка, ни за что погубила.
— Ой, чуть было не забыл. Ты слыхал, что Алие убежала с каким-то парнем?
— Да неужто?
— Ей-богу.
— А ведь постель Хыдыра и остыть еще не успела, — Халиль в сердцах сплюнул. — Стыд какой! Нет, нельзя жить в мире, где дружба, любовь, доброта — пустые слова, где нет того, ради чего стоит жить! Смелости у нас не хватает, а то самое лучшее — приставить дуло к виску, и конец! Будь он проклят, этот мир!
Рассвело, но луна еще висела на небе, точно вырезанная из куска старого цинкового железа. Халиль никак не мог избавиться от гнетущей тоски, от сознания собственного бессилия скинуть с души бремя своих горестей.
Последнее время Халиль постоянно был в дурном настроении. Все злило его, все раздражало, все нагоняло тоску: и то, что лошади мотают хвостами, и то, что скрипят колеса повозки… Даже звон колокольчиков выводил его из себя, и однажды он сорвал ни в чем не повинные колокольчики, крикнув в сердцах: "Это они накликали на меня беду, своим дребезжаньем последний разум у меня отняли!"
Прежде в тихие вечера Халиль любовался багряными облаками, мечтал о счастливых днях, строил планы, прежде он любил деревья и птиц. Теперь же стал ко всему равнодушен, на людей угрюмо смотрел исподлобья. По малейшему поводу выходил из себя, по ночам его мучила бессонница. Снедаемый тоской, он не мог и часа пробыть на месте, а если тоска настигала в пути, гнал лошадей — кнут его так и свистел. Пока другие возницы доедут до Аданы, он уже два раза успеет обернуться. Халиль теперь то и дело ссорился с приемщиками хлопка на фабрике, несколько раз избил весовщиков. Юрегирские возницы его сторонились. Стоило кому-нибудь крикнуть: "Гяур Халиль едет!" — как все уступали ему дорогу. "Этот парень, — говорили возницы, — за бедой своей гонится. Пусть что хочет, то и делает, лишь бы нас не трогал". Халиль стал настоящим бичом дорог, бичом возниц…
С шоссе Халиль свернул на проселок, ведущий в деревню. Навстречу, вздымая пыль, ехал трактор Хасан-аги, волоча за собой прицеп, груженный тюками хлопка. Взяв в сторону, Халиль пропустил трактор. На огромных тюках, точно совы, сидели люди. Халиль узнал их: Телли Ибрагим, Алтындыш, Хасан-ага… Алтындыш помахал Халилю рукой. Они проехали, обдав Халиля густой пылью. Халиль терпеть не мог этот трактор, ненавидел грузовики и легковые автомобили. Ведь они обгоняли его. А машин с каждым днем становилось все больше, и Халиль с тревогой думал о том, что скоро настанет день, когда машины заменят конные повозки.
Халиль несколько раз с силой стегнул лошадей, он всегда вымещал на них свою злость.
Въехав в деревню, он заметил около кофейни Сабри повозку Сулеймана. Рядом стояли Сулейман, Али Осман, Сабри и плачущая Эмине. Халиль спрыгнул с повозки и подошел к кофейне. Он ни с кем не поздоровался, никого не окликнул, лишь зло поглядел на Эмине. Глаза у нее были красные, жалкие.
— Чего ревешь? — грубо спросил Халиль.
Эмине молчала.
— Не взяли ее, — сказал Сулейман, — в город не взяли, Хасан-ага не захотел.
— А что ей в городе надо?
— На суд ее вызвали по делу Дурду. Вот Хасан-ага и не позволил ей ехать. Шлюхе, сказал, нет места в моей машине. Ну, Эмине и расплакалась.
— А они, значит, как свидетели поехали, чтобы врать на суде?
Сулейман кивнул.
Мужчины окружили Халиля. Они стояли с мрачными, угрюмыми лицами, не зная, что делать. Халиль поглядел на Эмине. Затем спросил Сулеймана:
— А когда суд?
— Завтра утром.
— Иди-ка сюда! — позвал Халиль Эмине.
Понурив голову, Эмине пугливо, как провинившийся ребенок, подошла к нему.
— Тебе очень нужно быть на суде?
— Не знаю.
— Раз вызвали, значит, нужно, — сказал Али Осман. — А то оштрафуют.
— Это уж точно, — подтвердил Сабри. — Кто-кто, а я знаю. Не придешь — сразу припаяют штраф.
Халиль задумчиво покачал головой, потом решительно посмотрел на Сулеймана:
— Давай переложим тюки из твоей повозки в мою. Я поеду в город. И Эмине отвезу.
Али Осман с тревогой посмотрел на Халиля.
— В чем дело, дядя? — спросил Халиль.
— Стоит ли? Ты подумал, что скажут люди?
— Пусть говорят что угодно. Эмине, поедешь со мной в Адану?
Эмине взглянула на Али Османа, перевела взгляд на Сулеймана, на Сабри, затем повернулась к Халилю.
— Поеду!
Землю уже окутывала темнота, когда Халиль с Эмине выезжали из деревни. Эмине думала о том, как отнесутся к ее поездке отец с матерью. Наверняка рассердятся. А сплетен сколько будет!.. Но Халиля она ослушаться не могла, ведь он — вся ее жизнь.
Халиль бросил Эмине шинель:
— Накинь, а то простудишься.
Как ни старался Халиль, он не мог быть с этой девушкой ласковым, мягким. Даже когда он смотрел на Эмине с нежностью, его взгляд внушал Эмине страх. С той ночи они ни разу не говорили друг с другом. И теперь Эмине, заглянув ему в глаза, увидела в них упрямство и злость.
— Ненавижу я эти грузовики, — заговорил Халиль. — Любую повозку могу обогнать, а грузовик, самый захудалый, меня обгоняет. Ругаю их, а они, черти, только грохочут, будто насмехаются.
По шоссе промчалась грузовая машина, от фар тянулись две полосы света.
— Вот как этот, — добавил Халиль.
Эмине молчала.
— Ты что, спишь?
— Нет, не сплю.
— Это хорошо, что не спишь. Поумнела, видать, только поздно!
Эмине грустно покачала головой:
— Ладно, я погибла, а ты зачем себя губишь?
— С чего ты решила, что я себя гублю?
— Думаешь, я не вижу? У тебя ночь не ночь, день не день. Жалко мне тебя. И молодость твою жалко.
— А тебе что?
— Переживаю я за тебя, Халиль. Все о тебе говорят, все тебя хвалят. А кто пожалеет, если заболеешь, кто ухаживать будет? Ведь у тебя нет ни отца, ни матери. Как подумаю, сердце разрывается…
— Не лезь в мои дела!
— Я и не лезу, Халиль. Но вижу, что ты изводишь себя. Что у тебя за горе, скажи!
— Не твое дело! Сиди и молчи!
— Ладно, Халиль. Но если с тобой что случится, я умру.
— А ты не умирай. Ни к чему все это.
— Как же ты думаешь жить дальше?
— У меня, Эмине, один выход. Только один. Или тебя убить, или себя. Поняла?
— Лучше меня убей. Если себя убьешь, я все равно жить не буду.
Халиль остановил лошадей.
— Думаешь, не убью?
— Делай что хочешь, Халиль! Хочешь — люби, хочешь — убей. Ни слова не пророню.
Халиль схватил Эмине за горло.
— Не вынуждай меня брать грех на душу!
Его пальцы сжимались все сильнее и сильнее. Руки Эмине соскользнули с плеч Халиля и бессильно упали на грудь. Шинель сползла. Халиль разжал пальцы. Эмине стала клониться на бок и свалилась с повозки.
— Умерла! — ужаснулся Халиль и закричал: — Эмине!!
Он соскочил с повозки. Эмине лежала на обочине дороги. Он стал трясти ее за плечи.
— Эмине! Эмине!
Халиль приложил ухо к ее груди, прислушался: сердце билось.
— Эмине! Родная моя!
Эмине чуть шевельнулась, и в тот же миг Халилем овладели ярость и стыд за то, что он так испугался, за то, что пожалел ее и унизился. Халиль оставил Эмине на дороге, вскочил в повозку и погнал лошадей.
Эмине чувствовала боль в руке, боль в горле. Но еще большие страдания причиняла душевная боль… Повозка с грохотом удалялась. Все яснее слышалось, как стрекочут какие-то насекомые. Вокруг темнота. И в этой темноте брошенная, одинокая Эмине. Она не могла заставить себя крикнуть, позвать Халиля, она верила, что он вернется, что не бросит ее на произвол судьбы… Вскоре скрип колес стих. "Он остановился", — подумала Эмине.
Припав ухом к земле, она слышала, как медленными шагами приближается Халиль.
— Идет, — прошептала девушка, и ей стало тепло от сознания, что, несмотря ни на что, Халиль любит ее. Халиль подошел ближе.
— Ах ты, горе мое! Живо вставай! — крикнул он, схватил ее за руки, рывком поднял с земли и подтолкнул в спину. Эмине сделала несколько шагов и остановилась. Халиль снова толкнул ее.
— Шагай, горе мое, шагай! И откуда ты свалилась на мою голову? Зачем я взял тебя с собой?
Эмине безропотно шла, а когда Халиль ее подталкивал, почти бежала. Несколько раз он толкал ее с такой силой, что она падала. Наконец они дошли до повозки.
— Залезай! — велел Халиль.
— Не залезть мне. Рука очень болит.
Халиль наклонился и, схватив Эмине за ноги, поднял ее. Эмине рассмеялась.
— Ты чего?
— Щекотно мне.
— Я тебе сейчас покажу щекотно…
Эмине перестала смеяться, ногами уперлась в веревки, рукой схватилась за тюк.
— Не могу залезть, Халиль, хоть убей, не могу.
Эмине повисла на одной руке. Халиль вспрыгнул на тюки и подтянул Эмине наверх, затем, как ни в чем не бывало, сел на свое место и стегнул лошадей. Эмине не выдержала, придвинулась к Халилю и прислонилась к нему спиной.
— И все же ты меня любишь, Халиль. Я тебе дорога. Если и убьешь меня, забыть все равно не сможешь.
Халиль сделал вид, будто не слышит.
— Не можешь ты без меня, Халиль. И я без тебя не могу.
Халиль остановил повозку.
— Ты долго будешь языком молоть?
— Ты любишь меня, правда, Халиль?
— Ну-ка слезай! Побежишь немного за повозкой, может, тогда образумишься.
Он ссадил Эмине и погнал лошадей. Эмине то шла, то останавливалась, то бежала за повозкой, продолжая кричать:
— Ты любишь меня, Халиль. Ты не можешь без меня, потому и злишься. Думаешь, я не знаю? Что бы ты со мной ни делал, все равно ты меня любишь, Халиль. Езжай! Я и пешком дойду до Аданы.
Эмине отстала от повозки. Выплыл месяц, от края до края высветив дорогу. Халиля охватила жалость, смешанная с любовью и ненавистью. Он остановил повозку, спрыгнул и стал ждать. Показалась Эмине. Вскоре она подошла и, ни слова не сказав, уткнулась головой Халилю в грудь. Халиль медленно обнял девушку.
— Ты мне жизнь искалечила, Эмине. Погубила меня…
Он взял Эмине на руки, отнес к обочине дороги. Они не слышали ни шума грузовиков, ни громыхания телег. Сладостный трепет пробежал по телу Эмине.
— Халиль! — выдохнула она. — Ох, Халиль… — Голос ее звучал все глуше и глуше.
Потом ей показалось, будто у нее вырвали из груди сердце, и силы покинули ее. В душе стало пусто. В ней не осталось даже любви.
Все возницы Юрегира любили кофейню "Колокольчики" и обязательно останавливались там попить чаю, напоить и накормить лошадей, волов, мулов. Поэтому возле кофейни всегда можно было увидеть порожние или груженые телеги и повозки. И на этот раз перед кофейней выстроилось в ряд несколько подвод. Уставшие волы, покачивая головами, жевали свою жвачку. Возницы вели между собой разговор, кто во дворе, кто за стареньким столиком в кофейне.
Подъехал Халиль. Заметив его, кахведжи [36] шепотом сообщил посетителям:
— Горе наше прикатило! — и тут же громко приветствовал Халиля: — Добро пожаловать, друг!
Халиль ничего не ответил. Ему было не до кахведжи: он о чем-то тихо разговаривал с Эмине.
Один из возниц, войдя в кофейню, обратился к здоровенному толстобрюхому детине:
— Бекир, "твой" заявился.
Человек, которого назвали Бекиром, посмотрел в окно.
— Ну-ка, дайте погляжу. Что он за птица такая, что на всех страху нагнал?
Халиль распрягал лошадей.
— Неужто вот этот?
— Он самый.
— Не слушай ты их, Бекир, — стал умолять вернувшийся в кофейню кахведжи. — Они хотят натравить тебя на него.
— Ну, Бекир, вот тебе случай показать свою смелость и силу. Ты хвалился, что одним ударом буйвола с ног сбиваешь, — вмешался в разговор еще один возница.
— А кого тут бояться? — спросил Бекир.
— Ты только задень его разок! — посоветовал кто-то.
— Ни с того ни с сего — нельзя. Вот если он меня заденет — тогда другое дело, — ответил Бекир и снова посмотрел на Халиля. Тот напоил лошадей, накинул им на головы торбы с кормом, подошел к Эмине и снова что-то стал ей тихо говорить.
— А что это за девка? — поинтересовался Бекир.
— Не слушай ты их, Бекир, — твердил свое кахведжи. — От этого Гяура всего можно ждать. Как-то он здесь так отколошматил одного! Чуть не убил. Насилу оттащили. А тот вначале тоже хорохорился.
Кто-то рассмеялся:
— Ну, Бекир! Ты все говорил: "Хоть бы мне встретиться с ним". Вот вы и встретились.
— Пусть только попробует поддеть меня, увидите, что я с ним сделаю. Зря, что ли, я столько лет в тюрьмах гнил. Или вы думаете, что настоящий мужчина испугается какого-то мальчишку?
В это время Халиль вразвалку направился к кофейне.
— Идет! — крикнул кто-то.
По кофейне прокатился приглушенный гул голосов.
— Селям всем! — поздоровался входя Халиль.
— Алейкюм селям! — раздалось в ответ.
— Я тебе "добро пожаловать" сказал, а ты и не ответил. Может, я в чем провинился перед тобой? — спросил кахведжи.
— Какая там еще провинность? Приготовь-ка лучше мне две чашки чаю. Да побыстрее!
Возницы заерзали на стульях, переглянулись, потом стали посматривать то на Халиля, то на Бекира. Халиль подошел к столу, за которым шла игра в карты. Бекир сверлил Халиля оценивающим взглядом и все больше убеждался в том, что Халилю с ним не потягаться.
Халиль обернулся и поймал на себе взгляд Бекира. Этот взгляд ему не понравился.
— Что, племянник, не узнаешь меня? — спросил Бекир.
Халиль не ответил и как ни в чем не бывало отвернулся. В это время кахведжи принес на подносе чай.
— Прошу, — сказал он и любезно добавил: — Хочешь, я сам отнесу?
Халиль взял поднос и направился к выходу. Вдруг он заметил на стойке кахведжи сыр.
— Эмине! Сыра хочешь?
Бекир захохотал.
— Девку-то Эмине звать, — громко сказал он.
Халиль бросил на Бекира уничтожающий взгляд.
— Посмотри на меня хорошенько, посмотри, чтоб навеки запомнить! — поддел Бекир Халиля.
Халиль поставил поднос на стол и, схватив стул, со всего размаху ударил им Бекира по голове. Бекир свалился на пол вместе со стулом, на котором сидел. Не успел он опомниться, как снова получил удар по голове.
— Ой, мамочка! — взревел Бекир.
Халиль наносил ему удар за ударом.
— Люди! — закричал вдруг один из посетителей. — Берегитесь! Пистолет! Ей-богу, у него на заду пистолет висит!
Все шарахнулись в сторону. А Халиль продолжал колошматить Бекира.
— Люди! Он убьет его! Надо их разнять!
Возницы кинулись оттаскивать Халиля.
— Оставьте меня! — кричал Халиль, вырываясь. — А то и вам достанется!
— Хватит, брат, — сказал кто-то, — отплатил ты ему, чего же еще тебе надо?
— Отойдите, а ну отойдите, а то всех перебью! — выхватив пистолет, крикнул Халиль.
Люди в страхе отпрянули. Лицо Бекира было залито кровью. Он "попытался подняться, но Халиль, как ястреб, налетел на него и одним ударом ноги уложил на прежнее место. Потом сел ему на живот и, грозя пистолетом, со злостью сказал:
— Ну, подлец, прикончить тебя?
— Брат мой, у меня трое детей. Сиротами их оставишь, — всхлипывая, взмолился Бекир.
Халиль вдруг вспомнил мать, вспомнил детство, вспомнил, как у стены свалился подкошенный пулей отец, и ему самому захотелось плакать. Чтобы никто этого не заметил, он быстро вышел из кофейни.
Эмине смотрела на стоявшие перед воротами фабрики телеги, конные повозки, тракторы с прицепами, грузовики, на заводских рабочих в синих спецовках, на уличных продавцов, на детей. От фабрики шел несмолкаемый гул. Одни рабочие выходили из проходной, другие входили. Выезжали и въезжали подводы…
На мостовую упал солнечный луч. И под ним заблестела брусчатка. Этот луч, вырвавшийся из-за домов, упавший на улицу и рассыпавшийся по мостовой, показался Эмине лучом надежды, которая вновь затеплилась в ней. Эмине нравились мостовые, городские дома, нравились дети, девушки. У шедших группами рабочих — у женщин, мужчин и детей — были улыбающиеся лица. Неужели они счастливы? Она позавидовала им. Но только чему, подумалось ей, могут радоваться эти босоногие, хилые, тщедушные дети? Раздался протяжный гудок. С карнизов взлетели вспугнутые воробьи. Рабочие устремились к фабричным воротам. Еще минута, и вокруг остались только повозки, грузовики и тракторы. Вскоре из ворот высыпала новая толпа рабочих. Молодые, пожилые, совсем дети, красивые, некрасивые. Усталые лица, пушинки на одежде, засаленные картузы. Люди все выходили и выходили. Наконец улица опустела. Воздух снова наполнился богатырским гулом фабрики.
Пришел Халиль. В руках у него была дыня, небольшой сверток и буханка хлеба. Хлеб был теплый, мягкий, белый. Эмине развернула сверток. В нем был сыр. Халиль разломил буханку на четыре части. Запахло горячим хлебом. В запахе этом был весь город, была вся Адана. Работать бы в Адане на таком заводе и стать женой Халиля! Эмине не осмелилась поделиться с Халилем своими мыслями. Она лишь молча посмотрела на него. Он разрезал дыню на дольки. До чего же он сегодня покладистый! Как послушный ребенок. Каким разным может быть Халиль! Вот Халиль режет дыню, или Халиль смотрит на нее, или согнулся под тяжестью тюка, Халиль ласкает, Халиль бьет ее, Халиль, Халиль… А сейчас — на фоне мостовой, на которую бросили пригоршню солнца, — стоит перед ней Халиль, бедный, опечаленный… Дыня была холодной. Словно она всю ночь вбирала в себя прохладу, а вместе с ней — всю мягкость, всю сладость осени. Солоноватый вкус сыра, теплота душистого хлеба и сочная дыня. Дыня, сыр, хлеб, Халиль, Эмине, мостовая, освещенная солнцем, и Адана…
У здания суда Халиль и Эмине встретились с односельчанами. Эмине сжалась под их взглядами, полными недоумения и нескрываемого осуждения. Она догадывалась, о чем думают эти люди и что скажут ее отцу и матери.
Халиль сидел в повозке и ждал, когда Эмине выйдет. Он чувствовал, что дело принимает нежелательный оборот, и в ожидании Эмине курил сигарету за сигаретой. Из раздумья Халиля вывел донесшийся до него шум: это Хасан-ага, спускаясь по лестнице, с кулаками рвался к Эмине, а народ его удерживал.
— Из-за этой суки сына моего убили, из-за этой твари! — орал он.
Закрыв лицо руками и кусая губы, Эмине подбежала к Халилю. Глаза ее были полны слез. Халиль метнул на Хасан-агу быстрый взгляд и, стиснув зубы, так стегнул лошадей, словно полоснул кнутом самого Хасан-агу.
Халиль ехал молча. Эмине стала было рассказывать ему о суде, но он оборвал ее на полуслове:
— Не надо, не рассказывай!
Они проехали большой мост. Вереницы повозок возвращались в деревни. Извиваясь змеей, текла река Сейхан.
Повозку Халиля обогнал трактор Хасан-аги. Проезжая мимо, Хасан-ага потряс в воздухе кулаком и осыпал Эмине бранью. Халиль был взбешен, но виду не подал, только подумал: "Ничего не поделаешь, надо терпеть".
— Рука болит? — спросил Халиль Эмине.
— Болит.
— Давай завернем в Чалганлы к старухе знахарке, а оттуда — прямо в поле, ладно?
— Как хочешь.
— Тогда поедем сейчас к знахарке. А что ты матери скажешь?
— Что с повозки свалилась.
Халиль покачал головой:
— Не поверит она. Все волосы тебе повыдирает за то, что ты со мной ездила. Отец у тебя ничего, а мать бессердечная.
— Я знала, что меня ждет, но не могла тебе отказать. Ты лучше думай о себе, а я своей судьбе покорилась… Мы будем проезжать Маласчу?
— Будем.
— И к святой могиле сходим?
— Что тебе там делать?
— Не хочешь — не надо.
— Как можно ехать на святую могилу, не совершив омовения?
— А я помоюсь.
— Где?
— Не доезжая Маласчи, родник есть.
— А если кто увидит?
— Кто там может увидеть? Я окунусь, а ты на меня из ведра польешь. Хочешь, и ты искупайся, вместе сходим на могилу.
— Я со святыми не знаюсь.
Тишина и безлюдье полей будили в молодых людях желание. Склонив голову, Эмине улыбнулась. Халиль приподнялся, огляделся, сказал:
— Никого нет, — и снова сел, поглядывая на Эмине.
Она продолжала улыбаться.
— Чего улыбаешься? Иди ко мне!
— Ты иди ко мне!
— Иди, а то рассержусь!
— Нет, ты иди!
— А кто будет лошадей погонять?
— Они сами пойдут.
— Иди, говорю!
Эмине повела плечом и засмеялась. Халиль с неожиданной злостью хлестнул ее кнутом.
— Иди же наконец!
Опасаясь нового удара, Эмине отпрянула и вытянула перед собой руки. Халиль глядел на Эмине: втянув голову в плечи, она смотрела на него умоляюще. В эту минуту Эмине казалась Халилю безобразной. Все в ней — натруженные ноги, с которых она сняла башмаки, жалко вытянутые вперед худые, длинные руки, выражение ее лица — вызывало в Халиле непонятное отвращение. Он снова ударил ее кнутом, еще и еще. Эмине сжалась в комок, стала совсем маленькой…
— Ах так! Ханым не соблаговолит прийти, не соблаговолит…
Ища выход злости, Халиль стал хлестать лошадей, и те понеслись во весь опор. Повозку трясло и швыряло. Эмине, потеряв равновесие, упала на спину, на дорогу свалился башмак.
— Упал! — закричала она. — Башмак упал!
Халиль не расслышал.
— Халиль, башмак мой упал! — снова закричала Эмине. — У меня нет другой обуви, я босой останусь. Мать со свету сживет, Халиль!
Халиль остановил повозку.
— Беги за своим башмаком!
Морщась от боли в руке, Эмине спустилась с повозки, прошла немного назад и нашла свой башмак. Халилю стало жаль Эмине. "Аллах и без того наказал ее", — подумал он.
Когда Эмине вернулась, Халиль спрыгнул с козел на землю, взял девушку за пояс, поднял и посадил в повозку.
— Я провела с тобой всего день, — заговорила Эмине, — а на мне уже живого места не осталось. Ты меня пять раз бил, я вся в синяках от твоего кнута, да и глаз не сомкнула. А сколько еще мне придется терпеть?
Халиль молчал, видимо чувствуя себя виноватым. До самой Маласчи он не проронил ни слова. У родника Халиль остановил повозку, напоил лошадей и коротко сказал:
— Если хочешь, купайся!
— Не хочу.
— Ты же собиралась на могилу святого.
— Чем мне святой поможет, если у тебя сердца нет.
— Как знаешь.
Халиль направил путь в Маласчу… Тихая, безлюдная Маласча. Пустые улицы, пустые дома, пустые, внушающие страх стены. Оконные и дверные проемы зияли, как огромные глазницы, и казались живыми. Смотреть на них было жутко. Штукатурка давно осыпалась со стен, оголив саманные кирпичи и известняк, ставший рыхлым, будто творог. От одного дома осталось три стены, от другого — лишь одна. Балки на крыше большого дома напоминали оскал редких зубов. Куда ни глянь, развалины, скелеты домов, осыпавшаяся штукатурка, камни…
Повозка медленно двигалась по улицам вымершей Маласчи. Халиль натянул вожжи и посмотрел на Эмине. У нее был испуганный вид, словно она ждала: вот-вот случится что-то ужасное, неповторимое. В домах тех самых богачей, где когда-то варили кофе на костре из денег, гнездились дикие голуби, совы, ласточки. В огромной деревне не раздавалось ни звука. Полуразвалившиеся безмолвные стены. Откуда ни возьмись появилась черепаха…
— Вот и наша деревня когда-нибудь станет такой же. Правда, Эмине?
Эмине в испуге прижалась к Халилю.
— Уедем отсюда, Халиль!
— Почему?
— Я боюсь.
— Чего тут бояться?
— Не знаю. Просто боязно.
Они замерли, будто их околдовали. Никогда раньше они не испытывали подобного чувства. Эмине, дрожа, все крепче прижималась к Халилю.
— Гляди, Халиль, вон там!
Халиль посмотрел в ту сторону, куда показывала Эмине.
В дверях большого разрушенного дома стоял старец в чалме. Его длинная седая борода струилась по груди. По-совиному, не мигая, он пристально смотрел на них и молчал. Голуби, руины, и белобородый старик, застывший, как изваяние…
— Уедем, Халиль. Мне боязно, здесь нечистая сила!
— Здравствуй, отец! — поздоровался Халиль.
Будто не слыша, старик по-прежнему смотрел на них не шевелясь. Халиль привстал.
— Я тебе, отец, "здравствуй" говорю. Здравствуй! Привет от чистого сердца!
— Халиль, уедем отсюда! Мне страшно. Уедем! — шептала Эмине.
— Это, кажется, сторож при святой могиле.
— Уедем, Халиль! Кто его знает, что он за человек. Уедем!
Шумно хлопая крыльями, в воздух стаей взлетели голуби. Они пронеслись так низко, что Халиля и Эмине обдало ветром.
— Гляди, гляди, Халиль! — вскрикнула Эмине, показывая на то место, где только что стоял старик.
Там сидела огромная белая собака и, высунув язык, пристально смотрела на них. Она удивительно походила на старика и, казалось, как и он, была с бородой и в чалме.
— Что это? — зашептала Эмине. — Может, джинн или шайтан? Спаси и помилуй, господи!
— Да не бойся! И перестань молиться!
Собака по-прежнему не сводила с них глаз. Вдруг она поднялась и направилась прямо к ним.
— Она к нам идет, Халиль! — закричала Эмине. — Гони лошадей, ради аллаха, гони!
— Не кричи! Обыкновенная собака, что она может нам сделать?
Не доходя до них шагов пять, собака остановилась, оскалила зубы и зарычала. В это время у них за спиной что-то хрустнуло. Они вздрогнули и обернулись. Седобородый старик неподвижно стоял у развалин, словно пришелец из древних веков. Лицо его ничего не выражало. Вокруг царила мертвая тишина.
— Поедем, Халиль! Ты только всмотрись в его глаза. Мне страшно.
— Ты что, с ума сошла? Ведь рядом с тобой я!
И вдруг ни старика, ни собаки не стало. Как в воду канули. Халиль и Эмине не успели даже заметить, куда они скрылись. Эмине в испуге озиралась по сторонам. В этой загадочной деревне все принадлежало прошлому и все ушло в прошлое: и стародавние строения, превратившиеся в развалины, и некогда жившие здесь люди — богатые беи и простые крестьяне. Гиблое, заколдованное место, окутанное мраком тайны!.. Теперь здесь хозяйничали только муравьи и жуки, здесь обитали только аисты и ласточки, дикие голуби и совы, здесь слышались какие-то странные шорохи, стоны и вздохи, от которых становилось не по себе. Вот бежит неведомо куда ручеек, вот лестница, которой опостылели старость и разрушение, вот развалившиеся стены, оконные рамы со ржавыми запорами, пустынные улицы — кажется, все вместе они еще пытаются удержать остатки прежней жизни. Над дверью висят талисманы: голубые бусы, кусок свинца и подкова — пауки окутали их своей паутиной. Глядишь на это, и чудится, что сейчас из-за угла появится кто-нибудь из некогда живших здесь людей… Все в Маласче: и стены, и окна, и двери, и каждая букашка — было преисполнено для Эмине особого смысла, загадочного, таинственного… Среди развалин в расщелине сидит сова и смотрит неподвижными зловещими глазами, подергивая головой. Рядом нависают густые ветви смоковницы, от которой падает непроницаемая тень. Одна ветка увешана разноцветными лоскутами.
— Вот и могила святого! — проговорил Халиль.
Еще каких-нибудь два года назад к этой могиле шли люди из окрестных сел. Ныне же сюда редко кто заглядывает. Раньше с приходом весны в Маласче устраивалось празднество. Теперь здешние места вселяют в человека страх.
— Уедем отсюда, Халиль! Прошу тебя, уедем! Лошади тронулись. Маласча осталась далеко позади, но страх все не покидал Эмине.
— Говорят, Халиль, что когда-нибудь и Енидже такой станет. Отец мой все время это твердит.
Халиль кивнул головой:
— Боюсь, так оно и будет.
Показалась Чалганлы. Высокие эвкалипты, на улице свора нахальных, шумных собак и копошащиеся куры — после пустынной Маласчи радостно было смотреть на деревню, и казалось, что жизнь здесь полнокровная, а люди зажиточные. Окна домов были открыты, на улице полно детей — они плакали, смеялись или носились как угорелые.
Повозка остановилась у дома знахарки. На пороге сидел человек лет сорока. Заметив их, он вскочил на ноги и расхохотался. Затем, смутившись, вбежал в дом.
— Она приехала, мама, приехала! — послышался его голос.
Эмине посмотрела на Халиля.
— Полоумный, — сказал Халиль.
Знахарка оказалась краснощекой семидесятилетней старухой с крашенными хной волосами.
— Добро пожаловать! — приветствовала она их.
— Рады видеть тебя в здравии, мать!
Вновь появился мужчина, которого они видели у порога. Он успел переодеться, с волос его стекала вода. Мужчина глянул на Эмине и захихикал.
— У нее, мать, что-то с рукой приключилось, — сказал Халиль, показывая на Эмине.
— Ты постарался? — спросила старуха.
— К чему мне ей руки ломать?
Старуха предложила им сесть, а затем повернулась к мужчине:
— Хыдыр, сходи-ка подогрей воды!
Он посмотрел на нее исподлобья и не двинулся с места. Но когда старуха схватила лежавшую рядом длинную палку, мужчина, испуганно отпрянув, немедленно исчез.
— Этот несчастный — мой сын. Горе мое. Полоумный он. Когда ко мне приходит женщина или девушка, он думает, что это она к нему пришла. День и ночь сидит у порога и ждет… Подойди-ка, дочка! Поближе, поближе подойди!
Эмине подошла и села у ног старухи.
— Как же это случилось?
— Я с повозки упала.
— А не парень ли во всем виноват, дочка? Меня не проведешь. У собак этих руки чешутся. Уж я-то их знаю. Каждого насквозь вижу, стоит мне посмотреть ему в глаза. Это он тебя избил и столкнул с повозки, да? Ты погляди на него хорошенько! Видишь, какой он злющий? Эх ты, медведь, думаешь, если жену бьешь, значит, ты мужчина? Неужто у вас только и хватает силенок, чтобы измываться над женщинами? — Ого-го! Вспухла, сильно вспухла, — сказала старуха, осмотрев руку Эмине. — Хорошо еще, что нет перелома. Ушиб. Будь я на твоем месте, дочка, не спала бы с этим медведем. Не поспишь с ним несколько дней, увидишь, что он начнет к тебе ластиться как собака. Ей-богу, у мужчин ума нет, только и знают, что за бабами волочиться. И потачку давать им нельзя. Продерни ему в нос кольцо с поводком, и пусть пляшет под твою дудку.
Хыдыр принес мыло, бамбуковую щепу и куриное яйцо. Присел в сторонке и, поглядывая на Эмине, стал строгать мыло.
— А вода где? — спросила старуха.
Хыдыр снова исчез и через минуту вернулся с кастрюлей кипятка. Кипяток разбавили холодной водой, после чего старуха велела Эмине опустить руку в воду.
— Горячо! — вскрикнула Эмине.
— Такого медведя выдерживаешь, а горячую воду не можешь! — рассердилась старуха. — Какая же ты жена после этого?
Халиль улыбнулся. Ему понравились слова старухи. Знахарка же чуть прищурилась и, покачав головой, добавила:
— Попался б ты такой, как я. Я б тебе показала! А то нашел себе малявку и ломаешь ей кости!
Халиль пришелся старухе по душе, и в знак расположения она несколько раз легонько стукнула его по голове своей длинной палкой.
— Попался б ты в мои руки, — повторила она. — А ты, дочка, стой спокойно! Перестань ломаться! Ну что смеешься, негодница?
Старуха взяла руку Эмине и стала растирать. Эмине поморщилась.
— Не ломайся! Где это видано, чтобы терпеливая жена так ломалась? Стой спокойно!
Хыдыр закурил и не сводил с Эмине глаз и, когда она морщилась от боли, тоже морщился.
— Дети у вас есть? — спросила старуха.
— Нет, — ответил Халиль.
Старуха снова прищурилась и неодобрительно покачала головой.
— А жена у тебя хорошая. Но ты посмотри, что ты с ней сделал, на руку ее посмотри! Жену, сынок, не бьют, жену любят. Бей лучше ишака. А эту малявку и ребенок побьет. Ты с другими попробуй потягаться, тогда я скажу, что ты мужчина. Глянь на нее, не девушка, а розочка. Какого же черта тебе еще надо? Неужто думаешь, что лучше найдешь?
— Поторапливайся, мать, нам пора. Дорога неблизкая, — перебил ее Халиль.
— Сынок, у девушки рука вспухла, это не шутки, — и, повернувшись к Эмине, старуха тихонько спросила: — Может, он у тебя с придурью?
Эмине улыбнулась.
— Медведь медведем, — продолжала старуха, — но человек он вроде бы неплохой. А был бы плохой, ты не жила бы с ним, правда? И надо же было, чтобы такому медведю аллах послал такую хорошую девушку. Попадись он мне, я бы… — Старуха наклонилась к Эмине и что-то шепнула ей на ухо.
Эмине смущенно улыбнулась.
— Не стыдись, дочка! Ты не ребенок, — сказала старуха, повернулась к Халилю, покачала укоризненно головой и легонько ударила его палкой. — Ах ты, черт этакий!
Перед уходом Халиль дал старухе одну лиру, и оба — Халиль и Эмине — поцеловали знахарке руку.
— Ну, счастливого вам пути! Эй ты, медведь, смотри не трогай мою дочку! А тронешь — пусть у тебя руки отсохнут! Не больно-то легко в наш век найти такую жену.
Увидев, что Халиль с Эмине выходят из дома, полоумный Хыдыр расплакался, как малое дитя, и забился в истерике.
— Она уезжает, мама, она уезжает!
Халиль и Эмине остановились.
— Не обращайте внимания! — сказала старуха. — Вот уж горе мое!
Они вышли. Вслед им неслись вопли Хыдыра…
Когда они выехали из Чалганлы, Халиль погрузился в раздумье, он уже не подгонял лошадей. Таким он очень нравился Эмине. Она прижалась щекой к его спине и позвала:
— Халиль!..
Халиль молчал.
— Если бы я и в самом деле была твоей женой, как говорила эта старуха! Пусть бы ты каждый день меня бил, кости бы мне ломал, только бы было так, как она говорила! Я там едва не расплакалась, так мне ее слова по сердцу пришлись. А тебе, Халиль, не хотелось бы, чтобы так было? Ох, и зачем я тебя об этом спрашиваю? Кто меня такую в жены возьмет!
Эмине еще крепче прижалась щекой к спине Халиля. На глаза ее навернулись слезы, их влажный блеск оживил лицо.
— Я ведь готова собакой твоей быть, Халиль, под дверью бы твоей спала. Родители — одно, а ты — совсем другое. Если бы мне пришлось выбирать — весь мир или ты один, — я выбрала бы тебя, Халиль. И как собака, побежала бы за тобой… Позови меня только, я и мать, и отца брошу, пойду за тобой хоть на край света. На тебя я не обижаюсь, Халиль, на судьбу свою обижаюсь. Ты мужчина, я женщина. Что бы ты ни сказал — ты прав. Умирать буду, нищей стану — все равно ни на кого, кроме тебя, не посмотрю. Ты единственная моя надежда, Халиль, единственная опора. Я не прошу, чтобы ты на мне женился, потому что знаю — это невозможно, об одном лишь прошу: не отворачивайся от меня, улыбнись мне иногда — мне и этого будет достаточно.
Эмине заглянула Халилю в глаза.
— И ты ведь тоже мучаешься.
Халиль вздохнул, глядя прямо перед собой.
— Халиль, родной мой, тебе-то чего мучиться? Халиль ничего не ответил и закурил.
— Правда ты меня любишь? Ведь любишь же, — продолжала Эмине. — Если б не ты, я бы себя жизни лишила. Клянусь! Я ведь уже хотела наложить на себя руки, но подумала: а что станет с Халилем?
Она закрыла глаза и, немного помолчав, сказала:
— Помнишь, что говорила старуха? Не бей эту девушку. А что бы она сказала, если бы знала, какое горе терзает мне душу?
Проселочная дорога узкой лентой тянулась среди бескрайних хлопковых полей.
— Скажи хоть слово, Халиль. Ты сердишься на меня? Халиль не ответил.
— Так и будешь молчать? Так ничего и не скажешь?
— Что мне тебе сказать? — заговорил наконец Халиль. — Сгубили нашу жизнь, сгубили…
— Погляди мне в глаза!
Халиль обернулся:
— Говори!
Эмине поцеловала Халиля.
Вечернее солнце потеряло свою силу. Мир был залит мягким ласковым светом. Птицы, багряные листья, простирающаяся вдаль дорога, Эмине и Халиль…
— Халиль!
— Что?
— Знаешь, я тебя очень люблю!
— Знаю.
— А ты?
— Не люблю я тебя, Эмине.
— Любишь, любишь! Недавно ты на меня так посмотрел, так посмотрел, что ничего большего мне и не нужно. Сколько угодно тверди, что не любишь, ни за что не поверю.
— Пустое это, Эмине. Ведь я все равно не могу взять тебя в жены. Хорошенько запомни это. Так и будем мыкаться до поры до времени. А потом, раз уж про тебя худая слава пошла, и другие появятся. Один уйдет, другой придет, но жениться — никто не женится. И я, Эмине, не могу тебя спасти.
— Ты взял бы да увез меня в Адану, Большой город Адана, там никто никого не знает, никому ни до кого дела нет. Я буду работать на фабрике, ты тоже куда-нибудь устроишься…
— Нельзя, Эмине, мир тесен. Такая, видно, у тебя судьба. Разве что кто-нибудь на тебе женится и спасет тебя, а иначе быть тебе всю жизнь проституткой!
— Но чем же я виновата, Халиль? Что я кому плохого сделала?
— Не знаю.
— Сегодня на суде я обо всем рассказала.
— Брось ты. Что проку от этого суда? Важно то, что случилось, Эмине, то, что люди говорят. Прижмут тебя где-нибудь в укромном месте, и ничего ты не сделаешь, станешь сопротивляться — силой возьмут. Обидят тебя да еще разболтают всем, сукины дети. И куда бы ты, Эмине, ни подалась, везде так будет. Пока не появится у тебя защитник — муж, нет тебе спасения. От позора и горя только земля сырая тебя избавить может. Да и я буду мучиться, пока ты живешь, пока не услышу, что ты в прах превратилась. Отдал я тебе свое сердце, Эмине, и теперь вот страдаю. А неотлучно быть при тебе тоже не могу, ведь я день — дома, пять — в поле. Значит, ждут меня одни беды: скажет кто-нибудь худое слово про тебя — убью такого на месте, вот тебе и тюрьма. А чего я добьюсь? Ничего. Взять тебя с собой и уйти далеко-далеко? Пустое это. А уйду один, пусть даже на край света, сердце мое все равно останется с тобой. Поэтому я и хожу сам не свой, гяуром стал, только бы забыться, тебя забыть. Но разве забудешь? Только выкину тебя из головы, как ты в сердце начинаешь стучаться. Не знаю, что и делать.
Эмине посмотрела на него долгим взглядом:
— А если я умру, ты успокоишься?
— Не знаю, Эмине. Может, и успокоюсь. Но тебя-то и впрямь только могила спасет.
— Выходит, кто-то позабавился, а мне умирать?
— Будь Селим жив, я бы убил его и со спокойной совестью сел в тюрьму. Но сейчас я и сам как покойник.
— Значит, только в могиле мое спасение, да, Халиль? Халиль не ответил и в сердцах хлестнул лошадей.
Лишь под вечер добрались они до полевого стана. Эмине сошла с повозки и под устремленными на нее взглядами направилась к своей палатке. Почуяв недоброе, Халиль не уходил, ждал. Из палатки вышла Азиме, постояла с минуту, потом кинулась к Эмине, схватила ее за волосы, повалила на землю и стала бить.
— Тебе мало того, что ты опозорила нас?! Мало, шлюха ты несчастная?! Так ты еще с парнями в город ездишь, тварь бешеная?!
Подбежали женщины и увели Эмине в другую палатку. Убитый горем, Длинный Махмуд сидел, обхватив голову руками. Наконец он поднял глаза, посмотрел на Халиля…
Махмуд не спит. Как долго тянется ночь! Кажется, ей не будет конца. Приподнявшись в постели, Махмуд смотрит на дочь. Она лежит на спине, рука — на груди. Пошарив, Махмуд находит кисет, достает пачку папиросной бумаги, дует, дует на нее и, когда бумага расходится веером, отрывает листок. Высыпает на него толстый слой табаку и свертывает цигарку.
Не открывая глаз, Азиме тихо спрашивает:
— Ты чего не спишь?
— Не могу я спать, жена. И зачем только ты избиваешь дочку? Аллах и без того ее обездолил. Жалко мне ее, сердце на части разрывается.
— Чтоб у меня руки отсохли! Но поверь, не могла я сдержаться. Разве ты не слыхал, что говорят люди? Не слушаешь ты меня, а нам из деревни уезжать надо.
— Свила бы Эмине себе гнездо — я мог бы и умереть спокойно.
— Что люди про Эмине думают! Ведь в город с Халилем ездила! На нее теперь все как на шлюху смотрят. Вот до чего докатилась! Кто же ее в жены возьмет?!
— Ох, дитятко мое, горемычное! Невесты руки хной красят, а моей Эмине только и остается, что смотреть на них, так, жена? Смотреть, склонив голову? Гореть им в адском огне, тем, кто ей жизнь исковеркал! — Махмуд жадно затянулся. — Об этом ли я мечтал? Я думал, доживу до дня, когда моя Эмине фату наденет. Потом внуки пойдут, я сам дам им имена. Родится мальчик — дам ему имя моего отца, а если девочка — имя матери…
Они разговаривали, делая длинные паузы, словно для того, чтобы освободиться от скопившейся в груди горечи.
— Худо-бедно, а было у нас два помощника. На хлеб зарабатывали, — печально заметила Азиме.
— А теперь один из них не в счет.
Они замолчали, поглядывая то на полоски на рядне, то на едва теплившийся в ночнике огонек, то в темноту.
— Скоро зима. Не знаю, как уж мы ее переживем? — вздохнула Азиме.
— Вот что я тебе, жена, скажу. Поймать бы этого самого аллаха да заставить его поголодать подряд три зимы. И после этого дать ему в руки мотыгу, да потяжелее, и погнать в поле, чтобы он там поработал под палящим солнцем, да кормить его тем, что мы едим, словом, сделать так, чтобы он побывал в нашей шкуре. А после этого отдубасить его, перебить ему руки и ноги, чтобы целый месяц не мог шевельнуться. И таким, искалеченным, подслеповатым и хромым, бросить на произвол судьбы. Посмотрела б ты тогда, каким он добреньким станет. Возьмется за перо, но прежде чем что-то написать, хорошенько подумает…
— Быстро скажи: господи, прости, господи, прости!
— Но разве не он послал на наши головы все эти беды? Только честно скажи — между нами останется.
— Видит бог, перекосит тебя с угла на угол!
— Верю, потому что только этого мне и не хватает.
Забрезжил рассвет. Полевой стан просыпался. Люди уже выходили в поле, когда заморосил дождик. Мягкая пыльная земля покрылась крапинками. Прохладное облако опустилось на землю и, скользя по красноватым листьям хлопчатника, поплыло белесой дымкой тумана.
И вместе с туманом к человеку возвращались надежды, сердце билось сильнее в сладостном ожидании, будто нежное прикосновение освежающего воздуха помогало на минуту забыть горькую действительность. У края поля батраков встречал Али Осман, одетый в свой старый, непомерно большой для него пиджак.
— Камбер сегодня в город переезжает, — волнуясь, сообщил он. — Я, пожалуй, схожу к нему: как-никак старый друг, попрощаться надо.
— И от нас ему привет передай, пожелай счастливого пути.
Для Али Османа Камбер был ниточкой, связывающей его с молодостью, с прошлым, в котором было достаточно и светлых и черных дней. Али Осман не мог представить себе жизнь без Камбера. Он полагал, что без него он не мог бы ни существовать, ни мыслить, ни мечтать. На ферме они были самыми старыми работниками. Возвращаясь с работы смертельно усталые, они вдвоем мечтали вслух, строили планы на будущее. И вот теперь Камбер покидает Енидже, уходит человек, с которым связаны самые светлые воспоминания…
Всходило солнце, когда Али Осман дошел до деревни. Камбер сидел рядом со своими пожитками на обочине дороги и ждал попутного грузовика. На Ремзи был тот самый пиджак, который ему купили два года назад перед поступлением в кадыкёйскую школу. Мальчик уже вырос из него. Он сильно вытянулся, похудел. Хоть он сегодня и не выспался, лицо его сияло счастьем. Ремзи грыз лепешку и не отрывал глаз от дороги, прислушиваясь, не идет ли грузовик. Рядом стояла Ребиш, сложив руки на животе. Камбер сворачивал цигарку и что-то негромко рассказывал Халилю. Волосы, выбившиеся из-под старенького картуза, падали Камберу на лоб. Безграничная досада, словно не умещаясь на его морщинистом лице, прорывалась в жестах и тяжелых вздохах. Али Осман ускорил шаг. Заметив его, Камбер поднялся.
— Селям алейкюм! — поздоровался Али Осман.
— Алейкюм селям! — ответили ему.
Ремзи улыбнулся Али Осману, к которому был искренне привязан.
— Ну, как поживаешь? — спросил его Али Осман.
— Спасибо, дядюшка!
— Вот и уезжаем мы, брат, — заговорил Камбер. — Полностью рассчитался. Как раз Халилю об этом рассказывал. Сколько лет впустую прошло, брат! Ни за что ни про что растратили мы свою жизнь. Сколько лет, как верная собака, служил им, и все зря. Они, Али Осман, ценят нас меньше, чем песок под ногами. Так мне больно стало, когда понял это, что, ей-богу, чуть не заплакал. Разве мы не люди? Разве виноваты, что аллах нас бедными сделал?.. Столько лет на хозяина проработал, а он мне даже счастливого пути не пожелал. Не пожелал, дружище. Никто из них, Али Осман, счастья мне не пожелал. На смех подняли… — Камбер вытер слезы. — Ты только послушай, Али Осман, что мне хозяин кричал: "Ты кто такой, что решил сына учить? Выучится он, ну и что толку! Ведь тебе жрать нечего, а ты сына учить надумал". Тут его невестка как расхохочется, и дети его тоже со смеху покатились. "Можно подумать, — говорят, — что твой сын в люди выйдет". Чего только я там не наслушался! И неблагодарный я к тем, чей хлеб ем, и вероломный. Слыхал? Мои кровные деньги, которые я горбом своим заработал, хозяин в лицо мне швырнул да еще крикнул: "Бери и пропади пропадом!" Они всех нас в рабов хотят превратить, связать по рукам и ногам. Только не будет этого! Не будет мой сын их рабом! И знаешь, что еще мне хозяин сказал? Что придет день и я голодать буду, но он мне куска хлеба не даст.
— Непременно выучи сына, брат. Он жизнь нашу знает, — сказал Али Осман и повернулся к Ремзи: — Видишь, Ремзи, как живет твой отец, как все мы живем? Учись, ради аллаха, учись. Вспомни нас — и учись, вспомни богатеев — и учись еще лучше. Не будешь учиться — станешь таким, как все мы. А мы-то рады будем, если ты в люди выйдешь! И если ты с молоком матери впитал в себя все чистое и доброе, то не забудешь тех горестей, которые тебе пришлось испытать. Не забудешь отца с матерью, нас не забудешь, деревню нашу.
На глазах у Ремзи выступили слезы. Он отвернулся. Солнце освещало верх стен. Деревенская тишина угнетала.
Халиль с грустью смотрел на дерево, росшее напротив, и думал о своем. Было светло. Прошел дождь, оставив после себя пятна лужиц, и теперь дорога выглядела особенно уныло. Проснувшееся в душе Халиля желание отправиться в дальние странствования было начисто сметено приступом острой тоски. Он тяжело переживал горечь расставания с дорогими сердцу людьми: Камбером, его сыном, его женой, всю жизнь терпевшей лишения и так и не уяснившей себе, почему приходится их терпеть. Переезжали они в город, до которого рукой подать, — в город, где им предстояло жить в такой же, как и в деревне, халупе с земляной крышей, где их ждала такая же тяжкая, беспросветная жизнь. В городе — там хлеб белый, а горе черное, горе бесконечное. Там Ремзи смешается с чумазыми уличными мальчишками, окунется в иную жизнь, хотя долгое время его будут считать чужаком, и станет учиться. Его, совсем еще ребенка, ждет молодость, которая сложится по-иному и через которую он себя проведет сам. Ремзи не придется спать в хлеву рядом со скотиной и работать в поле, но жизненных невзгод ему не миновать. Вначале он должен будет преодолеть барьер отчужденности и одиночества, а затем, как это обычно бывает в большом городе, начнет бороться с многочисленными, каждый день возникающими трудностями.
Халиль понимал, до чего же серая, до чего невыносимая у него самого жизнь. А вот у Ремзи судьба может сложиться совсем неплохо. Он точно деревце, которое только-только пошло в рост. А что ждет Халиля? Кто знает, сколько драк, треволнений и неприятностей будет еще в его жизни, не предвещающей ничего хорошего! Порой он боялся, как бы разные нововведения не сломали привычных порядков. Особенно его беспокоило то, что хозяин собирается купить трактор на резиновых колесах. Была и постоянная тревога, от которой щемило сердце, — Эмине и неопределенность того, что она ему принесет: только горе или, может, крупицу счастья?
— Мог ли я думать, что в мои годы придется мне покинуть насиженное место? — говорил Камбер Али Осману.
— Такая, видно, у тебя доля. Кто знает, может, оно и к лучшему.
— Чего, Халиль, закручинился? — спросил Камбер, легонько толкнув Халиля в плечо. Тот попытался улыбнуться, но улыбки не получилось, и он досадливо поморщился.
— Знаю, сынок, что у тебя свое горе. Да поможет тебе аллах!.. Какое-нибудь пристанище мы себе найдем.
День проведем под крышей, день — под забором, ну а потом пристроимся. Приедешь — заходи. Тебе, Халиль, и дверь наша открыта, и сердца наши!
Вдали послышался гул грузовика. Ремзи вскочил.
— Едет!
Глаза Али Османа наполнились слезами.
— Уезжаешь, значит, Камбер?
Камберу на глаза тоже навернулись слезы. Два друга, долгие годы делившие тяготы батрацкой жизни, обнялись.
— Значит, уезжаешь, брат? Счастливого тебе пути! Счастливо добраться! Не забывай меня, Камбер! Если чем обидел — прости!
— И ты прости меня, Али Осман!
— Кто знает, — говорил Али Осман, — доведется ли еще свидеться. Нам ведь долго не протянуть.
С грустью глядя, как прощаются два старых друга, Халиль как будто видел, что ждет в будущем его самого. После возвращения из армии Халиль, хоть и не сразу, но лучше стал понимать, что творится вокруг.
Камбер повернулся к Халилю, и они обнялись.
На дорогу, кряхтя, выполз грузовик, похожий на гигантскую черепаху. Халиль попрощался с Ребиш.
— Передайте привет Сулейману и Дервишу, — говорил Камбер.
Грузовик пригнал с собой запах пыли, бензина, резины и горелого масла. Из-под навеса в кузове показались усатые, желтозубые, обветренные лица крестьян. Халиль погрузил вещи Камбера. В кабине свободного места не было, и Халиль помог Камберу и Ребиш взобраться в кузов. Затем он обнял и расцеловал Ремзи.
— Учись, Ремзи, учись! Ты вся наша надежда. Только, смотри, не забывай нас!
Ремзи тоже поцеловал Халиля и шепнул ему на ухо:
— Приезжай к нам с сестрицей Эмине!
Грузовик увез их. Он вырвал их из деревни.
— Уехали… — произнес Али Осман.
Чем дальше уходил грузовик, увозя Камбера и его семью, тем сильнее жгло сердце.
— Какую работу найдет там Камбер? Ведь он уже немолодой, — сокрушался Али Осман.
Там, в кузове грузовика, Камбер, Ребиш и Ремзи увозили с собой частицу его сердца.
Когда Али Осман и Халиль вернулись в деревню, куры по-прежнему, словно ничего не произошло, разгребали землю. Петух захлопал крыльями, взъерошил перья на шее, встряхнулся и запел свою хриплую песню. Чего, глупый, поет? Люди уехали! Люди! — а он, глупый, горланит. Все вокруг осталось по-старому: та же деревня, те же люди, те же деревья, те же птицы. Ничего не изменилось. Только сердца Али Османа и Халиля были ранены, ведь Камбер, Ребиш и Ремзи были для них опорой, пусть не главной, но способной придать им силы. Теперь же в сердце у них образовалась пустота, и эта пустота причиняла боль. Известно, что смерть даже не близкого человека причиняет боль… Для Али Османа страшнее всего было то, что он остался один, совсем один. Некому теперь излить душу, не с кем поделиться. Что до Халиля, то он еще острее переживал свое горе. Именно это расставание, эта разлука сразу приблизили к нему Эмине. Он уже не мог жить без нее. Его безудержно влекло к ней. Он постоянно думал о ней. Опустошенность перерастала в любовь. Халиль смутно догадывался, что его постоянная досада, переходившая в отчаяние, порождалась невозможностью любить и обладать. На какой-то миг ему даже почудилось, будто он расстался не с Камбером, Ребиш и Ремзи, а с Эмине… У каждого есть что-то, что помогает сносить житейские невзгоды, скрашивает жизнь. У Халиля этим "что-то" была Эмине. Она заменит ему тех, с кем пришлось расстаться, хотя каждая встреча с ней будет вызывать у Халиля грусть.
— Уехали, — повторил Али Осман с горечью, и было ясно: Камбер увез с собой и былую молодость его, и надежды, и силы. — Уехал Камбер, уехал… — Из груди Али Османа вырвался тяжелый вздох. — Ну, я пошел…
— Куда?
— В поле.
— Дядя! Дядя Али! Передай привет Эмине. Пожалуйста, дядя Али.
— Передам, передам, дорогой.
— Только не забудь. Хорошо, дядя Али? Так и скажи: Халиль передает тебе большой-большой привет. И еще скажи, дядя, чтобы она не мучилась и не обращала внимания на всякие сплетни.
Али Осман закивал головой. Халиль быстрыми шагами направился на ферму. Али Осман еще немного постоял, растерянно озираясь вокруг.
— Уехал Камбер… — в который раз промолвил он, сделал несколько неверных шагов, покачнулся и, будто подкошенный, упал замертво.
Через десять дней после смерти Али Османа крестьяне возвратились со сбора хлопка. Долгое время остававшиеся закрытыми, окна и двери охотно распахнулись навстречу солнцу. Задымились печи. Площадки перед порогом были очищены от успевшей прорасти травы, политы водой и подметены. Крестьяне, изменившиеся до неузнаваемости под слоем пыли, въевшейся в кожу, тщательно мылись, терли себя мочалками так, что кожа сходила, а вымывшись, одевались в праздничное. Мечтам не было конца, Людям казалось, что на заработанные деньги они смогут купить весь мир. В их глазах, походке, манерах появилась уверенность. Как всегда в это время, они готовили сладости, о которых мечтали весь год, и даже позволяли себе несколько раз полакомиться мясом.
Праздники длились от силы три дня. А затем крестьяне выходили на поля добирать оставшийся на кустах хлопок. Выходили все: дети, женщины, мужчины. Теперь они собирали хлопок для себя, ходили по полю, которое до этого дважды было прочесано сборщиками, и искали случайно оставшиеся или запоздало раскрывшиеся коробочки или просто ощипки. Одни продавали собранный хлопок, другие делали из него матрацы и одеяла. На этот хлопок Азиме возлагала большие надежды. Поэтому в поле, в это опустошенное, истерзанное поле выходили всей семьей… Эмине собирала хлопок и думала, что, если бы они с Халилем поженились, она сделала бы из этого хлопка постель. Ее труд тогда обрел бы смысл и принес радость. Эмине знала бы, что в каждую частицу их супружеской постели вложен ее труд, а собирая хлопок, вновь и вновь вспоминала бы трепет объятий — крепких, пылких объятий — и с нетерпением ждала бы наступления вечера… Эмине представляла себе, как они с Халилем лежат на мягкой постели, сделанной ее руками и пахнущей свежесобранным хлопком, лежат, тесно прижавшись друг к другу. "Если бы только все было так!" — думала Эмине. Если бы только она могла прямо сейчас прошептать: "Халиль!" — и опуститься с ним вместе на землю, прекраснейшее ложе, созданное для любовников самой природой.
Прошло десять дней. Длинный Махмуд, Азиме, Эмине и Вели собирали хлопок, работая до изнеможения. Эмине была замкнутой и молчаливой, она не замечала, как бежит время. Посмотрит, бывало, на небо, а уже вечер. Домой возвращалась усталая, равнодушная ко всему, даже думать ни о чем не хотелось. Все казалось ей пресным, безвкусным. Она истосковалась по ласке. Ночью, когда Эмине лежала в постели, темнота по ее велению превращалась в желанные лица, образы, сцены, но потом оставались лишь тяжелые, привычные думы. Если бы она не боялась Халиля, то побежала бы к нему прямо сейчас. Шли дни за днями.
Каждый год несколько семей уезжало в город. В этом году уехал Алтындыш.
Прислонившись к стене, Длинный Махмуд спокойно грелся на солнце. Он думал о предстоящей зиме. Да и было о чем призадуматься. Сколько надежд связано у крестьян с весенней порой! Но весна проходит, наступает лето, лето сменяет осень, а осень — неумолимая зима. Сколько Махмуд себя помнил, всегда было одно и то же. Но никогда еще нужда не брала Махмуда за горло так, как нынче. "Дальше некуда, — думал Махмуд, — дальше — погибель".
Солнце то пряталось за тучи, то выглядывало, то плыло в туманной пелене. Временами налетал ветер.
— Погода уже не та, — заметила Азиме.
Из старой, превратившейся в лохмотья одежды Азиме старалась выкроить штаны и сшить куртку для Вели, который уже ходил в третий класс.
Шумно хлопали крыльями голуби Али. "Эх, были бы у человека крылья!" — подумалось Махмуду.
— Послушай ты меня, — принялась за старое Азиме. — Давай уедем отсюда.
— Сколько раз тебе говорить, чтобы и не заикалась об этом?!
Азиме молча склонила голову. Махмуд вынул из кармана кисет, высыпал из него остатки табака и свернул цигарку.
— И табак, как назло, кончился.
Али свистел, гоняя голубей. Махмуд вспомнил Али Османа.
— Вот и Али Осман помер, — проговорил он.
— Погляди-ка, уж не Омар ли это идет, сын Султан? — сказала Азиме. Махмуд поглядел на улицу.
— Он самый.
Омар повзрослел, стал здоровенным парнем.
— Эй, Омар! — крикнул с крыши Али. — Ты когда вернулся?
— Утром.
— Омар, сынок, пусть все, что было, никогда не повторится! — встретил его Махмуд.
— Спасибо, дядя Махмуд! — ответил Омар, целуя руки Азиме и Махмуду.
На пороге показалась Эмине.
— Пусть все, что было, никогда не повторится, Омар! — приветствовала она его.
— Спасибо!
Али опрометью сбежал с лестницы и бросился к Омару. Рядом с Омаром он выглядел совсем мальчиком. И Омар, обнимая Али, несколько раз приподнял его, как маленького.
— Когда ты попал в тюрьму, мы все очень горевали. А твоя мать так убивалась, что, глядя на нее, самим плакать хотелось.
— Как увидала меня, в обморок упала, — рассказывал, посмеиваясь, Омар, — а потом пришла в себя и давай голосить. "Мать, — говорю ей, — чего слезы льешь? Пришел же я". А она знай причитает. Надоело мне, ну я и ушел, пусть выплачется.
Омар говорил, а сам то и дело поглядывал на Эмине. Его улыбка не нравилась Махмуду, казалась притворной.
В тот вечер Али, Мехмед — сын Телли — и еще несколько парней собрались в доме Омара. По случаю возвращения сына Султан зарезала трех кур и приготовила его любимые сладости. Но Омар сильно изменился. От прежнего почтения к матери у него не осталось и следа. Он, не стесняясь, пил водку, дымил сигаретой и то и дело называл ее "наша старуха". Матери стало больно при мысли, что сын не оправдал ее надежд и заботы от него не дождешься, А она-то думала, что наконец обретет покой и не придется ей больше гнуть спину под палящим солнцем. Да, совсем не таким хотелось ей видеть своего Омара.
Омар пел. Али подыгрывал ему на сазе. Лица парней, усевшихся полукругом у старенькой керосиновой лампы, покрыла испарина. Восторженными глазами они глядели на Омара. Допев песню, Омар крикнул, поднимая стакан:
— Ну, за нашу доблесть! — Вдруг он заметил, что у всех пусто в стаканах. — Видала, мать, в честь твоего сына пустые стаканы поднимают! Неужто я большего не заслужил?
— Твоя мама, сынок, в жертву себя принесет ради тебя. Я…
— Чем толковать о жертве, лучше деньжат подбрось!
— Я и жизни б для тебя не пожалела, не то что денег, но вы ведь уже достаточно выпили.
Презрительно сощурившись, Омар уставился на мать.
Султан достала все свои деньги, заработанные тяжким трудом, и протянула сыну.
Омар схватил сверток. Султан жалобно попросила:
— Оставь хоть немного, ведь скоро зима.
— Знаешь, пошла бы ты со своими деньгами! Или думаешь, я такой малости не заслуживаю?
— Омар, ведь зима на носу, а у нас даже соли нет…
— Ладно, кончай ныть! Надоело! — Омар повернулся к парням: — Пошли в кофейню Сабри.
Они ушли. Султан осталась одна. От горя она точно онемела.
В кофейне было пусто. Лишь в углу Халиль с Сулейманом пили чай. Оба тяжело переживали смерть Али Османа. А тут еще на ферме появился новый трактор. Халиль понимал, что его дела пошатнулись. Хозяин к нему тоже охладел. Сулейман пришел к печальному выводу, что ему не удастся ни уйти из деревни, ни осуществить заветную мечту — стать мелочным торговцем. Правда, стоило ему выпить стакан-другой, как у него снова вспыхивала надежда, что он обзаведется лошадью, купит туфли и тот необыкновенный пиджак, которому суждено навсегда остаться лишь мечтой Сулеймана.
— Прахом пошла наша жизнь, племянник, — заключил Сулейман.
Халиль кивнул.
В это время в кофейню ввалились Омар с товарищами.
— Селям алейкюм! — хором поздоровались они.
При виде Омара Халиль вспомнил детство, и на душе у него стало тепло. Все плохое с годами ушло из памяти, осталось только хорошее. Детство, незабываемые дни… Знай Халиль наперед, что после тех светлых дней придет его нынешнее жалкое настоящее, он, пожалуй, убежал бы куда-нибудь далеко-далеко…
Сабри завел граммофон. Звуки саза, эхом отдаваясь в сердце, брали за душу. И опять Халиль вспомнил былое и горькие утраты: Али Осман, Хыдыр…
Это была песня о нем, о его жизни, о его горестях.
…Ясный день в ненастье превращается. Чем же я судьбу прогневал, Что она со мной так расправляется?
В сплетении щемящих звуков всплыл светлый образ матери. Халилю почудилось, будто это его отец играет на сазе… Нищета Халиля была судьбой его родителей, потому и досталась ему в наследство. Халиль жил в той самой глубокой нищете, из которой не могли выбраться и они.
— Вот уж точно про нашу жизнь, — сказал Халиль.
Сабри открыл Омару и его дружкам бутыль водки, поставил на стол стаканы, принес миндаль, фисташки, каленый горох.
— Ну, Омар, давай рассказывай, как жилось в тюрьме, утром нам так и не удалось толком поговорить.
Омар уперся локтями в стол и, уставившись на Сабри, ответил:
— В тюрьме нашему брату лафа! Подумаешь, полтора года. Раз плюнуть. Девка нитку в иголку продеть не успеет. А для парня тюрьма — что дом родной. Верно?
— Верно! Дорога настоящего мужчины через тюрьму пролегает. Мало есть смельчаков, не побывавших в тюрьме. Я тоже сидел, тоже, как говорится, клейменый.
Омар поднял стакан.
— А ну, друзья, выпьем за нашу доблесть!
— За нашу доблесть! — Все осушили стаканы.
У Сулеймана слюнки текли, когда он глядел, как они пьют. Халиль же был грустен и задумчив. Песня кончилась. Сабри встал сменить пластинку.
— Поставь-ка еще раз эту! — попросил Халиль.
— Ладно. Тебе что, взгрустнулось?
Омар взглянул на Халиля:
— Давай присаживайся к нашему столу!
Халилю не нравилась развязность Омара. А ведь раньше Омар был ему по душе.
Когда они вместе служили в армии, Омар и Якуб почти всегда были с ним заодно. Теперь Халиль видел, что они с Омаром совсем разные и что Омар совсем не такой, каким казался в армии. Халиль понимал, что Омар пропивает деньги, кровью и потом добытые его несчастной матерью.
— Спасибо, Омар! Считай, что я уже с вами выпил. Засиявшее было лицо Сулеймана помрачнело.
— Пойдем-ка отсюда, племянник! — тихо сказал он, все еще косясь на стол Омара.
Омар поднялся и, упершись кулаками в стол, уставился на Халиля.
— Что же это получается, Халиль? Я тебя приглашаю, а ты отказываешься?
— Спасибо, Омар, но мне пора уходить. Дела у меня.
— Подойди, уважь своего друга, — стал уговаривать Сабри. — Вот и песню твою опять заиграли…
Халиль неохотно пересел за стол Омара. Ему тотчас пододвинули стакан, налили водки. Робко подошел Сулейман, тоже сел.
— Настоящий мужчина, — продолжал Омар, — не заставит дважды себя просить. Если товарищ скажет: "Иди!" — надо идти, скажет: "Пей!" — надо пить, хоть тебе яду нальют. Верно, Сабри-ага?
— Так, Омар, дело говоришь. Ну, выпьем за здоровье нашего Омара!
Вскоре открыли еще одну бутыль. Омар захмелел, и в голову ему стали лезть мысли об Эмине. Когда он узнал ее историю, то заявил: "По проторенной дорожке ездить легче".
Омар хлопнул Али по плечу:
— Ну, Али, начинай потихоньку, сыграй нам.
Глаза у Омара осоловели. Выражение лица было недоброе.
— Слушайте, кто-нибудь из вас уже переспал с Эмине? — вдруг спросил он.
Стакан застыл в руке у Халиля. Али перестал играть. Омар не понял, что ляпнул что-то не то, зато остальные, почувствовав неловкость, заерзали. Омар закрыл глаза, откинулся назад, ноздри его раздувались, как у жеребца.
— Так и чувствую запах ее тела, — процедил он, шумно втягивая воздух сквозь стиснутые зубы.
Халиль неподвижно смотрел на Омара, им овладевала ярость. Сабри взял Халиля за плечо и шепнул ему на ухо:
— Не обращай внимания, он пьян. К тому же, видно, не все знает. Иначе разве сказал бы такое?
Халиль поднялся из-за стола.
— Я пошел.
За ним поднялся и Сулейман.
Опасения Халиля были не напрасны. Сегодня об Эмине болтает Омар. Завтра распустят языки другие. Хлебнут водки и сразу вспомнят об Эмине. В кофейнях, за бутылкой вина, на завалинке, в пути — словом, везде, где не будет Халиля, будут трепать имя Эмине. А ведь чем черт не шутит, может, именно сейчас Эмине предается с кем-нибудь любовным утехам, а кто-то другой смакует подробности проведенных с нею ночей? Между тем Халиль прекрасно знал, что Эмине сейчас спит. Спит, жалкая и усталая, под стареньким одеялом.
Халиль сел на камень у порога. Он чувствовал, как стучит в венах кровь. Подошел Сулейман, молча сел рядом, свернул цигарку и протянул Халилю. Эта цигарка лучше любых слов говорила о дружеском участии Сулеймана. Больше ему нечего было дать Халилю. Он смотрел на друга глазами, в которых застыло горе. Его взгляд, его поникшие плечи, его лицо и даже манера курить, вся жизнь его и несбывшиеся мечты наводили на Халиля глубокую грусть. Он думал о том, что будет с ним самим, когда он доживет до лет Сулеймана.
В тишине раздался свисток сторожа Мусы, и на Халиля нахлынули печальные воспоминания. Он вспомнил Хыдыра, потом Али Османа. Сердце отказывалось верить, что этих двух людей нет больше в живых. Да еще Эмине!.. От этих мыслей хотелось плакать. Вспомнилось Халилю, как Али Осман разговаривал, как склонял при этом голову, как называл его когда-то "родной". Затем он мысленно сравнил Али Османа с Хыдыром. Ни тот ни другой не смогли пережить разлуки с близкими сердцу людьми. Любовь — это таящееся в душе человека чувство, будь то к женщине, к другу, к земле, к птице, — как зерно, попав на благодатную почву, расцветает. Любовь Али Османа была любовью друга. Ее взрастил Камбер. Любимой женщины в жизни Али Османа так и не было. Порой он мечтал о семейном очаге, о том, каким бы он чувствовал себя счастливым, будь у него пятеро детей. Али Осман понимал, что мечтам его не суждено сбыться, и все же вновь и вновь возвращался к ним — это помогало ему на время забыть окружавшую его убогую действительность. Если бы можно было представить себе всю жизнь Османа и нарисовать ее на листе бумаги, это была бы просто длинная-предлинная полоса. Монотонная, пустая, безрадостная жизнь! Похожая на ручей, в котором постепенно убывает вода. Такова была жизнь Али Османа и людей одной с ним судьбы…
Часть седьмая
ПРОЗРЕНИЕ
Дожди в долине Юрегира, как и беды, начнутся — не кончатся. Моросит мелкий дождь, нудный, будто ноющая боль. Как зарядит, так и льет без передышки. Люди чувствуют себя подавленными, беспомощными, такая апатия находит, что хоть вешайся! Отвратительное чувство усталости, не знаешь, за что взяться. Это, наверное, и называют смертельной тоской…
С того дня, как зачастили дожди, Халиль лишился сна. Хлев, к которому он за долгие годы привык, теперь вызывал в нем отвращение. Халиль чувствовал, что порвались путы его собачьей преданности хозяину. Стены хлева казались ему холодными и мрачными. Он лежал в этой мертвящей тишине наедине со своими мыслями, не сводя глаз с потолочных балок. Дервиш с Сулейманом тихонько беседовали в дальнем углу. Халиль слышал, как они несколько раз упомянули его имя, затем наступило продолжительное молчание, потом они снова заговорили о нем. Они осуждали его. Это он знал. В свое время и он осуждал Сулеймана за его намерение спастись бегством. Смехотворными казались тогда Халилю мечты Сулеймана о мелочной торговле. Теперь он понимал, что тогдашний мечущийся, мечтающий Сулейман был как бы второе "я" нынешнего Сулеймана. Вспомнились Халилю и слова, которые сказал ему Хыдыр, сидя на камне у порога хлева. Хыдыр говорил, что в тот самый час, когда у Халиля созреет решение уйти, никакая сила его не удержит. "Настанет день, и терпение твое лопнет", — предсказывал Хыдыр.
Халиль понимал, что этот день уже наступил, но никак не мог решиться уйти из деревни, отказаться от всего, что его окружало много лет. И теперь, не зная, как ему поступить, он лежал, уставившись в потолок пустым, бессмысленным взглядом.
Дервиш подошел к окну.
— Дождь, кажется, перестал.
Шорох дождя за закрытыми ставнями прекратился. Но еще слышно было, как вода торопливо стекает по трубам, как где-то дребезжит лист железа и время от времени под порывами ветра недовольно гудят деревья.
— Открыть окно, Халиль?
Халиль повернулся к Дервишу.
— Открой.
Поток свежего воздуха, ворвавшись в окно, заглушил запахи хлева. Халиль смотрел в темноту. Ему казалось, будто в напоенном дождем воздухе дрожат еле слышные, почти беззвучные стенания, словно воздух таит какое-то предзнаменование, словно сейчас произойдет что-то неожиданное! Халиль медленно поднялся и сел, подобрав под себя ноги. Вдруг он вытянул шею и замер, как собака, принюхивающаяся к следу. Он сразу сообразил, он сразу все понял. Ее имя чуть не сорвалось у него с языка. Дервиш и Сулейман с удивлением смотрели на Халиля.
— Что с тобой, племянник? — спросил Сулейман.
Халиль ничего не ответил, схватил шинель, спрыгнул с нар и быстрыми шагами вышел из хлева. Он прошел двор, открыл калитку. Чуть поодаль виднелся чей-то силуэт.
— Эмине! — Он приблизился к ней, протянул руку, коснулся ее лица. Оно было мокрое. И волосы были мокрые. С них капельками стекала вода.
— Эмине! Ты с ума сошла, Эмине!
— Халиль! Уведи меня отсюда! Куда хочешь, только уведи. Я насовсем к тебе пришла, видишь? С узелком. Уведи меня или убей, Халиль!
— Вот безголовая! Горе мое! Куда я тебя уведу? Куда я возьму тебя с собой в эту зимнюю пору? Разве ты не знаешь, что мне самому негде голову приклонить — ведь я сплю в хлеву, вместе со скотиной! Куда же я уведу тебя, куда?
— Куда хочешь, Халиль, только уведи, — повторяла Эмине. Ее била дрожь, слышно было, как у нее стучат зубы. — Халиль, голубчик! Все обзывают меня шлюхой, смотрят как на продажную, торчат у моей двери, точно кобели. Стоит кому выпить, он тотчас к нашему дому идет, пристает ко мне. Все началось с того дня, как вернулся Омар. Терпения больше нет. Я не могу смотреть людям в глаза, из дому не выхожу.
Эмине схватила Халиля за руку. Руки у нее были холодные как лед.
— Ты моя единственная надежда, Халиль.
Халиль набросил на плечи Эмине шинель.
— Ты совсем замерзла, простынешь. Ладно, иди за мной, горе ты мое!
Увязая в грязи, Эмине пошла за Халилем. Она пошла бы за ним даже в ад. Не задумываясь, ни о чем не спрашивая… Она шла, крепко прижимая к себе узелок, ее знобило. Все происходило совсем не так, как она когда-то мечтала. Было холодно, Эмине ежилась. Разве думала она, что они с Халилем будут уходить, шлепая по грязи? Она представляла себе землю сухой и мягкой, а небо — усеянным звездами и непременно с луной. В ее мечтах луна, не старея и не уставая, всегда висела в одном и том же уголке неба. А сейчас Эмине приходилось идти, по щиколотку утопая в липкой, размытой глине.
Они дошли до калитки виноградника. С веток им на голову падали крупные капли.
— Слушай, Эмине, вымой-ка ноги.
Они остановились у колодца с ручным насосом, и Халиль принялся качать воду.
— А узелок куда положить?
— На край сруба. Только смотри, чтоб в воду не упал.
Эмине сделала все, как велел Халиль. Положила узелок на сруб, вымыла ноги и башмаки.
— Если надеть сейчас башмаки, — бормотала Эмине, — они сразу запачкаются.
Она стояла босая на камне и дрожала: холод пронизывал ее насквозь. Халиль взял со сруба узелок и подставил спину:
— Залезай, горе ты мое, залезай!
Взяв в руку башмаки, Эмине забралась Халилю на спину. Земля на винограднике была мягкой, и Халилю было приятно идти.
Дверь сторожки была прикрыта. Халиль пнул ее ногой, вошел, спустил Эмине со спины. Потом запер дверь на крючок, закрыл окна и зажег спичку. В углу лежала куча хвороста: виноградные лозы, ветки деревьев. Свет постепенно стал сползать со стен — спичка догорала. Халиль зажег еще одну и попросил Эмине ее подержать.
Потом быстро набросал посередине сторожки листья, тонкие ветки и зажег. Сразу стало светлее, а на душе — спокойнее. Халиль с Эмине, следя, чтобы огонь не погас, то и дело подкладывали сучья потолще.
— Чего стоишь? Переоденься!
Халиль расстелил шинель, сел с краю и повернулся к Эмине спиной. Слышно было, как она раздевается, а потом, как одевается.
Переодевшись, Эмине разложила на куче хвороста мокрую одежду и села рядом с Халилем. Как она похожа сейчас на снявшую фату невесту! Ее глаза, не любившие никого, кроме Халиля, затуманиваются. Скрестив руки на груди, она ждет. Оба замечают, что их дыхание учащается. В крови все ярче разгорается пламя, оно ищет выхода. Все их помыслы сейчас устремлены к одному: быть вместе, дать друг другу частичку себя, испытать пьянящее блаженство, а потом растянуться на земле в сладком изнеможении. В сторожке становится теплее. Взяв Эмине за плечи, Халиль хочет привлечь ее к себе. Как неподатлива Эмине, как тяжело ее тело, словно мертвое. Стыдливая улыбка, за которой она прячет свое желание, ее взгляд и скованность охладили Халиля. Он опустил руки и повернулся к Эмине спиной. Но теперь Эмине прильнула к нему. Она стала легкой-легкой, как птица, и удивительно гибкой. Мягкой, как пух. И податливой, предупреждавшей каждое его движение. Халиль обнял Эмине своими большими руками. В тот миг во всем мире остались только они, сторожка, шинель да колеблющееся пламя костра. Страсть не умещается в их сердцах, как не вмещаются в ягоде живительные соки и разрывают кожицу. Влажные полуоткрытые губы, горячее дыхание, запах табака… Долгие поцелуи… Эмине закрыла глаза, она вздыхает, стискивает зубы, прерывисто шепчет: "Халиль! Халиль! Халиль!" — будто зовет не того, кто рядом, а кого-то далекого.
Лоб Халиля покрыт капельками пота, поблескивающими в широких складках морщин. Эмине трепещет в объятиях Халиля, все крепче прижимается к нему.
И вдруг их тела становятся тяжелыми, будто налитыми свинцом. Страсть прорвалась сквозь дыхание, сквозь жилы и покинула разгоряченные тела. Все стало бессмысленным, пустым, скучным и пресным… Теперь у жизни нет ни прошлого, ни будущего. Куда девалась красота их тел, волшебство их одухотворенных лиц, души опустели, осталась жизнь, мало чем отличающаяся от скотской, Эмине, потная, с лоснящимся лицом, с бессильно раскинутыми руками и мутными глазами кажется Халилю отталкивающей.
Оба словно оцепенели. Им даже не приходит в голову прикрыть наготу, утратившую свою притягательность. Какое некрасивое у Эмине лицо, какая невыразительная улыбка, взгляд. Где их недавнее очарование? Поистине, красота — это нечто способное пробуждать чувства. А эту способность в Эмине убили. Любовь, страсть — все сейчас кажется Халилю ненужным. Эти чувства умерли в нем. Осталась просто Эмине. Без прежней живости, без страсти. Она тяжело дышит, у нее пересохло в горле. Смущенно поднимается с земли, словно стыдясь того, что было. Если бы Халиль вдруг ушел сейчас, она побежала бы за ним, как собака за хозяином. Влюбленная и преданная… А почему, собственно, преданная? Разве у нее один Халиль? А те, другие?.. Халиль представил себе их картузы, большие голые ноги, большие руки, представил себе, как они ложатся в постель, их взгляд, которым они окидывают женщину, представил себе, как… Разве не спала с ними Эмине? Разве не улыбалась им той же самой улыбкой? Разве не отдала им частичку себя? Так вот откуда эта притворная стыдливость!..
— Немедленно проваливай отсюда! — вдруг вырвалось у Халиля.
Эмине съежилась. Глаза Халиля гневно округлились. Разложенная на хворосте мокрая одежда вызывала брезгливость. Халиль схватил Эмине за руку и отшвырнул к двери. Шнурок, который Эмине в этот момент затягивала на шароварах, выпал из ее рук. Эмине запуталась в шароварах и упала у самой двери, безобразно растянувшись. Казалось, в ней сосредоточилось сейчас все, что может сделать женщину неприятной. Халиль швырнул ей в лицо ее узелок. Эмине лежала, скрючившись, поджав под себя ноги и прикрывая руками искривленное страдальческой гримасой лицо. Пинком ноги в бок Халиль заставил Эмине распрямиться. Но только она хотела привстать, как получила пощечину. Это вывело ее из оцепенения, и она стала постепенно избавляться от страха. Встряхнулась, взгляд снова стал осмысленным. Еще пощечина! Волосы закрыли половину лица. Эмине невольно повернулась к Халилю и взглянула ему в глаза. Теперь ее лицо было лицом человека, способного противостоять самой смерти и в то же время презирающего смерть, — гневное и вместе с тем прекрасное. Эмине задыхалась от гнева. Ее губы, повлажнев, заблестели, в глазах была решимость.
Халиль постоял немного, успокоился и подложил хворосту в костер. Пламя вновь взвилось вверх. Лицо Эмине, только что казавшееся Халилю безобразным, горело яростью, и Халиль в который уже раз понял, что не в силах отказаться от Эмине, что нет ему без нее жизни. Именно такой он любил Эмине. Вот с такими гневными, блестящими глазами. Он схватил ее за руку и потянул к себе.
Дождь забыл, совсем забыл, что должен идти. Он даже забыл, что скоро наступит утро. Прислонившись спиной к куче хвороста, Халиль сидел, держа Эмине в объятиях. Она еще ребенок. Истерзанная, измученная, не знавшая ни детства, ни ласки девочка, которую никогда не водили за руку гулять, которой никогда не покупали красных башмачков, — та маленькая Эмине тихонько плакала, но ни разу никому не пожаловалась и не сказала, что ей хочется, очень хочется разноцветных леденцов… Что за руки у Эмине, что за глаза, что за волосы! Все его мысли сейчас об Эмине. Только о ней… Скоро утро. В окне — небо, но до чего оно темное!.. В их доме на окнах будут занавески из цветного ситца. У порога — веник, во дворе — утка и селезень с зелено-желтыми крыльями… Нет, он сейчас может думать только об Эмине! Какая она чистая, неиспорченная, какая грустная, тихая! Как она мокла под дождем, дожидаясь его, а как любит! Трудно поверить, что, уйди она, ушла бы навсегда. Но она здесь, рядом. Она лежит, прижавшись к его волосатой, жесткой груди. Лежит, чувствуя его дыхание, в котором сама жизнь, молодость и сам Халиль — Халиль, порой внушающий другим такой же страх, какой внушает одиночество. Он и есть одиночество, потому что он все время без Эмине… Уже видно, какого цвета стены, торчащие из них гвозди, сухая ветка груши. Вот-вот наступит утро.
— Увел бы ты меня, Халиль, чтобы мне никогда не возвращаться домой!
Халиль курит, глядит на Эмине и улыбается так, словно больше не будет утра и ночь эта будет длиться вечно.
— Я наложу на себя руки, Халиль.
— Думаешь, это легко?
— А ты будешь горевать?
Халиль кивает.
— И плакать будешь?
Халиль снова кивает.
— Сильно будешь плакать?
— Сильно.
— Зато ты избавишься от меня, да?
Халиль опять кивает.
— Избавлю я тебя, Халиль, от всех твоих несчастий. Избавлю, увидишь!
Эмине приподнялась, поцеловала Халиля, потом укусила. Халиль легонько шлепнул ее по щеке.
— До сих пор, Халиль, ты бил меня, дай-ка теперь я разок тебя ударю.
— Ударь!
— Но ты меня побьешь.
— Не побью.
— А если побьешь?
— Ей-богу, не побью.
Пощечина. Звучная пощечина. Это Эмине ударила Халиля.
— Больно, Халиль?
У Эмине заныло сердце, заныло так, как ноет сердце матери. Она потерлась щекой о щеку Халиля, поцеловала его.
— Напрасно я ждала тебя, Халиль. Все ночи впустую прождала. Ты же обещал подать мне знак, засвистеть под окном песенку "Зелло". Взяла бы я тогда свой узелок, и мы ушли бы…
— То дело старое.
— Значит, прошло?
— Прошло.
— Но если я умру, ты будешь плакать. Правда, Халиль? Только не долго. Поплачешь неделю, другую, и забудешь. Может, даже уйдешь из этих мест, да? Непременно уйдешь, чтобы забыть меня.
Забрезжило утро. Эмине поднялась, надела успевшие подсохнуть башмаки, взяла под мышку узелок, и они вышли из сторожки.
Расстался Халиль с Эмине у ее дома, и сразу на душе у него стало тяжело. Почему-то казалось, что он никогда больше ее не увидит. Халиль долго смотрел на угол, за которым скрылась девушка. Смотрел и чувствовал, как болит сердце ее болью, ее страданиями. Только сейчас он понял, каким был жестоким с Эмине, каким слепым, не видел, что ее больше бьют, чем любят. Теперь Халилю стало казаться, что отвернись он на миг — и ее уведут. Она как волна, думал Халиль, которая, пенясь и шумя, ударяется о берег и, словно застыдившись, убегает назад. Ушла Эмине, исчезла, как ударившаяся о берег волна.
И кто это научил собак выть — вот так, задрав голову к небу? Грязная, намокшая под дождем и сбившаяся шерсть отдает гнилью. Лапы черны от грязи. Дождь все еще моросит. Ему нужно дотянуть до лета, потому он такой мелкий. Надоел он птицам, надоел курам. И людям. Упрямый, он идет лишь для самого себя, для собственного удовольствия. Идет беспрестанно. Тоненькими длинными ниточками.
В хлеву душно. Воздух тяжелый, спертый. Животные и люди, как всегда, мирно живут под одной крышей, ни разу не нарушив за долгие годы установившейся между ними дружбы. Только кое-кого уже нет. Нет Хыдыра и Али Османа. Умерли они. Нет Камбера. Он уехал. Продали несколько волов и мулов.
Халиль спит. Дервиш стоит у окна, латает свою вконец истрепанную полотняную куртку в белую и синюю полоску. В руках у него огромная ржавая игла с черной ниткой, а цвет заплаты не имеет ничего общего с цветом куртки. В ушах стоит привычный шум дождя. Если бы дождь вдруг прекратился, Дервиш наверняка бы почувствовал, что ему чего-то не хватает.
Сонные мухи сидят часами на одном месте, не заигрывают друг с другом, даже не жужжат. Они совсем обессилели. Время от времени слышится возня привязанных к яслям лошадей или мулов, стук копыт.
Но вот непривычно медленно отворяется дверь. Входит бледный, точно мертвец, Сулейман. Вслед за ним в дверях возникает голова Мухиттина и тут же исчезает.
— Где ты пропадал, Сулейман? — спрашивает Дервиш.
Сулейман с таинственным видом подносит палец к губам.
— Тс-с-с! — произносит он, показывая на Халиля.
Сулейман приближается, и Дервиш шепотом спрашивает:
— Говори же, что случилось?
— Тс-с-с!
— Что случилось, я тебя спрашиваю?
Сулейман опять смотрит на Халиля, а затем объявляет:
— Эмине повесилась…
— Что-о-о?!
— Повесилась.
— Когда?
— Нынче утром.
— Да ты что?
Они сочувственно смотрят на Халиля.
Халиль лежит с закрытыми глазами, но не спит, он так и не смог уснуть. Он слышит все, о чем они говорят.
— Повесилась… — повторяют они.
Щемящая боль разливается по груди Халиля, сжимает его сердце. Халиль чувствует, как немеют его руки и ноги, тело больше не повинуется ему. Глаза заволакиваются слезами, он плачет… Теперь он — брошенная в воду соломинка.
— Повесилась… — снова говорят они.
Какими бессмысленными и ненужными кажутся Халилю потолочные балки, паутина под ними, лошадиные хвосты. Вдруг расчирикались воробьи — да так, словно в мире никого, кроме них, больше нет. Да, все осталось прежним: и существа, населяющие землю, и деревья, и цветы. Но ведь повесилась Эмине, покинула землю еще одна человеческая душа! Мучительное чувство пустоты. Но это у Халиля, у одного Халиля. Где же успокоение, где то самое избавление, на которое он так надеялся? Привыкать к жизни без Эмине? Как? А почему листья на некоторых деревьях окрашиваются осенью в красный цвет? Вот и жестянка покрылась ржавчиной. Халиль долго размышляет об этом, как будто между самоубийством Эмине и ржавчиной есть какая-то связь.
— Как сказать об этом Халилю? — спрашивает кто-то.
Халиль ясно слышит эти слова, повторяет их про себя: "Как сказать об этом Халилю?" Вставать не хочется. Отяжелела голова. А каким твердым вдруг стал матрац! Халилю страшно пошевельнуться, страшно вздохнуть, страшно открыть глаза.
Дервиш и Сулейман тихонько вышли. Халиль прислушивается — нет, не слышно, чтобы Дервиш с Сулейманом о чем-нибудь говорили. Наконец, сделав над собой отчаянное усилие, Халиль приоткрывает глаза. Сам не зная для чего, он внимательно осматривает хлев. Пусто… С подоконника беззвучно сползла и упала на пол оставленная Дервишем куртка.
— Зачем ты это сделала, Эмине? — шепнули его губы. Он сейчас казался себе низким и омерзительным.
Может, пойти к ее дому и стоять там? Стоять часами? Нет, на это у него не хватит сил. Как он посмотрит в глаза Длинному Махмуду?
Вдруг на память ему пришла знахарка из Чалганлы. Крашенные хной волосы. Низко склонив голову, Эмине стоит и слушает, что говорит старуха.
Вспомнил Халиль и то, как оскорблял Эмине, как стегал ее кнутом… Зачем он бил ее, зачем измывался над ней? Не затем ли, чтобы она, словно ей было мало своего горя, одиночества и страданий в этом огромном мире, унесла с собой и его горести? В этом огромном мире… Сколько в этом мире живет разных насекомых! Больше всех Халиль любит божьих коровок. Потому что они совсем маленькие. На каждом шагу их подстерегает смерть. Они и под колесами гибнут, и под копытами лошадей. Божьи коровки красные в черную крапинку, но хрупкий панцирь не спасает их от гибели. Они любят жить целыми колониями и непременно в сырых местах. Селятся они обычно под камнем. Наверное, чтобы укрыться от мирской суеты. Там они и умирают… Никому не жалуясь, ни на что не сетуя, тихонько умирают. Впрочем, никто не знает об их существовании. Убить божью коровку — нет ничего проще. Каждый может ее убить. Даже ребенок. Халиль сам не знает, за что любит божьих коровок. Они красные в черную крапинку. До чего же они быстро умирают…
Эмине была душой его жизни, а он и не знал. Жизнь без нее пуста, он и этого не знал. Ничего он не знал, кроме того, что у него усы и грозный вид. Характер у него задиристый, и он вечно ввязывается в драки… Ох, Эмине! Нет крова над головой — бей Эмине! Нет денег — калечь Эмине! Он считал Эмине плохой, а люди считали плохим его. Но на деле Эмине была для Халиля самым близким человеком, с ней он мог обуздать свое упрямство, свою злобу, свой гнев. Эмине была для Халиля всем… Но этому положила конец простая веревка. Веревка… Она унесла Эмине, навеки унесла. Неужели это правда?
Мухи вдруг будто проснувшись, зажужжали, их жужжание невыносимо… без Эмине!
Прошло, должно быть, немало времени, может быть, целый день. Халиль лежал не шевелясь, не в силах собраться с мыслями, не выходя из оцепенения. Придет весна, расцветут розы, нарциссы, но в их аромате Халилю не будет хватать Эмине… Халиль нарвет цветов и отнесет к ней на могилу…
Вдруг послышался какой-то шум, голоса. Запел петух. Это, конечно, белый петух. Открывается дверь. Входит Дервиш. Начинает искать свою куртку и находит ее на полу. Качая головой, поднимает ее и снова принимается латать. Затем смотрит на Халиля. Халиль лежит грустный, с открытыми глазами.
— Ты спать еще будешь, племянник?
Халиль не ответил.
— Халиль, наш Араб Сейфи вернулся.
— А Эмине?
— Какая Эмине, племянник?
— Ну Эмине, моя Эмине.
Дервиш с удивлением уставился на Халиля.
— А что с ней?
— Она повесилась.
Дервиш вскочил с места.
— Да ты что!
Шумно распахнулась дверь, и в хлев ввалился радостный Сулейман.
— Да вставай же ты наконец, племянник! Наш Сейфи заявился, Араб Сейфи. Он ждет тебя в кофейне Сабри. Хватит дрыхнуть, вставай! Видел бы ты, какого он петуха принес!
Пораженный их бессердечностью, Халиль молчал.
— Не заболел ли ты, племянник? Ты чего такой бледный?
Дервиш сокрушенно посмотрел на Сулеймана. Халиль продолжал лежать, уставившись в одну точку. Потом веки его дрогнули, он закусил губу и снова погрузился в раздумья.
— Что с тобой творится, племянник? — спросил Сулейман.
Халиль молча слез с постели, надел сапоги и так же молча вышел. Вскоре послышался шум колодезного насоса.
— Что это с ним? — недоумевал Сулейман.
— Эмине, говорит, повесилась.
— Что?
— Эмине…
— Чертовщина какая-то. Я же только что ее видел, вот сейчас, когда сюда шел.
Дервиш растерянно посмотрел на Сулеймана.
Сейфи окружили крестьяне. В руках он держал неказистого петуха с голой, без единого перышка, шеей. Птица походила больше на грифа, чем на петуха. Люди смотрели и только диву давались.
— Пять лет, ровно пять лет прошло с того дня, братцы мои, как ушел я из деревни. За пять лет всю страну обошел вдоль и поперек. И в Антепе был, и в Мараше, и в Урфе. Переходил с места на место, с работы на работу. Частенько голодал, даже нищенствовал, но в конце концов нашел то, что искал. — Сейфи посмотрел на петуха и поцеловал его в голую шею. — Так вот, друзья, жизнь моя зависит от этого петуха. Честь и достоинство мои от него зависят. Одолеет он петуха Дурмуш-аги — я о своих горестях и не вспомню. А хозяйского петуха на глазах у всего народа зарежу и по кусочку всей деревне раздам. Такой я дал себе зарок, потому что из-за этого проклятого петуха Дурмуш-ага меня избил и мне уйти пришлось… — Тут Сейфи заметил в дверях Халиля, прервал рассказ и кинулся ему навстречу. — Халиль, брат мой, орел мой! — Он сунул петуха себе под мышку и одной рукой принялся обнимать старого друга.
Халиль выглядел усталым и потерянным.
— Помер, значит, дядя Али Осман, да, Халиль? — грустно спросил Сейфи.
Халиль кивнул.
— И Хыдыр помер?
Халиль снова кивнул.
— А Камбер уехал?
— Уехал.
— А что ему, Халиль, оставалось делать? Скажи, что? Батраки, Халиль, настоящие рабы. Они даже не крестьяне, они — ничто. Я спасся, и да спасет аллах всех нас! За эти пять лет, Халиль, я много разных работ перепробовал. Если все рассказать — удивишься, а то и не поверишь. Чего только не бывает на белом свете, Халиль! Одним аллах дал землю, другим — беды, богатому — густо, убогому — пусто. Богатые смеются, а бедные плачут. Что же оставалось Камберу делать? Ну да ладно! Ты лучше скажи, что у тебя хорошего. Здоров?
— Здоров.
— А выглядишь ты, Халиль, плохо. Что с тобой? Почему ты такой бледный?
— Не обращай внимания!
Говорил Сейфи живо, бодро, во всем его облике, во взгляде чувствовалась уверенность.
— А у тебя как дела? — спросил Халиль.
— У меня, брат, дела лучше всех, — ответил Сейфи, положив руку Халилю на плечо. — Здоровье, можно сказать, железное. Ну, ладно, посидели, поговорили, и хватит. Теперь, Халиль, слушай, что я сейчас сделаю. Пойду к Дурмуш-аге. Я ему покажу, как из-за какого-то петуха избивать человека! Пока во мне теплится душа, мне, брат, не забыть тех пощечин. Горечь та дошла до самого сердца. Жаль, я его самого избить не могу. Я и замахнуться на него не посмею. Не то угробят меня, со свету сживут. Это уж я точно знаю. И ни у кого защиты не найдешь. Потому что, Халиль, нет у нас заступника, а раз нет заступника, нас и слушать никто не станет. Попробуй пожалуйся — сам виноватым и останешься. Но если мой Кельоглан[37] одолеет его красавца петуха, считай, что это я хозяина избил. Лишь тогда я успокоюсь. Об этом я мечтал с того дня, как ушел отсюда. Спать с этими мечтами ложился и с ними же вставал. Голодал я, сильно голодал, но по курушу копил деньги и в конце концов купил вот этого петуха. Потому что и мы люди, и у нас есть сердце, верно, Халиль? А им, видишь ли, на нас наплевать. Затем, брат, я и пришел сюда, чтобы доказать им, что и у нас есть сердце. Ты понимаешь меня, Халиль, понимаешь, брат?
Халиль кивнул. От слов Сейфи ему стало еще тяжелее. И в то же время в нем просыпалось пока еще смутное чувство протеста.
— Вообще-то, Халиль, все мы люди — хозяин тоже человек. Вот и пусть мой Кельоглан поучит хозяина человечности. Кельоглан, как и мы, бедняк бедняком. Ты посмотри на него, Халиль. Он такой же голодранец, как мы. У нас одежды нет, а у него — перьев… К тому же Кельоглан похож на меня, а белый петух — на Дурмуш-агу. Ты присмотрись хорошенько. Правда он на меня похож?
Сейфи снова чмокнул петуха в шею.
— Прямо сейчас мы с Кельогланом и пойдем. Что ты на это скажешь, Халиль? Все! Пошли! Ну, была не была!
Сейфи направился было к двери, но вдруг остановился.
— Нет, прежде надо бы водички попить.
Кто-то побежал и принес Сейфи воды. Напившись, он обвел взглядом всех по очереди.
— Друзья, молитесь, все молитесь, чтобы Кельоглан наш победил. Потому что Кельоглан такой же бедный и голый, как все мы.
Люди расступились, давая дорогу Сейфи. Он шел, поглядывая на толпу: изможденные лица, засаленные картузы, истрепанные пиджаки, печально склоненные головы, большие желтые зубы, тонкие шеи детей, босые ноги… Сабри накинул на себя шинель, запер кофейню и последовал за Сейфи. Все шли по улице гуртом. Толпа разрасталась. Замелькали новые лица, новые картузы. Несмотря на грязь и дождь, толпа росла. Вскоре вся деревня уже знала историю Сейфи. В глазах людей он сразу стал героем.
Толпа остановилась у дома Дурмуш-аги. А люди — с накинутой на голову мешковиной, босые, худые — все подходили и подходили.
В двери показался Дурмуш-ага со своим братом Хусейном. В новой шинели Дурмуш-ага выглядел еще солиднее. С сигаретой во рту, он остановился на пороге и спросил:
— В чем дело, народ? Чего это вы вдруг собрались?
— Я вернулся, хозяин, — отвечал Сейфи. — Или не узнал меня? Я Араб Сейфи, тот самый Араб Сейфи, которого ты избил.
— Вернулся, ну и ладно, а мне что до этого?
Сейфи обеими руками поднял высоко над головой своего голого петуха.
— Видишь его, Дурмуш-ага? Так вот, пришел я, чтобы этот петух побился с твоим. Звать его Кельогланом. Кельоглан должен расквитаться за те пощечины, которые ты дал мне пять лет назад.
Глядя на общипанного петуха, Дурмуш-ага рассмеялся.
— Это он должен расквитаться?
— Он самый.
Дурмуш-ага снова засмеялся.
— Эй, Сейфи, да ты, я вижу, так и не набрался ума-разума. Придется еще раз вправлять тебе мозги — бить, пока рука не устанет. Правильно я говорю, люди?
Никто не проронил ни слова. Только брат Дурмуш-аги, Хусейн, противно захихикал.
— Бить, хозяин, ты умеешь, — ответил Сейфи. — Это я по себе знаю. А вот твоему петуху моего Кельоглана не одолеть. Кишка у него тонка!
— Кто сказал, что у него кишка тонка?
— Я говорю! Вот двор, вот петух, а вот я…
Дурмуш-ага окинул Сейфи таким взглядом, словно перед ним был не человек, а мразь.
— Ты соображаешь, Сейфи?! Чтобы мой петух бился с твоим плешивцем?! Чтобы я имел с тобой дело на равных?! Да ты вообще кто такой?!
Сейфи вздохнул:
— Я пять лет ждал этого дня, хозяин. Если надеешься на своего петуха, чего отказываешься?
Дурмуш-ага окинул оценивающим взглядом петуха Сейфи и решил, что повода для беспокойства нет.
— Ладно, Сейфи, если тебе так уж неймется, пусть наши петухи схлестнутся. А сколько ты ставишь?
— Тридцать лир!
— Тридцать лир? — Дурмуш-ага презрительно расхохотался. — Да разве это деньги? Гони пятьсот лир, тогда устроим бой. Не жалей, раз ты так уверен в своем петухе.
Сейфи облизнул сухие губы.
— Нет у меня, хозяин, таких денег. Все, что у меня есть, это тридцать лир.
На какой-то миг Сейфи задумался, словно соображал что-то про себя.
— Да, денег у меня, хозяин, нет. Но давай вот как сделаем. Пусть петухи наши бьются. Если мой проиграет, я на этом дереве повешусь. Ну и тридцать лир моих, само собой, тебе останутся. Если мой выиграет, я твоего зарежу. Ничего у тебя не попрошу — только петуха!
Глухой ропот прокатился по толпе.
— Не пойдет! — отвечал Дурмуш-ага. — Выкладывай пятьсот лир!
— Помилуй, хозяин, ведь я голову свою ставлю в заклад. Проиграю — зарежь меня, уложи, как овцу, и зарежь. Говорю тебе это при народе. Хочешь — бумагу подпишу.
— Деньги, деньги и только деньги! — стоял на своем Дурмуш-ага.
— Ну нет у меня денег. Я голову ставлю!
— Что мне, болван, делать с твоей грязной башкой? Деньги выкладывай!
Дурмуш-ага скалил зубы, наслаждаясь беспомощностью Сейфи. А Сейфи, опустив голову, весь сжался, как будто даже ростом стал ниже. От недавней уверенности не осталось и следа.
— Нет у меня денег, хозяин, — сказал он удрученно и повернулся к народу. — Не пригодился мне, друзья, мой голошеий Кельоглан. Все в деньги уперлось. До стольких лет дожил, а пятисотлировой бумажки ни разу не видел, даже не знаю, какого она цвета. И до конца дней своих, видать, не узнаю. Ну, люди, простите меня за все, Сейфи путь-дорога зовет. Стоит в дело вмешаться деньгам, и меч наш становится тупым. Ну да ладно! Прощайте!
С виноватым видом крестьяне расступились. Сейфи зашагал прочь. Проходя мимо Халиля, он остановился:
— Не поминай лихом, Халиль! Теперь уж навсегда ухожу.
Халиль низко склонил голову, Сейфи по-дружески похлопал Халиля по плечу и пошел дальше.
Стоявший позади толпы Сабри схватил Сейфи за руку.
— Постой, Сейфи! Куда это ты?
Сейфи остановился, посмотрел Сабри в глаза.
— Я голову свою ставил — не приняли, а денег у меня нет. Что ж мне после этого делать? Пойду куда глаза глядят. Без денег, Сабри-ага, ничего не получается.
— А ты, Сейфи, крепко надеешься на своего петуха?
— Если бы не надеялся, разве вернулся бы, разве посмел бы с хозяином потягаться?
К Сейфи подошел сторож Муса:
— Слушай, Сейфи, могу дать тебе десять лир. Слышь, десять лир — от меня!
Кавалджи Хасан шмыгнул носом, поморгал слезящимися глазами.
— Сынок, Сейфи, и я тебе денег дам. Их у нас немного, но все отдам тебе, сынок. Они у нас на пропитание отложены. Коли проиграешь — голодными останемся, ну а выиграешь — отдашь. Договорились?
Сейфи смахнул набежавшую слезу.
— И я дам, Сейфи, — сказал Телли Ибрагим.
Из толпы послышались голоса:
— Голодать будем, а тебе дадим. Только бы они впрок пошли.
— И я даю. Пять лир — от меня!
— Кельоглан такой же голый, как и мы.
— И на меня рассчитывайте!
— Так давайте начнем собирать!
— Ну, Сейфи, не волнуйся. Сколько не хватит — я доложу! — воскликнул лавочник Сабри и обернулся к крестьянам. — Несите кто сколько может. Не хватит — я добавлю. Несите же скорее!
Люди кинулись по домам за деньгами. Дурмуш-ага, не ожидавший такого оборота, растерянно поглядывал по сторонам.
— Дурмуш-ага, — обратился к нему Сабри, — будет у Сейфи пять сотен. А ты-то, хозяин, готов?
— Я всегда готов, всегда!
— Ну а петух твой готов?
— Не твоя забота! — раздраженно ответил Дурмуш-ага.
Вскоре те, кто ходил домой, вернулись с деньгами и протянули их Сабри. Лавочник достал записную книжку и стал отмечать кто сколько дал. Набралось четыреста десять лир. Остальное он доложил.
— Все в порядке! — объявил Сабри.
Сейфи наклонился к петуху:
— Видал, дорогой мой Кельоглан, как быстро люди деньги собрали, а ведь это деньги на хлеб. Ну, родной, не оплошай, на тебя вся надежда.
— На, Сейфи! Бери деньги! — сказал Сабри и выложил на ладонь Сейфи требуемую сумму. Тут были и монеты, и ассигнации.
Сейфи поднял деньги высоко над головой и крикнул:
— Вот они, деньги, хозяин! Теперь и ты выкладывай! Передадим их стороннему лицу.
Дурмуш-ага чуть не подскочил на месте, словно его кулаком огрели.
— Что значит стороннему лицу? Может, ты мне не доверяешь?
— Доверять — доверяю, но для порядка так будет лучше. Кто победит, тому тысячу лир и отдадут.
Дурмуш-ага не удостоил Сейфи ответом, но Хусейну все же велел принести деньги. Не прошло и минуты, как Хусейн вернулся.
— Давайте отдадим деньги сторожу Мусе, — предложил Сейфи.
Услыхав это, Муса испуганно запротестовал:
— Что хотите со мной делайте, только не надо мне такой чести!
В толпе раздались смешки.
— Вы что, не нашли более достойного человека? — забурчал Дурмуш-ага. — Да Муса в жизни своей не видал таких денег. Были бы у него пятьсот лир, разве удрала бы от него жена?
Муса побледнел, у него задрожали руки. Он пятился назад, приговаривая:
— Бога ради, не путайте меня в это дело! Хотите — старосту позову, ему и вручите деньги, хотите — Бибиходжу или учителя.
Дурмуш-ага подбежал к нему и, схватив за воротник, рявкнул:
— Деньги будешь держать ты, и только ты, даже если сдохнешь с перепугу. Подставляй руки!
— Хозяин, ради всего святого, не невольте!
— Подставляй руки, живо!
— Боязно мне, хозяин! Не надо!
— Да я тебя! — прикрикнул Дурмуш-ага. — Ну! Чего испугался? Хоть раз настоящие деньги подержишь! Но помни: хоть куруш пропадет — шкуру сдеру! Эй, Сейфи! Отдай ему деньги… У тебя, значит, будет ровно тысяча лир…
Дурмуш-ага и Сейфи отсчитали на ладонь Мусы по пятьсот лир. Мусу со страху била дрожь. Сын Мусы, Али, и стоявший рядом с ним Омар внимательно следили за происходящим и, стиснув зубы, молчали.
— А судьей, хозяин, кто будет? — спросил Сейфи.
— Какой там еще судья? — отмахнулся Дурмуш-ага. — Все, кто здесь, и есть судьи.
— Давайте я буду, — крикнул кто-то из толпы.
Все оглянулись. Это был мясник Абдуллах.
— Ладно! — согласился Дурмуш-ага.
— Чего далеко ходить? Вот здесь и устроим. — Абдуллах показал рукой на двор. — Согласны?
Сейфи отрицательно покачал головой:
— Где такое видано, Абдуллах-ага? Известно, что петух никогда не выйдет из боя, если бой на его дворе. Костьми ляжет, а не выйдет. Не хотелось бы мне, чтобы мой Кельоглан здесь бился. Лучше пойти во двор Мехмед-аги или Ходжи.
— Ерунда все это! — высокомерно бросил Дурмуш-ага.
— Нет, не ерунда, хозяин, — ответил ему Сейфи. — Не положено петуху биться на своем дворе. Я не ребенок, чтобы этого не знать.
Дурмуш-ага обозлился, но, пересилив себя, махнул рукой:
— Ладно, где хочешь, там пусть и дерутся. Пока еще мой Белый ни из одного боя не убегал… И чего это черт меня дернул у тебя на поводу пойти? И вообще, кто ты такой, чтобы я тебя боялся? Или, может, ты решил, что я испугаюсь твоего паршивого петуха?
Молчание Сейфи еще больше разозлило Дурмуш-агу.
— Ты что, позабыл, как недавно, точно ишак, на меня работал, а? Что вол, что ты — одна цена в моих глазах. Но раз уж вырвалось у меня слово, раз я согласился, то так тому и быть! А вот вести разговоры с такой мелюзгой, как ты, я не намерен.
— Дело не в том, хозяин, кто я. Дело в другом. Я пять лет по всей Турции мыкался. Узнал, что такое и голод, и холод. И все ради того, чтобы до нынешнего дня дожить. Ждал я его и, слава аллаху, дождался. Тебе отомстить я не могу, силенок не хватит, зато мой Кельоглан отомстит. Если еще не передумал — пойдем, сам увидишь.
— Не из тех я, кто передумывает. Да и что для меня пятьсот лир? Денег у меня, сынок, куры не клюют. А вы, голодранцы, лучше бы о себе подумали. Всей деревней паршивых пятьсот лир с трудом наскребли.
— Ну, люди, пошли! — сказал Сабри и первым-зашагал.
— Пошли! — раздались голоса.
Народ расступился, давая дорогу Дурмуш-аге.
— Эй, Халиль! — позвал хозяин.
— Слушаю!
— Сходи принеси моего петуха! — Дурмуш-ага двинулся вперед, толпа повалила за ним.
Не обращая внимания на моросивший дождь, все собрались на дворе Мехмед-аги. Несколько богачей попыхивали сигаретами под зонтами, которые держали над ними слуги. Сторож Муса с испуганным лицом обеими руками прижимал к груди заложенные за пазуху деньги. Тут же, за спиной Дурмуш-аги, неподвижно стоял Халиль с зонтом в руке. Он не сводил глаз с площадки, где уже начался петушиный бой…
Оба петуха, на лету расправляя крылья, разом взметнулись и сшиблись. Сцепились в воздухе, упали на землю, вытянули шеи, закружились, выбирая удобный момент для нападения на противника. Белый распушил перья, и они ершистым щитом встали у него на шее. Кельоглан рядом с ним выглядел жалко: шея у него была без единого перышка. Петухи снова сцепились. Глядя, как Белый колошматит Кельоглана, Дурмуш-ага злорадствовал, словно петух его бил не петуха Сейфи, а собравшихся во дворе батраков.
— А ну давай, Белый! — кричал Дурмуш-ага. — Наподдай этому слабаку. Смешай их всех с дерьмом!
Кельоглан сник, гребешок его кровоточил. Крестьяне приумолкли. Облезлый, неудачливый петух напоминал им их самих.
— Плакали наши денежки, — заметил кто-то.
— Дети без хлеба останутся!
Кельоглан между тем все больше слабел. Сам он не нападал, стоял на месте, покачиваясь, и тяжело дышал.
Белый тоже устал. Наконец Сейфи с одной стороны и Дурмуш-ага с другой схватили своих петухов и стали вытирать с них кровь.
Сейфи нежно гладил Кельоглана, тихонько шептал ему:
— Ну, Кельоглан, дорогой, не опозорь меня. Люди последние гроши свои отдали, хлебушек у деток своих отняли.
Он похлопал Кельоглана по спине и опустил на землю.
Бой возобновился, но шел вяло — бойцы устали… Белый наносил Кельоглану удар за ударом, а тот даже не сопротивлялся. Голова его от крови стала ярко-красной и влажно блестела. Лица батраков все больше мрачнели.
— Бей его! Бей! — выкрикивал Дурмуш-ага. — Эй, Сейфи, и зачем тебе, дураку, было колесить по всей стране из-за такого слабака!
Понурив голову и крепко стиснув зубы, Сейфи ругался в душе. Глаза людей были устремлены на него, одни смотрели с грустью, другие — сочувственно, а некоторые — сердито. Кельоглан, казалось, еле держится на ногах. Он стоял, разинув клюв, почти не двигаясь, покорно снося удары Белого. Исход боя уже не вызывал сомнений.
— Врежь этому чучелу справа! Он вот-вот свалится. Справа бей его! Справа!
Крестьян особенно удручало то, что Кельоглан не хочет драться. С первых минут боя они смотрели на него с жалостью, сочувствовали ему. И чего он ждет, почему перестал нападать сам? Стоит, обливаясь кровью. И все же где-то в глубине души у людей еще теплилась надежда: "А вдруг!.." Оба петуха устали. Кельоглан прижался шеей к Белому и так и стоял.
— Твой петух, Сейфи, сейчас свалится. Гляди! — торжествующе крикнул Дурмуш-ага.
Сейфи подбежал к петуху, подхватил его, стал вытирать кровь. Дурмуш-ага тоже вытирал своего петуха. Сейфи поцеловал Кельоглана, погладил.
— Вся надежда на тебя, ненаглядный. Все за тебя болеют. Смотри, смотри, ты только посмотри на них, Кельоглан. И на детей их посмотри.
Крестьянские дети стояли грязной, убогой кучкой. Из-под мокрых картузов выглядывали осунувшиеся, потерявшие надежду лица. На глазах у некоторых блестели слезы.
— Пускай, Сейфи, петуха! Пора кончать! — закричал Дурмуш-ага и подтолкнул своего Белого.
Собравшись с последними силами, оба петуха рванулись друг к другу. И снова схватились в воздухе. И вдруг Кельоглан словно проснулся, налетел раз, затем еще раз… Дурмуш-ага забеспокоился, встал. Крестьяне оживились.
Теперь Кельоглан перешел в наступление. Он наносил удар, выжидал и бил снова. Дурмуш-ага схватил Белого, вытер с него кровь, дунул ему в клюв, погладил.
— Что с тобой, сынок?
Сейфи подбадривал своего петуха:
— Давай, Кельоглан, давай! Мы с тобой столько дорог прошли, столько настрадались. А сколько людей надеются на тебя! Ты на них погляди…
Кельоглан выбежал на середину и тотчас нанес Белому удар, потом еще! Каждый удар приводил крестьян в восторг. Когда же Кельоглан замирал, крестьяне умолкали и тревожно переглядывались, а сиявшее от радости лицо Сейфи мрачнело.
— Жми, мой дорогой! — стонал Сейфи. — Жми, Кельоглан! Не опозорь меня! Бей! Потому что они и меня вот так же били. Бей! Не жалей его! Потому что меня не жалели! Бей! Отомсти за меня.
Теперь Белый стоял не шевелясь, а Кельоглан все бил и бил его. Клюв у Белого был приоткрыт, с головы и гребешка текла кровь, вокруг глаз зияли раны. Наконец он издал жалобный хрип и закачался, словно терял сознание. Казавшийся до этого огромным, теперь он будто съежился, уменьшился у всех на глазах. А тут еще Кельоглан схватил его клювом за гребешок и не отпускал.
В нарушение всех правил Дурмуш-ага подскочил к своему петуху и оттащил его. Он вытер с него кровь, снова дунул ему в клюв и слегка потряс. Воспользовавшись передышкой, Сейфи тоже обтер своего петуха и подтолкнул его к противнику. Белый стоял понуро, драться он не хотел, и Кельоглан снова принялся наносить ему удары. У обоих петухов силы были на исходе, они то и дело отходили в сторону и не торопились снова вступать в бой.
— Бей! Бей же! — неслось со всех сторон.
Но петухи уже едва держались на ногах. И вдруг Кельоглан нанес Белому подряд два удара. После первого удара Белый захрипел и отступил, после второго — пошатнулся и пустился наутек.
— Удрал! — вскрикнул Сейфи, широко раскрывая глаза.
Дурмуш-ага подбежал к своему петуху и так пнул его ногой, что тот с жалобным писком ударился о стену.
Все это произошло так быстро, что крестьяне опомниться не успели. Послышались голоса:
— Жалко птицу! Грех-то какой!
— Не суйте нос не в свои дела! — крикнул Дурмуш-ага и в ярости сшиб в грязь попавшегося ему под руку Телли Ибрагима. Схватил тяжелый камень и придавил им петуха.
Сторож Муса, прижимая руку к груди, пятился от Сейфи и, пытаясь заглянуть в глаза Дурмуш-аге, плаксиво спрашивал:
— Хозяин, отдать ему деньги, отдать?
— Мы же их выиграли, дядя Муса, выиграли! Это наши деньги, — повторял Сейфи.
— Так-то оно так, только потом мне от бея житья не будет.
Дурмуш-ага повернулся к Мусе:
— Что ты там лепечешь?
— Деньги, деньги, хозяин, отдать ему?
Вместо ответа Дурмуш-ага накинулся на Мусу и принялся хлестать его по щекам, вымещая на нем злобу, которую не успел сорвать на петухе. Видя, что отца его бьют ни за что ни про что, Али бросился к Дурмуш-аге и оттолкнул его. Вслед за Али двинулся и Омар, но ему преградил путь Хусейн. Ударом кулака Омар сбил его с ног прямо в грязь. Не успел Хусейн подняться, как Омар нанес ему новый удар, снова сбив с ног. Тем временем Дурмуш-ага подмял под себя щуплого Али, но подоспевший Омар спихнул его на землю. Крестьяне кинулись разнимать дерущихся.
Сейфи, схватив Мусу за воротник, уговаривал его:
— Теперь эти деньги наши, дядя Муса. Понял? Наши!
Чуть поодаль неподвижно стоял Халиль с зонтом в руке. Наконец, выйдя из оцепенения, он отдал зонт какому-то мальчишке и, не обращая внимания на драку, подошел к мертвому петуху. Халиль долго глядел на него. Петух дрался за других. И за других отдал жизнь. Еще недавно он радостно горланил, был красив, и вот теперь эта страшная, нелепая смерть! Хыдыр, Али Осман и Белый петух. Три смерти, смерти, похожие одна на другую.
— И нас ждет то же самое, — пробормотал Халиль. Он посмотрел на небо, затем оглянулся вокруг и молча зашагал сквозь гудевшую толпу. По-прежнему еле приметно моросил дождь.
— Я им не прощу! — орал Дурмуш-ага. — Я покажу им! Кровью будут харкать!..
Халиль шагал по дороге, ведущей на кладбище. Он шел к Хыдыру, к Али Осману… Какая-то внутренняя сила влекла его к ним, именно к ним. Потому что, как предсказывал Хыдыр, пробил час, когда ему стало невмоготу, когда "нож уперся в кость". Потому что сегодня не петуха растерзали, убили, а его, Халиля, его надежды, его мечты, ради которых только и стоило жить.
Пока Халиль верил, будто нет для него в этом мире другого места, кроме господского хлева, будто нет для него другого хозяина, кроме Кадир-аги, он терпеливо и безропотно сносил все тяготы жизни. Но ведь есть Адана — большой город, в котором можно устроиться и работать без страха перед хозяином-самодуром, не жить больше под одной крышей со скотиной, можно чувствовать себя свободным, отработать сколько положено, а потом гулять, любить, а главное — это было бы спасением для Эмине, исстрадавшейся без вины Эмине, он может быть там с ней…
Чем яснее осознавал Халиль, что жизнь его может измениться, тем тверже становилась решимость разбить оковы, удерживающие его здесь. И чем больше раздумывает над своей участью Халиль, тем яснее понимает, в каком страшном он очутился плену, какими крепкими прикован цепями. Он раб, он пленник. Вот этой цепью его приковали к хозяину-аге, этой — к земле, этой — к батрацкой доле, тяжкой, безрадостной, безнадежной… А вот этой цепью он сам приковал себя к Эмине… И все эти цепи крепки, ох как крепки! Но теперь пленник решился бежать, измученный каторжник в старой, поношенной шинели и мятом картузе, заросший, оставшийся даже без курева, он жаждет свободы… Да, пробил его час, как предсказывал когда-то Хыдыр… Да, ему стало невмоготу, когда нож уперся в кость…
— Нож… — шепчет Халиль. — Этим ножом я и…
Этим ножом он разрубит связывающие его по рукам и ногам путы. Он понимает, что, освободившись, обретет Адану — утопающий в огнях город, где заводские трубы смело уходят в небо, где на улицах толпы рабочих в синих спецовках, где расхваливают свой товар торговцы, проезжают на телегах возчики песка с берега широкой реки Сейхан…
Земля на кладбище мягкая, ноги Халиля утопают в ней. Халиль подходит к могиле Хыдыра, долго стоит там, стоит неподвижно, не обращая внимания на моросящий дождь.
Стемнело. Деревня затихла, в окнах больших домов зажегся свет. А Халиль все стоит под дождем и думает. И думы его текут нескончаемой чередой, цепляются одна за другую… Дождь все моросит, стекает с картуза на лицо, просачивается сквозь шинель, холодит плечи и спину… А на душе все тяжелей, все тягостней…
И вот разорвалась первая цепь!..
— Я ухожу, брат… — Он говорит это Хыдыру и прислушивается, словно ждет от Хыдыра ответа. А потом добавляет: — Ты был прав. Прости меня, брат, я ухожу…
И в тот же миг Халилю стало легко, будто гора с плеч свалилась. Он понял, что ничто больше не связывает его с хозяевами здешних мест. Потом он отыскал могилу Али Османа.
— Я ухожу, дядюшка. Дурмуш-ага даже петуха, и того пришиб. Ну, а остальное ты сам понимаешь. Прости меня, дядюшка, и прощай!
Халиль умолк и долго еще сидел у могилы Али Османа. Наконец он поднялся и поглядел в небо. Было совсем темно, хоть глаз выколи. На лицо падали крупные капли дождя. И в этих каплях Халиль ощущал незнакомый ему раньше вкус свободы. Дождь шумел и шумел. Халиль глубоко вздохнул. Холодные капли приятно освежали пылающее лицо. Халиль подумал, что прохладный дождь так же ласков к нему, как Эмине. Вспомнив об Эмине, он ни о чем другом уже не думал. И от этих мыслей с каждой минутой становился сильнее и увереннее в себе. Уйти с Эмине, уйти этой же ночью, осуществить свою давнишнюю мечту. Халиля ничто теперь не пугало, ничто не страшило.
— Как вы оба были правы… Простите меня!.. — вновь повторил Халиль, постоял еще немного и быстрыми шагами пошел прочь.
У дома Эмине Халиль остановился, посмотрел на тусклый свет в окне и зашагал на ферму. Он шел, насвистывая песенку "Зелло".
Дервиш спал сидя. Халиль взобрался на нары, открыл деревянный чемоданчик, сунул в него свои немудреные пожитки и слез с нар. Вдруг ему показалось, что он что-то забыл. Халиль оглядел нары, пошарил под матрацем, под подушкой — там ничего не было. Он снова тщательно все обыскал и опять ничего не нашел. Да и что, собственно, он мог забыть? Халиль взглянул на мерно жующих волов. В эту ночь его долголетней дружбе с ними придет конец… И Халиль понял, почему у него возникло ощущение, будто он что-то забыл: он оставлял здесь частицу своей жизни. Пройдет много времени, но каждый раз, когда он будет вспоминать этот хлев, ему будет немного грустно.
Халиль посмотрел на Сулеймана — он спал, по-детски свернувшись в клубочек. Какой у него усталый вид! Приподнятое настроение Халиля омрачилось чувством горечи. Еще немного, и Халиль передумал бы, остался здесь навсегда и, подобно Сулейману, вечно тешил бы себя мыслью об уходе. Халиль легонько дотронулся до Сулеймана. Тот подскочил в постели как ужаленный.
— Что случилось? — вскрикнул он, растерянно озираясь по сторонам. Потом прищурился и ласково спросил: — Где это ты пропадал, племянник?
— Я, дядя, ухожу…
— Что-о-о?!
— Ухожу.
— Ты это всерьез?
Халиль молча кивнул. На глаза Сулейману навернулись слезы. Он не мог произнести ни слова. Видно, думал о собственной погубленной жизни.
— Значит, уходишь? — кусая губы, наконец проговорил он.
— Ухожу, дядя. Прости меня за все!
Сулейман обнял Халиля. Дервиш проснулся и растерянно глядел на них. Заметив чемоданчик Халиля, Дервиш спросил:
— Что случилось, племянник?
— Наш племянник, Дервиш, уходит от нас, — ответил вместо Халиля Сулейман.
— Правда?
— Ей-богу.
Халиль повернулся к Дервишу.
— И ты, дядюшка, прости меня. Ухожу я.
— Уходишь? И больше не вернешься?
— Не вернусь, дядя. Ни за что на свете. Спросит хозяин — скажите, что ничего не знаете.
Дервиш смахнул слезу и посмотрел на Сулеймана. Тот стоял, понурив голову.
— Если бы я, племянник, знал, что еще на что-то гожусь, пошел бы с тобой. А так не про нас это. Мы люди пропащие, — сказал Дервиш, потом вынул из-за пазухи небольшой сверток и протянул его Халилю. — Возьми, племянник. Скопил я немного деньжат в надежде на то, что когда-нибудь возвращусь в родные края. Бери их! Мне уже на родину не вернуться. Бери, бери — пригодятся, а нам, племянник, тут помирать.
Халиль ни за что не хотел брать деньги, но Дервиш схватил его за руку и сунул сверток.
— Не обижай меня, племянник! Возьми! Пусть в твое избавление и я внесу свою скромную долю.
— Ладно, дядя, спасибо тебе!
— Счастливого пути, племянник, счастливого пути! Мы за тебя, как за самих себя, радуемся. Всего тебе самого доброго.
Они никак не могли распрощаться. Наконец Халиль взял свой чемоданчик и направился к двери.
— Племянник! — Сулейман виновато опустил голову. Халиль обернулся, посмотрел Сулейману в глаза.
— Ты один уходишь, племянник?
Халиль все понял и быстро захлопнул за собой дверь.
— Ушел… — промолвил Дервиш.
— Ушел… — помолчав, повторил Сулейман. И снова в голове его роем закружились мечты: лошадь, туфли, новый картуз… Сулейман натянул на голову мешковину, служившую ему одеялом. Мечты, бесконечные мечты и снова отчаяние. К горлу подступил ком…
Эмине проснулась, когда Халиль, насвистывая, прошел мимо ее дома, возвращаясь с кладбища. Она еще долго прислушивалась, всматривалась в окно и в конце концов решила, что ей это почудилось во сне. За окном все поглотила темнота. Ничего, кроме шума дождя.
Разочарованная, Эмине отошла от окна, легла в постель и накрылась одеялом. Ею овладело отчаяние. Сколько раз рушились ее мечты — мечты о заветном побеге, о счастливой, напоенной любовью осени, о спасении. Все ушло, остались лишь несбывшиеся надежды.
От всех этих дум у Эмине разболелась голова. Ей стало жалко себя до слез. В это время под окном раздался свист. Кто-то насвистывал знакомую мелодию.
— "Зелло"! — чуть слышно выдохнула Эмине.
В страшном волнении она приподнялась, позабыв все на свете.
Свист повторился.
— Это "Зелло"! Он пришел!
Эмине встала на колени. Сердце громко стучало в груди. Услышав свист в третий раз, Эмине, собравшись с силами, пошла к окну, но тут же остановилась: только сейчас она вспомнила, что все в доме спят. Обернувшись, она посмотрела на мать, на отца, на брата. Осторожно приоткрыла окно.
— Эмине!
— Это ты, Халиль?
— Я, Эмине. Я ухожу. Если хочешь, идем со мной.
— Сейчас выйду.
Эмине закрыла окно и снова взглянула на спящих родителей и брата. Вели лежал свернувшись калачиком, зарывшись головой в подушку. На мгновение Эмине показалось, что она не сможет оставить их, не сможет уйти. Слезы застлали глаза. Но она тут же вспомнила, что на улице Халиль ждет ее под дождем. Почти без колебаний она приняла решение, быстро оделась, достала из сундука узелок.
Махмуд открыл глаза и посмотрел на стоявшую к нему спиной дочь. А когда она повернулась, зажмурился, притворившись спящим. Эмине подошла к изголовью родителей, опустилась на колени, хотела поцеловать своих стариков, но не решилась. Подавляя рыдания, она поднялась, тихонько отворила дверь и вышла. Махмуд снова открыл глаза и встретился взглядом с женой. Азиме, словно ее поймали на месте преступления, хотела было сделать вид, что спит, но не смогла. Поняв, что с Махмудом творится то же, что и с ней, Азиме встала с постели, подошла к окну и замерла, прислушиваясь к ночи. К шуму дождя примешивался чей-то шепот. Махмуд приподнялся на постели, взял кисет, положил его на колени и принялся сворачивать цигарку.
— Уходят… — тихо сказала Азиме. Она осторожно приоткрыла окно, но в темноте никого не увидела. Вдали замирали чавкающие по грязи шаги. Порывом ветра сдуло табак. В руках у Махмуда остался только листок папиросной бумаги. Ветер принес в комнату несколько капель дождя. Азиме закрыла окно.
— Спаслась! — сказала она.
Махмуд кивнул головой.
— Может, даст ей бог счастья… Доченька моя горемычная.
Он обвел влажными глазами комнату. Немым свидетелем ухода Эмине была ее еще теплая постель. Пустой, совершенно пустой казалась Махмуду комната без Эмине…
ИБ № 3517
Редактор А. М. Михалев Художник А. С. Зайцев Художественный редактор А. П. Купцов Технические редакторы Р. Ф. Медведева, С. Л. Рябинина Корректор Н. Е. Уоютупене
Сдано в набор 18.10.1977 г. Подписано в печать 20.02.1978 г. Формат 84х108 1/32. Бумага типографская № 2. Условн. печ. л. 19,32. Уч. — изд. л. 18,68. Тираж 50 000 экз.
Заказ № 2002. Цена 2 р. 20 к. Изд. № 20074
Издательство "Прогресс" Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Москва, 119021, Зубовский бульвар, 21
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Москва, М-54, Валовая, 28