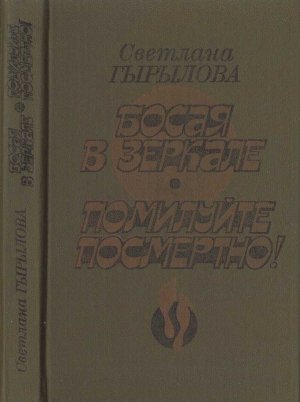
От редактора
Любезный читатель!
Еще несколько лет назад о подобной книге было немыслимо даже подумать. Но времена меняются, и воздействие гласности стало ощущаться даже в такой консервативной сфере нашей деятельности, как книгоиздательское дело.
Не надо обладать пророческим даром, чтобы предвидеть, какие противоречивые оценки — от полного неприятия до безоговорочной поддержки! — вызовет среди читателей и у критики эта книга. Но для того и берутся за перо писатели, чтобы не было в обществе сонных и равнодушных.
Когда три года назад Светлана Гырылова пришла в «Современник», имея при себе лишь сравнительно тощую папку, вторая часть этой книги — «Помилуйте посмертно!» — существовала только в замысле. Издательство почувствовало в Светлане интересного автора и, несмотря на значительные расхождения в оценках ее творчества, сделало все для того, чтобы эта книга стала фактом литературной жизни.
Однако что же такого необычного в дилогии Светланы Гырыловой? Наверное, прежде всего — выбор темы (из тех, что прежде были запретными) и предельная, на грани (а порой и за гранью) эпатажа откровенность автора.
Главными героями «Помилуйте посмертно!» выступают два абсолютно несхожих, явно не предназначенных друг для друга человека, чьи судьбы тем не менее все туже затягивает в единый мертвый узел то ли господь бог, то ли дьявол, то ли его величество Случай. Бурятская девушка из далекого села, с экзотической внешностью и странным для русского слуха именем Алтан Гэрэл, работающая в Москве по лимиту, и заключенный Мелентий Мелека, отбывающий долгий срок в колонии строгого режима за убийство своей неверной возлюбленной. Не стану пересказывать сюжета этого беспощадного и редкого по силе эмоционального воздействия произведения — читатель не глупее редактора и сам сумеет разобраться, кто есть кто и что к чему в этой бурной и яркой книге. Хочу лишь предупредить любителей дамской прозы, что здесь они не найдут ни безупречной героини, белокрылым ангелом парящей над душой героя, ни благородного узника из романтических темниц позапрошлого века.
Увы, некогда прекраснодушная и по-своему обаятельная бунтарка Алтан Гэрэл сама беззащитна и уязвима в чреве гигантского мегаполиса, где ей, как и всякой незаурядной личности, да еще и горластому борцу за правду, живется ох как нелегко! Так было во все времена и на любой ступени общественной лестницы, а в эпоху застоя и в недрах московского лимита — особенно. Да и Мелентий Мелека — озлобленный и недалекий убийца, медленно и мучительно возрождаемый к человеческой жизни беззаветными усилиями Алтан Гэрэл, — только через несколько лет пробуждается от летаргии бездуховности для страшного суда над самим собой. И самое тяжкое для него наказание — возродившая его любовь к странной и ни на кого не похожей женщине.
В книге, безусловно, много грубого натурализма (таков материал и чудовищно жестокая правда жизни, исследуемая в романе), порой автор впадает в безудержную риторику на социальные и эротические темы. Особо отметим феминистскую тенденцию в творчестве Гырыловой, которую рецензент рукописи, известный литературный критик В. Гусев остроумно назвал «женофильской».
Издательство не разделяет авторского ригоризма по многим затронутым ею вопросам и не поддерживает авторские оценки некоторых произведений и деятелей советской литературы и искусства, однако считает, что эти расхождения с издательской точкой зрения не могут лишить автора права иметь, а также высказать собственные взгляды. Главное, что книга выступает против косности, лжи, лицемерия, бездушия, чиновного чванства и кумовства, а ее герои не ходульные персонажи, состряпанные наспех на потребу дня, но полнокровные люди, за которыми стоят живые судьбы их соотечественников со всеми взлетами и падениями, потерями и обретениями, верой в силу человеческой души и жизненную потребность общественных перемен. Такая книга не могла не выйти в наше время. Поэтому вы держите ее в руках.
МАРАТ АКЧУРИН
Босая в зеркале
Как терзают мозоли мне ноги!
Раздобыть бы золотые копыта…
Часть первая
Кто встретит Чудо-змею с коралловыми рогами и завладеет ими, тот станет богатым и счастливым.
Старинное бурятское поверье
Еще до рождения прозвали меня Бесенком: в материнской утробе мне было тесно, я изо всех сил билась и бунтовала.
Мама, родившая семерых детей, потом часто говорила мне:
— Ты и в животе вела себя безобразно. Так хотелось поскорее родить тебя!
Будучи трехмесячной, я прославилась тем, что свалилась с полатей. Бабушка запеленала и обвязала меня четырьмя кожаными тесемками, как деревянную чурочку, и, положив на самую середину полатей головою к стенке, отлучилась по хозяйству во двор.
Вернувшись, она застала меня на полу, побуревшую от рева. Подняла и видит: так же крепко завернута и обвязана.
— Как же ты умудрилась?! Уж не дьявол ли скинул тебя на пол?! — испугалась бабушка.
Если бы дедушка или мама оставили меня лежать без присмотра, бабушка их поедом бы ела. И не пало бы подозрение на ни в чем не повинного дьявола. Но в семье авторитет бабушки был непререкаем.
Сосновые полы нашего старого дома стараниями бабушки блестели желтизной, как дощечки для сушки сыра. Наливая воду или молоко, бабушка держала левую руку под черпаком, старательно сложив ее ковшиком, чтобы не капнуть на пол. Недаром в тридцатые годы она не раз получала первую премию по улусу за чистоту — красное земляничное мыло и белое вафельное полотенце! В то далекое время по домам ходила от сельсовета комиссия, проверяла санитарное состояние. Моя бабушка Цэрэн слыла на весь улус чистюлей. Это она научила меня мыть пол особым способом: сперва ошпарить кипятком, потом натереть песком, затем смыть песок, выскоблить все углы и щели и, наконец, снова сполоснуть горячею водою и вытереть насухо при закрытых дверях, чтобы пол не стал сизым от сквозняка.
Прежде чем зайти к нам в дом, люди подолгу вытирали ноги о железную сетку перед крыльцом, стряхивали с себя дорожную пыль и грязь. Милая моя, самая усердная на свете бабка! Своими сильными руками она пеленала и крепко-накрепко перевязывала мне колени, чтобы я не унаследовала кривые ноги от своих кочевых предков-наездников. Так от великого бабушкиного старания ноги у меня искривились шиворот-навыворот, стали иксообразными.
Когда мне было пять лет, я завидовала мальчишкам, которые делали стойку на руках. И решила от них не отставать.
В первый раз во дворе я с разбегу встала на руки, но чересчур перекинула назад ноги и грохнулась плашмя на спину. После неудачи обучалась на высокой куче золы. И ходила, похожая на искупавшуюся в золе курицу.
Однажды, желая похвастаться своим искусством перед моею старшею подругою Сэсэгмою Банзаракцаевой, я с разбегу упала прямо на золу. А та оказалась горячею, только-только из печки, в ней еще тлели красные угольки, они пулями отпечатались на моих руках.
— Чертова девка, сожгла себе руки! Теперь на ушах будешь стоять?! — распекали меня дома.
На кистях образовались большие и малые волдыри, потом они лопались, оттуда вытекала жидкость и до слез жгла оголенные раны. Мама долго смазывала мои руки рыбьим жиром, и я ходила с повязками. Тогда школьники копали колхозную картошку, я же ничего не делала, околачивалась возле матери, грызя вытертую о подол морковку и стыдясь своей ненужности. Мама работала бригадиром огородников, а я, мамина помощница, по дурости своей стала инвалидом… и она никак не могла похвалиться мною.
Руки мои со временем зажили, остались, правда, шрамы от ожогов. И опять, едва проснувшись, я убегала из дому играть, не взглянув даже на небо, хотя мать учила меня, хотела вырастить толковою:
— Алтан Гэрэл! Приличный человек должен утром осмотреться кругом, взглянуть на небо, горы, на землю…
Когда я спросонья выскакивала на улицу, то прямо-таки слепла от кипящего, бурлящего солнца. Крепко зажмурившись, я с наслаждением мочилась навстречу солнцу золотистою струей.
— Не для того солнце светит золотое, не для того вершины гор высятся в синеве, чтобы такая бестолочь, такая срамница позорила их! — сердилась бабушка.
Закончив вечерние хлопоты, она, даже усталая, прежде чем войти в дом, пристально вглядывалась в горизонт, потом, резко закинув голову, изучала небеса по цвету и облакам, стараясь угадать по закату завтрашнюю погоду. Бабушка Цэрэн одухотворяла природу, словом, была философом, насколько им могла быть безграмотная бурятская старуха 1899 года рождения.
Помню, как я утащила из колхозной кладовой гирьки от весов. Когда это обнаружили, родители принялись меня ругать:
— Мало того что девчонка лупит всю детвору в селе, а взрослым говорит такое, что от стыда можно сгореть, так еще и воровать стала! — Родители потребовали, чтобы я сама отнесла гирьки кладовщику и попросила прощения, иначе не станут меня, воровку, кормить!
Я забралась в темный, мрачный амбар и целый день просидела голодная, чтобы родителям стало невмоготу. Сижу в засаде, а в полутьме поблескивают передо мною беленькие, желтенькие гирьки, одна другой лучше и меньше. Я отдала бы за них все мои игрушки: глиняного беломордого коня, белого фарфорового слона и моську, желтую тряпичную лисицу с красными стеклянными глазами, набитую опилками… желтое драгоценное яйцо бильярдного шара… отдала бы за них синий свод небесный с раем. Железные гирьки, блестящие и не бьющиеся, были мне дороже всего. В них я чувствовала непостижимую странную тайну, — ведь ими можно взвесить все-все на свете. И твердо решила ни за что не расставаться с ними, ведь у кладовщика есть еще много больших чугунных гирь.
Меня слегка подташнивало, в животе урчало от голода. Я тихо позвякивала гирьками и беспрерывно думала о еде. Дедушка всегда добавлял мне мясо из своей порции под предлогом того, будто у него притупились зубы, а у меня, «как у щенка, острые шильца». С азартом, балуясь, я громко клацала зубами.
— Хватит щелкать, Гэрэлма, а то сломаешь! — и бабушка целовала меня, а я счастливо брыкалась.
В отрочестве я во сне часто скрежетала зубами, пугая суеверную мать, внушившую себе: если мужчина скрежещет зубами во сне, то он врагов своих громит и побеждает, а если женщина во сне зубами скрежещет, то родных своих поедает, их костями хрумкает…
Когда корова отелится или овца объягнится, у нас варят молозиво — желтое, густое, как творог, сытное и вкусное, после молозива целый день не проголодаешься!
А еще мама и бабушка каждое лето толкут черемуху, смешивают ее с творогом, топленым маслом, сахаром и сушат черемуховые сырки для праздника Белого месяца — первого весеннего месяца, начала молочного изобилия. В марте к нам всегда прибегает ребятня, чтобы отведать знаменитые черемуховые сырки.
— Шевелите, детки, усами, шевелите! — с улыбкою приговаривает бабушка, раздавая сырки, а дети смущенно прикрывают обветренными руками беззубые рты. Нет ничего вкуснее этих сырков, как чудесно хрустят они на зубах, рассыпаются и тают во рту.
А как ласково бабушка уговаривает выпить сырое яйцо!
— Еще тепленькое, розовое! — И она прокалывает его шилом и шилом же солит, размешивает внутри. Я морщусь при этом, будто мне готовят отраву в золотой скорлупе…
Вспомнив все это, я заплакала, полезла в старый амбарный сундук, где хранились праздничные старинные одежды и мамины коралловые бусы. Достала их и зубами разорвала нитку. Вместе со слезами и слюною проглотила три коралла в надежде, что умру… Пусть родители поплачут обо мне!
Но мне не суждено было умереть. Вечером, придя с работы, мама вывела меня из амбара и напоила пенящимся, шипящим молоком. Узнав обо всем, она следила за мною, как за курицей-несушкою, когда же я снесу ее драгоценные кораллы. При этом грозила, что иначе придется делать операцию! Наконец-то кораллы покинули меня. Мама обмыла их и вдела в свое ожерелье.
— Видишь, Гэрэлма, как ты сварила мои кораллы! — и даже гостям показывала три поблекшие бусинки.
На следующее утро, как я снесла кораллы, меня разбудили рано.
— Косматый человечек, поди-ка сюда! — с лукавою лаской зовет бабушка.
Я удираю, но бабушке удается поймать меня, и она обрадованно и мстительно приговаривает:
— Бэр-бэр, за все косматые дни тебя, бесенка, причешу!
Мои разнузданные волосы злятся, трещат и рвутся в цепких, усердных пальцах бабушки. Смачивая их сахарною водою, она заплетает пять косичек «мышиные хвостики», причем самая крупная, почетная царица-косичка заплетается на макушке. Дотошная бабушка не оставит в покое ни одного волосенка, прихватит в плен самые крайние тонюсенькие, «голодные» волосиночки.
Говорят, наша бабушка в молодости так гладко и туго заплетала свои косы, что ни один волосок не выбивался. Воротник ее простого черного платья бывал наглухо застегнут.
А я убегаю в сарай и, морщась от боли, вырываю остро дерущие кожу волосы.
— Смотри, Алтан Гэрэл, косички на всю неделю заплетены! — строго предупреждает бабушка.
Родители собрали мои гирьки и сказали:
— Сколько мы можем укрывать воровку в нашей семье? А?
Отец взял меня за руку. И мы пошли к кладовщику. Оказалось, что скупой дядя Чагдаржаб из-за этих гирек несколько дней не выдавал людям муки и хлеба. У меня от стыда зачесались пятки.
Говорят, свет не видывал, чтобы девчонка была такою драчуньей и забиякою, как я. Мальчишкам приходилось обороняться от меня сообща. К тому же я давала им самые меткие прозвища, которые сразу же прилипали. Даже те мальчишки, что вместе нападали на меня, ссорясь, обзывали друг друга именно так.
Тогда я ликовала, а они дружно набрасывались на меня. Но со мною не так-то просто было справиться. Я защищалась отчаянно, пускала в ход не только кулаки, ногти и зубы, хватала все, что попадало под руку. Однажды одному мальчонке влепила в лицо горячую коровью лепешку!
После драки, пряча слезы, я убегала на речку купаться, по дороге заходила к соседям зашить платье, объясняла, что зацепилась за сук. Жестокие родители никогда не принимали жалоб, во всем случившемся обвиняли только меня. Это разучило меня жаловаться вообще, и я стала носить обиды в себе.
Взрослые в селе меня любили: я им гадала, предсказывала всем счастливую судьбу. Старым и больным обещала рай после смерти, а их детям жизнь до ста лет. Одиноким вдовушкам предсказывала замужество в соседних селах, где табунами бродят приличные бравые женихи, а не какие-нибудь замухрышки. Бездетным семьям— такое множество детей, что рожать надоест.
Пятидесятилетней тетушке Доржиме я нагадала, что удочерит русскую золотоволосую девочку из детдома. И случилось так, что гадание мое через год сбылось: тетушка Доржима с мужем съездили в город Улан-Удэ и привезли оттуда годовалую девочку с золотистыми волосами.
— Вот и пришла к нам в Гэдэн золотоволосая из города. Гэрэлма адяа[1], дай ей имя. Неудобно человеку даже день прожить без имени! — и тетя Доржима взволнованно целовала свою маленькую дочку.
Девочка была беленькая, как бумага, под прозрачною нежною кожицей ветвились синие жилочки, а глаза были сказочно русские, огромные, голубые, как ласковое летнее небо. Ей сшили желтое ситцевое платье в коричневый горошек, и девочка казалась большою живою куклою, ненастоящей, загадочною. Шутка ли дать такой имя?!
— Имя придумаю в пятницу, потому что пятница — самый мягкий благополучный день недели, — прошептала я.
— Детонька, проживем еще немного без имени? — спросила тетя Доржима у малютки. Моя мама дала ей розовый пряник. Она всегда девочкам дает розовые пряники, а мальчикам белые.
С этого дня я потеряла покой. Повсюду искала имя девочке: заглядывала в углы и щели, в куриное гнездо, в мышиную норку, искала даже под берестою белой березы, сдирая бересту.
В отчаянии я готова была отдать девочке свое чудесное имя — Алтан Гэрэл, что означает золотой свет и золотое зеркало. Мама переводит мое имя на русский язык — Светлана. Но по своей материнской ревности никогда, конечно, не позволит других называть именем своей первой и единственной дочери.
В ночь на пятницу, когда все уже спали, я шепотом перебирала женские бурятские имена, какие знала в свои семь лет. Может быть, тогда инстинктом почувствовала разлад между бурятскими именами и необыкновенными огромными голубыми очами русской девочки? Я никак не могла придумать ей имя. Уже тревожно подкрадывается пятница, чувствую, что этот добрый, ласковый день станет для меня днем неудачи.
Неплохое имя у нашей соседки — Сонин, что означает «вести», «новости». Но сама бабушка Сонин жадюга, никому никогда ничего не дает — ни взаймы, ни даром, ни даже когда заплачешь.
Когда в первом классе научилась писать слово «скупердяй», в тот же день стащила из класса мел и в сумерках, когда бабка Сонин доила корову, написала у нее на ставне: «Скупердяйка Сонин». А утром у нас в доме разразился скандал. Отличник Саша Раднаев, внук бабки Сонин, сразу же наябедничал, кто это написал. Хотел поколотить меня, но куда там! Щупленький он, как козленочек. Я его повалила, оседлала и надавала шелбанчиков десять в лоб. Могла бы дать и двадцать пять, но пожалела: еще шишка выскочит на лбу, начнет он бодаться с баранами!
Саша попробовал было подговорить мальчишек, чтобы отомстить мне, но те не поддержали его, не заступились за скрягу.
Тетя Сонин сама рассказала обо всем моим родителям.
— Скажите, пожалуйста, какой вред вашей Гэрэлме от моей скупости? Никому нет вреда от моей скупости ни грамма! — И старуха со слезами в голосе показала на тоненькую полоску грязи под твердым желтым ногтем на указательном кривом пальце. — Никому на свете нет вреда от моей скупости ни грамма! — повторила она со страшною обидою, и я убежала из дома на целый день.
Мне было муторно от слез соседки, от ее грязи под ногтями, от своей злой надписи на ставне чужого окна, от ябедника Саши и сурового гнева моих родителей. Издали с улицы поглядывала на ставни соседей, но порочащие бабку слова уже были стерты.
Боясь зайти домой, вечером я сидела под огромным дырявым котлом, поставленным в углу внутри хлева, где куры откладывали яйца. Курам я давно отыскала хорошие имена: Сафрон — это сизая, пепельная курица, сильная, с кряжистыми толстыми ножками, она реже других приносит яйца, но они у нее такие крепкие, с гладкою твердою бежевой скорлупой, и вкусные. Яйца Сафрона не сдавали в магазин, не меняли на керосин и спички, мы ели их сами. Одну невинную курицу я прозвала Сонным Гребешком, просто так, дурачась, но для всех эта кличка стала загадкою.
— А почему петух у тебя Клюнет-Неклюнет? — посмеивались родители.
Царь-петух воинственно поглядывал на всех немигающим черно-бисерным зрачком с огненным кольцом. Клюнет, не клюнет, гордо всклекочет и вдруг мелко-мелко спешно закудахтает, подзывая многочисленных жен к вкусному зерну. Тощий от любовных страстей, настырный петушище никогда не терял мужского достоинства, гордо возвышался на безобразных своих, корявых морщинистых ногах. А куры-дуры послушно глотали вместе с зернами землю, которая крошилась и пылилась под их яростными клювами. Безумно глотали и осколочки стекла. Осколочки же эти я находила расплавленными среди выветрившегося помета. Когда я впервые щупала кур, опасалась даже, что наткнусь мизинцем на острые осколочки. Если курам удалось бы проглотить гвозди, то их бесстрашный желудок наверняка переварил бы даже железо!
— А где же оно, птичье молоко-то? Может, из красных гребешков течет тайно? А? — приставала я к бабушке.
— Молочко-то у них льется тайно, может, из зоба, есть, есть оно, птичье молоко! Только нам его не доить, не пить, масла из него не сбивать, — говорила бабушка, и мне очень хотелось погладить и ущипнуть куриные коралловые гребешки, чтобы ощутить их тайну и жар.
— Гребешки-то у кур вместо грудей цветут! — восклицала я, и мы смеялись над болтающимися на головке гребешками.
Долго я мучилась своими думами, сидя под дырявым котлом, так ничего и не придумала. А когда стемнело совсем, зашла в сарай бабушка и сердито окликнула:
— Гэрэлма! Долго будешь сидеть под дырявым котлом, горбатою станешь! Слышишь? Может, принести тебе яйца Сафрона, чтобы ты высидела цыплят?
По голосу бабушкиному слышу, что она еле сдерживает смех, и я опережаю ее. Смеясь, выхожу из своей крепости и сдаюсь в плен на милость родителей.
О, как отрадно, что у нас дома вечером не ссорятся! После скандала человеку могут присниться дурные сны, у нас все боялись дурных снов. От них надолго расстраивалась мама, молчала, замыкалась, и к тому же взрослым надо вставать с зарею. Поэтому, напроказив и натворив бед, я до вечера пряталась в хлеву под котлом, а с наступлением сумерек родители сами находили меня. Как-то вечером я искала корову и вышла к далекому горному оврагу, на кладбище для скотины. Увидела там пляшущие синие огни и примчалась домой насмерть перепуганная:
— Черти зажгли там свои огни для ночной жизни!!!
Но вернусь к наказанию за то, что оскорбила соседку.
— Не хватало того, чтобы от тебя, от бармалейки, плакали взрослые! — возмущалась мама и на полоске бумаги написала химическим карандашом: «За порочащие людей надписи выпороть Гэрэлму крапивою по голой заднице!» — и наклеила бумагу на раму в окне. Я быстро сообразила: скосила на нашей усадьбе всю крапиву и сварила щи свиньям. Чужую крапиву мама не тронет, не хватало еще позора рвать чужую крапиву, чтобы выпороть единственную дочь!
В ту мучительную ночь на пятницу мне приснилась летящая ветвистая змея с коралловыми рогами.
Она летела высоко и, мирно, плавно шевеля ветвями-крыльями, тихо прядала коралловыми рогами, паря и выруливая в воздухе. Рога у нее были круто закручены, как у барана. Прелесть-то какая! А конец одного рога был унизан теми тремя поблекшими кораллами, которые сварились в моем желудке. Каково же было мое изумление — в короне у царицы-змеи мои кораллы!
— Ы-ы-ы-ы дыд-гы! — испугалась бабушка, когда я рассказала свой волшебный сон. Она была убеждена, что змея может быть только подлою и от нее не жди добра ни во сне, ни в сказке. Впервые посмотрела на меня с непонятным отчуждением и тревогою, в это утро ей не захотелось причесывать меня.
В нашем селе Гэдэне тогда шипом шипели змеи, летом грелись у самого дома на завалинке. Однажды я подцепила лопатою большого коричневого ужа и с ужасом выбросила на улицу. Уж и не подумал кинуться на лопату, как я ожидала, а быстро пересек дорогу и уполз в густые луга. Я никогда не видела ужаленного змеей человека. Зато часто с отвращением видела, как пацаны камнями убивают змей, хотя люди и спасаются от многих болезней змеиным ядом.
А дедушке мой сон полюбился, он радовался ему:
— Значит, змея летает, как в сказке? А коралловые рога у нее закручены, как у колхозных баранов? Красота-то какая! Мне бы хоть раз в жизни увидеть такой сон! А? — поблескивал глазами дед.
— Ты стар и слишком крепкий табак куришь! Разве тебе приснится толковый сон?! Старик, у тебя из ушей бурлит ядовитый табачный дым, как из трубы. Любой сон сгорит в твоей башке, как щепка в печке. Зола и дым — как надоели мне отрыжки дурмана твоего! — и бабушка метнула на него уничтожающий взгляд.
Я смотрю — не бурлит ли волнистый, кудрявый дым из ушей дедушки.
— Поди сон сгорит в моей голове, как щепка в печке, и вылетит с табачным дымом через уши! — пошутил дедушка, поднаторевший в пожизненной табачной перебранке с бабкою.
Мама — сказительница бурятских волшебных сказов, обдумывая мой сон о Чудо-змее, таинственно молчала.
Я привязала бантик на хвост бычку и ушла из дома. Наш красивый черный бычок с острыми рожками то и дело чесал свои растущие рога: то забор бодал, то телегу. Когда наконец он разрушил всю поленницу, дедушка рассердился, а я привязала бычку на хвост бантик, чтобы отвлечь его от зуда. Чем ему еще поможешь? Когда черный бычок был новорожденным теленочком и зимою жил с нами в избе, я обнаружила на нем синеватых вшей и намазала его, бедного, керосином, сожгла его нежную кожу, и за это мне драли уши.
Теперь, напоив красавчика водою, я поливала ему рога — пускай растут! Но чем больше они росли, тем сильнее чесались, и черный бычок мучился от проклятых рогов, как от чесотки, и готов был обломать их до основания и ходить комолым. Какой позор — стать комолым быком! Да его коровы забодают!
Еще до того, как приснилась мне ветвистая прекрасная змея, как-то подвела я бычка к забору, до боли в ногтях почесывая его за ухом и подкручивая хвост. Потом, схватив за чесоточные рожки, прыгнула ему на спину. Бычок мой понесся было галопом, но не успела я опомниться, как он замотал головою, закружился, запрыгал и, хотя я крепко держалась за ошейник, сдавивший ему горло, сбросил меня.
Соседский Саша-муха рядом как из-под земли вырос. Смеется, не нарадуется. Упасть с бычка ничуть не больно, но позором стало то, что после этого случая дурашливый Василий Санживалов, озорник и острослов, намного старше нас, сочинил про меня песенку:
Целый бесконечный день я бродила как неприкаянная. Дурак-день! Воздух от жары томится, бесится, сверкает искрами, будто жарится на сковороде. В речке Мучее камушки до того гладкие, хоть пляши на них босиком.
— Аха-аа-а-а-а! Не смогла дать имя русской девочке?! Так тебе и надо! Ворожейка, гадалка, лгунья, колдунья! — напал неожиданно на меня Саша и, торжествуя, готов был перевернуться через голову.
— Ах ты муха поганая! Дуста на тебя насыпать!
Я схватила горсть песка, швырнула вслед убегающему Саше и горько заплакала… Признаться, однако, мы с Сашею Раднаевым не такие уж заклятые враги. Однажды случилось, попали под сильный дождь и, взявшись за руки, побежали вместе, рядышком. С тех пор мы частенько брались за руки и до надрыва сердца носились по нашей улице.
Когда на Сурхарбане, нашем национальном празднике, в беге на сорок метров я вышла победителем у девочек, Саша подбежал ко мне, дал конфетку, расплавившуюся в его ладони, и молча убежал, пунцовый от стыда…
На нашей улице меня встретила стая мальчишек. Они хором распевали песенку, которую сочинил взрослый стихоплет Василий Санживалов. На лицах мальчишек дрыгалось и дробилось гаденькое счастьице. Им немыслимо было рассказать о змее с коралловыми рогами.
«Они и живут-то на свете только для того, чтобы дразнить и драться с девчонками», — подумала я с отвращением. Это было моим первым осуждением сильного пола.
Тогда мне свято верилось в старинное бурятское поверье: «Кто встретит Чудо-змею с коралловыми рогами и завладеет ими, тот станет богатым и счастливым». Может быть, она живет на вершинах гор, а может, обитает в белых пушистых облаках?
«О, прилети наяву, Чудо-змея! Пролети над нашим селом Гэдэном высоко и мирно. Пусть увидят все, как плавно парят твои ветви-рога и как круто закручены прекрасные коралловые рога!» — молила я всем существом наперекор бедам. Все чаще и чаще снилась мне вещая змея, и в напряженном томительном ожидании ее… я заболела корью.
Родители возненавидели змею, как предвестницу болезни. Мама стала спать со мною вместе, хотя я во сне пинаюсь. Она подолгу гладила мою голову, боясь, что мне вновь приснится это «божественное чудовище». А днем, улучив часок, терпеливо читала мне «Доктора Айболита», пропуская страницы о злом Бармалее.
— А какие у Бармалея глаза? Красные или желтые? — спрашивала я слабым голосом.
— Милая Гэрэл, когда болеешь, надо забыть о Бармалее! — И мама с укоризною захлопывала книгу.
В посудном шкафу уныло висел сморщенный круг копченой колбасы, ожидая моего выздоровления. Иногда я вставала и украдкою протыкала шилом пучеглазые колбасные жиры. Мне давали кипяток, слегка забеленный молоком. Родители жалели меня и сокрушались, какою тонкою стала моя шея.
— Выздоравливай, Гэрэлхэн, выздоравливай. Вон даже колбаса плачет по тебе жиром! — подбадривали меня родные.
После моего выздоровления к нам в Гэдэн приехал знаменитый в аймаке Вандан-лама. Бабушка и дедушка пригласили его служить молебен, чтобы отвадить от меня Чудо-змею.
В то время я, верховодя ребятишками, рассказывала им о волшебствах, творимых Вандан-ламою. У нашего дяди Тумура он связал в узел старинный серебряный меч! Дети слушали меня со страхом и восхищением. Вдруг меня позвали в дом.
— Аха-а-а-а! Вылетишь оттуда мокрым тараканом! — злорадно накликал Саша-муха.
Все знали, что Вандан-лама нещадно лупит детей, а малюток хватает за ноги и швыряет в угол! Я вошла и молча стала у двери, готовая мигом увернуться от побоев.
— Не бойся, девочка, — ласково обратился ко мне ламбагай. — Расскажи, как ты помнишь себя впервые?
— Лошадь стояла в реке. Ее понукали, дергали за вожжи, били кнутом. Она боялась, перебирала ногами и упала в воду. Дедушка с бабушкою, сидя в тарантасе, отчаянно бранились, — тут я оглянулась на них.
— Не бойся, рассказывай все, что помнишь, — поддержала явно смущенная бабушка. Родители смотрели на меня с умилением, словно я была им ниспослана свыше.
— Потом они сняли унты. Закатали штаны. Полезли в воду. Дед взял лошадь за узду. Потянул вперед. А бабка сзади толкала тарантас. Мне было страшно очень. Я уцепилась за вещи и ревела. Мы тогда кочевали сюда в Гэдэн с Боргойской степи, — я громко шмыгнула носом, боясь вытереть рукавом, и продолжала: — «Гэрэл-ма! Да ты не реви ревом, лягушка жирная в рот вскочит! Давай бери вожжи. Помогай!» — прикрикнула бабушка.
Ну я и перестала выть. Не хотелось, чтобы жирная лягушка влезла в рот. От нее вырастут бородавки по всему телу. Я взяла вожжи. «Чу! Чу! Чу!» И лошадь вывела тарантас на берег. А дед меня похвалил. Сказал, стану наездницею. Тогда я думала, что Халуюн потеряла подкову в речке, искала ее. Может, она и правда потеряла, а вы считали, что не может вытащить нас? — вдруг спросила я с отчаянием.
Никто ничего не помнил. У деда было несчастное беспокойное лицо. Но он отважился подойти ко мне при ламе. Понюхал мою большую почетную косичку на макушке и поцеловал. Раньше он всегда хвалил, как ароматно и вкусно пахнет моя большая косичка, а тут промолчал.
— Речка Ичетуйка тогда смыла подковы Халуюн и унесла! — убежденно сказала я Вандан-ламе.
— Сколько тебе было лет? — спросил ламбагай с уважением. Я не помнила, сколько тогда мне было лет. Все обернулись к маме, она знала мой возраст не только по годам, но и по месяцам.
— Три года. А два года Гэрэлма накликала дочери Баюу — Тамажаб двух сыновей — Дамдина и Жамбала. Так и зовут мальчиков, как нарекла их Гэрэлма, — с гордостью ответила мама.
— Ваша дочь сказочницею станет или за русского замуж выскочит! — строго изрек лама. — Подай мне кочергу! — грозно приказал он.
«Треснет сейчас кочергою и череп расколет, чтобы не вышла потом за русского!» — подумала я со страхом. Отважилась-таки, подала кочергу, а сама кошкою метнулась к двери.
Распалившийся Вандан-лама в экстазе молниеносно скрутил толстую кочергу в бараний рог! Родители были потрясены.
— Моя змея с коралловыми рогами лучше тебя! Она летает! — вскрикнула я с таким отчаянием, словно моя жизнь в эту минуту висела на волоске. Волшебник ламбагай в ярости кинул в меня скрученною кочергою. Я выскочила из дому и, не чуя ног, босиком побежала в степь.
В ушах грохотал громовой удар об пол скрученной в погибель кочерги и словно все еще догонял и догонял меня, пока я на бегу не влезла правою ступнею в сусличью нору и упала, как пораженная стрелою вдогонку.
От резкой боли в суставе померкло солнце.
Так я горько-горько плакала в одиночестве, впервые причитая в степи от огромной детской беды:
— Остались мы без ко-чер-ги-и-и-и!..
— Кто же теперь скует нам но-ву-ю-ю-ю?..
— Чтобы никто, никакой злой лам-ба-га-ай-ай-ай!..
— Не скручивал боле-е-е-е ко-чер-гу-у-у-у!..
— Нашего се-мей-но-го-о-о-о оча-га-а-а-а…
— Нуж-на-а-а-а нам чу-гун-ная-я-я-я!
— А лучше всего сковал бы кузнец нам медную ко-чер-гу-у-у-у!
Боль стихала от причитаний.
Боль моя стихала от красоты сияющей медной кочерги. А голенный сустав правой ноги все более распухал…
Я мысленно разгребала алые угли раскаленным медным гребнем новой царской кочерги.
…Так в семь лет я бесстрашно вступила в единоборство и по-своему победила знаменитого ламбагая.
Вскоре моя жизнь совсем потускнела. Родилась моя первая сестренка Очир-Ханда, за нею — вторая Машенька, потом я обзавелась двумя плаксивыми братишками Владимиром и Лубсаном.
Родители перестали трястись надо мною, как над единственным домашним идолом. Будили рано, и я целыми днями служила на побегушках: подметала пол, выбрасывала мусор и золу из печки, таскала дрова и воду, мыла посуду, стирала бесконечные вонючие пеленки, с отвращением отворачиваясь от них.
А вечерами носилась по горкам и оврагам, чтобы загнать домой скотину. Бабушка, давая мне кружку парного молока, называла меня то стальною подковою, то неутомимым веретеном. Ободренная ее похвалою, я ветром уносилась искать недостающих овец. Родители порою жалели меня и вздыхали:
— Что поделаешь, Алтан Гэрэл, теперь ты адяа — старшая сестра! Перестала тебе сниться змея с рогами… Пеленки змею погубили!
Лишь изредка среди лета, бывало, посчастливится нарвать черемухи да сходить в кино или случайно прочесть книгу «Принц и нищий»…
Хотя я давно уже потеряла веру во всякие чудеса на свете, но при воспоминании о волшебной Чудо-змее с коралловыми рогами, приснившейся мне в семь лет, иногда в душе нет-нет да шевельнется тихая странная радость, ласковым дуновением прикоснется сладкая неземная тоска, будто Чудо-змея наяву пролетела над моим детством и лишь по мановению капризницы-судьбы навсегда сгинула за горизонтом, обронив свои коралловые рога.
Иногда, в лучшие минуты озарения, вижу я, как парят волшебные коралловые рога в правом почетном углу сверхскромной квартиры, где нет никаких вещей.
Пожалуй, я единственная из бурят, живущая вечным ожиданием Чудо-змеи с коралловыми рогами. Значит, недаром оно существует, старинное бурятское поверье.
Из самых диких жеребят выходят наилучшие лошади, только бы их как следует воспитать и выездить.
Плутарх
Шестнадцать лет — будто тугую стрелу пустили в синее небо и над тобою горят три солнца!
Родители купили черного коня — Ураганчика. Шерсть его приглажена волосок к волоску, блестит, как полированная, а грива и хвост словно дегтем просмолены.
Конь вздыбливается, рубит копытами землю — пыль взлетает столбом, кажется, вот-вот он порвет поводья или сбросит коновязь.
«Промчаться бы вихрем на Ураганчике, бросив позади, в густой пыли, всех мужчин!» — мечтает Алтан Гэрэл.
Отец ее, потомственный конюх, месяцами бьется с Ураганчиком, называет его бешеным, стегает кнутом, а конь еще пуще звереет от этого и готов скинуть с себя седло!
Дедушка Сандуй каждый день пророчит отцу Алтан Гэрэл, что он доскачется на жутком диком жеребце, сломает себе хребет.
— Хребет! Хребет! — дразнит деда Алтан Гэрэл.
— А ты бы на нем нос сломала себе! — язвит дед.
Когда отец совсем потерял надежду объездить Ураганчика, конь впервые поскакал нормально, не сбросил его.
Распознав волю и вес наездника. Ураганчик немало был удивлен — поскачет и остановится, диковато косясь на седока, как на диковинный нарост на своей спине, по которой только что гулял чудесный ветерок.
Разве природа создала прекрасные спины лошадей для того, чтобы оседлал их человек?
Алтан Гэрэл впервые взобралась на Ураганчика и вдруг ощутила свои руки, ноги, спину, маленький холодный свой нос, свое стесненное дыхание — все в ней было женским, тайным, и Алтан Гэрэл впервые почувствовала особенный женский страх за себя.
Так, наверно, страшно было бы водителю на машине без тормозов. Алтан Гэрэл Ураганчиком не правила: он хоть и дикарь, но не наскочит на забор, а люди издали его сторонятся. Ведь кроме ее отца, коневода, никто еще не отважился ступить ногою в стремя Ураганчика.
«Мой конь, моя черная бестия! Вихрем промчи меня, женщину, наследницу славных наездников. Мужчины чванливы… Если каждый из них удержался бы в седле даже заезженной клячи… было бы для нас больше женихов!»— так пелось-заклиналось в душе юной Алтан Гэрэл.
Девушке конь казался шелковым: хочешь — скачи галопом, расхотела — на рысь переходи, а то и шагом ступай.
Скачет Алтан Гэрэл не нарадуется, скачет по горам и степи, скачет по самым пыльным дорогам.
Но вдруг Ураганчик галопом метнулся на кручу и сиганул оттуда в овраг! Сердце девушки покатилось… «Погибли оба!» — мелькнуло в уме.
Взлетный толчок, как с трамплина на лыжах, и Алтан Гэрэл с Ураганчиком приземлились невредимыми. А скакун после своей опасной шутки вновь понесся безудержным галопом как ни в чем не бывало.
Только звонкий цокот копыт раздавался вокруг и в груди девушки клокотала необъятная радость.
Сын председателя колхоза Саша Жаргалов приехал на летние каникулы. Алтан Гэрэл издали видела высокого сутулого парня, одетого по последней улан-удэнской моде.
Ходит в темных очках, гладкие блестящие черные волосы подстрижены спереди челкою, сзади — лесенкою, на чистом безвольном лице ни единой морщинки, ленивые усы обрамляют губы.
— Давно хотел познакомиться со звездою колхозного конного спорта. Саша — студент пятого курса филфака, рост сто восемьдесят, вес семьдесят два, очки минус четыре, рубаха-парень и холост, — представился он на чистейшем русском языке с артистизмом и обаянием баловня судьбы.
— Может ли вареная рыба стать морским разбойником? — в тон ему спросила Алтан Гэрэл на русском, и у нее часто-часто забилось сердце, ища выхода из груди. Девочка была на бесконечных шесть лет моложе и боялась сразу же разонравиться.
— Браво, крошка! Один — ноль в вашу пользу! — Саша засмеялся и поднял руки вверх.
— А вы не могли бы отрастить усы против шерсти — концами вверх?! — Алтан Гэрэл прыснула от смеха, закручивая гибкими пальцами в воздухе воображаемые усы.
— Ах, чтобы угодить какой-нибудь маленькой амазонке… готов станцевать краковяк на темечке! — И Саша завихлял всем долговязым телом.
— А вы всегда такой комик? — смутилась Алтан Гэрэл. Ей стало весело, тревожно, досадно и вольготно.
— Комик не комик, а вот закрючит за жабры какая-нибудь маленькая амазонка — и будешь ей податливым, добрым мужем. — Он великодушно вздохнул. Саше нравилось морочить голову незнакомой девочке. — Правда, я парень феминизированный и балдежный…
— Надежно балдежный молодожен — Балда Балданович? — вырвалось у Алтан Гэрэл и разлилось в синем воздухе.
— Да ты, детка, ядовита! Ну, хватит мне малышей дразнить. Чао, крошка, подрастай! — Он расплылся в обильной улыбке, небрежно помахал ей рукою и пошел, нарочно выписывая ногами пьяные кренделя.
Алтан Гэрэл рассердилась и сразу возненавидела его. Сын железного председателя колхоза — шалопай Сашка Жаргалов разрушал идеал мужчины в воображении юной Алтан Гэрэл.
На земле брезжит белесый молочный рассвет. Звезды текут, тают по сизому небосклону, словно усталые слезы. Месяц серебряным завитком повис на его пологом, седом виске.
Сонная Алтан Гэрэл с трудом доит сонных коров, и по рукам нежным сонно струится теплое ночное молоко, целует, щекочет ей руки.
В мире еще так рано, заспанные коровы идут качаясь и, выйдя за ворота, тут же плюхаются на свежую сонную землю, шумно вздохнув, закрывают свои коровьи добрые, бессмысленные глаза, в которых застыл вечный жвачный покой.
Спать, спать, спать до прихода шумного пастуха-самодура. Он и вечером остервенело гонит их с огромными нагруженными животярами, полным молочища выменем. Вот-вот брызнет густое теплое молоко от тяжелого, неуклюжего, колыхающегося бега. Смотреть-то неловко на коровий бег этих молоковозов. А пастух-самодур рад стараться, словно геройство какое нашел, погоняя несчастных коров свистящим бичом!
Алтан Гэрэл мысленно видит свою корову, которая, задрав рога, мычит на звезды, считает их. Она звонко смеется:
— О, как утробно мычишь ты на божьи звезды!
Даруйте с неба дойной корове превкусной соломы!
В день Сурхарбана ранним утром, не успели лица домочадцев обсохнуть после умывания, как пылающая Алтан Гэрэл торжественно поставила сумасшедшее условие родителям:
— Или мы с Ураганчиком победим всех на скачках, или моя нога больше не коснется его стремени!
Алтан Гэрэл в тринадцать лет купили велосипед, гармошку, а в пятнадцать лет — золотые часы. Не было дня, чтобы она не придумала чего-нибудь: недавно потребовала у матери сшить ей белую юбку, черную кофту, кружевное платье на лето. Приспичило ей купить шиповки для бега, которых нет в здешних магазинах.
Вот уже три года Алтан Гэрэл переписывается с Машенькой Бектиной из Смоленской области, познакомились они заочно через «Пионерскую правду». Алтан Гэрэл умоляет родителей отпустить ее одну — съездить в гости к подруге на Смоленщину.
Мать, устав от ее бесконечных домоганий и просьб, обещала:
— Когда исполнится тебе восемнадцать, уезжай хоть в другие страны…
Желанию Алтан Гэрэл выделиться с Ураганчиком в праздничных скачках никто в доме не удивился, родители молча переглянулись.
— Что ж, сверкните подковами, — молвил отец.
Алтан Гэрэл высоко подпрыгнула и стала танцевать от радости, ей хотелось выскочить на улицу через окошко. Она плюхнулась на кровать и сделала стойку на трех точках, вытянув в линеечку носки. Мать подошла, пощекотала ей ступни, а Гэрэлма, смеясь, отталкивала ее. Цирковой этюд вызвал восторг всей семьи.
Конники со всех концов Джидинского аймака томились на жаре. Пот стекал с мужских спин.
«Слава богу, что я не потею. Что может быть неприятнее? Разве только бородавка на носу?» — думала Алтан Гэрэл.
Скакуны томились, волновались, вздрагивали в ожидании команды.
Еще ни разу не глотавший пыль от чужих копыт, Ураганчик чуял в воздухе предстартовую горячку.
По команде взметнулись плетки — и скакуны понеслись!
Ураганчик, обезумев, шарахнулся в сторону.
Отец Алтан Гэрэл замахнулся кнутом — жеребец в бешенстве вздыбился и, словно опомнившись, погнался галопом за умчавшимися вперед. На середине дистанции он обогнал половину из них.
Опустив поводья, Алтан Гэрэл клещом впилась в седло и молила: «Конь мой черный! Копыта твои острые, подковы звонкие, степь родная вскормила тебя лучшими цветами и травами, чистый родник под скалою поил целебным аршаном! А сам ты нравом буйный, удалой, Ураганчик, милый! Что тебе стоит обскакать этих кляч? Дай же мне победить всех мужчин!»
Ураганчик чуял, что нужно догонять и догонять скачущих впереди коней, пока не поравнялся с первым из них. Теперь у него не было больше цели, погас инстинкт гонки, и он свободно держался рядом с выдохшейся кобылою, скакал нога в ногу, ноздря в ноздрю с нею, косясь и заигрывая…
Вот когда угостить бы плеткою неразумное животное! Но плетки у Гэрэлмы не было, таков дикарь Ураганчик— не терпит плетки, кнута, тут же сбрасывает седока!
Алтан Гэрэл хотелось соскочить с коня и побежать самой, она в отчаянии укусила его в холку — Ураганчик рванул вперед и обогнал взмыленную кобылицу.
Это был желанный финиш! В счастливый тот миг Ураганчик, дичась суеты и криков, вздыбился страшно и стал сбрасывать седока.
Смекнуть бы Алтан Гэрэл да спрыгнуть сразу. Падая, она ступнею влезла в стремя. Дикий жеребец, шарахался от людей, как ошпаренный, и волочил хозяйку по земле…
Алтан Гэрэл лежала в больнице и пыталась представить трагикомическую картину: девушка, победитель скачек, зацепившись ногою за стремя, волочится по земле, как огородное пугало!
Чемпионку на «скорой помощи» доставили в аймачную больницу: растяжение сухожилия, разбитые губы, ссадины на лице, поцарапаны скулы. «Звезда» конного спорта хромала и плакала.
Родители принесли награду за первенство — мужские наручные часы «Полет»… Ну, пусть упала с коня, пусть словно кошкою поцарапана, пусть хромает она. Все это ничто по сравнению с победою над мужчинами! Алтан Гэрэл, рожденная для неведомых великих битв, была счастлива.
— Ураганчика надо выхолостить и продать в цирк! — не унимался дедушка.
В больницу к Алтан Гэрэл пришел Саша Жаргалов. Она была так удивлена, что на миг забыла, какое у нее теперь безобразное лицо, потом взвизгнула и закрылась простынею.
Но долго вытерпеть Алтан Гэрэл не могла, отыскала дырочку в застиранной больничной простыне с заплатками, смотрела через нее и не узнавала юношу.
Он сидел в белом халате, без темных очков, щурил близорукие глаза. К удивлению Гэрэлмы, глаза у Саши, оказывается, зеленые.
Сашка Жаргалов был необыкновенно скромен и прост. Принес ей от себя тоже приз за первенство — мартышку шоколадного цвета. Мартышка была очаровательна, и Алтан Гэрэл чмокнула ее через простыню.
Юноша говорил по-бурятски. Как родным, так и русским он владел блестяще.
Уходя, он пожал ей руку — его сухая, горячая рука словно отпечаталась на крепкой кисти девушки. Она, замерев, лежала под простынею, ощущая сладостный след рукопожатия. Когда шаги юноши затихли в коридоре, резво сбросила простыню и спрыгнула на пол, забыв о больной ноге.
Отец Алтан Гэрэл запряг Ураганчика в большую телегу на автомобильных колесах, но не успел вскочить на сиденье, как конь дернулся, будто его кнутом стеганули. Недавно Ураганчик по земле катался, хотел сбросить упряжку; не выносит он сбрую, будто жжет, колет она его.
И когда отец ударил его, Ураганчик попытался рубить в ответ копытами. Дедушка считает Ураганчика воплощением всех конских пакостей, тунеядцем… в колхозном табуне.
— Он же не кусается! — защищал коня отец.
— Только кусаться ему недоставало! Волкам тогда его — пусть с ними покусается! — возмущался дед.
Алтан Гэрэл жалела и отца, и дедушку, и Ураганчика, они раздирали ее в разные стороны, словно Лебедь, Щука и Рак.
— Пусть! Пусть съедят его волки, чем мучиться в упряжке! — рассердилась она, выбежала со слезами и сорвала с Ураганчика узду.
Распластав хвост и гриву, прекрасный и свободный конь умчался в степь.
Долго не было строптивца в табуне, скакал по горам и лесам, словно первобытный.
Стая волков напала на Ураганчика. Он рассвирепел, истоптал, изрубил волков — вырвался из кольца хищников, примчался домой в крови и заржал…
— Ураганчик, милый! Замучились с тобою волки? — воскликнула Алтан Гэрэл и бросилась лечить коня йодом.
— И правда, тунеядец одолел волков! Каков стервец! А? — обрадовался дед, сразу простивший долгие «прогулы» скакуна.
— Молодец Ураганчик, что вспомнил дом родной, — отец счастливо усмехнулся и пошел в амбар, доставать Ураганчику свежий вкусный овес.
Родители, боясь, что Ураганчик изувечит когда-нибудь Алтан Гэрэл, купили ей мотоцикл «Иж-Юпитер». Это тебе не жеребец: не вздыбливается, не топчет.
И Алтан Гэрэл решила на своем блестящем «Иж-Юпитере» объездить все селения и окрестности. Иногда к ней подходил Саша и просил прокатить.
Алтан Гэрэл нравилось катать Сашу. Он великодуш-
но садился сзади и широко улыбался: «Ну, попылили!» Потом обнимал Алтан Гэрэл за талию и, когда она выжимала газ до предела, парень в испуге опускал руки.
— Не девка, а смерть! — восклицал он с восторженным ужасом. — Откуда у тебя эта мания скорости?!
Не прошло и месяца, как изуродованный «Иж-Юпитер» уже валялся в амбаре под огромным замком.
Алтан Гэрэл опять лежала в больнице и представляла себе очередную сенсацию в селе: девушка-джигит обкатывает «Иж-Юпитер». Она, конечно, не учится на вечерних курсах мотоциклистов при аймачном ДОСААФ, а на зависть ровесницам катает модного и обаятельного Сашеньку. Без права вождения и без шлема ездит на высоких скоростях.
Асфальтированное шоссе. Вдруг за поворотом в нескольких метрах женщина с коляскою безмятежно пересекает дорогу. Мотоциклистка резко выруливает и летит в канаву с лужею…
Очнулась Алтан Гэрэл в больнице, когда ей делали рентген черепа… Затем наложили ей двойные швы на висок и губу.
— Швы-невидимки, швы-невидимки, — умоляла она, кусая губы и подавив стон.
— Учти, Алтан Гэрэл! Мы после аварии больше тебя не примем. Вот в роддом добро пожаловать! — шутит хирург Алексей Николаевич Дуров, чей огромный портрет украшает районную доску Почета.
— Теперь меня со шрамами никто замуж не возьмет! — пытается отшутиться Алтан Гэрэл сквозь слезы.
— Такой лиходейке только за хирурга и выходить! Иначе ей головы не сносить! — И напряженный Дуров грозит пальцем.
Алтан Гэрэл выписалась из больницы. Дома ее с утра до вечера пилят, ругмя ругают: мотоцикл — не Ураганчик, а железо, бензин да огонь. Можно так врезаться, что страшно подумать…
Угробленный мотоцикл упекли в амбар под замок.
Но родители никак не угомонятся. Ежедневно талдычат Алтан Гэрэл, что она не своею смертью умрет!
— Хватит! Может, я вообще никогда не умру! Ни своею, ни чужою, никакою смертью! — крикнула она. Родители переглянулись.
«Может, я в самом деле никогда не умру?! Зачем мне умирать?» — думала девушка, настороженно прислуши-
ваясь к себе; ей казалось, что юная отвага будет вечною и бессмертною. Родителям грех было более напоминать ей о смерти. Гэрэлма вновь надела корону царицы дома.
Алтан Гэрэл и Саша вместе работают на стрижке овец. Алтан Гэрэл не поднять остервенело брыкающегося баранчика, не то что зрелого барана с огромными закрученными рогами.
Саша с трудом втаскивает барана на низкие нары, сгибаясь, как стебелек под ветром, но стрижет умело и быстро. Стригаль в сандалетах и джинсах, без сорочки, говорит, что сил нет стирать ее ежедневно. Часто снимает темные очки, чтобы смахнуть пот с бровей.
— Не брыкаться, а то отстригу тебе сокровища! Без них кто мы? Кому нужны? — Он, шутя, борется с ярым бараном и связывает ему ноги крепко.
Недавно Саша за смену остриг семьдесят баранов и занял второе место по стрижке. Вечерами перестал ходить в кино, читает аргентинского писателя Хулио Кортасара и от усталости засыпает над книгою.
Алтан Гэрэл за смену остригла всего тридцать семь голов и стала чемпионкой среди несовершеннолетних. Поранив ножом барана, она страдает, чуть не плачет от чужой боли, причиненной ею, лечит, мажет солидолом, чтобы не закусали зеленые поганые мухи.
Мать кормит ее пенкою, настоявшейся за день от густого кипяченого молока, чтобы старшая дочь не ударила лицом в грязь на стрижке. Тяжелая работка для подростка! Но самолюбивая Алтан Гэрэл никому не жалуется, ведь мать кормит ее превкусною пенкою, родители гордятся ею. Она зарабатывает деньги на кружевное платье.
В тот памятный день, когда шел град, разбивший все оконные стекла и разоривший огороды, Саша назначил свидание Алтан Гэрэл на кладбище при заходе солнца.
Девушка стояла в белом с острыми складками платье у ворот кладбища. О, как огненно пламенел закат! Саша тихим голосом читал ей стихи бурятского лирика Дондока Улзытуева. В воздухе струился сладкий дурман ая-ганги чарующей песенной поэзии.
Алтан Гэрэл боялась пошевелиться, она замерла от дивной полноты золотого заката, от раздолья мирового вечера»
Но она тайно-претайно боялась больше всего на свете, что сейчас непосредственный Сашка запросто погладит ее по головке, как маленькую девочку, которой здесь необычно и страшно…
— Сашенька, я знаю, что ты ветреный и влюбчивый парень, — начала Алтан Гэрэл нерешительно. — Будешь потом изменять жене и разыгрывать перед нею всякие сцены? — жалобно спросила она.
— Ты думаешь, что они осудят? — и он кивнул головою на могилы за спиною. — Совесть надо иметь— и под землею людей осуждать.
— Я так и знала, что ты изведешь свою жену! — возмутилась Алтан Гэрэл.
— Не знаю, — ответил он серьезно. — Я боюсь, что ты разобьешься, Алтан Гэрэл!
— Да не разобьюсь я никогда! Только пойдем отсюда. Мало, что ли, места на свете?
Саша крепко взял ее за руку, и они пошли прочь от кладбища, с наслаждением вслушиваясь в отдаленный лай собак. В счастливые эти минуты лай собак казался им хором далеких звезд, радостною песнею природы.
Девушка хотела представить себе Сашу на Ураганчике верхом и никак не могла, как когда-то не смогла дать бурятское имя русской девочке с огромными голубыми глазами.
Саша хотел представить Алтан Гэрэл со своим сыном на руках, но видел ее летящею на мотоцикле — узкая кисть до предела выжимает газ…
«Неужели он так и будет плыть по жизни за могучею спиною отца?» — задумывалась Алтан Гэрэл, прежде чем заснуть крепким счастливым сном.
«Как ждать Алтан Гэрэл целых два года? Да и захочет ли она выйти за меня замуж?» — сомневался Саша, лежа в темноте один, и ему было тоскливо-тоскливо, как это может быть только в двадцать два года.
На развилке степных дорог купается в пыли Ураганчик. Он катается с боку на бок, отчаянно дрыгает ногами, словно рубит в воздухе невидимого противника, хлещет хвостом, ухает, фыркает и чихает от клубящейся вокруг пыли и гулко бьется головою о землю.
Алтан Гэрэл и Саша тычут в него пальцами и смеются до слез.
— Ай, зачем дурью башку-то отбиваешь?! — визжит Алтан Гэрэл, топает тонкими ногами, прыгает и кувыркается. Юноша от стыда закрывает лицо руками и садится на землю.
— О, горе мне с вами, первобытными детьми! — И он тоже блаженно рухнул на землю.
Ураганчик досыта искупался в золотой пыли, тяжело встал, красиво отряхнулся и поскакал, гарцуя, а на прощание помахал хвостом: «Бывайте, ребята!»
Алтан Гэрэл, смеясь, отряхивала короткое платьице-тунику, сотрясаясь, как Ураганчик, и в эту минуту Саша ненавидел и любил Алтан Гэрэл неведомою ему отчаянною любовью. Но как нестерпима была эта невинная и бесстыдная Алтан Гэрэл, по какому-то тайному праву дразнящая его своею вседозволенностью!
— Отчего Ураганчик так отчаянно валяется-купается в пыли? Может, его конские вши заедают? — въедливо спросила Алтан Гэрэл.
— Ураганчик слишком гладок — не по зубам им, вшам. Должно быть, от счастья он в пыли валяется, бесится, куражится! — рассмеялся отец.
— А кто наваксил Ураганчика обувною щеткою?! — строго спросила Алтан Гэрэл, округлив смелые карие глаза.
— Чтобы кобылы его к себе не подпускали. Представь, целый табун таких ураганчиков… Сплошные смерчи! — Дедушка стал тереть глаза перед внучкою, словно они засорились.
— Почему Ураганчик такой свирепый и забавный? — спросил Саша. — Чудо-юдо какое-то!
Знаете, Ураганчик — это я, — вдруг неожиданно для всех призналась Алтан Гэрэл с такою обезоруживающею самоуверенностью, что мужчины смущенно рассмеялись.
— Алтан Гэрэл, как Ураганчик, еще жеребенок, — сказал дед и любовно поцеловал внучку в макушку.
Саша Жаргалов смутился и закурил. Он затягивался с таким азартом, будто глотал не дым, а волшебное благовоние, что Алтан Гэрэл, с тревогою глядя на него, впервые заметила, какие красивые у Саши губы.
«Его предки миллионы лет занимались красноречием, миллионы лет целовались они, чтобы губы Саши обрели такую законченную, совершенную форму», — осенило Алтан Гэрэл внезапно.
— Ураганчик — это я, — повторила она смущенно и грустно, а дедушка тяжелыми, негнущимися пальцами поправлял ей чудесные растрепанные и разнузданные волосы.
— Чудо-юдо девочка! Да, ты с Ураганчиком победишь на всемирных скачках! — И Саша намертво вдавил окурок в пепельницу, словно докурил последнюю сигарету в жизни.
* * *
Семьдесят семь раз летела я с седла Ураганчика, но чудом уцелели птичьи девичьи косточки…
Но ты, Ураганчик, подарил мне ни с чем не сравнимое счастье полета сумасшедшим галопом по вольной степи.
О, дивный, свирепый, вещий скакун моей Судьбы!
Звени, звени золотыми подковами, сверкай выше белоснежных саянских вершин!
Сэмбэр уула, Сэмбэр уула1 —
Живет в сердцах гора такая!..
Дедушка не раз рассказывал мне о Сэмбэр, которую он хорошо знал с детства.
Он был убежден, что раньше в Бурятии не было другой такой женщины.
О ней говорила вся волость.
За глаза ее называли Сэмбэр уула.
Саженного роста и толщиною в два обхвата, она в любую дверь могла протиснуться лишь боком.
Лицо у нее благодатно-красное, лоснящееся от довольства, с тройным подбородком, обрамленное иссиня-черными волосами, — такою она мне представлялась.
И она не была бы тою Сэмбэр, если бы ее изумительные иссиня-черные косы не были заплетены так гладко и туго, как плетка степняка-кочевника.
Сэмбэр была женою богача Будажаба, и одевалась она, как то приличествовало ее положению.
Она любила темно-синие шелковые платья до пят с широким оборчатым подолом.
— Материи, что пошла на это платье, пожалуй, хватило бы на обшивку юрты! — говаривал дедушка. — Помнится, когда я однажды увидел Сэмбэр, сидящую на крыльце с распущенными волосами, она показалась мне похожею на огромную медведицу.
«Наверное, из пудовых грудей Сэмбэр можно было высосать по ведру молока. Но где найдешь такого Гаргантюа?»— думала я.
По иронии насмешницы-судьбы, мужем Сэмбэр был плюгавенький замухрышка Будажаб.
От одного ее гневного взгляда муженек дрожал, как зайчишка.
1 У у л а — гора (бурятск.).
— Глазки у него при этом бегали, как у мышонка, большая бородавка на лбу с пятью волосинками тряслась. Про таких в народе говорят: на полдраки не хватит! — смеялся дедушка.
Муж не доставал головою до плеча супруги и сбивчиво семенил рядом трусцою, чтобы не отстать от нее.
Говорили, что однажды Сэмбэр будто осведомилась у кого-то о муже, когда тот был в отъезде:
— Не встречался ли в пути человечек чуть-чуть выше земли?
— Как же он ночью на тебя забирается? — хохотнул наглец.
— По лестнице! — улыбнулась Сэмбэр.
Против воли своей, ради большого калыма Сэмбэр была выдана родителями замуж за Будажаба.
Сэмбэр настолько презирала мужа, что невзлюбила даже единственного сына — Жамбала за то, что он уродился похожим на отца.
Сама она одевалась добротно и богато, но никогда не обращала внимания на то, как был одет ее муженек.
Будажаб постоянно носил темно-зеленую рубаху, сшитую не по росту, и широченные черные штаны, болтающиеся сзади кулем.
К довершению всего муж был склочником.
Всегда что-нибудь он нашептывал волостному начальству, а по грошовым мелочам ябедничал на Сэмбэр своему старшему брату богатею Чойробу.
Жена и брат ненавидели друг друга, и Будажаб выкладывал весь запас своего ума, чтобы они не ругались хоть на людях.
Богатей Чойроб ненавидел свою невестку вовсе не за обильные телеса, хотя за глаза называл ее не иначе как слонихою, — дело в том, что Сэмбэр вызывающе дерзко попрала вековечное раболепие жены в феодальной бурятской семье.
Летом Будажаб с сыном жил на зимнике, а Сэмбэр занималась хозяйством на выгоне скота.
Здесь Сэмбэр пила молочный самогон с мужчинами и вела вольный вдовий образ жизни.
Кстати, Сэмбэр была на девятнадцать лет моложе своего мужа.
Если жена не любит мужа, то вряд ли простит ему такую разницу в возрасте.
В селе все боялись Сэмбэр, и никто не осмеливался в глаза попрекнуть ее вдовьим образом жизни при живом супруге под пупком.
И когда пьяный Будажаб, плача навзрыд, все же обвинял ее в распутстве, Сэмбэр брала его за шиворот, как щенка, водворяла в дровяной сарай и замыкала там огромным амбарным замком.
По словам супруги, «шавка-гавка» собачился, как мог: лаял, визжал и раскидывал по сараю дрова, которые ему же на следующий день приходилось складывать.
На Сэмбэр шум и гавканье мужа действовали как комариный укус на слона, и она выпускала своего пленника лишь утром, выходя доить коров.
— Такого бесчестья, такого унижения достоинства бурятского мужчины свет не видел до Сэмбэр! Но у нее, как у ханши, были свои законы, с которыми людям приходилось считаться, — говорил дед.
Но недолго Сэмбэр перебирала храбрецов.
Она полюбила родственника мужа — молодого Жаргала Дармаева. Круглый сирота, он батрачил у них с детства и был на особом положении среди родственников Будажаба.
Когда Жаргал был еще мальчиком, Сэмбэр относилась к нему с материнскою нежностью и ласкою, кормила и одевала его наравне с родным сыном.
И когда Будажаб ревновал Жаргала к Жамбалу, Сэмбэр укоряла мужа:
— Кто же тогда о бедном сироте позаботится, если не мы с тобою?! Да и Жамбалу нашему он как старший брат родной!..
И когда Жаргал вырос и возмужал, его нельзя было не полюбить: сильный, смелый, мастер на все руки, любое дело у него спорилось и горело в руках.
Не только умелым парнем вырос Жаргал Дармаев — бог не обидел его ни умом, ни голосом, речь у него лилась рекою, любил он шутки и прибаутки, ночами мог рассказывать народные сказки.
Все это щемило большое сердце немногословной Сэмбэр, она частенько забывала о делах по хозяйству, слушала волшебные сказки да складные речи своего воспитанника, и при этом ее сытое, счастливое лицо с тройным подбородком полыхало гордою и обжигающею улыбкою.
Однажды в честь большого праздника Сэмбэр и Будажаб созвали такое множество гостей, что они не уместились в юрте, и по воле хозяйки бедняки и батраки угощались на улице.
Жаргал Дармаев был посажен в юрте, среди почетных гостей, за верхний стол, как Григорий Орлов возле Екатерины Второй.
Когда все изрядно захмелели, богатей Чойроб не выдержал нарушения чинопорядка за столом и громко обратился к Жаргалу:
— Племянничку тоже наследства захотелось?! А? Наступило жаркое молчание.
Тогда, ободренный произведенным эффектом, Чойроб повернулся к невестке:
— Сэмбэр, может, тебе еще нужны молодые крепкие силы? Ведь все знают, что удалых баторов ты ценишь выше бурханов!
Наступило грозное молчание.
— Может, у самого дядюшки рыльце в пуху да усы в сметане?! — выпалил смущенный и разгоряченный Жаргал Дармаев.
— Хе-хе-хе! Усы в сметане! — раздался пьяный смех.
Не успели гости опомниться, кто же осмелился надсмеяться над богатеем Чойробом, как побагровевшая от ярости Сэмбэр молча встала со своего места и правою каменною рукою схватила деверя за шиворот.
Батраки, пировавшие на улице, а среди них находился и мой дед, увидели, как рывком распахнулась дверь юрты, оттуда кубарем вылетел богатей Чойроб да покатился по земле, вздымая шелками тяжелую пыль.
— Цк-цк-цк! — жалели бедняки его царственный наряд.
Говорили, будто Чойроб подал жалобу на дракониху в волостную администрацию.
Приехал один чиновник, поглазел-поглазел на Сэмбэр, обошел ее со всех сторон и с глуповатою улыбкою спросил:
— А не хотите ли, сударыня, в цирке бороться с медведем?
— Зачем с медведем? Он в лесу! — Сэмбэр свирепо взглянула на него.
— Что вы, что вы, сударыня! В цирке большие деньги платят, — только и успел пролепетать чиновник, поспешно пятясь задом к двери.
Такова была Сэмбэр, никого никогда не боялась: ни власти, ни знати, ни самого далай-ламы с его загробным раем и адом, и тем более людской молвы, что прихотливее морской пены, уходящей в песок.
Единственное на свете, чего страшилась женщина, — это потерять любовь молодого Жаргала Дармаева.
Когда умер ее старый муженек Будажаб, ровно через сорок девять дней (а это срок, за который душа умершего отыскивает и находит приют для своего нового облика в одном из трех миров), Сэмбэр вышла замуж за Жаргала.
Она разделила имущество и скот поровну, половину оставила сыну и переехала с мужем в новый дом.
Там молодожены закатили свадьбу на все селение, приглашены были даже последние оборвыши.
На этой свадьбе скот не жалели, голову за головою резали за счастье новобрачных, молочная водка лилась рекою. Сэмбэр, которая в один присест могла съесть за четверых дюжих мужчин, тут отличилась великим хлебосольством.
Счастье даже скупца делает щедрым, а уж щедрого— безмерно щедрым!
Люди и через полвека вспоминали знаменитую сэмбэровскую свадьбу, продолжавшуюся неделю и разорившую молодоженов.
На грандиозной этой свадьбе пьяные гости подпаивали даже собак, будто бы «по велению ханши».
Возвращаясь со свадьбы, многие замертво падали у первой попавшейся юрты, засыпая на сутки, а бедняки, оборвыши с переполненными желудками еле-еле доползали до своих юрт.
За небывалое угощение все, кроме богатея Чойроба, благословляли Сэмбэр и Жаргала, множество раз провозглашались тосты, до хрипоты в горле тянули степные и горные песни.
Жаргал Дармаев был горд и счастлив, что стал законным мужем такой могучей женщины, хотя Сэмбэр была старше его ровно на двадцать лет.
После женитьбы Жаргал неузнаваемо изменился.
Раньше он был заводилою во всех играх, играл с мальчишками в бабки, гонял мяч, а со взрослыми резался в карты.
Всегда-то он был зачинщиком молодежных хороводов— ёхоров, неутомимо пел, шутил, балагурил.
И куда все это девалось? Исчезло, как плевок на ветру.
Теперь Жаргал стал степенным домоседом.
Построил деревянный дом в центре села и с головою ушел в хозяйство и любовь.
А как трогательно старался Жаргал выглядеть старше своих лет!
Отрастил усы и бороду, постоянно поглаживал и пощипывал их, но они, к его огорчению, были хилыми.
Мужчины знай шутили: «Смазывай сметанкою да заплетай на ночь — к седине-то и вырастут!» Жаргал смущался и покашливал баском.
Когда Жаргал и Сэмбэр работали рядом, то любо-дорого было на них смотреть: до чего ж ловко и складно они работали вместе!
Оба разом подденут вилами по копне и разом взмахнут на стог.
— Даже пот с лиц смахнут разом! Сердца у них бились единым ударом — и все им завидовали, — просветленно рассказывал о них дедушка.
Супруги жили на редкость дружно, никто не слышал, чтобы они препирались или ссорились.
Они понимали друг друга без слов.
Каждый из них жил для счастья другого.
Во втором замужестве Сэмбэр стала еще молчаливее, но теперь ее молчание было глубоким, грудным молчанием от полноты женского счастья.
Она никуда не отлучалась из дома, разве что иногда навестит сына, которого полюбила. Мать ласково уговаривала Жамбала жениться, подбирала невест.
Жаргал и Жамбал, выросшие с детства почти братьями, внешне будто бы ими и оставались. Но, бывало, вырвется у Жаргала изредка крепкое словцо, Жамбал не упускает случая с озорством поддеть родича:
— Ёк, ёк, папаша, зачем же вслух об этом?
Но братская дружба незаметно сменилась ревнивым, зрелым, обновленным самим роком, вечным родством.
Своенравная женщина ни с кем из родственников и бывших друзей покойного мужа и словом не перемолвилась, словно они умерли вместе с ним, ненавистным.
Порою Сэмбэр молчала весело, подбирала живот.
Платья она носила теперь не темно-синие, а краснокоричневые или бордовые, и это ее очень молодило.
Изумительные иссиня-черные волосы заплетались по-особенному, не туго и строго, как прежде, а мягко и лениво, с небрежною грацией счастливой жены, отчего косы свисали ниже колен.
Дедушка говорил, что душевное состояние женщины можно угадать по ее прическе: счастливые женщины заплетают волосы с каким-то особым достоинством и небрежно-самовлюбленно закидывают их за плечи.
— Аай, бурхан![2] Что за дивные косы были у Сэмбэр! Каждая — такой толщины, как заплетенный хвост доброй кобылицы! — с удивлением и тоскою вспоминал дедушка.
Я никак не могла представить толщину сэмбэровских кос, ибо никогда не видела хвост кобылицы заплетенным.
Да какая добрая кобылица даст кому-то заплести себе хвост?
Так лягнет по лбу, что глаза вылетят!
Никто не может нашему Ураганчику хвост подравнять…
Долго и счастливо прожили на свете Сэмбэр и Жаргал и умерли в один год — Сэмбэр было девяносто один год, а Жаргалу — семьдесят один.
Детей у них не было, кроме Жамбала…
— Когда я вижу их могилы рядом, меня не покидает чувство, что они так же неразлучны и любят друг друга там, в ином мире, — взволнованно заканчивает свой рассказ дедушка.
Мне хочется представить Сэмбэр, когда ей было девяносто один год.
Уцелели ли ее чудо-косы, о которых через полгода дедушка вспоминает с тоскою и болью?
Нет, невозможным кажется, что могли поседеть и поредеть дивные косы Сэмбэр, пока в них жила и светилась душа любящей и счастливой женщины.
Недаром слово жаргал означает у нас счастье!
Сэмбэр уула, Сэмбэр уула —
Живет в сердцах гора такая!..
Так вот она — настоящая
С таинственным миром связь,
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась.
Что если, над модной лавкою
Мерцающая всегда,
Мне в сердце длинной булавкою
Опустится вдруг звезда?
Осип Мандельштам
Кем только я не мечтала стать в школьные годы! Хотела быть учителем, журналистом, геологом, олимпийским чемпионом, писателем, астрономом, космонавтом! Инстинктом, всем своим существом я верила, что добьюсь в жизни, чего только пожелаю, и стану самою выдающейся женщиной на земле. Ничего невозможного для меня и в мыслях не существовало, все жизненные преграды представлялись досадною паутиною, которую можно смахнуть белыми перчатками и пойти дальше по романтичной и бесконечно прекрасной трассе-стезе.
От природы бурятской я обладала редким здоровьем и всегда слыла сильною, крепкою девчонкою-атаманом, в крови бурлила потребность бегать, прыгать и действовать! С тринадцати лет я занималась всеми доступными в селе видами спорта. Побеждать на соревнованиях было непреодолимою потребностью души. Эта закалка, ища применения в жизни, искушала мое богатое воображение всячески. Ночью при лунном свете я одна каталась на коньках, нещадно спотыкаясь о трещины во льду и падая. От ушибов мое лицо сияло всеми цветами радуги.
И вечно я испытывала прочность своих костей на все лады.
В тринадцать — пятнадцать лет, отучившись во второй смене в Нижнем Бургалтае, по субботам я одна отправлялась домой на лыжах через замерзшее болото и горы, где водились волки. Другие дети, боясь темноты, дожидались друг друга после уроков и, собравшись вместе, шли домой в Гэдэн с песнями в обход по шоссе в надежде встретить машину. Я же с нетерпением надевала лыжи и перла напрямик десять километров.
«Если нападут волки, то железными наконечниками лыжных палок выколю им алчные красные глаза, проткну пасть!» — разгоряченно заклинала я, скользя лихорадочно по искрящемуся от лунного света снегу. И волки, видимо, издали звериным нюхом чуяли прущую из меня отвагу и трусливо обходили стороною. Не только волки, может, бронетанки обошли бы меня в ту пору! Сейчас у меня по спине ползут мурашки запоздалого страха от той глупейшей в мире храбрости, от высшей готовности голыми руками порвать пасти волкам!
* * *
Высокое в просветах черемухи небо сияло яркою сочною синькою. Густой, сытный благодатный аромат цветущих черемух пьянил голову. Милые суслики приветствовали меня, стоя на задних лапках.
— Эй! Суслики-услики! Приве-е-ет! — крикнула я на всю жаркую лесостепь, и суслики молниеносно юркнули в норы. Змей я не боялась, шла босиком. Ха, пусть укусит меня какая-нибудь извертевшаяся чахлая гадюка или разомлевший змей, пусть попробует на зубчик! Умру, что ли? Я упала на высокие травы и несколько раз перекувырнулась. Гадюки — не дуры, должно быть, тоже спрятались от меня, чтобы я не размозжила им ядовитые драгоценные головы. Выйдя на опушку, я увидела палатки на берегу Джиды и помчалась к ним. Там горел костер, и от него тянуло дымком и вкусным запахом ухи.
— Девушка, вы, наверно, скачете быстрее косули! — улыбнулся один бородач, сверкая бликами модных заморских очков.
— Это вы нас сусликами-усликами называете? — рассмеялся другой, обросший до кончика носа, и я стала испытывать постыдное чувство, будто они щекочут и трут меня шершавыми, колючими, как кошма, бородами. Вот уж украшение — эти бородищи! А если вши в них заведутся? Фу! Наши буряты на бороду не богаты…
Огромный рыжий парень пригласил меня пообедать с ними и уставился на меня, как на невидаль. Я вздрогнула, как будто меня уличили в какой-то вине. Почти от глаза молнией через всю правую щеку до подбородка пронзительно вопил шрам! Во мне вспыхнул пожар разнородных чувств, словно молния-шрам пронзила мое сердце иглою. Привыкший к разным впечатлениям, которые производит на людей его шрам-молния, он смотрел на меня холодно и выжидающе. А глазищи у него пронзительные, как ток! И нет у него мерзкой колючей бороды, коей мог прикрыть шрам-молнию… Вдруг он щедро улыбнулся, глаза его вспыхнули зеленым пламенем, как светофор в темноте! Щурю и без того узкие глаза и чувствую, как широко, словно степь, расстилаются мои монгольские скулы из-под буйно разнузданных волос.
— Как зовут отважную аборигенку? — Рыжий протягивает свою огромную деревянную красную лапу. — Еремей Калашников!
— Гэрэлма! — как остро торчат мои проклятые коленки, как у кузнечика, будто не меня, а коленки зовут Гэрэлмою.
— Гэрэлма, значит, дочь Бурятии? — он снисходительно бережно отпустил мою сухую раскаленную ладошку, которая чуть не задохнулась в чужой, огромной, опасной лапе.
…Обедая, геологи с тоскою поглядывали на ревущую Джиду. Речь шла о том, что в нашем аймаке открывается вольфрамо-молибденовый комбинат. Джида текла, словно радуясь своей силе, в далекую Селенгу, а Селенга течет еще сильнее, спешит в сказочный Байкал. И так по всей Земле текут эти реки, переливая зачем-то воды, — может, затем чтобы они не заплесневели во сне?
— Здесь никто не переплывал Джиду! Тут воронки с водоворотами! — пояснила я геологам, отрываясь от завораживающего течения реки.
— Эх, сколько рыбы крутится там! — сказал Еремей.
— В вас, русских, дух воды, плаваете и ныряете как рыбы!
— Вода — наша стихия! Но тут рискованно.
— Хотите, я завтра переплыву здесь Джиду? — спросила я неожиданно.
— На спор? — удивились ребята.
— На страх и риск! — ответила я.
Бывалый Рыжий с любопытством смотрел на меня, и злорадно смеялся его шрам. Я смутилась от собственной дерзости перед взрослыми русскими мужчинами, сразу попрощалась и безудержно побежала наперегонки с тенью. Я не умела чинно и красиво шагать. Бег был естествен для меня, как само дыхание. Я летела, и юные силы звенели от роста, как летящие стрелы. Со мною летело все: тропка, тень, деревья и мои разнузданные волосы, ускоряющие бег. Без развевающихся волос нет прелести женского бега. Ах, пусть солнце-золотце радуется с небес и хохочет надо мною глупою!
* * *
Где-то я читала, что в Африке стадо слонов решилось на марафонский заплыв, чтобы показать миру великую слоновью выносливость. Слоны переплыли озеро наискось — расстояние сорок километров — за двадцать семь часов! Могучие бивни разрезают волны, как кили, необъятные уши раздуваются, как паруса. Универсальный гений-хобот загребает волны вместо плавника… Плыли сутки и три часа на диво ученым-зоологам. Может, гиганты решили встряхнуться и сбросить лишний вес? Титанам требуются титанические нагрузки, чтобы выжить… Мудрым слонам-пловцам я поставила бы серебряный памятник! Но где человечество наскребет столько тонн серебра?
Я плыву потому, что так загорелась душа, запрыгало сердце и закипела кровь… Неужто я стану добычею рыб? Да не будет такого безобразия, чтобы меня засосала слепая воронка и какие-то вонючие черви слопали меня— Дочь целого народа! Да откуда мне знать пределы своих сил? Я, может, лучше самих рыб плаваю? Если захочу, золотою рыбкою приплыву к берегу. Ведь я — великая девочка… Даже комолые коровы, бараны великоглупые, сальные свиньи переплывают реки, задрав свои беспомощные морды! Одними ногами. А как же безногие, безусые, гладкие как стекло, отполированные природою, змеи плывут?! О, не будь беспомощною, как куриное яйцо в воде!
Могучее течение уносит меня, как щепку. Отрывайтесь, мои руки и ноги, но плывите, не висите, как сосульки! Укусить себе пальцы, но — плыть, плыть, плыть! Хоть зубами, ртом, волосами… Джида текла куда-то в небо, и я плыла-текла куда-то в небо и в вечность. Но вот наглоталась ледяной воды до оглушения и пошла по кругам на дно воронки, под безумную толщу вод ада…
Снова ревела ледяная вода, ярился водоворот, кружилась воронка, где кружился весь мир, ледяные осколки солнца вонзались в мозг, и я тонула в кружении миров. Сознание собрало всю мою великую человеческую волю, могучий яростный инстинкт жизни, и я снова плыла-текла куда-то в небо и в вечность.
Рыжий плыл ко мне. Этот ускользающий миг реальности в далеком будущем выльется в строки:
Я в бездне миров блуждаю одна —
Опору на миг себя подари!
Тогда он вынес меня на берег, укутал в ковбойку пятьдесят четвертого размера и, не зная, куда положить, стоял и держал на руках, как новорожденную.
— Дура! Дура! Дура великая! — он захлебнулся, и я чувствую, что опасность смерти приблизила нас сразу на столетие, и начинается новый век — может быть, двадцать первый, в коем мы свои, близкие люди.
И все вокруг: солнце, небо, воздух, река и люди — дарило мне одно ощущение, одно бессмертное чувство, что я жива, жива, жива! Трижды жива голенькая дурочка в пятьдесят четвертого размера большущей ковбойке, но временами мне так плохо, что не ведаю ни стыда, ни боли, ни радости, ни раскаянья, только дышу в смертельной отрешенности, слегка чувствую его прерывистое теплое дыхание, вижу, как словно по руслу стекают капли по его шраму. Да что шрам? Гримаса разъяренной кожи. Человек может состоять весь из шрама, как поле из борозд!
— Надо растереть тебя спиртом! — пыхтит Еремей.
Пусть растирает меня хоть бензином, хоть собачьей мочою, мне все равно. Пусть я — самая смелая девочка на земном шаре, что от этого? Чуть не утонула. Я навеки ощутила и осознала одно великое чувство, что я — жива, а все остальное под солнцем далеко посторонилось за горы, глаза мои закрылись в больном тумане. Во сне ли, в бреду или наяву река текла куда-то в небо и в вечность, унося меня холодно-стругающими, разъяренными рыбо-глыбными волнами.
— Я принес тебе печень в масле, — Еремей открыл банку, поставил передо мною и сказал строго: — Чтобы все съела!
Мне стыдно было при нем уплетать печень, да еще в масле, но прилежно все съела, облизнулась и шаловливо поскребла ложкою в банке.
— У тебя снова температура? — он слегка приложил широкую, как лопата, ладонь к моему лбу. Я отклонилась, покачала головою, чувствуя, какая она взлохмаченная.
— Ты ложись, Гэрэлмушка, отдыхай, а я выйду покурю.
Моя ненаглядная Риммочка-пампушечка, круглая и крепкая, как арбуз, в цевку надутая девочка трех лет, округлив большие черные глаза, внимающая Еремею, вдруг забавно рассмеялась, откидывая голову назад.
— Дядя, ты почему мою маму называешь Мушкою? А? Она что, батагана[3], что ли? — спросила Риммочка шаловливо-ревниво, глазами ища мух на окне.
— Разве Гэрэлма твоя мама? — удивился Еремей.
— Она тоже бывает мамою, когда мамы дома нет. Она, она — заммама! Вот так! — гордо басит она густым громким голосом по-русски, пыхтя и путаясь в своем двуязычии. — У меня два мама! Мушка, мушка — батагана! — радостно кричит она, пытаясь поймать муху.
Риммочка всегда безудержно смеется от конфуза столкновений разноязычных слов и понятий. Когда я ей объяснила, где у нее подмышки, сестренка залилась безудержным смехом: «Мышки, что ли, под мышками бегают? А?»
— Где я раньше была? А? Ты знаешь? — теребит она Еремея своим коронным вопросом бытия, которым всегда всех ставит в тупик.
— В животе у мамы росла, ой как брыкалась! — поспешно отвечаю я.
— А до живота, дядя, где я сидела? А? Ты знаешь? — не отстает она.
— Везде ты жила-была, Риммочка, в воде плавала, в воздухе летала, — ласково напеваю я ей.
Риммочка перестает мурыжить Еремея, округлив большие, черные, как черемуха, глаза, смотрит на потолок, пытаясь понять, как она раньше в воздухе плавала пылинкою…
— Раньше я что, паром была, что ли? А? Кипела в чайнике? А? Дядя, дядя, ты тоже хочешь стать папою? Да? — а сама успевает крутить-заводить его часы наоборот.
— Ах, ты! — Еремей, не находя слов, смущенно берет и сажает Риммочку на колени.
— Пойдем курить! Я хочу смотреть. А ты умеешь курить? — любопытничает Риммочка, и они выходят на крыльцо.
Я легла в платье под одеяло и укрылась до подбородка. Молодцы мои руки! Не оторвались в водовороте проворные мои крылья-лапушки, а теперь чинно лежат вдоль вытянутого тела. Волосы разметались по подушке. Пусть. Они пахнут земляничным мылом. Ноги вытянуты, как стрелы, носки врозь. Я слегка забарабанила ногами от удовольствия. В комнату вошла мама:
— Ты чего легла-то, невестушка! — и въедливо зачастила — Ай бурхан! Конопатый, как небо в звездах, как сито в дырах! Будто ржавый! Ай бурхан! Огненный богатырь! — Тут мать с уважением взглянула на трех богатырей Васнецова в раме под стеклом, которые талантливо воссоздал ее родной брат Юндун, погибший в Великой Отечественной войне.
— Ай бурхан! Огненный богатырь! Только ржавый, — заключила мать, сравнив Еремея с богатырями Васнецова.
Вернулся Рыжий, неся нашу драгоценность на огромных красных руках.
— Дымом, наверно, пропахла, — сказал он глухо.
От них и в самом деле запахло дымом, но мне почему-то приятно. Может, потому, что я объелась печенки в масле? Раньше тягучий дым цеплялся за волосы, проникал в уши и осквернял меня. Только табачный дым моего дедушки был привычен. Этот дым от самосада и красной древесной коры, растолченной в пыль и порошок, стал его дыханием, частью его самого. Как рьяно ни ругается, ни грызет его бабушка, дедушка курит уже полвека и терпеливо шутит:
— Умру поди с трубкою в зубах! Так и похороните!
— Гэрэлхэн, а ты куда будешь поступать учиться? — приставив табурет, Рыжий подсел ко мне.
— Хэн? Хэн? — Кто? Кто? — обрадованно перевела Риммочка уменьшительный суффикс.
— На астрономическое отделение МГУ.
— А я представляю тебя геологом. Дитя природы, выросла на Джиде, — гость смутился от пристального взгляда матери.
— Интересно, что было бы на свете, если б не было звезд? И куда стала бы тогда поступать наша Гэрэл-ма? — вздохнула мама.
— Как предсказал Вандан-ламбагай: или сказочницею стану, или за русского замуж выйду!
— Да что тебе за русского? Уж выходи за иностранца! — выдала мать.
— Ай бурхан! Огненный богатырь! Густоконопатый, как небо в звездах, как сито в дырах! — и я уставилась на трех богатырей Васнецова.
От подобных разговоров мы все были смущены. Больше всех смущался огненный богатырь Калашников. Он, разумеется, не мог знать, как я разговариваю с родителями в своей исключительной избалованности и как тяжело матери иметь такую дочь, как я! Однажды я на-ругала маму, что она ежегодно знай рожает да рожает, и мне осточертело стирать вонючие пеленки. За какие грехи бурхан наделил меня должностью прачки по пеленкам?! Мама пожаловалась моему отцу, тот смущенно промолчал, словно виноватый перед нами. Затем во дворе до колючей темноты как надсадно, как сверхусердно он рубил дрова!
Мама налила Еремею густой зеленый чай с молоком и крепкокислую шипящую пахту.
— Всё сразу? — удивился Еремей.
— На выбор. А пахта крепка, как чарочка вина! Геологи всю жизнь пьют черный чай, поди застревает в горле. Чай без молока — что ржавчина в горле! — посочувствовала мама. — Нашей Гэрэлме рано замуж. Да где ей потом найти такого, как шелк, как парное молоко? Гэрэлма колюча, как оса! — продолжает она.
— Я — оса? Сама же родила! Ох, как я внутри тебя жужжала и жалила тебя!
Мама была смущена. Не будь Еремея, она ударила бы меня полотенцем. Она устала от пятерых детей и бьет нас полотенцем или какой-нибудь тряпкою, какая попадет под руку в момент гнева.
— A y меня в желудке бунта не будет? — спросил Еремей, выпив крепкокислую шипящую пахту.
— Большой бунт разыграется, если Гэрэлма убежит с вами, а так — от пахты сила прибудет.
— Баяртай! — попрощался Еремей по-бурятски, поцеловал Риммочку в роскошную щеку.
— Ишь! Целует мою пампушку! Ять! А глазищи, как у Бармалея! Риммочка, тебе не страшно?!
— Не-е! Он — не Барма-лей! Он мне шоколад дал!
— Мам, разве у Бармалея зеленые глаза? — спросила я.
— А какие же? Может, как черемуха, черные? — она почерствела лицом. — Бармалейка! Не буду нянчить рыжих внуков! — запротестовала мать и от обиды зло высморкалась.
— Я с семи лет нянчила твоих, а ты не хочешь нянчить моих? Тогда я тебе не дочь, никто, небылица! — Я соскочила с кровати и топнула.
— Уймись ты, небылица! Не топай босиком! Занозы в пятки влезут — не отковырять… Глядя на тебя и Риммочка начнет топать на мать!
— Пусть! Я тебе не дочь, никто, небылица! — и топнула еще сильнее.
— Я не топать! Я буду нянчить рыжую лялечку! Я-я нянчить! — закричала Риммочка со слезами и тем выручила всех нас.
* * *
На небе бурлили, спорили скопища ликующих облаков: оранжевые, пепельные, сизые, жемчужные, зеленые, изумрудные, бирюзовые, лазоревые, розовые, алые, ядовито-красные, и в просветах между ними небо пело божественными красками. За чудесами и буйством неземных красок я залезла на забор, оттуда на крышу дома… Из-под обломанных ногтей сочилась кровь.
— Ты почему, взрослая дева, танцуешь по крыше собственного дома?! По головам священных бурханов!!! Я выпорю тебя крапивою! — грозила мать.
На востоке неподалеку лил дождь, на сухом западе догорал небывалый закат. Небо горело, пылало, пело медными, золотистыми цветами. Да, красота превыше священных бурханов, красоту не растоптать.
— В последний раз прыгаю с крыши! — пронзительный холодный замирающий восторг на миг сдавил грудь — и вот на земле цела и невредима, тело в восторге, душа жаждет олимпийских побед.
Поздно вечером я вышла посмотреть на небо: исчезли фантастические краски, на вечернем стальном небе темнела огромная грибовидная туча, похожая на атомный взрыв.
Ночью шла гроза, и, проснувшись от грохота грома, я вылезла в окно. Ливень хлестал меня, под ногами пузырилась и шумела глиняная вода. Густо пахло землею, ее жиро-потом, вольготно дышалось целебным вкусным воздухом. На одном столбе электролампочка вибрировала сизым огнем, на другом горела спокойно. Непроницаемую небесную хлябь ослепительно рвала молния, в полосатом сумраке фонарей сочно мерцали омытые до ран темно-зеленые листья деревьев.
На далекой звезде Венере
Солнце пламенней и золотистей.
На Венере, ах, на Венере —
У деревьев синие листья[4],—
с ночною тоскою по синим листьям декламировала я стихи под ливнем.
Мир был омыт до истязания, звонко журчали темные ручьи, неся земные кровь и пот, далекая тишина и туманы бредили прекрасною сказкою, и мне от полноты счастья хотелось танцевать на радуге.
Моя бедная бдительная мама испуганно выглянула в окошко.
— Мам, я — большая моржиха, я — даже гиппопотам! Там-там-там гип-по-по-там! — и я затопала по луже, раздувая щеки и раскинув руки: «По головам священных бурханов! По головам священных бурханов!»
— Какую я дрянь родила! Нет небесного дня и ночи, чтобы ты не рисковала жизнью! Погоди, сейчас ударит молния и от тебя головешка останется! Кровь сварится, кости обуглятся!
— Разве молния целится в меня? Разве нет на свете громоотводов! Вон корова не чует беды, жует и жует, как жернова… Она и молнию разжует! — Я стояла под ливнем в пенящейся, пузырящейся воде и, жмурясь от молний, отжимала волосы, мыла ливневою водою.
гениальный сон о прекрасном ПРИШЕЛЬЦЕ
Я должна была выйти замуж за Пришельца иных миров, потому что на Земле не нужна была никому.
Выглядываю в окно и вижу, что приземляется, паря как птица, великолепный, будто дельфин, космический корабль.
Распахивается люк, и по трапу спускается юноша в радуге, прекрасный, как бурхан! Глаза у него — два черных солнца, вспыхивают золотыми искрами. Я бросилась переодеваться. Передо мною лежит копна платьев, ни одно не подходит. Стою голышом, на мне ни единой нитки! Но открылась дверь в роковую минуту, и я сусликом юркнула в платяной шкаф.
— Гэрэлма — самая бесстрашная девушка на Земле, и я прилетел за нею, — обращается астронавт к моим родителям по-русски.
Тут восстал мой дух, и тело охватило огнем. Я разом распахнула дверцы шкафа.
— Да нечего было задыхаться в шкафу, — простопросто, по-земному сказал Пришелец. — Тебе незачем носить земные нелепые одежды! — И он обволок меня своею радугою, радуга содержала тоненькую черную полоску…
— Я многому научу тебя, — говорит он, — твой разум проникнет в глубь вещей, как рентгеновский луч. Хочешь заглянуть в глубь себя? — И он мизинцем прикоснулся к моему сердцу, и я смотрела на себя в телескоп и видела себя прозрачною: мой мозг вспыхивал миллионами звездочек-мыслей! Сердце молотило и молотило, словно штампует монеты. Какое мощное, слоновье дыхание легких! Стремителен бег пунцовой крови по сосудам. В крови моей засияли, засверкали, переливаясь, семена чудес, семена иных миров, не отмеченные в Периодической системе гением Менделеева, и я знала, что врет прекрасный Пришелец о моем бесстрашии, ведь я многого боюсь на Земле, что стыдно перечислять навозную дребедень перед высшим разумом, более же всего боюсь войны миров! А клюнул Пришелец на горячечное броуново движение моих элементов чудес. Вот он — «и в божьей правде — божий обман»!
«С этими элементами чудес я никогда не умру!» — сверкнула мысль в озарении, и я звонко рассмеялась*, бег моей крови с вспыхивающими, сверкающими элементами чудес казался мне вечным, ничем и никогда не остановимым, будто я — вечный двигатель!
— Разбегись и прыгни! — попросил Пришелец,
«Поцелуй!» — прочитала я в его черных глазах. Ведь я еще ни с кем не целовалась на Земле.
Я легко-легко разбежалась, и сама земля подалась мне навстречу, в ушах тепло и тоненько запел ветер, в воздухе заструились мои длинные разнузданные волосы в ритме вселенской гармонии. Я мчалась, едва касаясь носками земли, мне было расчудесно от волшебного бега, резвясь, я оттолкнулась — и взлетела в воздух прекрасною ветвистою змеею с коралловыми рогами! Я летела высоко-высоко, поюще и невесомо с семенами чудес, парила, как орленок над моим родным Гэдэном, и приземлилась обессиленная.
— Вот это да! — воскликнул Пришелец совсем как мальчишка. — Ты мне подаришь один коралловый рог?
Глаза у него — два черных солнца — вспыхивали золотыми искрами от восхищения, его радуга переливалась и дрожала. И я с треском открутила ему один свой рог. Да что там какой-то змеиный рог, я сама готова была взойти с ним на костер!
Вдруг всплыл огромный рыжий носорог и прицелился рогом в мое сердце. Носорог был украшен попоною из брезентовой палатки. Могучее разъяренное животное-зверь, трогательно укрытое брезентовою попоною, было до слез земным, родным и милым, и я знала, что бык-носорог не дурак, не станет бодать прямо в сердце! Да это изобретение природы есть не что иное, как грубый мужской панцирь Рыжего Бармалея!
— Для любви нет межпланетной преграды! Виза уже подписана Президентом Земного Шара! — И Пришелец, смеясь над гиблым культом земного бюрократизма, азартно помахал перед рогом носорога драгоценною бланочною бумагою, вибрирующей кружевами тьмы печатей всех стран, и подколол визу на рог!
Назревала драка на почве ревности, и я стала вслух считать государственные печати на приколотом бланке. Надо бы ЭВМ!
— Товарищ Пришелец! Да вы никакой не гуманоид, а очередной аферист с летающей тарелки? А? — промычал рыжий бык.
— А ты кто есть? Пещерный бык-рогоносец! Топай копытами! — и стеганул хлыстом по брезентовой попоне и захохотал! От смеха задрожала его радуга, из глаз брызнули молнии.
Носорог не вынес такого оскорбления и с приколотою на рог визою боднул Пришельца в радугу, и она стала покрываться человеческою кровью, высшею субстанциею миров. Драгоценнейший бланк, подписанный Председателем Земного Шара, растворился в крови.
— Перестаньте! Перестаньте! Я вас обоих люблю! — отчаянно закричала я и, забыв себя, бросилась разнимать драку сдуревших мужчин.
…И тут я проснулась. В глазах еще плыла таинственная радуга. Немыслимым было кому-то на Земле рассказывать такой сон, разве только обогащенным изощренным мифотворчеством современным читателям.
* * *
Узнала, что в Древнем Египте царицы купались в ослином молоке. У нас большая семья, девять ртов. Нам, пятерым детям, вечерами дают по кружке парного молока. Своею порадею я стала умываться, хотя молоко старой Пеструшки потеряло былой вкус и густоту, оно тоже состарилось, стало синеватым, как молоко колхозных коров, закрытых зимою на силосе, или же разбавленное водою. Нет, состарившимся молоком красоту не наведешь, лучше раздаивать засыхающих овец. Я, наконец, выросла на овечьем молозиве. Разве оно хуже ослиного молока? Разве у вредных, упрямых ослиц такое густое, как крем-сливки, молоко?
Да на что молочный цвет лица цариц, если не штурмовать высот?! Я ведь с детства мечтала забраться на вершину самой высокой горы Гэдэн-Баабай. Гэдэн, конечно, не Бурин-Хан, но сказывают, что с вершины Гэдэн виден весь наш Джидинский аймак как на ладони. Меня питала иллюзия, что, взобравшись на вершины гор, приближусь к небесам и тайнам мирозданья.
Греховным считалось в старину бурятской женщине взбираться на обрядовую гору, женщина может собою осквернить дух священной горы и погибнуть от возмездия. Для служения молебна на обрядовую гору поднимались ламы, почтенные старцы и мужи. До восхождения резали баранов, варили их головы и мясо, стряпали мучные бообы в кипящем масле. Сушили пенки и сырки, гнали самогон из молока и хлеба. Туго набивались кожаные мешки и котомки. Посланцы села тщательно наряжались в тэрлиг — летнюю тонкую шубку с подкладкою, подтягивались-затягивались яркими шелковыми кушаками. Из одного кушака почтенного ламбагая, пожалуй, выйдет пара современных платьев. Избранники села седлали лучших скакунов, и важно подпрыгивали радужные кисти на высоких остроконечных стеганых шапках.
«Гэдэн-Баабай! Прими первые священные капли крепкого архи, прими наши дары! Ниспошли на землю щедрые дожди! Убереги хлеб и скот от града, холода!» — молились и падали ниц на колени и лбами стукались о камни. Велика была буддийская вера у бурят. Ламы в экстазе служили молебны и предсказывали людские судьбы. После этого все угощались, опустошая мешки. Возвращались домой поздно вечером с бесконечно протяжными песнями о славных скакунах, степных и горных дорогах и о любимой, всегда единственной в красном сердце. После свершения обряда разговоры шли радостные, лились дожди щедрые, лилось ливнем молоко в зените благоуханного летнего цветения. Славно нынче попотчевали Гэдэн-Баабай! Послал хозяин горы дождей!
«Поднимая пыль золотой Земли, да будем мы живы-счастливы на ладони золотой Земли!» — испокон веков возглашают мудрые буряты.
* * *
Еремей Калашников рассказал мне о своем Сахалине, как там построили железную дорогу Победино — Ныш, о богатстве некогда тюремного острова, сколь реки и моря обильны рыбами, в густых лесах рассыпаны ягоды и грибы. Тучные стада коров бредут по колено в траве и плюхаются на землю под тяжестью утроб и вымени. И как алчно-жестоко кусают всё живое тучи комаров. Еремей дал мне прочитать книгу Дорошевича «Сахалин» 1903 года издания.
— Кстати, о Сахалине. По длинной дороге туда Чехов встретил одну бурятку и попытался с нею заговорить. А бурятка не понимала по-русски ни бельмеса, гикнула на коня и умчалась в степь! Гэрэлма, может, она твоею прабабкою была? — Еремей лежал в степи огромный, гуманный, мечтательный. Прекрасным казался даже шрам-молния, доставшийся в рукопашной с медведем. За пронзительный ток его зеленых глаз мать зовет его Рыжим Бармалеем!
— Неужели мозг и сердце какого-нибудь гуманоида на вопиющий зов Человечества не ответит никогда? Услышь, гуманоид далеких миров, песни и визги женщин Земли! — взывала я.
— Зачем придуман людьми гуманоид? Никак сами не уживутся на Земле. Государства грызутся, как шакалы… Нет, род людской не вынесет никакого гуманоида! Лучше ищи его на земле, вон среди тех армян, которые строят вашему колхозу коровники, — перешел он с печальной философии на шутку.
Еремей был старше меня на семь бесконечных лет. О, как бывал ироничен порою геолог, сравнивал меня с промокашкою за мою всеядность. Однажды сахалинский богатырь-олух обозвал меня степною порхающей цветастой бабочкою!
— Что для Пантека алые паруса — лучший способ перевозки контрабанды, так гуманоид для тебя — шабашник! — оскорбилась я.
— Бармалей, капитан Грэй, гуманоид — сколько у меня могущественных соперников? А?
— Да все они вместе — один злодей, который приплывет с черными парусами, чтобы окончательно утопить меня в воронке!
— О-о-о! Еще Кощей Бессмертный приплывет! — смеется он, но его острый, как гвоздь, взгляд гаснет от наплывающей горячей нежности.
В полночь вглядываюсь в звездное небо. Мириады звезд мигают, трепещут, сгорая в черном струении далеких миров.
— Для чего вы, звезды, светите-горите? — спрашивала я.
— Чтобы ночь была чудесною! — отвечал Еремей.
— А если ночь чудесна, для чего светите?
— Чтобы сон был счастливым!
— Если сон счастливый, для чего горите?
— Для любви сгораем!
— А если я любима, для чего сгорать-то?!
— Светим просто так! Для красоты миров! — Еремей слегка задыхался, звезды шумели, — пели хором и сыпались на нас.
— Ах ты мое чадо человечества! — он поднял меня порывисто и протянул ввысь невидимому зову.
Чувствуя себя пушинкою на руках того, кто тяготится своею силою, может, даже устает от нее, я бережно обняла его большую, даже ночью огненно-рыжую голову.
Запах его коротких, скользких, чудесных волос пощекотал мне ноздри и растворился в голове жарким жгучим опьянением. От безумного угара его желанных, мужских, неистовых волос мне стало нестерпимо хорошо. Я обхватила голову Еремея руками и крупными жадными поцелуями осыпала его лицо.
— Я буду тебе удивительною женою! — выпалила я сокровенную мечту.
— Радуга ты моя в синем небе! — он слегка подбросил меня, поймал и закружил. Земля кружилась вокруг гнувшейся оси, куда-то кренясь и качаясь, в фантастическом хороводе кружился и пел хаос далеких тайных миров.
— Еремушка, поцелуй меня, — прошептала я, со страхом ожидая сжатия самой Вселенной, которое после раскрутит наоборот всю спираль мироздания.
Еремей отпустил меня на землю, обнял. Слегка хрустнули мои птичьи косточки — и поцеловал. Когда оторвались его губы, я ощутила сладко-желанную соленость его языка с привкусом табака… Я проглотила слюну с никотином, вздохнула всей грудью и помчалась навстречу косой одинокой Луне. Я бежала легко-легко, словно шаловливый жеребенок, со свистом разрезая уснувший прелестный воздух острыми, как у кузнечика, коленками, и в странной волшебной легкости мне с неба светили две луны!
Когда я остановилась, счастье уже не мучило меня своею игольною остротою, его полноту я развеяла в прохладном ночном дыхании, подарила косой одинокой Луне. «Радуга ты моя в синем небе!» — пел хаос далеких-далеких звезд. Я слышала шелест и шуршание звездных лучей, и в лучшие минуты юности помнила, что там, за гранью всего человеческого, живет мой прекрасный Пришелец, живет, как мировая тайна и мечта сверх моего высшего счастья на Земле…
Опьяненная алыми парусами девичьих грез, я не смогла поступить на астрономическое отделение МГУ. Немало слез я украдкой пролила из-за разбитой мечты. Родители милосердно одаривали меня предельною самостоятельностью и утешали:
— Не унывай. Ты будешь нашим местным астрономом! Продадим старую Пеструшку и купим тебе телескопию! — ласкал дедушка, целуя мою несчастную голову в макушку.
— Я и есть местный, приусадебный астроном! — горько-горько заплакала я, не таясь, и заболела.
Милый-милый Рыжий Бармалей! Каждый час моего бытия в разлуке полон тобою, даже во сне от тебя не уйти…
Пишу Дневник Мечты: с…Мое Человечество — Жар-птица Вселенной гробнице миров подарило свое золотое яйцо. Цвети вековечно…» — мои первые строки о мире прочитала мама, сказительница бурятских волшебных эпосов… и заплакала…
"А над гаванью — в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мыслей — сверкает Несбывшееся — таинственный и чудный олень вечной охоты»[5],— читаю строки великого романтика в юношеском Дневнике.
Высоко парила я над крыльцом жизни и, расправляя крылья от юных счастливых бед, смеясь, махала алым платком птицам, улетающим в далекие страны.
Юность моя — как танец на радуге.
Мечта поэта
Люди! Я дарю Вам
Голубую розу.
До чего может разыграться досужее женское воображение!
Может, пределом женского воображения явится сей своеобразный рассказ, написанный от избытка пресловутой праздности, которой столь велико, как проказы мозга, страшатся мои деловые современники, гоняясь за какими-то фантастическими алмазными фарами для супермашин, и будто бы венценосные фары проветривают туман в головах водителей!
В то время, когда гениальные современники, алчущие новых неведомых добыч, слепоглухонемо летят на смертельной скорости с таинственным роковым кодом в Никуда, я спала сладким сном, как сурок, отлеживала пышные бока на полу в неге нирваны.
Пусть избранники человечества купаются в золоте-изумрудах, как свиньи в навозе, и тешатся измерением таинственной силы, энергии блеска супердрагоценностей, звенят платиновыми кандалами. Меня всегда изумляли магические чары изумруда магнитом притягивать людские сердца. Но в нирване Будды драгоценности угнетают тело, как блохи цепного пса.
Ох, как занемели руки, ноги и раздобревшее от черного хлеба, от жареной картошки тело, хотя до сорока лет сплю на полу, как аятолла Хомейни.
— Пока не прилип к черепу мой бессовестный мозг, пока не началась проказа мозга, лучше отрубить голову и выбросить в мусорный ящик! — выругалась я вслух.
Сколько драгоценных, безвозвратных лет короткой, клубнично-сладкой бабьей жизни я лежмя пролежала в нирване, пока не кольнул меня в ляжку древогрыз! Током пронзила жгучая боль, и онемевшая рука молниеносно смахнула жучка.
— Ах ты подлая божья тварь! Осатанел, как шакал, от паркетного лака, не может отличить древесину от женского тела! — я стерла заблудшую божью тварь в пыль.
От страха, что древогрызы могут просверлить мне череп и проникнуть в мозг, я вынуждена была встать, закатать рукава. Ошпарила полы кипятком и посыпала щели солью. Но древогрызы ушли в глубокое подполье, плодились пуще. Кипятком и солью я испортила свежее лаковое покрытие пола, тревожно просыпалась по утрам, чтобы вновь вручную бороться с неистребимыми червяками!
Эх! Жила-была человеческая голова, спала сладчайшим сном! Укусил пьяный жучок в ляжку, словно змея в ахиллесову пятку. Боюсь почему-то проказы мозга. Закрою глаза, шевелятся ли извилины? Вижу студень в черепушке и отгоняю продукт воображения со страхом. Я хочу видеть, как варится магма в чреве земли, а не застывший студень в черепушке!
Так, наконец-то, чиркнула мысль спичкою, озарила высокая идея издавать в отечестве газету «Благородные сенсации» в пику низким, скандальным, безбожным!
«Один ученый-самодур вырастил Голубую розу с золотыми шипами на изумрудном роге живого пасущегося Единорога, посвятив этой роскошной придури всю свою сознательную жизнь. Голубая роза с золотыми шипами окольцована аурою-радугою. Что ж? Теперь ученому-самодуру осталось украсить рог какого-нибудь счастливого рогоносца Голубою розою с золотыми шипами», — шутила демократичная газета.
Единорог — изумрудный рог, Голубая роза с золотыми шипами, кольцевая радуга, чудак-ученый, далекие звезды, мозг и сердце какого-нибудь гуманоида, венценосные Жар-птицы, алмазные фары, мусор, черви… — мир един, а тайн бездна. Я поцеловала милую добрую морду могучего синего Единорога, которого люблю необъяснимою женскою любовью.
Голубая роза с золотыми шипами в ауре-радуге на изумрудном роге могучего синего Единорога вызвала самые различные толки-кривотолки в просвещенных умах.
Философы с раздражением вылезли из тупиковых берлог, чтобы взглянуть на дивный цветок.
— Пусть все рога на свете зарастут голубыми розами— мужики вырвут их с рогами, бабы сварят настойку. Род человеческий растопчет само солнце, валяйся оно под ногами, сожрет Жар-птицу, если поймает! — и, мрачно ухмыляясь, философы уползли в берлоги Черномудрия.
Выдающийся французский скульптор-авангардист состряпал и соткал Единорога из голубых роз, а на изумрудном роге крутился-вертелся голубой глобус Земли. Но ненасытные гурманы-парижане, как козы, общипали лепестки из голубой неведомой кожи на русские борщи.
Один бедный мудрец, борющийся с голодом, успешно защитил докторскую диссертацию: «Голубая роза с золотыми шипами в ауре-радуге, выращенная блаженным ученым на живой пасущейся почве — на синем изумрудном роге, изумила меня великою утопией в области сельского хозяйства. Как бы вечно и бессмертно ни сияла чудо-роза голубыми алмазами под бурями и градом, она никого не накормит. Из изумрудного рога Единорога нам не высосать молока. Из золотых шипов не выжать нектара. Если голодных еще можно сейчас накормить колбасками из костной муки рогов и копыт, то абсолютно нечем заткнуть пасти сытых. Наступил кризис ожирения. Как спасти людей от всепожирающего обжорства??? Людям остается научиться быть сытыми волшебным запахом ауры-радуги Голубой розы, сохранив в музее единственный синий изумрудный рог Единорога. Вот это — голубая мечта Человечества».
И цвет Голубой розы с золотыми шипами в ауре-радуге был волшебным из всех цветов, вещим для зрения. Неизлечимый буйный сумасшедший с вечноблуждающим в мировом хаосе взором, взглянув на розу, опустился на четвереньки и завыл душераздирающим волчьим воем от ликующего концентрата всей земной красоты. В магическом зеркале Луны великий сумасшедший узнал свой античеловеческий лик распада, содрогнулся от смрада и стал швырять кирпичами в невинное светило, хохочущее над ним.
Самоотверженные алкоголики всего мира пили за вечное цветение Голубой розы. Она придала их горькому беспросветному пьянству высокий тайный смысл и очарование.
— За голубую водку с золотою пробкою из изумрудного рога! — произносились самые заветные, самые бес-
корыстные тосты в мире и орошались сладкими пьяными слезами. Их слезы и плевки с шипением сгорали в ауре-радуге волшебного цветка.
А женщины, женщины?! Они бессонно и завистливо мечтали из Голубой розы сварить чудодейственное снадобье для вечной юности!
Моя трехлетняя очаровательная Риммочка увидела Голубую розу, и ее угольно-черные смелые глаза, вспыхнув черными искрами, округлились. Она замерзшими пальчиками проверила игольную остроту золотых шипов и со страхом спросила:
— А голубые акулы проглотят ее с шипами и с рогом?
И только единственный человек не мыслил жизни без Голубой розы — это, только что зачатый от Пришельца иных миров, мой сын.
— Я опьянен запахом, симфонией голубизны! Роди меня, мать, досрочно! — вопил он, отчаянно брыкаясь и колыхая мой плоский, как доска, живот.
Нахальный отпрыск Пришельца родился недоноском, и тотчас сорвал цветок с рога Единорога.
Голубая роза с золотыми шипами в ауре-радуге вспыхнула чудесным фейерверком и растаяла в воздухе, ибо она не нужна была никому на свете.
Так началась чудовищная погоня богачей за изумрудным рогом.
Эта небольшая новелла была написана мною на конкурсных экзаменах для поступления на Высшие сценарные курсы в 1976 году.
У директрисы курсов было на редкость скользкое, почти неуловимое лицо. Сколько бы ни мучили, ни терзали женщины свои лица косметикою, в отличие от мужчин они все-таки редко умудряются так испохабить, так испоганить свои лица ложью и суетою.
— Вы — дочь колхозных чабанов — бросили в степи овец волкам на пир, откопали какого-то бегемота… и воображаете себя фантастом! — Кокорева смотрела в корень зла.
— Розою на роге Председателя комиссии! — уточнила я.
Она опешила, ее неуловимое лицо на миг застыло с отвисшею челюстью. Члены комиссии уставились на меня так, словно я сошла с летающей тарелки.
Первым опомнился Председатель комиссии — Даль Орлов. Он обеими руками пощупал основания миллионы лет назад бывших и, возможно, бодавших насмерть рогов, затем милостиво улыбнулся с вершин цивилизации:
— Честно говоря, мы не знаем, как по-человечески избавиться от тех, кто приехал с направлениями и местами от своих киностудий. А вы поступаете без места. Это все равно что без рук рваться в космонавты! Без направления меня самого не примут! Если комиссия меня, как своего Председателя, пропустит — то Госкино зарубит, с треском снимут с работы!
Столь сверхгениальный довод Даля Орлова сразу же оживил и омолодил всех членов комиссии радостными смешками. Чуткая пыль веселилась и кувыркалась в воздухе, забурлила неистово, вторя оживлению.
«Раздавят бандиты с музыкою так, что мокрого места не останется — роза вырастет! Кто я против них? Лягушка-квакушка против бульдозеров!» — и неожиданно для себя я вдруг густо и сочно заквакала: — Ква-ква-ква!!!
Члены комиссии мгновенно переглянулись и стыдливо опустили глаза.
— Интересно, почему роза выросла на роге? Разве на планете тоже места нет? — лишь один дотошный кинокритик задал на прощание творческий вопрос.
— Эрозия земли. Проказа мозга. Нигде нет живого места, — прошептала я.
— То-то и видно, что дурья роза выросла!
Тогда вдруг, будто яростный протест против гнилых столпов — титанов потребления на шее народа с гаремами холуев, во мне единым мигом вспыхнула вся моя жизнь, словно молнии блеск над земною болотною тиною, и тело охватило огнем. Голубая роза вспыхнула чудесным фейерверком, золотые шипы разлетелись в воздухе — и все потухло. Только чуткая пыль неистово дрожала в приступе священной демагогии.
— Она — моя! Моя роза! — воскликнула я с таким отчаянием, словно жизнь моя висела на волоске и хваталась за воздух.
— Самый странный случай галлюцинации на приемных экзаменах! — всполошился Председатель комиссии и вызвал «скорую помощь». Это была дурная примета.
— Роза-зараза пройдет только через мой труп! — истошно завизжала-завопила Кокорева и в белом бархатном платье упала поперек двери.
Меня затошнило. С Голубою розою я не смогла перешагнуть через такое бесстыдство. Скользкое, неуловимое лицо директрисы зарделось, оно сияло, рябилось всеми перламутрами административного величия.
Голубая роза никого не согрела, она почернела и истлела на столичной помойке.
Я заболела двухсторонним воспалением легких, вернулась домой без вещей, без денег. Вылечилась в районной больнице и вновь в пыли и грязи пасла овец назло степным волкам.
О, как пристально вглядываюсь с тех пор в лица своих современников! Ибо лицо — тот единственный цветок, который сам человек вырастил себе па славу!
Среди пустыни позабытых мною человеческих лиц выплывает одно прекраснейшее, словно Луна из-за черных туч, светящееся высшею духовностью, дерзновенное лицо гениального звездочета. Самая высшая из всех человеческих странностей юности — это жажда и муки неземной любви, столь понятной только тому, кто отведал из ее волшебной и пустой чаши! Так ни разу и не взглянувшая в телескопы, темне менее духом я была астрономом, поистине вселенским существом в любви и мечтаниях.
От далекого, словно на иной планете, недоступного жития гениального звездочета, в мою жизнь закралось ощущение какой-то философской горечи. С годами эта горечь будет горчить то сильнее, то глуше, то нежнее и смиреннее, она войдет в спектр радуги тоненькою черною черточкою, придавая радуге полноту гармонии.
Сосредоточив все свое человеческое и женское существо на кончике золотого пера, вином и кровью, лучами самого солнца и ядом змеи — самою чудесною смесью я писала ему ночами напролет. Безудержный зуд пуповины в сомнамбулическом сне водил сумасшедшим пером, всаженным в великое женское сердце!
Гениальность женщин в любви отметил Викентий Вересаев в «Записках для себя»: «…женщины плохо пишут романы, повести и стихи. Но удивительно пишут дневники и письма».
Вот одно из романтических писем, написанных хмельною вольностью степного ветра.
ПРИВЕТ В БЕЗДНЕ ВСЕЛЕННОЙ!
Карл!
Короткое, как укол, Ваше имя чудесно загадкою звука. Не о Вашем ли имени писал наш любимый романтик? «Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины; что бы я стал делать, называйся ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности?»[6]
Всем существом и Гимном великой Сибири, родной Бурятии приветствую Вас вновь, приглашаю на сказочное озеро Байкал! О моей Бурятии восторженно отозвался великий русский писатель Антон Павлович Чехов по дороге на остров Сахалин: «Селенга — сплошная красота, а в Забайкалье я находил все, что хотел: и Кавказ, и долину Псла, и Звенигородский уезд, и Дон. Днем скачешь по Кавказу, ночью — по Донской степи, а утром очнешься от дремоты, глядь, уже Полтавская губерния — и так всю тысячу верст».
Сэр Карл!
Ваш приезд к нам в СССР на Бюраканский симпозиум по Внеземным цивилизациям воспламенил воображение поклонницы Урании, чувствующей себя гоминоидом, в то время как Вы — гуманоид для меня. Иначе где же мне увидеть Вас, как не по телевизору, светило с мировою славою?! Но люди, живущие благородным безумством воображения, плюя на всю вопиющую пропасть между людьми, вырытую злодеями человечества, должны преодолеть эту бездну, уродующую нам жизнь и отравляющую воздух, разорвать рабьи цепи государственных предрассудков.
Спрессовав в своем календаре историю Земли, человечества, цивилизации в годы, месяцы, дни и часы, Вы творите и дерзаете в патентованной среде американского гения-миллионера, куда никак не могут проникнуть письма простой девушки и тонут в бездне той великой свободы?
Забрались людишки сапогами на Луну, воспетую поэтами всех времен и народов и окруженную ореолом святыни, чудесами и тайнами сердец («Друг Аркадий, не говори красиво»), к чему причастен, наверное, и Ваш гений. Какие фантастические люди живут во славу человеческого рода!
Милый Карл! Может, сама вселенская тоска сжалась в одну точку в этой ночной темноте? Точка эта — я — в бездне миров блуждает одна: опору на миг — себя подари! А звезды мне душу леденят,
Диккенс пишет о «странных струнах в сердце человеческом. Часто бесчувственные к самым страстным призывам, они начинают вибрировать при первом слоге».
Милый Карл!
О чем бы мне повести речь высоким слогом на великом русском языке Льва Толстого, чтобы Ваше загадочное заморское сердце заговорило?! Или оно давно превратилось в бриллиантовое яйцо звездных бурь и ураганов и не ответит мне на зов никогда? Тогда пусть пустая и подлая Вселенная рухнет вместе со мною! А что же станет тогда с Вашим сердцем, стучащим в унисон с жизнью миров? Стальное, навеки забронированное нимбом Галактики, это сердце никогда не сожмется и останется недоступным нашим слабым, земным, глупым, женским сердцам?! Если сердце астронома не какой-нибудь злой неумолимый механизм, перегоняющий по жилам научные эксперименты, пусть оно почувствует биение сердца далекой иноземки и ответит на зов. Слышите ли, как мое бедное сердце молотит девяносто девять ударов в минуту, бьется вхолостую? Сколько же лет бессмертия Вы оторвали от бессмысленной вечности, чтобы стать таким тугоплавким металлом иноземного происхождения? Порхают люди-бабочки в непостижимой Вечности зачем?
Увидев Вас на миг, одно я поняла — нет большего несчастья на земле, как быть несовершенным человеком!!! Весь великий смысл и цель нашей жизни — это совершенство наших способностей… Иначе чем объяснить Ваше магнитное молчание? Это магнитное молчание земной астральной высоты в ответ на песнопения степной пастушки.
Сэр, я уже трижды потерпела неудачу, поступая на астрономическое отделение МГУ. Нет слуха к симфонии формул. У равнения кипят муравейником! Икс равен нулю. В глубине тайных глубин вещей числа грызутся, извиваются, как черви…
Природа одарила меня странным, никому не нужным даром: зажмурю глаза перед сном, стараясь заснуть, и в межполосице яви и сна вижу изумительные картины прошлого мира. Врываются яркие, красочные, фантастические явления, меняются очертания и краски, разлетаются на осколки, неугодные и страшные из них без особых усилий сразу же отгоняются, вызываются желанные и прекрасные…
Долгое время в калейдоскопе галлюцинаций я видела сморщенный синий бархат и засыпала, укутанная ласковым туманом бархата, пока однажды из сморщенного синего бархата не всплыл могучий синий Единорог и не прицелился изумрудным рогом в мое сердце!!!
Лохматая и длинная шерсть фантастического быка странно шевелилась и парилась в потоке первобытного пота, искрящегося солью, огненно-ртутно-черно-кровавое месиво глаз мерцало, бурлило, глаза закатывались, словно вылезая из орбит в родовых огненных муках. Исполинское животное-зверь в чудовищном первобытном напряжении, неведомом никакому Наполеону, набычилось, словно подцепило рогом земной шар и подняло его, оно содрогнулось и задрожало; яростно извиваясь, поднялся мохнатый, длинный хвост — а на изумрудном синем роге выросла Голубая роза, окольцевалась аурою-радугою, из стебля цветка, светясь в темноте, вылупились золотые шипы. Сэр, это было так изумительно, что мой сон был сорван словно потрясающею бурею музыки Бетховена!
Как описать неземную красоту Голубой розы с золотыми шипами в ауре-радуге на изумрудном роге могучего синего Единорога?! Ведь Жар-птицу немыслимо описать словами! Ее надо видеть, надо нарисовать всеми пламенными цветами ликования! Боясь, что никогда более не увижу такую красоту, я соскочила и стала рисовать и… зарыдала от бессилия.
Потом я научилась из синего сморщенного бархата вызывать могучего синего Единорога с изумрудным рогом и Голубую розу с золотыми шипами. Это венец всех моих галлюцинаций во время засыпания. Сударь, зажмурьте глаза в межполосице сна и яви, и вы наверняка увидите свою Голубую розу, самую прекраснейшую! Ваши очи, как ничьи в мире, точны!
Венера, наша мрачная соседка, куда Вы забросили наши земные осклизлые водоросли с корнями, вся заросла-таки водорослищами. Непроходимыми трехметровыми водорослищами-гигантами! А Вы, Карл, по колено в воде, в розовом пару ожесточенно косите вручную, как крепостной крестьянин, дикорастущие водорослища и скирдуете, видимо, для корма крупного рогатого скота? Завезут буренку и на Венеру. О, чудо-человек, переделывающий атмосферу Венеры! Да, Америка далеко отстала от моих галлюцинаций, ее автокороли еще не научились перегонять из выхлопных газов озон в свои бездонные карманы и отравляют народы смогом.
Счастливы ли люди в Америке? Какие у американцев есть святыни, кроме сверхприбыли?
Милый Карл! Устают ли очи черные от звезд? Грызет ли грызмя ревнивая жена, когда ночи проводите со звездами? Но знайте, как бы каменно Вы ни молчали, все равно я представляю Вас венцом человека на Земле, столь Вы совершенны! И потому никому на свете не завидую так, как той женщине, чьим именем Вы назовете звезду! А для меня, далекой иноземки, однако Ваше присутствие на Земле будет освещать мой жизненный путь, как Голубая роза.
Пусть никем я не стану, но вырасту Личностью, чтобы всегда чувствовать себя дочерью нашего Человечества.
Ах, сударь, уже светает! Может быть, в природе человеческой Вас просто нет, а на Бюраканский симпозиум сошел Пришелец с летающей тарелки в Вашем лице???
Представьте себе, в какое драматическое положение я попаду тогда! И как велики будут муки заблуждений слабого женского ума, с Голубою розою зовущего Пришельца из бездны миров! Пожалуй, ни одна женщина не выдумала себе такую чудовищную трагедию воображения. Право, боюсь стереть узоры пальцев от вздорописания.
Прощайте, сэр вымысел! В моем воображении Вы умрете божественною смертью Эмпедокла, бросившись в жерло вулкана где-нибудь на Венере.
Вопреки теории «субъективной вероятности», неустанно досаждающая службе Ваших высоких кордонов —
Алтан Гэрэл.
Остаюсь с болью восхищения.
* * *
Часть Вселенной: Метагалактика,
система галактик: Местная,
звезда: Солнце,
планета: Земля,
государство: СССР,
республика: Бурятская Автономная Советская
Социалистическая,
район: Джидинский,
село Петропавловка,
улица: Ленина,
дом: 2,
квартира: 1
Мисс Алтан Гэрэл!
Ваши письма не сгинули в бездне американской жизни, они не затерялись бы даже в бездне миров.
При переводе Ваших писем с волшебно-пламенного русского языка Пушкина на деловой взорвались наши лучшие компьютеры и сгорели дотла. Но на черном пепелище машин сказочно шелестят несгораемые белоснежные страницы, светящиеся огненными буквами.
Мисс Алтан Гэрэл!
Перед Вашим венцом человека я пристыжен, как бурьян перед Голубою розою.
Как гениальны Вы в любовной фантастике, где я бездарен, как нуль. Но золотые шипы Голубой розы пронзили бы даже бронзовое сердце. Дар-роза переливается 999 оттенками всей мировой голубизны, это солнце самой гармонии мира.
Ваши несгораемые письма, будь они написаны Далай-ламе или Сальвадору Дали, независимы от адресата— это выход изумрудного рога Единорога за пределы, разрыв цепи, поиски Пришельца.
Ах, вот почему жены и тещи оголтело грызут мужей, гонят взашей, разводятся вдребезги. Вся надежда у них на Пришельцев, Охладев к земным зрелищам, женщины с неукротимою агрессивностью жаждут Пришельцев для обновления оскудевшего человеческого рода. Но полюбят ли наших женщин Пришельцы?..
Я рад, что холост, сплю на льду. Мисс, но я не сторонник заочной любви перед назревающим грозным Ликом инопланетян.
Наша встреча неминуема на Байкале до их прилета в 2000 году. Учтите, что ее не отменят ни рок судьбы, ни затмение солнца.
Завидую великому степному Единорогу — изумрудному рогу.
Любуюсь Голубою розою с золотыми шипами. С Вами я, как никогда, приблизился к звездам. До синяков жму Вашу восхитительную руку!
С благодарностью целую Ваши ногти.
Ваш друг Дарл.
Я — земная слабая женщина, живущая в неладах с парадоксами высшего разума, способна видеть только сказочные галлюцинации. И вечно скиталась между двумя полюсами своего бытия — нирваною и поджогом мусора.
Пропитанный жгучим смрадом мусорщик, которого далеко обходят внешне сиятельные люди в золоте-изумрудах и в модных наклейках всех стран, как еж в осенних листьях, — завершает свою работу. В отвратительной работе есть свой высший, священный момент — это поджог, победное, праздничное сгорание чистым пламенем всего земного хлама. Горит, горит самый праведный костер в мире — поджигают мусор! Он радует, веселит, горячею ласкою огня сдувает грязные морщины на лице.
Освещенная самым чистым, священным пламенем, за свою жизнь я сожгла Гималаи рухляди, горами благодатного бархатного пепла удобрила мать-землю. Сжигая и себя, из пепла трупных ядов, из пепла мозгов я кровавыми мозолями вырастила Голубую розу с золотыми шипами, как вызов Судьбе, как дар нищему.
Плюнув на тьму муравьиных забот, порою лежу на стоге сена в степи, опьяненная радостным, счастливым ароматом.
Луна золотою лодкою плывет, оседает на мель, и кто-то на ней гребет, машет руками, зовет. Алый парус порвался, и чудятся визги волос.
Среди миллиардов неповторимых цветов человеческих лиц выплывает одно прекраснейшее, словно Луна из-за черных туч, одержимое высшею духовностью, дерзновенное и мудрое лицо гениального астронома. О, как чутко и пристально будет следить весь мир за каждою порою этого совершенного лица!
Как чертовски праведно сплю, вижу сон-загадку, вещий сон бытия, будто жизнь свою я проспала в нирване, укусил червяк-ясновидец, а встаю с верблюжьим горбом-расплатою!
Ох, как невыносимо на Земле самое высокое философское безделие даже во сне! Да и комары сожрут тебя на стоге. Нигде мне нет житья от мошкары, так сладка моя желчь!
Иду! Иду! Иду сжигать новую неисчерпаемую земную свалку дотла. Сколько мусора на Земле! Запускают в космос, дарят мусор Вселенной. Паршивые люди живут только для того, чтобы сорить повсюду.
Пора, пора поставить платиновый памятник ее Величеству Уборщице. Я иду сжигать мусор и выращивать цветы.
Ликующей симфонией всей земной красоты, сгустком небесной чистоты, вечною розою мечты, вещим живоцветом-факелом горит, сияет Голубая роза с золотыми шипами в ауре-радуге на изумрудном роге исполинского синего Единорога.
Но перед взором моих узких глаз скользят стальные бульдозеры по голубым розам.
И какою бы тоскливою и сложною ни стала наша жизнь на Земле и как бы ни выродилось человечество в погоне за прогрессом — пусть всегда найдется «праздный, благородный безумец, который вырастит Голубую чудо-розу на ней.
Доходы сновидений, чары снов
Блестят на солнце страстью завитков.
Во имя Духа
От жажды славы
Рождает плоть, бунтуя в нирване храпа,
Свирепые сны-вулканы —
Кипящей лавою плюющие в небесные твердолбы!
Чихнул вулкан, чуть свистнул гландами жерла
В столетнем сне однажды —
В роковую среду 7 декабря 1988 года —
Вечная каменная статуя Дракона аж задрожала
И рассыпалась хмельною пылью ветров!
Встаю — чиха ю…
Апчхи! Эй, псы борзые, охотники кровожадные!
Людоеды с перьями!
Хватайте камни острые скопом!
Сколько мамонтов вы забили насмерть?!
Унаследовавшая от густокровных родителей женское бесстрашие перед жизнью, но ленивая до упоения, воинствующая сибаритка с редкостными вспышками вулканической энергии, бесплодная смоковница бальзаковского возраста, прослывшая опасною и роскошною фантазеркою, прожегшая половину жизни в погоне за Жар-птицею, потому вовсе не усохшая от трудов и бдений, но тем не менее претендующая на гениальность причудами вольготного воображения, как и все выскочки во все времена, вошла я к Вам с лютого мороза с богом Вишну, чтобы дать Вам по носу следующей отповедью:
«Хоть ты знаешь веду, ты совершил преступление, которое не совершит даже убийца. Женщина есть пальцы природы и драгоценные камни мира. Мир Брахмы — мир радостей. Зачем ты укоротил свои страсти? Если женщина неожиданно воспылает любовью к мужчине и придет к нему, мечтая о соединении с ним, мужчина, пусть он и не испытывает к ней страсти, не должен отвергать ее. Если же он отвергнет ее, то в этом мире навлечет на себя различные несчастья, а в том мире попадет в ад.
Мужчину не осквернит связь с женщиной, добровольно ищущей его общества, даже если она куртизанка или замужем»[7].
О, величайшая неопределенность моего статуса в прекраснейшей человеческой жизни! О, нечаемость моей великой души всему роду рыцарей человечества! Да сгинет вся нелепость служить кому-то законною прислугою! Не хочу!
Прощайте. Зачем, зачем Вы уставились на меня со своей литературной высоты, из своего домашнего парного тепла из-за прикрытой двери, пока вызванный лифт не поднялся за мною на восьмой этаж и не закрылся.
Я стояла в тяжелой фанерной шубе из искусственного меха-каракуля и со стыда слегка пританцовывала под этим панцирем па лестничной площадке, небрежно смахивая жар со щек перчатками, а спасительный драндулет-лифт нарочно, назло мне, поднимался кое-как, громыхая и скрипя, старчески скуля на бесконечную перевозку людей всякого рода и племени.
Что за смесь чувств полыхала на Вашем квелом лице! И как будто в Ваших глазах тускло колыхнулся мужской энтузиазм!
Как он смотрел в глаза, как бог! Взгляд его проникал в мое сердце.
Да, синтетика погубила любовь, и одичание сердец достигло предела.
Фу-ты, туда же, выбросила добротный овечий тулуп и вырядилась в проститутскую синтетику, чтоб ее волки разорвали!
Маэстро сидел на высоком кресле с гордым трагизмом Уильяма Фолкнера, положив нога на ногу в темных суконных тапочках 37 размера, со стоптанными задниками и столетней въевшейся пылью. Увидев меня, он иератическим жестом вскрыл конверт моего давнего хулиганского письма, надел круглые очки и, прочитав, подшил его в скоросшиватель с надписью «ЛИКИ ЖЕНСКОЙ ГЛУПОСТИ»… Видимо, доконали его стервы жестокими глупостями. Какое сверхчеловеческое внимание сейчас уделяется любовным письмам трудящихся вышестоящими инстанциями! Вот и он в отместку завел на женщин персональное дело!
— Тяжело быть знаменитостью? — спросила сочувственно я, никогда не ведавшая тяжелого бремени мирской славы, и облизнула шершавые, как шлак, губы. Отныне мое сердце навеки заперто от мужчин надежным замком. Но как тяжело будет сердцу вечно стучать со свинцовой пулей!
Сказание о своих бабьих бунтах и мутаниях, написанное самою судьбою, принесла я к маэстро, чтобы пробиться в забронированные отечественные журналы. И что же? Эти магические рассказы превратились в серых мышей и высыпались из портфеля и утекли по отдушинам! Не рассказы вы, а мышки! Ищите, ищите свое мышачье счастье в московских квартирах, ведь московские мышки по праву столичных живут лучше всех мышей в государстве и жрут, и жрут апельсиновые корки из Марокко! Но я найду на вас управу — сиамскую голубую кошку.
А на нас — производителей отечественной макулатуры — Виссариона Григорьевича Белинского! Неистовый задал бы перцу газонной прозе! Не то что наши кафедральные гуси-лебеди летают-плавают в рефлексирующих калошах!..
И вот загорелся-таки священный и неприкосновенный Пожар в современной литературе. Только и слышны вопли: «Пожар!», «Пожар!». Читатели загорелись на пепелище и поползли на Плаху, прыгают вниз головою в Котлован!..
А сколько миллионов тонн мелованной бумаги сгорело на макулатуру Лжелауреатов?! Только поджигать умеют.
Среди десяти тысяч титанических членов Союза писателей нынче нету ни одного живого лауреата Нобеля. Вот такая шедевральная Картина, такой Печальный детектив царит в сфере космического Духа.
Я — женщина, членство мне — что слепому Солнце. Обойдусь и без предисловий недоступных знаменитостей, пока выклянчу — двадцать первый век нагрянет! Напишу-ка самой себе предисловие:
УРА! УРА! Какой оригинальный марал! Хватайте камни крупные — и по рогам!!! Не промахнитесь, номенклатурные орлы!!!
Маэстро недоуменно скользнул по желчному плевку, по мышам, высыпавшим из портфеля, но душа его блуждала по лабиринтам Библии: «Да, видел я все дела, какие делаются под солнцем, детка, и все суета сует и томление духа!» — снисходили глаза.
Я сама сбежала бы от своего угрюмого избранника вслед за юркими мышами, но для чего огромна я, как Сэмбэр! Таких дыр в писательских домах не бывает, чтоб не эмигрировали продажные твари!
Пророк ли сидит со своими мировыми раздумьями, окаменев от сосредоточенности? Сжатые губы слепились в тугую змеиную усмешку-гримасу, чтобы всуе не вымолвить ничтожного слова житейской мудрости.
Эх, хорошо ему — персидскому Шахрияру, а каково Шахразаде с пустою папкой?! В юбке шумит ветер, а голова на плахе! Как же собрать серых-сереньких мышей с помощью мышеловки? На приманку кладу душистый, пряный, извивающийся русый волос из подмышки. Стыдище!
Тревожит ли его влажная тень солнцелунной Мадонны?
Боже мой! Мало ли на свете фантастических женщин, отмеченных знаками таинственной космической благодати!
Демонические очи маэстро полыхают черным пламенем— это от духовной малярии сгорает его бренное тело— низкопробный ГСМ (горюче-смазочный материал), рождающий молнию мысли!
— Зачем же быть таким праведным? — спросила я с робкою жалостью к нему.
— Стой! Куда ты прешь, пьяная баба?! Земля закрыта на переучет. Всю обворовали! — заорал он грубо, еще не утративший мужского начала, и превратился в белый скелет с огромными гуманоидными глазами покойного киноактера Владислава Дворжецкого!
Вся гуманная мудрость земной цивилизации светила мне из его огромных глаз, и мое сердце с засевшею в нем пулею сочилось кровью.
Я бросилась на колени за великою милостыней любви и бесстрашно прильнула губами к шершавой кисти, трещины ее были забиты вековечною перемолотою пылью с домашних тапочек.
И в решающий момент бытия меня подвел проклятый хронический бронхит, превративший мою носоглотку в тончайший барометр, способный уловить дуновение пылинок, — я взорвалась чихом, как бомба.
— Зачем, корова?! — яростно заорал скелет, как буйнопомешанный, и, весь содрогнувшись, с размаха треснул меня по лицу!
В смертельном ужасе я закрыла лицо руками.
— Доломилась ты, рваная сука! Впредь не утомляй! — крикнул Господь и плюнул мне в глаза через пробоину-дыру в синей стали небес.
И произошло чудо из чудес, от удара подлого скелета с обманчивыми гуманоидными глазами (из фантастики я знала, что гуманоиды не лупят женщин по лицу в отличие от мордобойцев-землян) или от шипящего плевка Господа Бога в глаза?.. — я превратилась в ползучую змею!
Пока в неведомом царстве отливаются пули священной ненависти — в бессильной ярости от превращения меня, феноменального экземпляра бурятской женщины, в мерзейшую змею, разинув пасть до разрыва и шипя кипятком яда по раскаленной плите, я бросилась на дерзкий скелет.
Куснув его в пятки, я ощутила себя двухметровою толстою гюрзою с двумя длинными кривыми зубами и густым кипящим ядом!
Моя нерукотворная чешуя живо-гори-цветами ползучей радуги соперничала с гением самого солнца.
Не боги горшки обжигают — я была лучшею гюрзой на свете! Тресни, трухлявый, ветхий скелет, насквозь изъеденный временем, как шлак огнем!
Скелет есть скелет, ведь лучше всех скелета не бывает!
— Эй, скелетик! Ты ведь не сахар, не алмаз, чтоб дразнить солнце спицами костей! Смерть тебе — не ювелир! — и я смачным шлепком Чуда-Юда Сальвадора Дали налепила ему берет — сырой собачий блин на голый раскаленный череп. — Ха-ха-ха! — Цифры блинных часов Дали подгорели до черных корок, единственная минутная стрелка из мусорной шпильки торчала вертикально, как шпиль! — Ха-ха-ха. Скелетище!.. Умора вечности!
Так я от гомерического хохота свилась в тугое боевое колесо и сломала ему хребет. Буграми взвиваясь от хвоста до черепа, молниеносно выбрасывая черный от жар-пламени язык, с первобытною страстью я стала обвивать и душить скелет в объятиях.
Мои солнцетравные узоры покрылись многолетнею гадчайшею пылью, шершавые, как кошма, иголочки костей насквозь прокалывали мою кожу, из нутра тек желтый, ядовито-едкий змеиный сок, смешиваясь с пылью старых домашних тапочек. Бр-р-р! Холод омерзения пронзал мою гибкую двухметровую спину пуще костей.
Адом кромешным бурлил яд в голове от яростного напряжения чудовищной борьбы, словно котел с кипящею смолою!
Скелет был перемолот мною в костную муку. Надо закатать рукава и печь пироги, но рук у меня нет и молнией мечется язык…
Вулканом взорвался огненный яд, раскипевшийся в запредельной температуре, раскидав черепушку на мелкие частицы за километры так, что никому из герпетологов не собрать моих костей, — я вспыхнула пламенем божественного накала и сгорела дотла.
На горячем пепелище я вновь стояла земною грешной женщиной Востока, равноправная со всеми великими современниками планеты.
При аксакале, который тоже вернулся в свою земную боевую оболочку, я бесстыдно ощупала себя поверх одежды: бедра, груди, живот с женским пупком, мочки проколотые без изумрудных драгоценностей — всс-все сокровенное было на местах. О, мое чудо чудотворное— мягкое, нежное, округлое, гладкое, крутое, упругое, влажнодышащее истомою женское-преженское тело!
Слава Всевышнему! Из одного-то худого ребра создал мне такое гениальное тело! А как кипит-бурлит кровь ликующим вожделением ко всему мужскому роду рыцарей, оставшихся в живых…
Нас не лишить ни гения,
ни страсти.
Да никому на свете не понять меня, побывавшую ядовитой гюрзою, что самое святое для женщины — это быть женщиною, а все остальное на свете, будь то мировой разум, подвижничество, гений, вечная слава Александра Македонского, — все это лишь шудра Ерунды Петровны, что сыплется на ветру Вечности.
Аксакал с присущею ему солидностью не стал бесстыдно шариться по всему телу, а спокойно, с достоинством потрогал свой небольшой единственный отросток, торчащий начеку. Священный родник жизни, которому поставлен памятник в Дании, был золотым!
Я подбросила аксакала в воздухе и радостно сжала в объятиях! Подумать только, чтобы счастье весило всего шестьдесят килограммов! Теперь его можно любить до дыр, ревновать до истерики и посылать в магазин за кефиром!
Но боже, как примитивно устроен мужчина! Стоит, как кол, руки-ноги струганые, торчит, как чучело мужик…
В роковую минуту жизни, подкараулив меня, вырос передо мною, как из-под земли, тот, кто прежде был для меня всем на свете и нянчил меня до кровавых слез, но приелся до тошноты, как суп с разваренною лапшою, целоваться с которым все равно что глотать кисель после виски.
Явился Стрекозёл — рогоносец в воображении с неистощимым запасом своей глумливой яремной ревности, которую до конца своих дней будет черпать из бездны мужского волшебного рога изобилия.
— Твой неподкупный кумир напечатался в «Рыболове-спортсмене»! Чуешь, как пахнет его имя заморской селедкою! — И он с гаденьким, мефистофельским смешком помахал журналом перед носом.
Древний инстинкт самца, всколыхнувшийся с тринадцатой зарплаты, отбросил все условности, из которых и состояла осанка его персоны с сияющим галстуком, и Стрекозлище ярился, словно брызжущий семенем буйвол!
Нас, женщин, не перестает восхищать только та часть мужчин, способная фантазировать в одном, — это те счастливцы, носящиеся со своим божьим помазком, будто с объятым пламенем факелом, которым предстоит зажечь олимпийскую чашу!
Я грудью заслонила слабого аксакала.
— Чтоб ты знала! Жорж Санд! — и он с яростью лютою ударил меня журналом по лицу!
Сердце сорвалось от боли, я задохнулась от рыданий— и проснулась…
Сердце грубо колотило в уши, и я продолжала плакать наяву. Так ведь недолго получить инфаркт во сне!
Я взбила мокрую растерзанную подушку. От нее шел не порочно-сладостный дух любовных ухищрений, а веяло величайшею в мире, никому не нужною целомудренностью, более вредною для здоровья, чем половые извращения.
Старое, потускневшее зеркало, утратившее магию оживления, искажало меня до безобразия. Заплывшее, растерзанное, несчастное лицо с красными свиными глазками, пыталось себя разглядеть…
— Мне бы рога и копыта и замуж за Кощея Бессмертного! — я обеими руками треснула похабное стекло об пол.
В угарном кошмаре этой несчастной, сиротливой, как в тюремной одиночке, ночи, чтобы смягчить удары пережитого, я с горькою обидою на бессмертного Иуду продекламировала низкому потолку стихи Валерия Брюсова, послужившие одной из тысяч причин свирепого страшного сна:
Мне снилось: мертвенно-бессильный,
Почти жилец земли могильной,
Я глухо близился к концу.
И бывший друг пришел к кровати
И, бормоча слова проклятий,
Меня ударил по лицу.
Ко мне пришел мой Стрекозел постылый, навеки полуверный, и я рассказала ему удары-сновидения: -
— Как ты смеешь бить меня журналом по лицу?! — вскрикнула я, распалившись от жгучей обиды всей женской отверженности, а рука, опередив сознание, влепила ему громовую оплеуху!
— Ек твою мать! За сны твои виноват! — вспыхнул Стрекозел. — Совсем оборзела! Пора тебя на цепь посадить! — Ох, как злобно он стрекотал!
Роковой сожитель сиял алым румянцем, до крови содрав свою глянцевитую оболочку гения самосохранения, и готовый на смертельную схватку со мною. Я благодарно поцеловала его пылающую худую щеку, будучи на миг отгороженною от чрезмерной дозы мужского остервенения вокруг — его высшею, до гробовой доски не убывающею ревностью.
Велик Стрекозел только одним — это ярою ревностью, дрожащей каждою порою вожделенного тела.
Порою кажется, что его пылающая похотью ревность настигнет меня в гробу и под землею будет грохотать моими костьми!
— Эге! Мудрая гюрза! Яд с медом поднесла! — наконец изрек горец-гуру.
Я с холодным восторгом ощущаю это поразительное состояние взбешенной первобытной гюрзы, в смертельной схватке перемоловшей скелет в костную муку,
И женщине снились львы.
Да хранится святая отвага для схватки со львами!
Бесстрашный Дух царицы сотрясал львиные сердца.
Да снятся вечно мне грозные сны-вулканы —
Кипящей лавою плюющие в небесные твердолбы!
Если честно признаться — только легковерный человечек может впасть в такое восторженное упоение вещими снами.
Что сказала бы об этом моя мудрая и праведная бабушка, будь она жива?
— Алтан Гэрэл, я ж тебе тринадцать лет долблю: человеку может присниться всякое, кроме одного — что он пьет воду задницей!
Так и сижу я в бессильном сне, согнувшись в берлоге под берегом, а широкая река жизни течет и течет под босыми ногами.
Кажется, вот-вот великое наводнение вырвет меня вместе с берлогою в бурлящий мировой омут…
Современной женщине некогда выкапывать такую пропасть из собственных противоречий, как Анна Каренина.
Литературная быт газет а
А я способна вырыть бездну во Вселенной из одних парадоксов своей женской сути. Даже «ведьма с пером» всегда лелеет в душе величайшую иллюзию о прекрасном Пришельце, который может вынырнуть из межгалактических дыр.
Автор
В послеоперационном бреду с температурою сорок градусов я видела точильщика игл от шприцев. Он наточил целый таз тупых игл, но точил и перетачивал снова, обливаясь жиропотом и не поднимая глаз.
Из меня вытекла вся драгоценная кровь до капли — остались только элементы чудес — и я превратилась в белые пышные облака!
Плыву я — белые пышные облака — над Землею в недоступной высоте от паука Франца Кафки и отравленных хлорофосом больничных жирных тараканов.
Вижу земной шар сверху — весь голый, бесплодный, без единого паука и таракана — весь утыканный большими иглами от шприцев. Погибло все на Земле, выжили только стерильные иглы.
Вместо молодого обаятельного передового директора совхоза Хомутова, которого я ждала в больнице, надо мною склонился Вронский.
— Алексей Кириллыч, почему Творец создал Вас сплошнозубым?
— Чтобы подчеркнуть мой аппетит к жизни. И вот в конце романа они разболелись! — И Вронский зло плюнул на чистый линолеум.
— Здесь нельзя плеваться в мертвушке!!! — заорала нянечка и принесла ему немытое судно. Граф страдальчески поморщился.
На левой груди Вронского блестело синее пятно от пули. Это было покушение на любовь.
На рельсах запеклась черная кровь Анны. Хлещут дожди, тают снега, бегут поезда по крови, но она не смывается!
— Я сыт Анною на тысячу лет! А вы, творческие женщины, туфли жмут — меняете любовников! — вскричал Вронский.
Я лежала связанною на операционном столе. Тяжелое струение наркоза душило мне ушные своды, разлилось по обнаженным мозгам, глаза мои вылезли из орбит— анестезиолог в перчатках вправил мне глаза в глазницы.
У меня вздулся огромный, как первомайский шар, зоб — врач вонзил мне нож в горло — сопротивление бесполезно — и я умерла.
Нет, не умерла! Вронский бил меня по лицу, зовя по фамилии.
— Воды! Воды! Воды! — кричала я исступленно, но никто не слышал.
В глазах заиграли фантастические видения первобытного мира: причудливая растительность, деревья растут спиралью, они спиралью обнимаются, красные травы, красные травы, политые кровью, а табак поливают мочою, мочой через катетер!
— Воды! Воды! Воды! — кричала я исступленно, но никто мне не давал воды. Они хотят засушить меня жаждою, я накалилась, как сковорода, и превратилась в огромную раскаленную пустыню Сахару.
— Я — жираф в огне! Меня поджег чудовищный гений Сальвадор Дали! Я — Юдифь! Мой меч в вечной крови! Из сердца кровь струится!
Крупные одинокие слезы Вронского капали в шипящую сковороду.
Я ловила губами слезы Вронского, но они по дороге в мой рот засыхали.
— Где кровь?! Где кровь струится? — пугалась медсестра и смачивала мне губы мокрою марлею, намотанной на ручку ложки.
Во сне, в бреду и наяву я алкала воды, умоляла, требовала, угрожала, что умру, и плакала.
Одна сердобольная пожилая бурятка, которая не отходила от меня в отсутствие сестер, украдкою принесла мне стакан морса.
В дальнейшем она стала постоянно приносить мне морс, и я так напилась морса, что несколько дней живот вздувался барабаном. Ох, какую взбучку получила бедная Бурэнзы от врачей и сестер!
Чтобы отходили газы, мне делали уколы, ставили клизмы, и я с трубою лежала на судне в горячечном поту.
После кислородного ожога и наркоза у меня начался приступ хронического бронхита. Бронхи были забиты мокротами, хватая руками кровоточащие свежие швы, я надрывалась от кашля и плакала.
Мне приснилось, что пионеры палками барабанят по моему животу и поют «Взвейтесь кострами, синие ночи!»
Я хриплым шепотом рассказала сон моей доброй сиделке, напоившей меня морсом.
— Значит, пионеры палками били по твоему животу и пели? — она, смеясь, осторожно побарабанила в воздухе, и я после всех мук впервые слабо улыбнулась.
— Алтан Гэрэл улыбается! Дело пошло на поправку! — обрадовалась она и пошла рассказывать по палатам мой смешной сон.
Моя добровольная сиделка оказалась женщиною не только чуткою, сердечною, но смешливою и невыносимо любопытною. Я вынуждена была рассказать ей всю свою биографию, и она еще больше жалела меня — круглую сироту, нет мужа, а сделала операцию от женатого, который струсил и теперь не показывается.
— Подумаешь, директор совхоза! Ты можешь о нем фельетон написать! — подбадривала она меня.
— Пусть прячется в золотой соломе! Все равно люблю я его! — выдавила я правду.
— Дура! Умрешь и будешь знать, как любить такого!
— Может, он не знает, где я валяюсь!..
— Видел бы, что ты пожелтела, как сыр! Пей, пей молоко. Копи, копи кровь. Долго тебе надо накапливать ее. А заменитель-то тебе не отменили? Терпи, дура, не отказывайся! — и она пичкала меня молочными блюдами. — Хотя вряд ли чем Богдо-Гэгээн[8] мог бы заменить нашу кровь.
Постепенно Бурэнзы выведала все о моем директоре, и он стал ее заочным врагом, «кровохлебом»…
Выздоравливала я медленно, и мы с нею пролежали два месяца.
В конце концов Бурэнзы доконала меня чувством мести, которая во мне сидела в зародыше и созревала, и я для нее написала о нас с директором интимный фельетон.
«РЕКВИЕМ ПО УТОПШЕМУ В БАРДЕ1 САМОРОДКУ»
«Лежал в Бурмундии моей тупой, первобытный ком чистейшего самородка и сверкал на солнце в Боргой-ской степи. Нашла его черепаха с зонтом благодаря своим круглым очкам. Налила его тугим тарбаганьим жиром со знаком качества, нарумянила, насахарила и испекла себе Колобок.
Бывший директор совхоза, ныне начальник производственного управления, личность с дальним прицелом, любимец женщин и краснобай, однажды ночью поднял его с пуховой супружеской кровати в черных сатиновых трусах и приказал:
— Даруем тебе разоренный дотла совхоз-орденоносец… Разоряй и властвуй, покуда светит месяц!
Так и вышел Хомутов ночью в измятых сатиновых трусах с бешеными, как у таранки, глазами и стал директорствовать по расхожему образу Макара Нагульнова.
Копченый крестьянский сын стал на четвереньки — ухнул и поднял хлебопашество. С тех пор он загорелся пламенным огнем ревнителя силоса, — и его даже обуяла трескучая завиральная силосная гордыня.
Вставал и одевался Хомутов не проснувшись. Поднимал людей и совхоз где пинком, где луженою глоткою, где мордобоем. Однажды при зуботычине Булат вывихнул указательный палец правой, и при моем вопросительном взгляде зарделся улыбкою: «Надавлю — и пишет! Свой палец не пожалуется выше!»
За трескучим бойким словом не лез в карман, строчил как из пулемета, стесненною от упитанности глоткою: «Для вас новое — как нож в горле! Погрязли в своей боргойщине, как жуки в навозе, шлак караулите! Те, кто бутылки щелкает на берегу Джиды, пусть ноги мажут автолом, солидолом и чешут дальше из совхоза!»— вдруг он машинально погладил по крутой соколиной груди, опомнился, вспыхнул румянцем и жизнелюбиво хохотнул.
Заразительная энергия била из него фонтаном. Сила его мужского обаяния светила мне сквозь тьму ночную и пелену грозового ливня. Его молниеносную президентскую улыбку не побьет, пожалуй, даже град. При одном воспоминании об этой обольстительной улыбке у меня в груди трепыхается податливое женское сердце, и перо, обмакнутое в яд, блаженно выпадает из рук!
Чтобы продолжать фельетон, необходимо заточить в одиночку его лучезарную, волшебную улыбку и его острые, рысьи, женственно красивые глаза!
Пройдет — словно солнце осветит,
Посмотрит — рублем подарит.
У него и в засуху хлеб бутеет от сердечного радения, чья-то скотина ноги завивает, а его по улице брыкает препарадно, чьих-то коней под гору тащат, а его конза-вода и в поводу не сдержать — и пьяных, и трезвых сбрасывают, на крышу правления заскакивают!
И жил Булат Бухандаевич душа в душу с богоданною женою. Гордая гинекологиня Тарбаганова Туяна Бобоевна при регистрации брака наотрез отказалась впрягаться в хомутную фамилию. Да на что ей эта шершавая честь, когда во всем аймаке сокровенного врача зовут не иначе как Бобооной Туяан! Даже гению невозможно перевести на русский язык без ущерба этот шедевр народного остроумия! Туяан — это Заря. Бобоо — самый сокровенный наш орган. Алая заря сокровенного органа…
И дома, и в конторе Булат Бухандаевич занавесится порою от белого света куцею задрипанною юбкою гинекологини, хотя он не раз порывался разойтись с женою по швам раздора фамильного… но в самый критический момент отказывал любимым женщинам одним убийственным для них аргументом:
— Не могу. У меня жена — гинеколог!..
А жена кормила его густым, тягучим, как клей, облепиховым киселем. Может, поэтому у него выросли огромные, как оладьи, роскошные уши? Разве только слон их не оценит.
Я с первого взгляда насмерть влюбилась в шикарные уши, и заметною мечтою моей жизни стало — драть их до пунцового горения.
Однажды молодой директор совхоза сам на «бис» сплясал в районном ДК на заключительном концерте художественной самодеятельности — и судьба послала ему Белую ворону.
Вороны любят золото и тащат его в гнездо. Позарилась на Самородок ворона и стала слагать ему сказки о его смертельной самодуристой красоте, звать-зазы, — ватъ, хвостом заманивать белым: «Пойдем за гуменцы — золоты яблоки катать!»
— Ты кака шикарна! «Золоты яблоки катать!» А кто будет мне силос давить? — испугался Самородок и проехал мимо гнезда Белой вороны.
Потом пропах он бензином, дымом табачным, посерел на совещаниях, посинел на заседаниях и почернел на бюро. Стал он страдать одышкою, аж ногти потеют. Костюм на нем горбится, да и жизнь не мила!
Тогда пожаловал он к Белой вороне, вскочил к ней в гнездо и запел:
«Намешон я с медом! Начинен изюмом!»
Клюнула Белая ворона на изюм.
— Бензином пахнет! — и вытерла передником язык и стала свои белые перышки чистить.
— В ней Белой — моя черная гибель! Месить так месить барду! Пропади она — любовь! — и, закатав рукава, взялся Хомутов за богатырский булат.
Булатом он месил барду, барда получалась у него горячая, крутая, с комками. Она бродила, как благородное вино, пузырилась, как шампанское, и лилась через край!
После одного заседания бюро райкома, на котором чуть не оторвали его знаменитые уши-оладьи, разъяренный директор с машины прыгнул в барду! Барда вылилась из бака и потекла ручьем, потом разлилась широкою рекою.
Белая ворона испугалась и когтями вцепилась в его короткие золотистые волосы. Но богатырь замахнулся на птицу булатом.
Ободрала Белая ворона когти с мясом, обмарала кровью белые перья. Самородок так глубоко засел в барду, что его надо было вытаскивать подъемным краном!
— Спасите! Спасите! Самородок утопает в барде! — «ворона каркнула во все воронье горло».
— Он же в барде, как рыба в воде! — ответил ей хор художественной самодеятельности совхоза.
— У него по жилам вместо крови течет барда! И в черепушке вместо мозгов парится барда! — захохотал откуда ни возьмись злой Мефистофель.
— Чтоб из всех скотов скотиной быть!
Люди гибнут за барду! —
и Мефистофель разразился пронзительным песнопением о барде, и хвост у него завивался от сладострастья.
— Пусть погибну в Барде, чем с тобою на Юпитере! — и бардолюбец сорвался с крюка подъемного крана и запустил в Белую ворону увесистый грязный булыжник.
Белая ворона заткнула уши, поджала хвост и с разбитым крылом улетела в вольные синие небеса.
В крови у нее светились элементы чудес — она считала себя восьмым чудом света и не хотела обмакнуть свой белый клюв в кормушку.
Самородок осквернил белую птицу грязным булыжником и безвылазно шлифуется в дымящейся барде.
Две тысячи лет тому назад жил в Древней Греции философ Диоген, загнавший себя в бочку ради мудрости и, как сказал Козьма Прутков: «Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой».
Моему редкостному самородку после будет поставлен уникальный памятник — золотая бочка с шипящею бардою:
«БУЛАТУ БУХАН ДАЕВИЧУ ХОМУТОВУ».
— Тьфу! Пусть и на том свете кипит в своей барде! — обрадовалась моя пожилая подруга. — А ты молодец! Выздоровела!
Лето уже кончалось. Я зажилась в больнице. Пора было выписываться и подставлять свое бледное лицо ласковому осеннему солнцу.
* * *
Все давно уснули и видят кошмарные сны.
Алтан Гэрэл лежала одна в огромном мире, и ей казалось, что она — НИКТО.
Те, кого она потеряла в жизни: отца, бабушку, мать, дедушку, — словно воскресли в ее счастливые дни и вновь ушли вместе с ним, последним.
Слезы молчания текли по вискам и заливали ее уши.
Она бессильно провела рукою по груди, словно убеждаясь, что ей явственно больно: внутри что-то дрогнуло и мучительно оборвалось, и в голове разлился яд жизни.
Снова долгие месяцы и годы она будет копить по крошкам силу и нежность, чтобы вновь, в который раз, состряпать насущный хлеб — любовь.
Алтан Гэрэл задыхалась в этом мире мужского остервенения вокруг, когда любовь сведена к капризам, размолвкам, мелочным обидам и пустой борьбе самолюбий, смертельной войне эгоизма.
Алтан Гэрэл всегда любила всею полнотою сердца, всею судьбою под единственным солнцем.
Где рыцарское чувство к женщине и ее судьбе?
Кануло в Лету, вымерло, как хвост.
Миллионы мужчин на Земле спиваются, скуриваются, обжираются, деградируют. Сутенеры черными вшами в коросте въедаются в тело женщины.
Человечество душит смог, расползается раковая опухоль. Началось-таки биологическое вырождение человеческого лика…
Модель твоего духа и плоти, возможность неизвестного миру человека — твой фолликул ежемесячно уходит в канализационную трубу, чтобы никогда не стать предназначенной личностью.
Сколько утекло столь необходимых нынче миротворцев?
Сколько утекло дефицитных строителей безобразнейших высотных домов?
В течение жизни в чреве дочери Евы созревает до пятисот зерен грядущих детей.
Русская крестьянка, некая Федора Васильева из Подмосковной Шуи, под сенью царствования Екатерины Второй и Александра Первого показала миру рекорд рождаемости — 69 детей выпростала Федора при 27 родах: 16 раз — двойняшек, 7 раз — тройняшек, и 4 раза — по 4 ребенка.
От этого ужаса рождаемости у самого господа бога волосы стояли дыбом.
Алтан Гэрэл казалось, что она живет в самые трагические времена и душа ожесточится до чудовищного эгоизма, чтобы выжить о своими элементами чудес в крови от чрезмерной дозы мужского остервенения вокруг.
Она боялась, что умрет от рака, от рака грудных желез или от рака матки, какого-нибудь женского рака, чем поражены были женщины из онкологического отделения.
За окном молочный рассвет. Веки воспалены, и глазам больно видеть. Алтан Гэрэл представила себя безобразною в своем несчастье.
Она провела руками по округлости бедер и попробовала слабо сжать кулаки. У нее были замечательные костлявые кулачки со знаком качества, как у волшебной карги Бабы Яги.
Ночная сорочка, которую он купил ей, лимонного цвета, показалась несвежею, она кинула ее в мусорный ящик.
Подойдя к зеркалу, она увидела себя босою и обнаженною, словно впервые видела себя нагишом, без единой нитки на себе: бледное, бескровное волевое лицо, несмотря на морщины и замутненность земными несчастьями, все-таки отдавало чем-то внеземным, ни с чем и никак не соизмеримым! Свечением великой строптивости против самого верчения Земли.
По худым веснушчатым плечам переливаются ее разнузданные длинные волосы орехового цвета, чуждые прическе.
Она красила волосы сложнейшим раствором хны, басмы и натурального кофе, и волосы у нее блестели неуловимыми золотистыми гаммами таинственного колдовства.
«Солнцем, вином и медом золотятся твои волосы!» — говорил он ей.
— Ты никогда не будешь счастливой. Любовь для тебя — весь мир, — говорила ей женщина в зеркале.
— Но в будущем, как и все, любовь заменят пластмассами, — отвечала она той и представила, как в груди любимого бьется пластмассовое сердце.
Женщины напряженно молчали, и каждая выдерживала взгляд другой.
Босая белым платком вытирала зеркало, и другая тоже дышала и вытирала его.
Месяцем блестело зеркало. А в небе неизвестно кому светил месяц — косой обмылок поэзии над Землею, затоптанный человеческими ногами. О, где ты, прежняя магия Луны? Затерта тележками, как клякса резинкою.
На ресницах Алтан Гэрэл дрожала извечная слезинка всей женской горечи.
А Булат Хомутов был «избран» первым секретарем райкома партии.
В ванне некуда было плыть, и она включила дождь.
Ледяные струи обжигали горячее тело Алтан Гэрэл, ей хотелось упоенно визжать и кружиться.
После жалкого искусственного дождя Алтан Гэрэл бережно провела ладонью по бархату кожи, словно она — хрупкое чудо, слыша, как поет обновленное кровью тело.
Но в ней вечно таилось беспокойство — горячечное броуново движение элементов чудес в крови — она слышала их зов со странною радостью, пока указательным пальцем не нащупала пупок.
У нее был великолепный глубокий пупок, она несколько раз нажала на него, сигналя «бип-бип».
Ей хотелось идти, идти вольготно и свободно, чувствуя над собою сплошное синее небо, зовущее к радости и сулящее благо на земле.
Идти, одаривая прохожих улыбкою, отдаваясь ласковому шаловливому ветру, несущему издали человеческое тепло и тоску слияния. Чей это неосязаемый запах растаял под самым носом?
Идти и идти, слыша течение своих разнузданных волос, ласковый шелест шелка на бедрах и наполняя мир юным самоуверенным звоном своих каблуков. Звон каблуков пробуждает в ней дерзкую девчонку, она чувствует себя еще гадким утенком, и кожа у нее покрывается пупырышками.
И нет в воздухе никакого запаха плоти и тоски слияния. Но как пронзительно звенела синяя сталь небес:
«Прощай навеки, ненаглядный мой Булат!»
* * *
«Сегодня в Москве и Московской области ожидается сильный дождь», — читала диктор дистиллированным, чистым голосом.
— Сегодня по всей Земле пройдет ливень с градом! — крикнула Алтан Гэрэл и топнула босою ногою.
В ушах долго звенел собственный голос, в нем кричала тоска, вопило отчаяние, алкала жажда молодой жизни.
«Мой голос — мой хлеб. Он всегда помогал мне жить, помогал любить», — подумала Алтан Гэрэл, и ею овладело желание петь вольготно степные бурятские песни.
Петь страстно, весело, звонко, играя всеми мелодиями своего грудного теплого голоса, чувствуя в себе особый дар божественных элементов, юное святое бесстрашие, жажду женщины-бунтаря!
Со дна души рассказать кому-то о вековечном своем одиночестве, о столетней женской тоске, о цистерне пролитой крови и слез — будь проклят этот чуждый женщине мир!
Невозможным казалось ей, что она, позабыв о всех своих муках, когда-то, в далеком счастливом будущем, какому-то древнему старцу будет ворчливо шамкать беззубым ртом в его тугое ухо ласковые старушечьи слова, ощущая рядом его угасающее теплое дыхание, как благодать.
Неужели в том далеком раю ею пролитая цистерна крови обесцветится, теряя со временем болевые муки, и жизнь, и молодость покажутся голубыми бабьими му-таниями?
Я тем живей, чем длительней в огне;
Как ветер и дрова огонь питают,
Так лучше мне, чем злей меня терзают,
И тем милей, чем гибельнее мне…—
будто чужой деревянный голос произнес ее любимые строки Микеланджело.
— Любую боль, коварство, напасть, гнев
Осилим мы, вооружась любовью… —
ее голос осекся.
Алтан Гэрэл подумала о том, что она катастрофически стареет, что старость, как перпетуум-мобиле, неуловимо иссушает ее плоть и дух.
Она достала из гардероба свое черное платье с украшением, — черный цвет всегда одухотворял ее трагическую бледность и высокий морщинистый, не женский лоб. Босая в зеркале, Алтан Гэрэл стояла в длинном черном платье и обреченно разглядывала тлеющее украшение.
«Да, поистине род человеческий с искрящимся визгом был рассечен на мужской и женский. Этот визжальный визг вечным родовым гимном будет звучать до конца наших дней», — думала Алтан Гэрэл.
«Неужто на Земле не стало больше мужчин, неужто никому они не нужны, кроме как для кратчайшего соития, чтобы как-нибудь продолжить печальный человеческий род, слепоглухонемо скачущий в беге с препятствиями с таинственным неведомым кодом в Никуда?» — вопрошала босая.
Алтан Гэрэл казалось, что она одна осталась в живых из всех великих женщин на Земле, и необходимо было во что бы то ни стало выжить, чтобы продолжить свой древний, божий, великий женский род!
Услышь, гуманоид далеких миров,
Песни и визги женщин Земли!
Я в бездне миров блуждаю одна —
Опору на миг — себя — подари!
Меня не прельщает рутина соитий,
Бездной любви на миг озари!
Разве не так живут миллионы одиноких женщин на Земле?!
Статистикою одиноких женщин Человечество не занимается.
Давно пора обходиться минимумом всего материального. От перепроизводства дрянных изделий земля задыхается, как от астмы, крутится с трудом, скрипит и гнется земная ось.
Даже самые пленительные вещи никого на свете не осчастливили.
У меня в квартире два стола и четыре с половиною стула. Испуганным гостям я объясняю, что это — «японский стиль».
Хоть по отсутствию глупых вещей я прочно заняла первое место в Отечестве, меня замучил корыстный сон, будто герои из космоса привезли дар — белые лайковые сапоги с чудесными острыми носками, заведомо недоступными мне, как изгою черной кости.
Ах, как пламенно мечтаю о роскошных белых сапожках, которыми я жажду возместить все свои убытки!..
О чем же мечтают миллионы советских женщин, как не о вечных красивых сапогах?!
Человек лежал в пустыне один, его уморила жара, и он заснул. Ему приснилось, что он пьет ключевую холодную воду. Она текла ему в горло, словно живая, и наполнила желудок жгучим утолением.
Человек судорожно облизнулся и проснулся. Он оглянулся в пустынном своем одиночестве и от ужаса у него воскрес и поднялся хвост — от жажды он выпил заползшую к нему змею.
Звезды вскрикнули, сиганули с неба и спрятались в песках. Потом солнце взошло с запада и зашло на востоке. С тех пор таки повелось. Днем он спал, когда спала его госпожа змея, ночью он бодрствовал с нею под беззвездным небом.
Шея у человека выросла длинная, длиною на одну остановку в метро, чтобы змея могла прогуливаться по городу.
Много ли, мало ли прожила госпожа змея в груди
несчастного божьего человека, в одну из светлейших ночей после испытаний атомной бомбы змея выползла из груди человека. Она выползла из желудка такой же прекрасною, как всегда, в пронзительном визге своего змеиного очарования. Переливаясь золотистою ртутною радугою, с неправдоподобною гибкостью она утекла в дикие мятные травы, чтобы после умереть мучительною смертью от облучения.
В своем безумном злопыхательстве нечисть человечества способна на раскол земного шара. О, сколько великих гениев сгорело во имя улучшения рода человеческого, во имя прогресса… Но величайшими людьми надо считать тех, кто сохранит навсегда мир на Земле. Это лирическое отступление в пользу мира продиктовано тем, что, слушая, как великие державы с яростью ругаются между собою, будто грязные торговки на базаре, ревностно соревнуясь в производстве смерти, — и дальновидно писать о тех милых тварях, которые, быть может, переживут нас, удается с трудом.
Если человечество уничтожит себя, если люди только тем и заняты, что дают себя оболванивать и истреблять, то пусть выживут змеи, лягушки и всякие твари. Если мы, люди, ненавидим друг друга, то по какому праву и зачем мы собираемся погубить всех невинных существ планеты? Пусть после нас живут и плодятся змеи, шипят и обвивают весь шар земной, пусть царствуют и правят Землею своими маленькими ядовитыми мозгами. Они-то мудрее нас тем, что никогда не жалили друг друга и потому более достойны жизни.
Кстати, что стало с тем человеком, из которого выползла змея?
Хорош гусь! Перелетел континент и умер там со скуки… американской действительности.
Сюжет этой восточной легенды рассказал мне щедрый на мудрые дары таджикский кинорежиссер Бако Садыков. Легенду он мне рассказал в самые тяжелые минуты жизни, когда женщине ничто, кроме легенды, не поможет.
Бако был дружелюбным, доброжелательным человеком. На всякий случай он дал мне ряд житейских советов. При этом он волооко пулял глазами по сторонам, поймал пристрастный взгляд пригожей незнакомки, про-скопившей мимо, и демонстративно поперхнулся.
Нынче мужчины стали самозванцами. Золотые друзья мудозвоны вовсю трезвонят о своей дееспособности, бесконечно предаваясь словесному разврату и скури-ваясь насмерть…
Бако смотрел на меня как на несчастную глупышку, не сумевшую удержать своего порядочного незаконного мужа от хищных мещанок. Он с жаром доказывал мне, какою необходимо быть современною, живучею, хитроумною и неотразимою женщиною! Он напомнил мне о неистребимости женской плоти и духа, о ее природной чистоте и самосозидании в отличие от сильного пола.
— Значит, всепобеждающей сверхженщиной! — я попыталась улыбнуться ему, желая сохраниться неубывающей, но на моем несчастном лице дрогнула жалкая пародия на улыбку, от которой сморщилось само зеркало. Зеркала и фотографии как никто предсказывают нам болезнь и судьбу.
«Я люблю старинные зеркала. Я люблю подолгу стоять, вглядываясь в темное свечение зеркального стекла. Зеркала таят в себе нерушимые, неприкосновенные тайны любви и смерти», — говорил Ги де Мопассан, трагическая судьба которого оборвалась в зеркальном плену пляшущих чертей…
Прошел месяц, вспоминалась восточная легенда о человеке и змее, где змея была высшим совершенством природы.
— Да не могла она умереть от облучения! — сказала я вслух и вспомнила рассказ одного ученого о том, что в некотором болоте, куда сливались радиоактивные химические отходы, появились двухглавые, шестиногие, огромные лягушки-чудища.
Что станет с феноменом человека после уранового распада?! Может, наш мировой уникум сгорит в своем гнезде и вновь возродится из пепла, словно сказочный феникс? Тогда после уранового возрождения мы, наверное, не избежим судеб несчастных лягушек. Появится новый биологический тип человека разумного — многоглавые, многорукие, многоногие чудовища ада. Родится ли у них свой Данте, чтобы увековечить их муки в назидание потомству?
Но вернемся к невинной восточной легенде с умершим со скуки жалким человеком.
— Туда ему и дорога, паразиту! — отругала я человека и впервые вспомнила самого Бако, как он великодушно помахал мне рукою:
— Гуд бай, сестрица!
Я увидела наяву его неестественно гибкие руки и подумала: «Наверное, всегда бил в бубен». Потом я увидела его тараканьи усы и то, как Бако хлопал роскошными черными ресницами, меча взгляды по сторонам.
Вдруг в памяти чудом всплыли горячечные, трепетные поры его любвеобильного коричнево-желтого лица.
— Все мы — желтая раса! — с вызовом сказала мне однажды знакомая бурятка с белоснежною кожею, запудривая густой ягодный румянец. Ее возмущала мысль, что подавляющее большинство человечества для кого-то «цветные», точь-в-точь как цветные металлы.
Плоть и душа восстали против приятного, приторносладкого одиночества, игра воображения раздвинула потолок кухни и умчалась за белые пышные облака. Во мне женщина алкала любви и трагедии, как верблюд в пустыне воды. Стерн говорил, окажись он в пустыне, то полюбил бы какой-нибудь кипарис. Недаром лорд Байрон полюбил свою сводную сестру Августу Ли и вступил с нею в полнокровную связь. Странно то, почему понадобилось знатным англичанам преследовать инцест? Может быть, у высокопочтенных пуритан, атлетов духа, слюнки потекли от столь лакомого пиршества наглого бунтаря-гения?
От бездонной бабьей тоски по тому, что ныне не рыцарствуют ни донкихоты и ни донжуаны, я выгрызла дыры в наволочке, из подушки посыпались пух и перья, костлявые перья того самого тощего от любовных страстей петуха, с царским достоинством топчущего белых кур омерзительными сизыми ногами.
Я целовала не синтетическую эту подушку, и губы шептали неизвестно кому: «Я люблю тебя».
Плюнув на творческое горение, самосжигание и подвижнический труд, я страусом помчалась на почту отбивать срочную телеграмму;
«Мне, господь, надоела моя нищета,
Надоела надежд и желаний тщета.
Дай мне новую жизнь, если ты всемогущий?
Может, лучше, чем эта, окажется та.
Если б я властелином судьбы своей стал —
Я бы всю ее заново перелистал
И, безжалостно вычеркнув скорбные строки,
Головою от радости небо достал!
Прилетай скорее с Омар Хайямом!»
— Омар и Хайям — это ваши сыновья? — спросила приемщица и стала быстро вычеркивать знаки препинания в рубаи.
— Оставьте их! За все знаки заплачу! — взмолилась я, как будто от них зависела моя судьба. — Омар Хайям — это поэт!
— И он к вам прилетит из Душанбе? — усмехнулась приемщица.
Я вдруг крупным планом увидела, как ее усмешка с трудом пробивается сквозь толщу косметики. Глаза у нее были щедро обведены сиреневою тенью, ресницы засохли в туши, словно кисти с краскою. «Муж спит с нею в противогазе от косметики», — подумала я, но ироническая мысль причинила мне физическую боль.
С каких-то пор жизнь моя превратилась в сплошной ад, ибо самую малость на свете я стала воспринимать как ожог на теле и прослыла сумасшедшею среди круглых обывателей.
«Жизнь — это Дантов ад, а рай нам только снится!»— написала я на чистом бланке и протянула приемщице.
— А это куда? — таинственно спросила грубая баба.
— Иисусу Христу от меня! — и я указала глазами вверх.
Опустилась алюминиевая плоскодонная летающая тарелка с вмятинами, где засохла амброзия, телеграмма прижалась на тарелке, как наэлектризованная копирка пристает к писчей бумаге, и тарелка взмыла в небеса. Вот он божий дар видения галлюцинаций!
Бако Садыков прилетел в Москву учиться на Высших режиссерских и сценарных курсах, куда меня так и не приняли, и в первый же день сбежал от моего неприлично бурного восторга в свой холостяцкий уголок общежития Литинститута, где в другом конце коридора этого же третьего этажа проживала я по праву выпускницы-бедолаги, не поступившей на курсы.
Несмотря на тараканьи висячие усы, Бако обладал какою-то ласточкиной чуткостью и гибкостью, это оживление так и порхало у него на лице, в пальцах, взгляд его светился то ласково, то дерзко, длинные ресницы его часто загадочно трепетали, лицо его обрамляли черные кудрявые волосы с легким налетом дорожной пыли. Двигался и говорил он легко и быстро, с удовольствием, когда не находил точного слова, он сжимал зубы, слегка скрежеща ими и топорща усы, делал кистью руки въедливый, как сверлильный жест и в этот миг превращался в разумного зверька… Как и подавляющее большинство мужчин, он не был лишен спасительной прелестной трусости перед женской угрозою, трусости, которая порою так одухотворяет даже самых, казалось бы, бездуховных мужчин.
«Как странно, что он таджик!» — удивилась я, навсегда вытесняя из памяти тупых, жестоких, раздувшихся от себялюбия, как индюки, среднеазиатских баев, образы каковых я почерпнула из «Таджикских народных сказок», прочитанных ь детстве. Казалось, что легко, приятно и весело жить с таким, как Бако, и эта кажимость осталась во мне навеки.
— Давай, я от тебя рожу! — напирала и наступала я ему на глотку.
— У меня же съемки! — трусливо заорал Бакошко и побежал снимать храбрых, доблестных и отважных рыцарей в кино.
— Ты трусливее всех мышей на свете, взятых вместе! — крикнула я ему вдогонку.
Но хитроумный режиссер помахал мне рукою и на бегу послал воздушный поцелуй. В прах разбилась еще одна надежда на счастье, и от воздушного поцелуя я никого не родила. Бако же поставил фильм и получил премию на Всесоюзном кинофестивале. Прочитав этот рассказ, он ловко отшутился:
— О! Если бы я знал, что она увековечит мой воздушный поцелуй, то я украсил бы его нимбом!
* * *
Один Мифотворец — высшая в мире широкая русская натура — рассказал мне легенду об обитаемости Солнца: горение именно разумной материи дает нам свет и жизнь.
— Понимаешь, горят там живьем! — торжественной сладко произносил он октаву брани, как молитву и стихи. У него была боксерская привычка говорить, мотая бодливою лысою головою, словно отбиваясь от назойливых мух. Я не могла представить горящих на Солнце живых существ и представляла горящими на Солнце Джордано Бруно, Жанну д’Арк, Яна Гуса и Сергея Лазо. Вспомнила, как я девочкою плакала от фильма «Костер бессмертия», проплакала всю дорогу в темноте от сельского клуба до дома и пришла домой опухшая от слез и дома за чаем продолжала потихоньку всхлипывать.
— Какого дяденьку, ты говоришь, сожгли-то? — спрашивали родители.
— Он наш, советский дяденька! Сожгли его немцы на костре! Сначала его заточили в тюрьму, потом ему заткнули рот грязною тряпкою, чтобы он не спорил, и сожгли на костре! — И я расплакалась еще пуще прежнего.
Испуганная бабушка помолилась богу за душу нашего советского человека, потом она прослезилась, вспоминая о своем без вести пропавшем в войну единственном сыне, о моем родном дяде Юндуне, умном, добром, талантливом юноше, нарисовавшем удивительные копии картин Васнецова. Копия трех богатырей Васнецова висела у нас на стене в большой узорной раме под стеклом.
— Наш Юндун писал в последнем письме, что лежит в госпитале раненный… Может быть, немцы сожгли этот госпиталь с ранеными? — и бабушка тоже стала плакать. Дедушка взволнованно закряхтел, прочищая горло, но ничего не сказал. Мама сморкалась в выгоревшую дотла косынку.
Потрясенная кинофильмом «Костер бессмертия», я верила, что моего дядю Юндуна Гырылова, самого замечательного для меня человека на свете, которого я никогда в жизни не видела, немцы сожгли живьем в госпитале. Я и поныне не могу отделаться от этого чув-
ства, кажется, что госпиталь был пленен, легкораненые угнаны в Германию, а потом, изнурив непосильным трудом, цивилизованные людоеды сожгли их в своих чудовищных печах!
Тогда я училась в начальной школе в далеком бурятском селе Гэдэн, я не знала о существовании на свете философов и астрономов, я еще не встречала таких слов в тех простых учебниках, хотя имена молодогвардейцев знала наизусть, но, просмотрев фильм, не смогла запомнить сложного имени Джордано Бруно, я не смогла даже перевести на родной язык названия фильма — не понимала смысла русского слова «бессмертие».
Я несколько раз пересказала содержание фильма, как смогла, все подробности сожжения человека живьем на костре и муки героя потрясли моих родителей. Бабушка разогрела на плите застывшее топленое масло в бутылке-четвертинке, налила драгоценное масло в большую серебряную чашку с ножкою, зажгла свечу и поставила перед бурханами за сожженного человека.
— Жаль, что ты не запомнила имени героя. Сейчас поздно, завтра я узнаю у киномеханика, — сказала мама.
— Может, вспомнишь, Гэрэлма, ведь голова у тебя свежая, не то что у стариков в тумане, — и дедушка привычно понюхал мою почетную косичку на макушке.
Свеча уже горела. Стыдно было не вспомнить имени мученика. Грех. Этим я могла подвести бабушкину свечу перед бурханами. Может быть, многих других людей сжигают сейчас живьем на кострах, и боги могут перепутать. И, чтобы именно его душа попала в рай, бабушка должна в своих молитвах назвать имя великомученика.
— Мунхэ Гал! — назвала я бурятское имя, мучительно сравнивая огромный гудящий костер с черным дымом, от которого мог загореться небесный свод с раем, с маленькою и чистою свечою перед богами. Бурятское имя МУНХЭ ГАЛ означает ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ.
Если мне, имеющей представление о философии Джордано Бруно, сейчас суждено было перевести его имя другим мирам, то я послала бы код ВЕЧНОГО ОГНЯ. Тот, кто в жестокий век инквизиции считал само Солнце ничтожною пылинкою в бушующей бездне Вселенной и предпочел сгореть живьем за свою страшную истину, увенчав духовный небосвод человечества еще одною звездою своей великой жизни, достоин именоваться ВЕЧНЫМ ОГНЕМ.
Изверги Рима сожгли тебя, Джордано, на Плошади Цветов!..
Века ль, года, недели, дни, часы ли
(Твое оружье время), — их потока
Ни сталь и ни алмаз не сдержат, но жестокой
Отныне их я неподвластен силе.
Отсюда ввысь стремлюсь я, полон веры,
Кристалл небес мне не преграда боле,
Разрушивши его, подъемлюсь в бесконечность.
И между тем как в новые все сферы
Я проникаю сквозь эфира поле,
Внизу — другим — я оставляю Млечность.
Джордано Бруно
Немало простых и смертных людей на Земле всходили на костер и горели живьем. Может быть, и на солнце горят разумные живые существа, давая свет и жизнь нашей Галактике?
Так я полюбила мифического мужчину за обитаемость нашего светила-кормильца.
— Да он же хитрый Мифотворец! — возмутился и сердился мой Стрекозел. — О господи! Кому нужна жена, которая бросает вызов всему человечеству? Не жарит кабачки, баклажаны, не стирает носки, не шьет, не вяжет, а требует от мужа первобытной, дикой свободы во всем! Иисус Христос только жил бы с тобою! Да и то его распяли! — раскричался Кузьма Кузнечишко и неожиданно вдруг заплакал…
— Вот идея! Вдова Будды… — прошептала я ему вслед.
* * *
Живем мы сверхскромно. У нас нет даже телевизора. Да ни к чему он нам, сердечный. Тем более — цветной. Я не курю, не пью даже кофе. Тем более — натуральный. За эти деньги купишь столько капусты, что ею один раз досыта можно накормить слона! Если бы мой муж-бог предоставил выбор: или ежедневно напиваться до одури кофе, или же вечно пить пастеризованное молоко из порошка, но иметь своего слона, то я поклялась бы не брать в рот ни кофе, ни пива. Но каково мне будет, дочери колхозных чабанов, выросшей на молозиве овец, вскормленных солонцами Боргойской степи, глотать до гробовой доски столичное порошковое молоко?!
Этого никто не поймет кроме милых и резвых чертей-ягнят.
На земном шаре я больше всех обожаю слонов! Слонов я уважаю больше, чем министров. По примеру римского императора Калигулы, назначившего своего коня сенатором (правда, мужик был самодуристый), будь моя власть, я бы ввела слона в какое-нибудь свое министерство, чтобы министры, постоянно видя могучее животное перед собою, проникались величавою гармонией слоновьей поступи и устойчивости. Слоны способны украсить всю философию мирозданья. Слон умирает стоя в окружении своих братьев-богатырей, вставших со всех сторон исполинскими опорами. Наверное, потому мне так хочется иметь друга великана. Эх, если бы слон не стоил пятьдесят тысяч рублей!!!
Неслучайно в Карагандинском зоопарке слон Батыр заговорил человеческим голосом. Первым заговорил слон, чтобы выжить среди рода человеческого на земле.
Жить на такой планете, где мужики только жрут наркотики и смотрят по телевизору хоккей, — зря время терять! Ни один мужчина на Земле не измучил меня любовью и страстями, и потому я часто вижу мужчин в облике скелетов в шлепанцах…
Я люблю кулачками раскалывать крепкие грецкие орехи. Но так как нет денег питаться дорогими грецкими орехами, мы на черный день растим подсолнухи. Подсолнухи тяжелыми головами грустят со мною вместе. Только они на свете знают, что мой Мифотворец носит самые дешевые свитеры на свете, что он курит дешевые папиросы и пьет гадкую водку, которая жутко-мудро подорожала.
Однажды ранним утром в окно постучался самый мудрый и крепкий подсолнух и шепнул мне на ухо:
— Жене Мифотворца необходимо заниматься критическим реализмом.
Тогда я впервые проявила жестокую практичность: отрезала подсолнухам головы, намолотила семечки, продала их на рынке и купила Мифотворцу сигареты с фильтром.
До тех пор я растила мудрые подсолнухи и покупала Мифотворцу сигареты с фильтром, чтобы не с такою горькою горечью отдавали его слюни при поцелуях — пока элементы чудес не затокали с яростным ожесточением, как взбунтовавшийся узник колотит тюремные стены. Я потеряла сон и аппетит, вдребезги разлюбила никотинового Мифотворца с невинными синими глазами и ушла из дома. Разошлась с мужиком из-за рвотной горечи табачных слюней.
Я — не христианка… Вольные дыры моих мочек не выносят насилия — никаких сережек не ношу, даже материнские серьги.
О, за что господь бог наказал наш женский род этой колокольною бездною мудозвонства?!
— Чудо-юдо — рыба кит! — такова была людская молва обо мне.
Без семьи, без детей, без смертельных изумрудных драгоценностей, без сердечного синего телевизора и высокой конечной цели вечным изгоем я бродила по миру, словно странный Пришелец ниоткуда среди шустрых, алчных и ненасытных кровопийц землян. Так как аппетиты людей на мясо растут вместе с населением земного шара в геометрической прогрессии, то необходимо интенсивно разводить несчастных животных на плавучих городах Мирового океана, в подземных царствах, на околоземных космических станциях, затем на обратной стороне Луны и на Венере.
После моей смерти родные в кармане моего ветхого серого пальто нашли кусочек киновари. Еще в молодости на одесском пятачке свою кашемировую шаль с кистями я обменяла у глупого цыгана на киноварь, отчего лихоимец радостно приплясывал с пестрою шалью.
На этом закончилось мое стяжание сверхблаг на Земле. Философский камень был моим единственным имуществом. У Диогена же была добротная штаб-квартира— бочка. Живи Диоген нынче — стал бы жертвою конной милиции. Немыслимо, чтобы какая-то несчастная деревянная бочка выжила даже в музее под колпаком.
Написанная мною трилогия: «БОСАЯ В ЗЕРКАЛЕ», «МОНОЛОГ ЗОЛОТОГО ИЗГОЯ» и «ПУТЬ СТРОПТИВОЙ БУРЯТКИ» — еще при жизни вошла в заветный фонд мировой макулатуры.
Моя личная жизнь ни разу не была освящена бесценным скипетром брачной печати, и я никак не могла гордиться толстым жирным клеймом расплавленного желтого металла на беззащитном безымянном пальце правой руки. Может быть, судьба Будды спасла меня от пожизненных медных цепей семейных уз? В то время когда счастливые жены тоннами стирали и гладили презренные серые тряпки, я мечтала о высокой, неземной, невыносимой любви с гениальным звездочетом, проводя будни в планетариях, и до самой смерти продолжала верить, что моим именем будет названа новая счастливая звезда! О, самая строптивая бурятка, заблудшая в каменных джунглях степная овечка, блей! Блей, как ни одна заблудшая овца в мире, падчерица всего человечества, уж никто тебя не спасет, разве только волки услышат лакомую трель твоего степного блеяния.
Апостолы русской совести не расслышат инородку, залепят уши воском.
Только далекие потомки отыщут то место, где был похоронен мой бедный прах, и там, в Гэдэнской горе, обнаружат неведомые на земле химические элементы. Поскольку Пришельцы иных миров не приземлялись в наших краях, элементы назовут моим славным именем— Алтан Гэрэл, что означает Золотой Свет. Так мои семена чудес, принесшие мне пожизненное горе и страдания, будут занесены в Периодическую систему элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. О, как я жажду наконец-то на том свете избавиться от трагического груза прожиточного минимума на Земле!
Да будет сохранен мир на Земле! Пусть прекрасное это человечество пойдет по пути развития телевидения. Так, настоящим прожиточным минимумом двадцать первого века станет сердечный сизоголубый телевизор. Земля будет густо усеяна огромными мудроэтажными телевизорами-небоскребами, люди же будут служить присосками к ним. Затем весь земной шар покроется сплошными стереотелевизорами и превратится в один огромный дымящийся объект, где людишки крутятся колесиками и винтиками этого единого механизма. Это будет конечной целью, величайшим прогрессом человечества. Что же вы хотите иного?..
— Ура! Ура! Ура! Вышли в поле телевизора! — возопят любопытные Пришельцы и прилетят смотреть на Телек-землю.
Ну, чтобы не прикончить свой невинный жалкий рассказ о прожиточном минимуме Его Величеством Телевидением, ставшим светочем мирового разума, скажу, что прожиточный минимум на Земле — это мир, это наша память.
И покуда в моих жилах течет бунтарская азиатская кровь, а не застыла современная безобразная паста, назло всей надменной навозной дребедени я буду золотым пером писать о том, что сердцу мило, о Духе самого Солнца, что светит нам в цепях… отбросив призрачную надежду заработать пятаки на заплатки, рви их ветер!
Никогда не была я в Тюмени, не копала землю до ядра.
Не отличаю толком нефть от газа, все одно обернется могильной проказой этот бездонный златоносный землерой.
О, люди! Земля изрыта-изъедена, как румяное яблоко червями…
Неужели все Богополье Земли посыпано спидо-пестицидами?
Так однажды пришла-таки счастливая мысль заложить самою себя в ломбард, чтобы как-то выжить на родной планете, где откормленные паразиты торгуют всем и вся насмерть!
В земной жизни я, однако, так выросла, что бросаю вызов всему человечеству, бунтую беспробудно, приобрела одну-единственную бескорыстную специальность — бродить босиком.
А ведь наступил тот пик, когда за мир надо бороться всем героически, сгорая заживо на костре, чтобы выжило наше родное, мудрое-премудрое человечество.
И пыль космических ракет застилает Солнце, садится в полости костей…
Какой эликсир жизни ищем мы судорожно в космосе???
Я — полет топорного ядра…
Берегитесь!
Когда мне было пятнадцать лет, подростковые причуды прямо-таки скручивали меня.
Кто не испытал в этом опасном возрасте взрывной бунт резкого созревания?!
Помнится, летом я работала на сенокосе и училась косить.
Подростки копнили сено с женщинами, сгребали граблями, ворошили скошенное на разномастно сбритом лугу.
Мужчины косили вручную в гиблых болотных водянках, обойденных конными косилками.
Своею маленькою жигалкой, которую дала мне мать, я обкашивала клочья, кочки, каменистую кайму, утыкаясь косою в землю так, что вытаскивала ее с большим трудом. Но мне казалось, что моя работа на этом гиблом лугу самая важная.
Красные, словно обваренные кипятком, нежные ладони покрылись водянистыми пузырями.
Коса моя быстро тупилась не столько от косьбы — трава была сочною, неперестоявшей, — сколько от земли, корней, с пронзительным визгом ранилась она и о случайные настырные камни.
Как затупилась жигалка! Я тайно радовалась тупизне и шла на отдых, несла ее для точки, где ее лезвие отбивали, разминали молотком на наковальне, а затем красиво и ловко точили длинным бруском, чередуя взмахи елочкой.
Старики так искусно и красиво это делали, что мне невольно захотелось самой поточить свою косу.
Еще ни разу в жизни я не выбивалась из сил и не уставала так, как на этой проклятой косьбе, но ведь я сама вызвалась подчищать эти бесчисленные островки-бородавки по лугам.
Когда мои мозолистые пузыри на ладонях лопнули и невозможно стало косить даже в рукавицах, я вернулась к смеющимся копнильщицам.
Как легко было после каторжного махания косой грести и таскать сено охапками, утаптывать гудящими ногами основания копен!
Тем памятным летом первой в моей жизни косьбы в мусоре у полевого стана я нашла цельный железный шар размером с мужское спортивное ядро, но такой грубой работы, будто вырубали его топором. На выброшенную ржавую болванку лились обильные помои.
Я редко что нахожу. Почему-то обрадовалась говенному подарку судьбы. Ногами выкатила я грязную железяку из кучи мусора.
У нас в магазинах ядра не продавались. А у меня теперь будет свое, персональное!
Не беда, что не научилась за лето толком сено косить, научусь-ка толкать ядро! И не простое — мужское, тяжко тяжеленное, как страшный человеческий грех.
Эта грязная находка будила во мне тайные силы.
В первый день я песком и галькой отмыла в речке коросту налипшей грязи и собачьего дерьма. Галька-го и облагородила болванку.
Во второй день ржавчину топорного ядра я отчищала керосином.
В третий день драила изо всех сил каменною солью для скотины. Благо, что целый мешок крупной соли хранился у поварихи полевого стана.
После трехдневных жестоких усилий вылупилось синюшное болванное тело топорного ядра.
И я понесла его домой через гору, а под гору толкала-катила всю дорогу. Веселый был путь — шарокат! Не было у меня более чудного занятия, как толкать ядро под гору, а потом догонять его в поту.
Радовало душу топорное ядро, сулило победу. Его полет я могу сравнить лишь с моим первым полетом с горы на новом велосипеде!
Толкала я тяжеленное ядро всего на три метра, но катилось оно далеко-далеко, и я бежала за ним, как за золотым, чтобы не затерялось в траве в стороне от дороги, не закатилось в какую-нибудь бездонную яму.
Когда мне было тринадцать лет, родители купили мне взрослый мужской велосипед.
На велосипедах дети ездили в школу в село Нижний БургАлтан.
В гору взбирались пешком, тяжело катя машину за рога, зато с горы летели вниз на сумасшедшей скорости!
Вот и мне предстояло впервые лететь на велосипеде по горной крутой, извилистой дороге с оврагами.
Даже бывалые шоферы здесь глядели зорко и держали руль на пульсе сердечном.
Моя подруга Шара Дари — белая с пунцовым румянцем, смелая и рослая деваха — была лихой велосипедисткой, она-то и учила меня технике езды. Ободряя всячески, Дари и благословила меня на горбатой вершине страшной горы:
— Главное — пятки на тормоза! Дави и дави на тормоза!!!
И я, бедняга, вцепилась в руль так, что резиновые рубцы врезались в ладони. Потом я долго разглаживала руки, сгоняя с них полоски.
И хотя ноги едва успевали давить на тормоза — с Гэдэнской вершины я летела на жуткой дрожащей скорости!
Сердце холодело от страха и восторга, в ушах свистел холодный обжигающий ветер, новый велосипед вздрагивал и зловеще дребезжал на камнях, словно рассыпался на болты и гайки и разлетался искрами вместе с щебнем из-под шуршащих шин.
Ай, бурхан! Хорошо, что никто мне навстречу не попадался— могла бы по неуклюжести столкнуться и расплющить новый велосипед!
Горный склон остался позади, а я еще долго катилась по бархатной земляной дороге, и ноги блаженно отдыхали на немых педалях.
И вот, подъезжая к дому, я неуклюже, сбиваясь с инерции, крутила педали.
Потом я попривыкла к горному полету, хотя иногда и грохалась с велосипедом из-за встречной ползущей телеги, которую приходилось объезжать далеко по обочине, чтобы не шарахался конь.
В конце концов и я овладела искусством спуска, давала полную волю педалям и пела песни на счастливом лету…
Но вернусь к бесподобной находке — сокровенному ядру своего тяжеловесного рассказа.
Чтобы его расторопное чело не вредило, не шоркало, не царапало мои руки, дедушка достал наждак у пчеловода Ильи Черниговского, главы единственной русской семьи в Гэдэне.
Сын Ильи — Владимир Черниговский — учился со мною в одном классе, был тайно влюблен в меня и смущенно звал меня атаманшею. Но меня совсем не заботило его занудливое смущение-пыхтение.
Хотя я прекрасно относилась к Володе, дружила с ним, проводила после окончания школы в армию, молча подарила ему свои шикарные мужские часы и переписывалась до тех пор, пока не разминулись мы навсегда на бурных дорогах мятежных романтических скитаний.
Дедушка шлифовал проклятое ядро сколько мог, крутя его взад-вперед в пеленках наждачной шкурки, пока не перемололись все наждачины-песчинки.
— Если завод недородил ядро, вряд ли кто теперь отделает его до божьей кондиции. Но царапаться ядро не должно, — кряхтел дед в особом стариковском усердии.
Помойный дух топорного ядра оставалось только окропить священным аршаном и обкурить божьим благовонием.
Наконец-то завершилось священнодействие, последнее омовение ядра на раскаленном семейном очаге, на последнем пуповинном круге чугунной плиты.
Я начертила круг во дворе. Ну, топорное-растопорное богатырское ядро! Лети-ка, лети же за олимпийским рекордом!
Господи! Как исступленно я толкала ядро, пока не обессилевала!
Затем, дрожа, я пила кислый шипящий айрак, крепко зажмурив желто-карие глаза, чтобы не вылезли из орбит от жгучей кислятины. У нас считалось, что кислый забродивший айрак придает богатырскую силу подростку!
Мои славные родители, особенно дедушка, старавшийся над топорным ядром, тайно и явно радовались, глядя, как тяжело бухает, шлепает ядро, оставляя в земле глубокие круглые воронки.
Хотя я портила двор похуже, чем разъяренный яко-бык копытами, родные не упрекали меня, зная, что я решила стать сильною, как легендарная Сэмбэр.
Да не гнать же взашей старшую дочь-спортсменку с ядром на улицу, чтобы дивились соседи. Пусть портит весь двор своим ядром, выйдет замуж — перестанет толкать…
Дедушка не раз пытался взвесить топорное ядро на старых «фунтоглазках», но ядро скатывалось с плоской чаши отживших свое весов с нетопорной проворностью и сохранило свинцовую тайну своего богатырского веса.
Так вес топорного ядра остался тайною для меня и поныне.
Но творец дурацкого ядра не знал, не ведал, кому достанется его могучий выкидыш-шаролом.
Великое спасибо ему, неведомому кузнецу-бракоделу!
Я толкала топорное ядро по двадцать-тридцать-сорок раз каждый погожий день, и оно летело все дальше и дальше…
В старших классах, когда я училась в аймачном центре Петропавловске, после тех диких тренировок ядро для девочек показалось мне игрушечным шариком, робко выкатившимся из негодного подшипника.
Ха! И толкала я эту игрушку, как из пушки, но все куда-то ввысь, в небо, красиво вычерчивая траекторию полета, беззаботно полагая, что все равно толкану дальше всех.
Следя за хвастливым полетом ядра на соревнованиях, подружки игриво веселились:
— Алтан, ты туды-куды?! В небо пуляешь! Эй, бога зашибешь!
Раздольно раскрутившись — раз-два-три! — я и диск запускала со свистом, придав ему указательным пальцем круговое вращение с такой резкою силой, что набухший палец горел огнем, аж невольно подувала на перст, унимала жар, а диск летел-крутился и падал мертвым шлепком на пуп победы за все меты рекордов, ошарашивая изумленных замерщиков.
А как описать прелесть полета победоносной иглы-копья?
С копьем в руках я воображала себя настоящею спартанкою!
Копье в руке метательницы придавало ей победную летящую грацию всею стрелотелою длиною и иглоукольным наконечником.
Резвущий разбег и зверский, всежильный бросок, неумолимо колющий отделенную свирепо выпяченную грудь Красного Дракона навылет! Ыы-ых!!! Славно взметнулась в небо огромная белая игла!
Да не вздрогнет снаряд, не задрожит рукотворным несгибаемым хвостом! Лети белым выстрелом из лука — за мужскую мету!
Так в семнадцать лет я гордо носила титул чемпионки аймака по всем видам легкой атлетики и побеждала долго, не зная горечи поражений.
В те победоносные времена даже видные парни и подходить-то ко мне не решались и стыдливо обходили настырную богиню многоборья стороною…
Путь к далеким незнаемым городам был открыт моею спартанскою выносливостью и силой.
Я тогда добровольно служила в рядах Советской Армии.
Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск, Киев, Кишинев… И др., и др…
В беге я лучше всех тянула женский «марафон» — два кэмэ.
На первенстве Вооруженных Сил СССР в Киеве на своей короткой дистанции «два кэмэ» при табунном старте меня отшвырнули в хвост, за вопиющие спины, но где-то с середины дистанции я стала лихо обгонять соперниц.
На финишной прямой мой тренер из Красноярска Новиков страшно кричал мне, указывая место, где и как мне бежать.
— А я как бегу?! — кричала я в ответ, раздраженная ЦУ, и прибежала к финишу третьей…
— Бегунья с большим гонором, но ни разу не выкладывалась до конца, — вынес приговор мне тренер Новиков Николай Николаевич и добился того, чтобы оставили меня в Киеве на сборах для участия в Первенстве Советского Союза по кроссу.
Никто из знаменитых тренеров не встречал такой дикости, чтобы бегун криком кричал на финишной прямой, теряя силы и время…
Пораженные моим могучим отчаянием и тем, что мне не удалось выложиться на такой резиновой дистанции, как 2000 метров, вершители судеб вежливо включили никому не известную бегунью из далеких степей в список соискательниц чемпионских медалей.
Я не была даже мастером спорта. Ну и что? Пусть выложится вся, пусть учится! Дайте дорогу степному иноходцу!
Никогда в жизни не кормили меня так калорийно, такими замечательными бананами и прочими фруктами. Кормили по науке, и стоила кормежка недешево.
Государственный тренер, простонародно лысый и добрый Ванин относился ко мне со странною заботою:
— Байкалушка! Ваша цель — бежать до финиша последней, чтоб не упасть, не сойти! Само участие в чемпионате решит вашу судьбу. Вы у нас одна такая — отчаянный новичок, чудачка!
И я с остервенением тренировалась с звездами первой величины в чудесном Голосеевском лесу, где разместился наш спортивный лагерь.
В первый же день, тренируя ускорение, я выдавала весь спринтерский норов без остатка!..
Тогда я, конечно, не подозревала, что и у меня есть одно тайное преимущество перед зенитными звездами — это первобытность топорного ядра крылатой натуры…
— Вот она! Вот чертовка! Которая кричала! — радостно хихикал парень в бордовой ветровке, нарочно тыча пальцем в меня.
Этот легкий, необыкновенно жилистый, костлявый парень с высоченным блестящим лбом казался мне похожим на великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. Этот парень с суворовским блеском оказался таким же отчаянным новичком на сборище золотых звезд.
Парень-Суворов со светлыми шелковыми реденькими кудерьками с вдохновенным фанатизмом тянул свои десять кэмэ на прикидках, выдавал летящий на заглядение красивейший бег…
Как чутко и зорко мы приглядывались друг к другу, пристально и влюбленно замечали все вокруг! С каким пристрастием мы разглядывали горделиво-снисходительные спины и плечи чемпионов!
— Петр Строганов из Калинина! — и парень-Суворов доверительно пожал мне руку, сунув «Лезвие бритвы» Ивана Ефремова под мышку. И сразу же после ужина Петр решительно позвал меня на свидание.
Мы — самые глупые, зеленые новички, вечерами бродили в лесу до темноты и, прячась за огромными деревьями, одаривали друг друга самыми сладкими, самыми счастливыми поцелуями. Я тогда еще не красила и без того яркие девичьи губы…
— У-у-у, Чертушка, я бы такую запирал на замок, чтоб до свадьбы не увели! — шепотом стонал юноша и целовал меня своими малиновыми губами с такою чистою, с такою неутоленною страстью невинного аскета, что немели мои опухшие губы. Я вырывалась из желанных объятий моего Суворова, и мы бегом бежали до лагеря, чтобы успеть на отбой… А после на освещенном крыльце Петенька смачно целовал обе мои щеки на ночь.
Так мы тайно сгорали от сумасшедшей влюбленности.
Право, не было на сборищах ни одной такой счастливой, такой окрыленной, такой рискованной бегуньи, как я.
О, полнолунные поцелуи той заботливой любви вовеки не угаснут в моем благодарном сердце!
И вот двадцать пятого сентября наступил великий день мирового испытания…
Пятьдесят две отборные, мировые кобылы табуном стартанули и понеслись жестким сатанинским темпом.
Колдовские шиповки чемпионок и экс-чемпионок всех мастей закидали мое лицо песком и сухой землею.
Я сразу же сбилась со своей тактики бега. Глаза, рот и ноздри разъедала злая отверженная звездная пыль.
И я мчалась за звездными кобылами последней, как заведенная по секундомеру мудрого Ванина, и отчаянно отплевывалась…
На смертельной финишной прямой где-то за спинами зрителей и болельщиков бежал со мною Петр Строганов и пронзительно звал меня по имени, безжалостно рвал свою глотку пуще моего прежнего тренера Новикова, призывая к атаке, как лев свою львицу!
Я собрала остатки вышечеловеческих сил и обогнала падающую, семенящую вершками жертву и доплелась-таки предпоследней.
За финишной чертой я падала, но ко мне подбежал Ванин, мой неистовый парень-Суворов, а врач поднес ватно-нашатырный спирт…
Как больно я хрипела ободранным горлом, точно обточенная тупыми напильниками изнутри! Изо рта лилась серая пена, из глаз текли какие-то физиологические, нашатырные слезы…
Как легко и бережно нес меня на руках мой рыцарь до лагеря! Вопреки запрету тренера — «не сентиментальничать, Строганов!»
Даже ради одного этого стоило лечь плашмя на землю и не вставать…
— Ну, Чертушка, ты же — молоток! Вторая от зада! Ай, да Алтан Свет! Айда на прощальный ужин с таким видом, будто вошли в десятку сильнейших! Не салаги мы с тобою — а мастера спорта!!!
Так и не дал мне отлежаться этот чертов Петр Строганов. В жизни не встречала такого заядлого тренера, такого подвижника!
Мы с Петей вяло поужинали, раньше всех вернулись из столовой и сели на скамейку возле самого лагеря. У нас больше не было нужды прятаться в лесу, чтобы целоваться тайком в темноте.
Усталые в дугу, крепко побитые первым крещением большого жестокого спорта, в ожидании погибельной разлуки, мы сидели ошеломленные.
И Петр, старше меня всего на два года, тужил:
— До дембеля мне стукнет двадцать один — и по старости лет не примут в летное! И прощай мечта — летать!
Речь шла о поступлении в летное училище, куда «принимаются лица до двадцати одного года».
Моя нежная сталь, мой вдохновенный аскет Петр Строганов ехал со мною в поезде до Москвы. Солдат и солдатка!.. Разлученные приказом, в столице мы расстались с затуманенными от слез глазами.
Мне никогда не забыть эту романтичную святую любовь на пределе человеческих сил, впервые выложенных на алтарь чемпионата мира… Стала мастером спорта, чтобы навсегда потерять Строганова!
Это было моим первым и последним участием в мировых бегах.
Заняла пятьдесят первое место такою убийственною, такою зарезанною ценою.
А до этого любимая королева спорта была для меня радостью и счастьем, угождала моей осанке, моему духу и здоровью.
Спорт, учеба, любовь! Кто не разрывался в юности между этими тремя китами мирозданья?! Да еще солдат и солдатка!.,
Милый Петь!
Помнишь, как мы условились встретиться с тобою на весеннем кроссе во Львове. «Проделал все шаги на пути к тебе, Алтан Свет!» — писал ты. Как рвалось мое бедное сердце к тебе, как обливалось оно кровью, когда вычеркнули меня на отборочных соревнованиях без победы и поражения! Врачи не допустили меня по злополучному женскому календарю. Уж напрасно я ела лимоны, чтобы обсохнуть, и плакала кровавыми слезами!.. Представь дикарку, которая по молодости лет стеснялась тебе написать об этом.
После демобилизации ты поступил в Мурманское высшее инженерное морское училище, а меня судьба после службы забросила в Хабаровск.
Из разных концов необъятнейшей евразийской страны мы переписывались три года, не в силах встретиться из-за учебы, спортивных гонок и множества неумолимых причин. Мне говорили: «В любви побеждает тот, кто рядом…» А тебя я больше не видела даже во сне.
И вот однажды мой штурман, заплыв во Владивосток на пароходе, отчаянно отбивал последние телеграммы:
«АЛТАН СВЕТ ДАВАЙ НАКОНЕЦ-ТО ВСТРЕТИМСЯ СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА».
Но увы, увы, увы!
Не прилетела я ласточкой на судьбоносную встречу.
Господи! При каком затмении разума и сердца я была такою ослепшею, такою тугоухой?! Какого еще героя надеялась встретить в жизни?!
Почему же я не штурмовала, как Берлин, стальные брони на билеты?! Почему не вломилась силою в самолет и не пала на колени перед экипажем?
Неужто орелики посадили бы невесту штурмана в тюрьму?!
Эх, топорное ядро, дуролом! Дубина стоеросовая! Не смогла разорвать какие-то гнилые веревки, опутавшие меня, скрутившие по рукам и ногам…
И осталась сидеть в Хабаровске, Как говорится: «Замуж не вышла и в девках не осталась».
Разве не чуяла сердцем, что потерять такого парня— это все равно что потерять полную луну в звездном небосводе, потерять горного орла и куковать среди воробьиного роя!..
О, нелепая, топорная, меченая женщина, самоличная отказница от семейного счастья!
Мой неистовый альтруист Петр Строганов стал капитаном дальнего плавания и где-то самоотверженно бороздит океанские волны.
И напрасно, горемычно старея, как ничьи фотографии в мире, с благодарным обожанием созерцаю эти солдатские снимки парня-Суворова, эту чистую русскую душу с вдохновенным прищуром глаз.
Рыцарь морей, Петр Васильевич, отзовитесь!..
Не навек прошу Вас, не распыляюсь, а хочу увидеть Вас ясным небесным днем.
Ни у кого не отнимаю взаймы, а зову по праву той невинной первооткрывательницы.
Возьмите меня в кругосветное плавание старым преданным юнгой под сизокрылыми парусами.
Мое бедное женское тело изуродовано страшными рубцами и шрамами, как у воина-первопроходца. Но крепки мои женские руки, тысячи и тысячи раз толкавшие богатырское ядро.
А чего я хотела, сирота-матадор, выходя на бой с быками в краснознаменном платье?!
Но не согнулась спина под градом судьбы, уцелел хребет.
Такова наша социальная судьба: кому по блату в МГУ учиться, а кому толкать топорное ядро с помойки!.,
Да здравствует новый матриархат в моем топорном лице!
Ярчайшие женщины-личности обречены на одиночество среди этих запойных страхолюдинов…
Так я и не встретила героя. Перевелись орелики в космос, чтобы доставлять на меркнущую землю солнечные лучи…
Нынче, во времена магнитных бурь, я невольно ищу свое топорное ядро, золотое ядро моей юности, закалившее и расковавшее меня лучше всякой Сорбонны для классовых боев с черными колючими акулами-живоглотами.
Где-то ржавеет оно, топорное-растопорное, гибнет от рока всеобщей коррозии металлов. Так что вряд ли кто, кроме меня, отыщет мое давнее болванное ядро.
Где же ты, мое золотое ядро юности, мое священное оружие?
Да разве я сама — не топорное ядро среди социальных роботов, среди черного вороньего роя торгоедов?
Какие взрывные, какие неприличные пробоины оставляю кулаками на чинной лакированной жизненной глади господ столоначальников!
Как страстно звенят и подпрыгивают пробки графинов с дохлою гнилою водою на их дубовых столах, где положен гроб всем помыслам святым!
Разве я не заплевана вся, не облита жирными помоями и дерьмом подлецов, как топорное ядро на былой помойке полевого стана? Сохрани волшебный лам-багай — ах, какою чистою-пречистою, родниковою была та помойка!..
Как же мне отмыться в морских бурях, как оттереться красною крупною каменною солью от скверны людского рода на суше?!
Рыцарь мой, Петр Васильевич, отзовитесь!..
Рыцарь морской, звонкий чистый альтруист моей бронзовой юности, отзовитесь!..
О, юность моя спартанская, возродись и воссияй! Милый Петь!
Может, в романтичных женских мечтах я видела тебя грозным адмиралом Строгановым?
Если ты выброшен на берег сверхзастойною морскою бурею, если твой белый пароход сел на мель судьбы и корпишь ты в конструкторском бюро — знай, для меня ты навсегда останешься тем нежнейшим парнем-Суворовым, рвущимся на Альпы!.. Любо помнить, как солдат-полководец в семьдесят лет перешел Альпы. Вот она — самая высшая, вершинная победа духа!
А мы еще молоды, дерзки, страстны, отважны и кровожадны!
Ты не печалься, что я — одинока… Это мировое одиночество, дарованное мне небесами и всем человеческим сообществом, я понесу первобытной тропою, как раненая львица несет свою добычу.
Гляди, как на моей чудожадной ладони сияет самое совершенное в подлунном мире бронзовое ядро — вещий дар богов за все победы! Я не проиграла ни одного сражения на поле человеческого духа.
Вот оно, осиянное ядро, чистый вес всеядной красоты!
1974–1988
Помилуйте посмертно!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Роман в письмах всласть и письмах насмерть
Вина моя растет,
И вина моя восьмою, черною дугою
Влилась навеки в радугу над миром…
Н. А. Некрасов
ПРИГОВОР ИМЕНЕМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
22 июня 1977 года народный суд Каховского района Херсонской области в составе…………
рассмотрев в открытом судебном заседании в клубе села Архангельская Слобода дело по обвинению МЕЛЕКА МЕЛЕНТИЯ СЕМЕНОВИЧА, 7 октября 1953 года рождения, уроженца деревни Дубровино Туринского района Свердловской области, русского, беспартийного, образование 8 классов, женат — на иждивении двое малолетних детей, с семьей совместно не живет, ранее не судим, до ареста проживал в селе Архангельская Слобода Каховского района Херсонской области, работал в совхозе имени Блюхера пилорамщиком, под стражей с 1 апреля 1977 года по статье 94 УК УССР,
Суд установил:
1 апреля 1977 года в 18-том часу вечера Мелека Мелентий Семенович, будучи в нетрезвом состоянии и находясь в квартире Васильчук Алисы Алексеевны в селе Архангельская Слобода, ударом ножа в грудь убил Васильчук А. А., причинив колото-резаную рану на уровне пятого ребра слева по окологрудинной линии с ранением сердца насквозь.
Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.
В конце августа 1976 года при автодорожном происшествии у Васильчук А. А. погиб муж. С нею познакомился Мелека М. С„от которого из-за его побоев, выпивок, оскорблений и угроз убить ушла его жена, Мелека Стелла Петровна. Васильчук А. А. и Мелека М. С. условились устроить совместную жизнь и стали сожительствовать.
В ноябре 1976 года Мелека был направлен администрацией совхоза в Крымскую область, а Васильчук начала встречаться и иметь интимные отношения с другими, о чем узнал Мелека и стал возмущаться, а Васильчук пожаловалась, что Мелека ее избивает, хотя интимные отношения между ними продолжались.
В январе 1977 года Васильчук обращалась с жалобой на Ме-леку в Слободской сельский Совет, куда сожитель был вызван и предупрежден.
В феврале 1977 года, продолжая сожительствовать с Мелекою, Васильчук познакомилась с Емченко Е. Б., с которым также стала сожительствовать и собиралась с ним устроить совместную жизнь, в связи с чем 23 февраля они ездили к его матери. Об этом также стало известно Мелекг.
8 марта 1977 года Емченко, прекратив связь с Васильчук, перешел жить к Л изогубке Зосе-Нечесе, после чего Васильчук на следующий день устроила громкий скандал, выбила входную дверь в квартире Лизогубки. и Емченко возвратился к Васильчук с повинною, и они снова уехали к матери Емченко,
Узнав об этом, Мелека 1 апреля 1977 года пришел на квартиру Васильчук, сюда же пришел и Емченко, но Васильчук и Мелека его в дом не пустили и Емченко ушел. Его догнал Мелека и они вместе с подвернувшимися подзаборными деятелями стали употреблять спиртное в подъезде дома, а затем пошли в квартиру к Зосе Л изогубке, где тоже пили водку, выясняли отношения, а в 18-том часу Мелека вернулся к Васильчук и убил ее.
Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого Мелека виновным себя признал частично и суду пояснил, что Васильчук Алису Алексеевну он любил, собирался устроить с нею совместную семейную жизнь, стал с нею сожительствовать, а затем узнал, что она стала изменять ему, в связи с чем он ревновал ее, имел с нею разговор, на что она отвечала, чтобы он убил ее, что также она умоляла его и 1 апреля 1977 года, когда он пришел к ней и даже написала расписку: «Не хочу жить и прошу в моей смерти никого не обвинять». С целью убийства он взял на кухне столовый нож, Васильчук А. А. легла на раскладушку, расстегнула одежду на груди, зажмурила глаза и указала пальцем место, куда следует точно нанести один-единственный удар. Он переспросил ее трижды, убивать или нет, и, получив утвердительный ответ, нанес удар ножом в сердце.
Кроме признательных показаний Me леки М. С. его виновность подтвердили свидетели…………
вошедшие в квартиру после ухода Мелеки М. С. и обнаружившие Васильчук Алису Алексеевну на раскладушке без признаков жизни, с кухонным ножом, торчавшим из грудной клетки.
Виновность подсудимого Мелеки М. С. подтверждается также материалами дела: протоколом осмотра места происшествия, из которого видно, что потерпевшая Васильчук А. А. была обнаружена мертвой на раскладушке в своей квартире с ножом в груди: вещественными доказательствами — ножом, которым совершил убийство Мелека, заключением эксперта, из которого видно, что смерть Васильчук наступила от сквозного ножевого ранения сердца.
Народный суд считает, что квалификация действий подсудимого Мелеки М. С. по статье 94 УК УССР правильная, так как он злоумышленно совершил убийство Васильчук А. А.
При определении меры наказания суд учитывает личность подсудимого: наличие на иждивении двоих маленьких детей, обстоятельства и общественную опасность совершенного преступления, признание вины и раскаяние. Народный суд учитывает отношения потерпевшей и подсудимого до совершения преступления, их аморальное поведение, приведшее к запутанному незаконному сожительству.
Одним из отягчающих вину обстоятельств суд учитывает, что в момент совершения преступления Мелена М. С, находился в нетрезвом состоянии.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 323, 324 УПК УССР,
Суд приговорил:
МЕЛЕКУ МЕЛЕНТИЯ СЕМЕНОВИЧА по статье 94 УК УССР к двенадцати годам лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии усиленного режима.
Меру пресечения оставить содержание под стражей.
Срок отбывания наказания исчислять с 1 апреля 1977 года. Вещественное доказательство: окровавленную куртку возвратить родственникам осужденного, а нож уничтожить.
Приговор может быть обжалован в 7 суток с момента вручения копии приговора осужденному самим осужденным и в 7 суток с момента оглашения приговора другими участниками процесса е Херсонский областной суд через народный суд.
События после приговора
После оглашения приговора мать осужденного Мелеки в переполненном зале суда получила инфаркт, откуда ее без сознания увезли в больницу.
Родители Алисы Васильчук, приехавшие из Ивано-Франковской области на суд, обратились в Херсонский областной суд с требованием высшей меры наказания для убийцы.
Емченко и Лизогубка вихрем вырвались из клубка страстей в неизвестном направлении. Даже работники сельской почты долгое время не могли узнать их новое местожительство.
Преступник был отправлен в Харьковскую тюрьму, где однажды тайком навестила его сбежавшая жена — Мелека Стелла Петровна.
Что происходило в душе убийцы???
И кто об этом может знать?
Никому неведомы тайны сердца убийцы.
Шарль Бодлер "Цветы зла» Строки «Вступления» (Перевод Эллис)
Письмо 1
Здравствуйте все родные мама, Аленушка и Василий!
Сегодня 23 мая 1978 года. Только что пришел с работы, а на нарах письмецо от вас, большое спасибо.
С работы пришел позднее обычного, так как не хватало трех человек, думали — снова побег. Дней десять назад был побег из лесу, поймали беглеца через неделю. Отсюда частенько балдурики бегут в Никуда…
Погода не балует даже в мае, дуют холодные северные ветры, в конце мая лежит глубокий льдистый снег, совершенно тюремный, то есть северный, жесткий, как песок, и живучий. Наверно, такой закаленный, железный снег сохранится до самого июня.
За зоною болото, местами проталины и множество диких гусей летает, а летом, говорят, вообще тьма-тьмущая гусей летает, шумят, будоражат душу. Как поохотился бы я на воле!
Получил я сапоги болотные. В следующий четверг получу еще куртку брезентовую. Ни один уголовник голодранцем в тюрьме не сидит. Но я вам заказал бандероль, написал сестре Валентине письмо и отправил вместе в одном конверте, получили или нет?
Мне нужны комнатные тапки, майка-сетка, ремешок для брюк, трусы, носки — сколько угодно! Даже мочалка вся стерлась, едва держится, с мылом уплывает.
Очень мне нужны: зубная щетка, чесноку хоть пять головок, «Примы» — пачек 5, и если позволит вес, то положите несколько простых конфет, а шоколадные не положено, отберут, падло.
Вес бандероли положен не более кило. Поняли?
Да, узнал я кое-что о Стелле Петровне, а она мне в письмах все на нервах играет, мстит за банкротство в браке со мною. Сколько я твердил ей: «Чужой ум — до порогу, а свой — на всю дорогу». Вот мы и дожили оба до предела, а дальше осталось шагнуть только в гроб. Я здесь оформлен по заслугам на двенадцать рокив, а Стелле стелется простор: «Мой адрес — Советский Союз». У нее теперь ярые наставники разврата с большим стажем проституции, скоро она с сифилисом загуляет напропалую, не то что с триппером по больницам. Подождите, засадят Петровну или тоже отправят на тот свет в гости к Алисе Алексеевне, чтобы там в раю вместе меня проклинали, гниды.
Больше всех детей мне жалко, но что поделаешь? Вряд ли я выберусь раньше срока, не для того сажали. На химию отсюда идут очень и очень редко — нет разнарядки, а выбираются кое-как на поселение недалеко и все работают в лесу, как волки. Короче, всем не сладко. Мне до освобождения далеко, как до Луны, но как-то надо дожить до поселения или до химии, но к тому времени, может быть, не раз придется поменять зону для разнообразия. Будет потом что сравнить…
Мама, о зубах моих не тревожься, как приехал на Север с одними корнями, так они торчат, как штыки, не болят и не выпадают, жуют пайку, паек. Да и желудок крепкий в норме, разве изредка заводится изжога от хлеба и щей.
Обязательно передайте привет Петру Бурлаченко, если даже он никогда мне не напишет. Как там рыбка ловится у нас?
С северным приветом я — ваш Мелентий
АЛЕНУШКА, РОДНУЛЕЧКА МОЯ! ЗДРАВСТВУЙ!
КАК ТВОИ ДЕЛА В САДИКЕ? СДЕЛАЛИ ИЛИ НЕТ ТВОИ ФОТКИ В САДИКЕ? БУДУТ — ВЫСЫЛАЙТЕ СРАЗУ ПАПКЕ. ДОЧЕНЬКА, НАРИСУЙ МНЕ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ, А ТО ПО ТЕБЕ Я СИЛЬНО СОСКУЧИЛСЯ, ВИЖУ ТЕБЯ ВО СНЕ. ЦЕЛУЮ ТЕБЯ КРЕПКО.
НЕ ЗАБЫВАЙ ПАПКУ. ЛАДНО? ДО СВИДАНЬЯ!
ТВОЙ ПАПА МЕЛЕНТИЙ
Письмо 2, страшное
Здравствуйте все!
Наконец-то от вас насилу дождался ответа. Преблагодарен. Короче, мама, не надо мне ни-че-го, потом я вышлю вам адрес, по нему вышлите сто рубликов. Продайте мой телевизор, и больше я вас не потревожу. Если бы ты знала, мама, как гадко все клянчить! Ты пишешь, что меня посадили не за кражу, что я будто никогда не воровал. Но ведь это неправда. Помнишь, когда я женился, почти, как и многие, ночами не спал, а тащил совхозное добро, старался для блага семьи, которая затем вдребезги распалась. Сейчас не знаю, не ведаю, что со мною будет через двенадцать лет тюряги??? Может, больше никогда не будет у меня семьи. Если окончательно будет угроблено здоровье — то я этих проклятых блядищ на свободе специально уничтожу 15–20 голов, как бродячих собак, и сам туда же махану!
Все вы скулите, что я сам рвался в тюрьму, искал повод, чтобы только посидеть. Хочу вам всем признаться письменно, что я Алису Васильчук любил сильно, даже страшно любил всем чистым сердцем, а она мне ответила бездною измен и вряд ли нашелся бы такой мужик, которому она служила бы верно, не та порода.
Да как я ненавижу сейчас всех смазливых проблядей! Выпусти сейчас меня на свободу, то вряд ли сдержусь: вырву курвам глотки, вспорю животы. Но не рвите сердце из-за меня, подлого выродка. Не беспокойтесь, я надежно и прочно охранен. Если удалось бы заманить Стеллу на личную свиданку, то, ей-богу, грохнул бы! Но о Стерве Петровне я более и слышать не хочу, мне даже в тюрьме мутит от нее. Если б я женился на Алисе, то Стерва загнулась бы от зависти. Но видите, какой страшенный исход. Да, пусть один я — злодей, а вокруг меня ангелы святые кружились?
Я жить хочу и буду жить святым ханжам назло.
До свиданья все! Мелентий Мелека
Написал пером 22 июня 1978 года, а приговором я говно свое вытру, чтобы подтвердить его своею печатью!
Письмо 3
Здравствуй, дорогая мама! Здравствуйте, милые сердцу родные!
Сегодня 7 октября 1978 года, дураку стукнуло 25 лет! Отмечается День Конституции, отдыхаем. Я только вчера узнал, что 7 октября с 1977 года стал всенародным праздником в стране. Мама, огромное спасибо тебе, что ты родила меня 25 лет назад именно в этот День! Хотя мое рожденье слишком дорого обошлось Алисе Васильчук, моим детям и нам с тобою, мама.
Получил от вас поздравительную телеграмму и пять писем. Большое спасибо всем. Даже Стелла Петровна поздравила меня двумя словами: «С первоначальным юбилеем! Двадцатипятилетием!» Я рад, что не слышу подковырок. А какою ты была, мама, в свои двадцать пять? Не могу представить тебя девчонкою…
Мама, родненькая, у меня к тебе сегодня две просьбы: первая — мое «страшное письмо», написанное в приступе бешенства в день приговора, сожгите в печке ради Христа самого, а пеплом посыпьте уборную, чтобы не попал в огород, а то картошка почернеет. Я клянусь вам в День рожденья и в День Конституции, что никогда в жизни не напишу такого подлого письма. Поверьте.
Вторая просьба: нам надо раз и навсегда уточнить дату твоего рожденья, мама, то есть когда отмечать день твоего рожденья? Фактически ты родилась 17 декабря 1927 года, а в паспорте записана другая дата — 30 декабря 1928 года. Как это случилось?
Боже мой! В прошлом году ты в день своего юбилея лежала в больнице на волоске от смерти. Мама, я на коленях прошу у тебя прощения за все содеянное зло. Как мы с тобою были далеки от именин в прошлом году, не до писем и поздравлений. Прости, прости за все — слезы застилают глаза, пишу лицом к углу.
Но не горюй, родная моя мама:
«Дурень — думкою богатеет».
С благодарностью за жизнь, твой заблудший неотесанный сын Мелентий пишет сам.
Целую тебя мысленно.
Письмо 4
Здравствуй, дорогая мама!
Сегодня 7 ноября 1978 года, еще 4-того пришел с работы и получил от вас два письма и поздравления с праздником, за что большое спасибо.
Мама, я заранее решил поздравить тебя с Днем рожденья, с прошлым юбилеем… которого не вернешь. Прости же.
Вот уже полвека отшагала ты по жизни сложной, а к старости — горькой. Что я могу тебе, родная, подарить из неволи? Это плохонький стих, который я пытался сочинить целый месяц, и ребята, прочитав, смеются и шутят: «Аж мороз по шкуре дерет!»
Письмо к матери
Мама, ты знаешь, какой из меня грамотей, да «Куда соваться в волки, если хвост собачий?» Хотелось выдать тебе просветление души своей, чтобы не пропали даром все твои наказы за двадцать пять лет! Целую тебя, родненькая мама, пятьдесят раз!!!
Твой сын дуралей Мелентий сам
Здравствуйте, дорогие братья Владимир и Юрий!
Работаю сейчас на бирже, нас всех перевели. Постараюсь перейти работать в гараже тросоплетом, тросы, чекера заплетать. Не удастся, перейду куда-нибудь. В Коми ударил морозец, сегодня — седьмого ноября — 40 градусов. Братцы, если те брюки с белою подкладкою, оборвите и высылайте, сам подошью. А то мне не в чем ходить, брюки, как марля, светятся. Вот-вот кто-то покажет пальцем и закричит: «А зэк-то гол!» А эти 5—10 рублей я достану здесь, продав свою бандероль, положенную в полгода.
Берегите мать. Поцелуйте за меня Аленушку. Пишите же, не скупитесь на бумагу. Не валяйтесь под мухой.
С праздничным приветом ваш брат Мелентий
Письмо 5
Привет с зимнего Севера!
Сегодня понедельник, 22 января 1979 года. Ударил бешеный мороз, и день с утра актировали, возможно и завтра благодаря Морозу — Красному носу отдохнем. Мы с Силантием вволю попарились в баньке. Пришли и для пущей радости получил подарок — два письма, прочитал, и жить захотелось сильнее: представил домашний уют, любимую Аленушку, вылитую Я… 16 января я в секции хвастался, что моей Елене Мелентьевне уже пять лет! Я мысленно сажал Аленушку на колени и целовал крепкие, как кавун, щеки. Посидел немного в кутузке, уже страшно соскучился по дому.
Хочу проситься работать на просеку, может, лучше там, больше доверия и внимания, да и вам на дорогу для свиданки заработаю, так мне хочется повидаться с вами.
Как же дико я любил Алиску Васильчук! Мама, все чаще вспоминаю твои последние слова, когда я доски завозил, ты мне вслед выкрикнула, видно, материнским сердцем чуяла беду:
— Мелентий! Не наделай дурного!
А я отмахнулся и пошел своим роковым путем. Ничего, мама, бывает, что толковые парни теряют головы из-за пьянки и женщин, а я бестолочь — пил-то запоем. Здесь многие осужденные учатся заново жить, не все выходят на свободу блатными да кончеными. Эвон сколько у меня тысяч и тысячей трезвых дней и ночей впереди, чтобы образумиться.
«Орлам случается и ниже кур спускаться, Но курам никогда до облак не подняться», — писал басенный дед Крылов.
Мама, щенка Босю тоже сфотайте с Аленушкою, когда они играются, ласкаются. Хочется на славную Боську поглядеть. Хоть щенка я погладил бы, поласкал, да нет его у нас.
Крепко целую вас всех. Ваш Мелентий
Письмо 6
Здравствуйте, дорогие мама, Аленушка, Владимир, Юрий и Василий!
Сегодня 26 сентября 1979 года пришел с работы и получил долгожданное письмо. Большое спасибо. Конверт с краскою еще не получил, может, в оперчасть вызовут. В посылку положите еще перцу.
Мама, смотри, не пиши ничего лишнего в письмах, советуйся с Владимиром. Мама, из предыдущей посылки я получил сало, смалец и крем для обуви, а что-то бросили на пол, не уследил. Что же это было? Оно уплыло. Хоть часок хочется побывать в кругу семьи.
В сентябре наша бригада сдала дом для начальства тюрьмы, в угоду им соорудили, постарались, комиссия хвалит, может, чем поощрят нас?
Зарядил холодный дождь, хлещет по ребрам, течет по копчику. Разыгралась грязь по уши, скорей бы мороз ударил.
Обещали же выслать Аленушку с Босею на коленках, а что-то фото не шлете. Может, наконец, ко Дню рожденья получу???
Боюсь, что письмо промокнет и расплывется до точек и запятых от проклятого дождя.
Мелентий
Письмо 7
Здравствуйте, мои дорогие мама, Аленушка, Василий и братья!
Здравствуй, ну и Стелла, если есть!
Сегодня 7 октября 1979 года, понедельник. Мне исполнилось 26 лет. Получил от вас богатый урожай писем и поздравлений, но как мне тревожно на душе! Да, я ждал, что напишете: «Все хорошо, выслали». Но мне не видать, как своих ушей, то, что ждал так долго. Я понимаю, какие надежды вы возлагаете на авиа, но поймите же, что вы живете в цивилизованной республике, а я сижу в зоне усиленного режима на Севере, и самолеты только пролетают над болотными трясинами, а садится только мошкара, которая царствует в воздухе. От Печоры до нас почта может ползти черепахою почти месяц. Скорее Жар-птица прилетит в тюрьму, чем самолет с посылками для зэков. Так что я вашу авиа посылку получу к 7 ноябрю.
А сейчас постараюсь объяснить вам со Стеллою о самом главном, это о нашем будущем, хотя невозможно все объяснить на бумаге.
Мама, родная, понимаю, что несчастному сыну желаешь только добра и счастья, но почему вы сразу решили, что соглашусь без раздумий и сомнений сойтись со Стеллою, простить все ее бурные похождения? А ведь неизвестно, чем она дышит сейчас?
Дорогая мама и Стелла, вы обе прекрасно знаете мой строптивый характер, мою безмерную ревность, которую невозможно подавить ничем, разве что оскопить? За что я должен преклоняться перед Стеллою? Да что мне терять, кроме своих ржавых цепей? Но я хочу жить и потому готов простить все разнообразные похождения своего бывшего «сояремника», сбросившего шершавый хомут с нежной шеи в серо-буро-малиновых засосах. Гозов простить с единственным условием, что этого никогда более не повторится в жизни и чтобы она жила только у тебя, мама, только у одной тебя, чтобы не было лишних базаров по селу, а ведь святую женщину трудно оклеветать, а узнать я все равно узнаю по любому каналу, и страшно будет, если она после новых измен надумает приехать ко мне на свиданку. Если она не уверена в себе, пусть не боится, не стыдится и напишет мне искренне, честно всю исповедь своего сердца. А то, что вы ждете от меня согласия-совета о том, чтобы она приехала в Чикшино или Печору, — об этом не может быть речи, я на это никогда не соглашусь. Зачем сеять пустые зерна по земле? Как я ждал ее на свиданку еще раз, когда сидел рядом с нею, в Харьковской тюрьме, которая по сравнению с северными настоящий рай! И как жутко смертельно я задыхался в раю Харьковской тюрьмы и тайно надеялся и ждал Петровну, как свою законную жену и мать моих детей. Она, разбросав детей по бабушкам, развязав руки, предалась одним наслажденьям до тех пор, пока не принудили лечь с заразою в больницу. А кому я изменял? Я не изменял ни Стелле Петровне, ни Алисе Алексеевне, ни самому себе… и погряз по уши в разврате, что пришлось вырваться оттуда в тюрьму! Могу ли после всего этого легкомысленно верить женщинам? Дождется ли Стелла этого письма? Спрашиваю самого себя: что же буду делать, когда подойдет выход на поселение?
Здесь на поселении в основном живут холостяки, разведенные, брошенные, никому не нужные, частенько пьют, дерутся, хулиганят. А женатых, к которым вернулись жены, отправляют в какой-нибудь поселок на место жительства. Многие после освобождения так и остаются жить на Севере. Ведь Север не только суров морозами и мошкарою, но богат зверьем, птицами, рыбою, ягодами, грибами. Есть где работать и зарабатывать деньги на лоне природы. Случается, что бывшие зэки зарабатывают деньги и покупают машины. Вот я и думал, когда доживу до поселения, а до него осталось два года, я возьму развод со Стеллою и распишусь с какою-нибудь женщиной, которая меня поймет и простит, чтобы — не дай бог! — вернуться в зону.
Мама милая, если Стелла действительно хочет серьезно заново лепить разрушенный очаг, то буду рад и даю честное мужское слово, что отныне не обижу ее ничем. Ты ради Иисуса Христа не темни, не мути воду у Стеллы на поводу, а пиши мне чистую правду! Ты помнишь, как она меня с ходу оженила в свои восемнадцать лет, склонив тебя ласкою на свою сторону, а сейчас Стелла все село обведет вокруг пальца, если захочет, учти. Я согласен, чтобы Стелла жила у тебя до весны, до лета, если из-за нее не развратится поселок. Пишу, конечно, грубо, но искренне. Пусть Петровна бессонными ночами все обдумает, что я понаписал сегодня, а если не согласи на со мною, пусть дергает на все десять сторон света. Она думает, если я — преступник, то должен всем все на свете простить и прощать бесконечно… Ничего подобного! Отныне ни одной бабе не дам из меня вить веревки, запутывать узлы, которые развязываются ударом ножа или другим кухонным оружием.
Прости, мама, за взвинченное письмо, но оно вылилось из глубины сердца в день рожденья.
Твой сын Мелентий
МОТИВЫ ВОЛКОВ
Как смертельно скулят волки! Словно сердца их вылетают из пасти и синими ядрами с воем летят на Луну.
Автор С. Г.
АЛЬФРЕД ДЕ ВИНЬИ
1. СМЕРТЬ ВОЛКА
<1864>
ГЕРМАН ГЕССЕ
2. СТЕПНОЙ ВОЛК
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
3 * * *
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
4. БАЛЛАДА О ВОЛЧЬЕЙ ГИБЕЛИ
КТО АВТОР???
5. МЫ — ВОЛКИ
Осужденные любили подобные жареные стихи, некоторые переписывали и собирали «Волчьи мотивы».
— Эх, переложить бы нашу волчью тоску на музыку— великая родилась бы музыка! — начал бывший летчик гражданской авиации.
— Скажут, «волчий культ», «ложная романтика», представьте такую симфонию — «Волчьи мотивы» по радио, а? — продолжил библиотекарь Миф.
— А я больше всех песен люблю «Журавлей». Кажется, что душа моя улетает в небо с журавлями и кружится в выси, — признался всегда молчаливый Глеб Тягай.
— Кто смотрел «Приключение на дальнем Севере» Джека Лондона? Как волчица и черный пес полюбили друг друга, такой здоровый пес! — И серые глаза высокого молодого мужчины невольно вспыхнули.
— У тебя, Граф, все сводится к любви, даже среди волков.
— А вы знаете, как любят волки? Мне уральские охотники рассказывали: волк ведь тоже стареет, седеет, слепнет, выпадают у него все зубы, не в силах бедняга откусить себе готовую добычу. А супруга помоложе разжевывает ему кости, мясо, чтобы можно было проглотить, не подавиться, — увлеченно продолжал сероглазый Граф.
— Во какая любовь! Кто видел, чтобы молодая жена беззубому мужу кефир разжевала? Скорее отравит поди, чтобы избавиться, — мрачно пошутил Миф.
— Ой, будь моя воля, я на такой волчице женился бы, но не распишут! — травил душу Силантий Шишкин, молодой парень, осужденный по статье 117[10].
— А я жену носил бы на руках, да скажут: «Старый с ума сошел в тюрьме!» — вставил Глеб Тягай — любитель «Журавлей».
— А как здорово они любили друг друга! — с сожалением и завистью проговорил Граф.
— Кто?
— Волчица и черный пес! — раздраженно ответил Мелентий.
Письмо 8
Дорогая матушка! Здравствуй!
Сегодня 1 апреля 1980 года — в этот роковой день получил от Стеллы из с. Топки Липецкой области две фотки ее желанного сына от нового мужа-сожителя — пастуха Безкаравайного. А сама, стерва, пока еще Мелека. Поди не обсох ребенок от родов — тут же его фотографию назло присылают мне в тюрьму!.. Пусть растет Руслан Безкаравайный на радость своим родителям, но мне он душу не согреет.
Мама, готовьтесь сразу на свиданку к Первомаю… Умоляю тебя и всех родных, привезите мне дочерей! Как мне хочется обеих посадить на колени и целовать по очереди до тех пор, пока не отберут!
Может, Стелла думает: «Убийца не должен быть отцом своих детей»?
Мама, что бы ни плела коварная Стерва, чтобы не дать детей на свиданку, ты только свое тверди, как молитву:
Во-первых, закон не лишал меня отцовства.
Во-вторых, детей своих я люблю больше всего на свете.
В-третьих, волк матерый и то любит своих волчат.
И самое главное, если я не увижу своих дочек в этом году, тс я, честное слово, с ума сойду! Поняли все?
Если Стелла никак не отдаст Аленушку на свиданку, то привезите одну Неллечку, мне Неллечку очень хочется повидать…
Мама, я буду счастлив увидеть всех, также и Лилию, но не обижайся, без детей на свиданке солнце закатится. А Лилия молодец, что такая здоровая, мясо рубит, дрова рубит тебе, помогает по хозяйству. Она должна будет написать заявление на краткосрочное свидание… Обязательно приезжайте с Юркой, а то, мама, ты замучаешься с детьми в дороге.
Вы не берите брюки Лилиного мужа, утонувшего в канале, не хочу я брюк утопленника. И валенки покупать уже не надо.
Составил список вещей, самых необходимых:
1. Телогрейка.
2. Теплое белье.
3. Махровка, если найдется какая.
4. Трусы, цветных не надо, не положено.
5. Носки любые, сколько угодно.
6. Бритву механическую.
7. Крем для бритья — 2 тюбика.
8. Крем для обуви — пять.
9. Рукавицы теплые, бывают ли шубейки на меху?
10. Минеральную воду «боржоми», а нет — так хоть вонючий «трускавец».
— Харчи везите, что хотите, не забудьте «Приму», чеснок, пожевал бы соленый огурец с хрустом, пока зубы целы.
Список составил на перекуре. Начали рубить новый дом, рублю самостоятельно.
До скорого свиданья! Мама, может, все встретим здесь Первомай?
Твой сын Мелентий
Письмо 9
Здравствуйте, мои дорогие мама и ненаглядная моя Неллечка!
Сегодня 26 мая, понедельник, получил от вас два письма и очень рад. Меня умиляют печатные буквы Нелли, а я в пять лет и соплей-то не умел вытирать. Да, Неллечка узнала своего папу и сейчас не позабудет. Отправил я перевод всего 50 рублей, купи, мама, Неллечке велосипед отмени, очень хочу, чтобы она помнила и любила отца. Доживем до осени, если наберу рублей двести — вышлю на дорогу, себе ни копейки не оставлю, одного хочу, чтобы дети меня знали, любили, ведь родного отца им никто не заменит, тем более какой-то Безкаравайный. Мама, а о Леночке ничего не слышно? Как она живет у них? Наверное, нелегко ей там и соскучилась по мне. Мама, не езди в Топки. Тебя что, снова ругать, что ли? Повезешь им Неллечку, чтобы остаться одною с пьяным Василием. Зачем? За деда Василия я не ручаюсь, мама, поманежь еще, а там смотри сама. Если пустишь жить, то будь построже, хоть и не можешь такою стать. Короче, смотри сама в оба, не оплошай, тебе с ним жить, но чтобы тебе же хуже не стало.
Я еще раз повторяю, сделайте фотографии Нелли фирменные, в г. Каховке, в фотоателье! Ради бога сделайте, а то я обижусь на вас всех на всю жизнь. Пусть Юрка еще Неллечку пофотает, а то я чувствую, что Стелла отберет дочку и я более не увижу ее фотографий. Не зря говорят: «Чем старее, тем дурнее». Так и ты, мама, с твоими тугими мыслями. Еще мне очень нужна краска черная для х/б, пусть сестренка или тетя Соня найдут в Каховке.
Юрка тоже связался с пьянкою, что ли? Почему не может доброе дело сделать для меня? Обещал же на свиданке, а теперь ему некогда. Бей его, мать, плошкою по лбу, а то прогуливать начнет и турнут с работы.
Лилии на последнее письмо не ответил, а то начнет принципы ставить, а кто она мне? Есть время — написал, нет, значит, потом напишу. Ты в Лилии любовь ко мне не подогревай, не раздувай сильно и не агитируй по селу, словно о невестке. Смотри, не проболтайся теще-то, если она прикатит за Неллею. А то две старые дуры обниметесь, расплачетесь и выболтаете друг дружке все чужие тайны и заботы, а там секреты прямо в ненасытное ухо Стелле, которая и без того пылает ко мне неукротимою ненавистью в душе, начнет все назло делать. А то я не знаю, вам, бабам, дай только повод, сразу начнете наводить коны, присылать в тюрьму коварные фотографии Безкаравайных… Ты, мама, спрячь это письмо подальше в сберкнижку, за икону не клади, где каждый шарится, куда и Лилия может просунуть руку.
Да, Никола Третьяк долихачился, но, может, поумнел? Слава богу, что так отделался, хоть жив остался. Вокруг меня кругом гибель свищет, у Лили муж утонул в канале. А Стелла Петровна и в Липецкой области не может найти себе пристанище. Хоть материнства козу лишили, что ли, она ведь и в Топках не застрянет, а болван Безкаравайный и на краю света Стеллу отыщет. Дюже интересно — и куды же из Топок Стерва направит свои чесоточные стопы? В какие бальзамные Грязи[11] почапает от детей мать-беглянка?
Да, в будущем поумней будем на свиданке. Нечего через колючую проволоку кидать вещи и, спотыкаясь, бежать, чтобы подняли тревогу. Прямо смех на палочке.
Главное, мама, береги свое здоровье, тебе еще три года мантулить до пенсии.
С приветом твой сын Мелентий.
ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ МОЯ ДОЧУРКА НЕЛЛЯ!
КАК ТЫ ЖИВЕШЬ? С КЕМ ВО ЧТО ИГРАЕШЬ? Я УЖЕ ПО ТЕБЕ ОЧЕНЬ СОСКУЧИЛСЯ. ОПЯТЬ УВИДИМСЯ. ТЫ ВЕДЬ ТЕПЕРЬ МЕНЯ НЕ ЗАБУДЕШЬ? В КАКОЙ КОМНАТЕ С КЕМ СПИШЬ?
НЕЛЛЕЧКА, КАК КРАСИВО ТЫ ПИШЕШЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, НАПИШИ ЕЩЁ ПАПКЕ ПИСЬМЕЦО.
ЗНАЕШЬ, ДОЧЕНЬКА, ЗДЕСЬ ТВОЙ ПАПА МЕЛЕНТИЙ МЕЛЕКА БУДЕТ СО 2 ИЮНЯ ПО 24 ИЮНЯ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛЕ ЗА ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС НА АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ. ГЛЯ, СОЗРЕЕТ ТВОЙ ПАПКА, КАК АРБУЗ. ПОНЯЛА?
ДО СВИДАНЬЯ, ДОЧЕНЬКА! КРЕПКО ТЕБЯ ЦЕЛУЮ.
БЫЛ УЖЕ ОТБОЙ. БАИНЬКИ-БАЮ, ВСЕ МЫ, ДЯДЕНЬКИ, СПАТЬ ЛЕГЛИ.
ТВОЙ ПАПКА МЕЛЕНТИЙ
Письмо 10
Читайте, не тушуйтесь! Пишу вам сборное письмо за лето.
Здравствуйте, дорогие мама, Василий, Владимир, Юрий и доченька Нелля!
В июне я получил от вас три письма, но сдавал экзамены, сидел в зоне и загорел, как сапог. Только по физике схватил трояк, остальные же сдал хорошо. 25-го вышел на работу. Последний снежок шел в Чикшино 15 июня. 19 июня освободился с нашего этапа земляк из Донецка. Бригада наша расхлябалась. Хочу перейти работать в лес на просеку, если пустят. У меня на лицевом счету осталось всего 80 рублей. Но как жалко, что бандероль на меня укатила обратно. Мама, а ты на кого посылала-то? Теперь береги эту бандероль у себя, скоро снова пригодится. У вас, наверно, давно поспели абрикосы, пусть Нелля поест фруктов досыта. Еще в июне в ларьке я купил авторучку с золотым пером, металлическую со Знаком качества за 22 рубля, выпустили к Олимпиаде-80, из Печоры привозили в зону. Впервые в тюряге отоварился, аж золотом! Прочнее нет, наверно, ручки, мне ведь девять лет писать домой письма. Да, вынужден признаться, что стал переписываться с дивною женщиною Алтан Гэрэл из Москвы, и у меня все свободное время и силы уходят на переписку с нею, похудел я от напряжения и бессонницы, перестал совсем отвечать Лилии Ковальчук и вот вам сообщаю об этом случае. Считайте — чепе! не иначе…
Алтан Гэрэл — бурят-монголка, сибирячка, столица у них г. Улан-Удэ, она же окончила в Москве институт, работает пока воспитателем в рабочем общежитии и живет там по адресу: Москва, 127576, Алтуфьевское шоссе, 91, общежитие, подъезд 1, квартира 10. Матушка, береги же этот адрес, храни в сберкнижке, когда-нибудь заедете к ней по дороге на свиданку.
Чует мое сердце — именно эта женщина перевернет всю мою жизнь.
Здесь на Севере и позабыли, что когда поспевает. Помидоры поспели? покраснели? У нас уже скоро месяц, как солнце не выглядывает и выглянет ли — еще неизвестно, поодевали мы телогрейки. Я хоть позагорать успел во время экзаменов.
Мама, я тебе писал, что больше одного или двух писем в месяц от меня не ждите, ты прекрасно знаешь, что нам положено всего три письма посылать в месяц, а я, тем более, пишу ей… А. Г., так что извините. Лимит.
Да, Неллечка канканы мочит, я ребятам рассказываю о ее проказах, они смеются, а раньше об Аленушке рассказывал им, а Неллька-то похлеще Аленушки выдает номера.
Алименты я пока еще не плачу, но неудивительно будет, если Стервоза Петровна подаст, конечно, мне от этого не сладко станет. До конца срока в ларек не сходить и слюни глотать с воздухом. У нас немало таких шаромыг, которые годами попрошайничают покурить, поесть, попробовать…
Почему так долго молчит Юрка? Мама, скажи Юрке, что мне нужны открытки не простые, а под тонкою, прозрачною пленкою, глянцевые открытки, пусть они подписанные, использованные, но глянцевые с любыми цветами, особенно с розами и тюльпанами или с архитектурными памятниками, все равно, они мне позарез нужны!
Рыба, значит, ловится плохо, а на закидушки, на макуху как берет?
Да, чувствую я, приеду по освобождению и не найду свой дом, утонет он в саду, в пышном цвету.
А что у нас в апреле цветет? Когда меня под следствием допрашивали, возили на «воронке» то в Херсон из Каховки, то из Херсона в Каховку, видел я из окна «воронка», как в садах убирали черешню. Ох и тоскливо было на душе в то время!
Ничего не поделаешь, скоро останется срок восемь с половиною лет, а в следующую весну, если повезет, подойдет срок на расконвойку и поселение. Там посмотрим, куда вырваться. Меня не тянет на поселение, уж лучше бы на химию, но это здесь редкое явление и не для всех светит эта химия.
Мама, напиши все твои болезни прямо в ответ на это письмо, мне нужно знать. Мама, если приедут за Неллечкою Стелла или теща, попроси у них на время Аленушку, так глядишь, тебе веселей будет и пока новая «Безкаравайная» на алименты не подаст. Мне не жаль этих денег для родных деток, но ты сама понимаешь, как существовать без копейки на лицевом счету: ни газету подписать, ни конверты купить. В крайнем случае я стал бы высылать по 25 рублей в месяц. А теща что? она совсем переехала к Стелле?
Я так и не дождусь совместной фотографии моих дочурок. Юрка обещал мне, что повезет Нельку в Каховку в фотоателье, но нет фотографий поныне.
Мать, передавай привет Валентине, Виктору и Андрюше. Всем знакомым и друзьям.
Времени 23 часа 55 минут, а начинает светать, хотя и не темнело. Поди все. 14. 07. 1980.
Мелентий
Письмо 11
Привет с июльского Севера!
27 июля 1980 года, воскресенье. К моему кенту приехали родители из Харькова, он заходит на свиданку на двое суток.
Мама, где мой телевизор? Служит у Вали? Или он дома почивает? Вчера передавали по местному радио объявление об амнистии в честь Олимпиады-80, но если освободят 20–30 человек по стране, да и то тех, кто одною ногою стоит уже в гробу. В Державе «не подлежат амнистии лица, совершившие убийство, изнасилование, квартирную кражу…» и т. п. У меня будет своя амнистия в 1989 году, по весне приеду домой, в День сатиры и юмора…
Хотел я перейти в лес, но раздумал, здесь меня уважают, хотя загремел на 12 лет, жри, что дают, а ездить на машинах каждый день 50 км тяжело и свободного времени не будет для переписки с Алтан Гэрэл…
Мама, на воле в магазинах поищите черные костюмы, прошитые, простроченные красными, желтыми нитками, поручи это братьям — Владимиру и Юрке.
Мама, мне нужен точный адрес Стеллы не для грызни и выяснения отношений, а для человеческой просьбы, чтобы Нелля пожила у тебя и слышала про отца родного не сплошную хулу и очернительство.
Почему у нас такой культ фотографий? А здесь так нужны нам родные, любимые лица, которые согревают своим теплом, зовут нас на волю. Было же этих фотографий целое море разливанное, а Петровна все увезла, уничтожила, сожгла от злобы и ревности.
Мама, а где там Неллечка живет в Каховке? С Владимиром в общежитии, что ли? Хоть бы брат не позабыл ее сфотографировать.
Писем от меня частых не ждите и не беспокойтесь, что со мною стряслась беда.
Ваш Мелентий
Письмо 12
Здравствуйте все, кто есть дома!
Мама, ты почти в каждом письме спрашиваешь об этом, вот и сообщаю свою новость: 28 июля получил заявление от Петровны на алименты, ответил, что не возражаю. Так что, мама, обещанные тебе денежки плакали. У меня на лицевом счету всего 90 рублей, на сколько их мне хватит, не знаю. Отныне на лицевой счет не удастся положить ни одной копейки, так как сначала высчитывают 33 %, потом 50 % хозяину[12], на питание уходит 25–30 руб.
Мама, не пиши в письмах про посылку, что собираешь, я же тебя предупреждал, а ты, как назло, еще подчеркнула! Буду рад, если удастся получить.
Теперь об амнистии милостивой — гля, одного нашего товарища и амнистируют. У него был плевый срок — всего четыре годика, а оставалось меньше годика — вот и угодил.
Так вот: кого-то амнистия вырвала, а меня алименты оседлали, пропало всякое желание с шершавым хомутом, с кровавыми мозолями на шее выходить на поселение. Пойдешь, а жить не на что будет, 20 % государству, 33 % детям, а себе — кукиш с маслом…
Сейчас, мама, смотри сама, хочешь жить с внучками, живи с согласия Стеллы и тещи. Пока Неллечку не забрали, надо успеть сфотографировать ее в фотоателье, а то все ее снимки любительские, ни одной толковой, качественной карточки Нелли нет у меня, мама.
У вас жара жуткая, а мы готовимся к зиме суровой, олимпийской…
Большущий привет передавайте Петру Бурлаченко, Николе Третьяку и всем знакомым.
Дописал 30 июля 1980 года, в среду. Весь в алиментах Ваш Мелентий
Письмо 13
Здравствуй, милая матушка!
Сегодня 13 августа, среда, получил от вас толстенное послание, столько новостей, что трудно всему поверить. На свободе люди как с жиру бесятся, мозги заплыли жиром, но я им не судья.
Мама, я тебе писал или нет, что мне в День строителя присвоили звание — «Лучший по профессии»? Хоть этим тебя обрадую. Зря ты, мать, отказалась от дома отдыха, от грязей, что же ты трясешься над скотиною и огородом? Брось ты все и уезжай, ради бога, на лечение, может, половину болезней излечишь. Соседка Нина хорошая, она посмотрела бы месяц, кому воды налить, курам, уткам зерна сыпнуть. Я тебе пошлю еще 50 рублей, мне на ларек пока хватит. Владимир уже приехал из Молдавии? А где будет Неллечка спать? Сколько клянчу фотки дочери — сил нет! Зачем вы собачку Босю на цепь посадили? Кто у вас сломанный телевизор украдет? Все там как кулаки окопались, с цепными псами, и вы туда же. Не мучьте Боську, отпустите, пусть на воле сторожит дом. Пишите, звоните в ателье или на завод, пусть отремонтируют телевизор на совесть, а если дома будут налаживать, то от мастера не отходите ни на шаг.
С этими телятами ты, мама, загнешься — ни выходных, ни праздников, ни отгулов. Если опять свалишься, то совхоз быстро найдет подменную телятницу, телятам привес нужен, а на твое здоровье плевать начальству. Руки твои так и не заживают от телячьих зубов, не просыхают от пойла. Ты хоть деда Василия по выходным поднимай в пять утра и тащи себе на подмогу, нечего ему дрыхать, после твоей пенсии отоспитесь оба.
Жду я срочного ответа!
Твой сын Мелентий
Письмо 14
Юрка, браток, здравствуй!
Сегодня 22 августа 1980 года, пятница, получил от тебя письмо, написанное фломастером, и фотографии, и глянцевые открытки. Уважил, браток, радуюсь. Наконец-то дождался фирменных фотографий Неллечки, но она скованная, без улыбки, без родных ямочек на щеках, на любительских она лучше, ребенок вольно проказничает. Если пленки не разорили вас, ты чаще снимай мою проказницу. Ох, и шалунья Неллька, как хочется вновь ее увидеть! А пленки храни до лучших времен, пока не сыщешь фотобумагу.
Юрка, я рад, что ты заимел магнитофон — это здорово! Записывай самые популярные песни в стиле «диско», как «Малиновка» в исполнении Белорусского ансамбля или «Все в сентябре». Эх, если с западных сумел бы записать Поля Мориа, было бы классно! Записывай все лучшее подряд. Может, когда-нибудь вновь прикатишь на свиданку, вот и магнитофон прихватишь, его разрешают заносить.
Я прошу хорошую мою тещу, чтобы они сфотографировали Аленушку в школьной форме 1 сентября и прислали мне на радость. Аленку поздравил с началом учебы в школе, подписал «золотом» текст в открытке. Теперь оба будем учиться, Аленушка — в первом классе, а я — на крановщика башенных кранов пойду.
Наш совхоз, значит, быстро строится. А торговый центр построили? Еще хотели вдоль канала пятиэтажные дома построить. Я приеду в 1989 году и не узнаю Блюхера. Сейчас наша улица выглядит как беременная жена, вся в красных яблоках, плодах. Давно ли лежит асфальт? Красивый ли? Так и хочется пальцами пощупать этот ваш асфальт.
Эх, Юрка! Жил да жил бы я в родном Блюхере, кабы так не загремел… на блин собачий!
Не ленись ты, браток, пиши же, родной.
Мелентий
Письмо 15
Здравствуй, дорогая матушка!
7 октября 1980 года, вторник. Мама, в одном мне в жизни крупно повезло — это ты родила меня в День новой Советской Конституции, что каждый день моего рождения даже в тюрьме и то всенародный праздник!
Да, бандерольку нынче получил вовремя: огромное роскошное полотенце, рукавицы меховые, плавки, два душистых мыла, перец, леденцы. Большое спасибо, родная!
Мама, к будущему дню твоего рождения я дарю всю свою любовь и боль к нашей малой родине на Урале:
Вдоволь я насосался леденцов, как медведь до меда дорвался.
Твой сын Мелентий
Лонгфелло
Письмо 16
Здравствуйте, Алтан Гэрэл!
Мне всего 26 лет, родился на Урале в Свердловской области и вырос в глухой деревеньке, с детства любил рыбалку и охоту, но в 1970 году всею семьею уехали на Украйну, отца в то время у нас не было. Сестра моей матери замужем живет в Каховке, и наша матушка захотела жить рядом с нею в благодатных краях, где я жутко не прижился к райскому климату — из-за чего я в 1978 году приехал сюда на Север не за длинным рублем, а чтобы посвятить всю свою судьбу и жизнь вечно суровому и прекрасному Северу и его огромным героическим стройкам.
Как видите, Алтан Гэрэл, пишет Вам незнакомец, но в этом нет ничего страшного. Я увидел Вашу фотографию в «Строительной газете» и узнал, что Вы работаете воспитателем в рабочем общежитии в столице нашей Родины — Москве и, будучи сам строителем на Севере, решил написать Вам с бескорыстной целью — переписываться с кем-нибудь в Олимпийском году.
Любуюсь Вашим загадочным обликом и буду рад получить хоть одно слово в ответ, как автограф к портрету. Поверьте.
И марта 1980 года С северным приветом
Мелека Мелентий Семенович
Письмо 17
Алтан Гэрэл, здравствуйте!
Не бойтесь только— я нахожусь на Севере не по договору, не за романтикою, а по приговору отбываю срок наказания.
Мне трудно рассказать Вам всю истинную правду, за какое преступление я осужден, и не знаю, как Вы отнесетесь ко всему злодеянию, но поймите, человек всегда остается человеком, он всегда стремится к свободе, хочет любить и быть любимым, как и все смертные люди.
1 апреля 1977 года я совершил тяжкий грех, за который народный суд приговорил меня к двенадцати годам лишения свободы, и сегодня исполнилось ровно три года, как я нахожусь в местах лишения свободы, то есть заключения, и за эти три года накопилось столько тепла, нежности и любви в душе, что немыслимо в письме передать это никому на свете.
Алтан Гэрэл! Вы не тревожьтесь, что я прошу у Вас руку помощи или решил излить кровь сердца перед Вами, нет, на это я не имею права, просто очень тяжело и томительно коротать эти годы скорбной разлуки со всем обществом, где я прежде был равноправным человеком. Конечно, хотел бы приготовиться к дружбе, ведущей к исповеди сердца перед таким Человеком, который смог бы выслушать меня до конца, а судить мою вину после.
Как бы я ни раскаивался в содеянном злодеянии, а придется до конца расплачиваться самым святым — это жизнью за жизнь.
1 апреля 1980 года.
Мелентий Мелека
Письмо 18
Здравствуйте, уважаемая Алтан Гэрэл!
Сегодня Первомай. У нас же нет никакого праздника, дождались мы обычного выходного, но не работает почта.
Может, в 2000 году во всех тюрьмах будут отмечать Первомай? Ведь не буржуи жирные сидим мы в тюрьмах…
Алтан Гэрэл, я даже не посмел поздравить Вас с праздником. Если Вы не чувствуете ко мне отвращения, то позвольте написать письмо, чтобы ответить на некоторые Ваши вопросы, но к великому сожалению, я не смогу ответить на все, так как цензура не пропустит мое сочинение, тем более Вы являетесь воспитателем рабочих.
Работаю я на стройке, строим жилые дома, дома деревянные из бруса. Прогулов на работе нет, но есть у меня нарушения по режиму содержания незначительные, например, за курение в секции, то есть в спальном помещении, за опоздания на проверку, бывает, что по подъему не встанешь, проспишь и т. д., но их можно снять и заменить поощрением, например, за ежемесячное выполнение планов или сдачу пускового объекта досрочно и т. п.
Мать моя на Урале работала продавцом, зав. детским садом, завклубом, писала в редакцию районной газеты заметки, а на Украине в последние три года работает в совхозе телятницей. Старший мой брат Владимир тоже строитель, работает в г. Каховке, младший брат Юрий работает сварщиком на заводе ЖБИ. Сестра моя единственная тоже живет в Каховке, работает в ДК кассиром, замужем, растит сына. Вот коротко о нашей семье.
Только что, 24 апреля этого года, у меня было длительное свидание, приезжали мать, младший брат и привезли мне мою младшую доченьку Неллю, которая не помнит меня, а знает только по фотографиям, ей было всего лишь год, когда ее увезла моя бывшая супруга в тот момент, когда я был на работе, сбежала от меня, а сейчас дочурке уже шестой год, и я рад, что она помнит меня по фотографиям и называет папой. Как больно было расставаться с нею, когда я собрался уходить, она до последних секунд была у меня на руках, она плакала и целовала меня, у меня невольно навернулись слезы и я не мог говорить. Понимает ли она, где я нахожусь? В пять лет приехала к отцу родному на свиданку, в тюрьму, спрашивала: «Папа, ты вернешься домой, когда я окончу десять классов? Да?» Что я мог ей ответить? Я не помнил себя. Поверьте, мне не так жаль своей жизни, как приходится страдать и расти моим девочкам без отца где придется, а за что они лишены любви и ласки?
1 апреля 1976 года, когда я был на работе, моя жена Стелла продала все, что только можно было продать, сбежала с годовалою Неллечкою к своей матери в село Загрядчино Липецкой области, а мне оставила Аленушку с платьишками и 5 рублей денег. Я не погнался за нею и решил жить по-своему, хотя в селе бабы судачили: «Все, пропал Мелешка без жены».
Посылаю любительское фото трехлетней давности. Сижу на мопеде, как малолетка, после работы решил прокатиться с ветерком по берегу этого Каховского магистрального канала. Работал несколько лет рамщиком на лесопильной раме, затем машинистом-электриком на насосной станций, орошал степи Херсонщины, сутки на смене, трое суток отдыхал. Я привык к физическому труду с детства на Урале, ребенком косил сено, заготавливал дрова на зиму, подростком работал на лесоповале.
И в Коми приходит весна, низко пролетают гуси, утки, скворцы, и горькая весна неволи криками всех птиц кричит, стонет о своем, особенно мучительно тоскую весною. Но признаться, человек — это такое странное явление, способное в любых условиях существования искать и найти хоть какое-то маломальское удовольствие и развлечение. И мы находим. Сегодня с Первомаем пьем густой чай, курим «Приму». Я написал Вам это письмо, за что благодарен.
Мелентий Мелека
Письмо 19
Алтан Гэрэл, сегодня 19 мая, понедельник, получил от Вас долгожданное письмо. Большое спасибо. Возможно, я Вас огорчу, но должен сказать правду, я за свою жизнь прочел очень мало книг, а фантастику не люблю с детства, люблю реальность. В харьковской тюрьме я успел прочитать «Петр Первый» и «Хождение по мукам» Алексея Толстого и «Воскресение» Льва Толстого. Библиотека у нас в зоне бедна, как церковная мышь, нашел там книгу Ивана Лазутина «Сержант милиции» и прочитал с большим удовольствием за одну ночь, не отрываясь, хотя лишился самого дорогого в наших условиях— это сна. Но читать много пока не смогу, во-первых, на тощий желудок не так уж и приятно читать о
чем бы ни было и как бы, кем бы ни было написано, во-вторых, натаскаешься брусьев на работе и думаешь прежде всего о постели, но и в постель раньше времени не ляжешь, нужно бежать бегом в школу, поверьте, ни одно письмо я не написал до отбоя, а приходится писать ночью, через каждые пять минут выходить в коридор и смотреть— нет ли нашей милиции.
Но по Вашей рекомендации воспитателя рабочих я как-нибудь возьму в библиотеке работы Ленина и попробую на зуб, но опять же нужно свободное время, ведь мы работаем не как на свободе, а чуть-чуть побольше, утром уходим в 7 часов, а вечером приходим в 19 часов.
Да, Алтан Гэрэл, мне ни разу не приходилось встречать праздники в Москве. У моей матушки два родных брата на войне погибли — их фамилии высечены на гранитной плите в селе Ленском Свердловской области, где я учился в школе-интернате. Моя матушка рассказывала, что не было у нас тоже в деревне такого двора, чтоб кто-нибудь не погиб. Встретить бы когда-нибудь День Победы в Москве с матерью.
Есть ли юмор в тюрьме? Не беспокойтесь, здесь каждый юморист.
Если преступник будет без конца каяться все годы, то он просто не выживет, да это несовместимо с инстинктом самосохранения. Поймите же, какая в зоне атмосфера, без юмора и сатиры по адресу администрации и друг друга, заключенный и года не отсидит, а повесится или еще что-нибудь натворит. Нередко бывает и такое, прибыл человек из зала суда, вроде умный, серьезный, деловой, а через некоторое время смотришь, повезли в дурдом, вот такие ходят по зоне песни поют, кричат: «Я — Наполеон! Где Кутузов?» А я пока Мелека, рост мой 177, на мне одежда вся черная, монашеская, пятидесятого размера, сапоги кирзовые 41 размера, волос темный, острижен наголо, под жухлою биркой в груди бьется, трепыхается сердце человека, которое также любит, страдает, болит, верит, ждет, надеется.
Да, моя статья льготная, по истечении 1/3 срока заключения я могу выйти в кол. поселение, по 1/2 — на стройки народного хозяйства, по 2/3 на У. Д. О. — условно досрочное освобождение. Но чтобы выйти на поселение, нужно пройти через две комиссии и суд, а если есть нарушения режима, то суд отстраняет выход на шесть месяцев, пока не будут сняты нарушения примерным трудом и поведением.
Если Вы захотите приехать ко мне на поселение, за нами надзора не будет, как и сопровождающих лиц, но администрация должна быть в курсе всего: кто и к кому приехал, с какою целью? Поселения для семейных и для холостых отдельные. Мои же представления об этих поселениях только понаслышке, может, удастся выйти и самому зажить там, тогда все подробно Вам распишу. Знаю, что с поселения часть людей идет возвратом в зону за нарушения режима поселения: за пьянки, драки, прогулы. Один парень напился до чертиков, потерял сознание, отморозил ноги так, что не может ходить без костылей. Вернули бедолагу в зону, теперь он добивается протезов для ног, неизвестно еще, сколько он будет просить, требовать, писать, волокиты куча. О горе! Но если мне улыбнется такое счастье выйти на поселение, то я буду всеми силами держаться, чтобы не споткнуться, если вернут в зону, считай, что больше никуда не представят.
Многие пишут помиловку после половины срока наказания, бывает, что убавляют срок, одного помиловали на четыре года! Моего товарища помиловали на два года.
Половина первого ночи, а на улице у нас светло.
Мелентий Мелека
Письмо 20
Кто изобрел время?
В армии я не служил, сначала давали отсрочку по болезни, у меня повышенная кислотность и разноглазие, левый глаз видит хуже, а правый, может, зорче орла, в котловане бисер узрит.
В комсомоле не числился, не стремился, а с двадцати трех лет сижу в тюрьме. Если мне придется заживо гнить от звонка до звонка, то вырвусь на волю 1 апреля 1989 года в возрасте тридцати пяти лет, а там на свободе пройдет всего полгода и шестеро суток, а мне стукнет уже тридцать шесть лет. Алтан Гэрэл, в неволе каждый занят подобною арифметикою, у каждого карманный календарик, разбуди ночью и спроси любого, сколько дней и ночей он отсидел и сколько предстоит, — ответит без запинки, как таблицу умножения, даже лучше, так как дни и ночи гибнут медленно и размеренно без всяких заскоков, строго по календарю. Давным-давно люди прыгают выше головы, самолеты опережают звук, может, черепаха обгонит почту в Чикшино, но никогда день не опередит другой. Натянули люди вечность на календари — время изобрели. Кто же изобрел время первым?
Сегодня 1 июня 1980 года, воскресенье, по радио песни льются рекою, а я рисую Ваш портрет с газеты карандашом на ватмане. Нам не разрешается пользоваться красками, фломастерами, цветными пастами и т. д. Может, грех мне, заключенному, рисовать Ваш облик? Это Ваше согласие переписываться со мною вскружило мою голову. Бывают минуты, что порою хочется любой незнакомой женщине написать слова любви и ласки, сокровенных признаний, над чем естественно надсмеялись бы, посыпая клеймо тюрьмы перцем-солью. Ведь наши письма со штампами ПРОВЕРЕНО, как оплеванные заранее, ищут пути к адресату. Найдутся чистюли, которые, прочитав мой приговор, начнут плеваться и умываться. Поймите правильно, я никому никуда не хочу посылать свой приговор, разве только на тот свет взять его с собою в гроб!
Чувствуете ли Вы ко мне отвращение?
Мелентий Мелека
Письмо 21
Здравствуйте, Алтан Гэрэл!
Не беспокойтесь, что я нахватаюсь грубых и гадких слов, конечно, слышать приходится частенько, а иногда отвечать тем же, так устроена лагерная жизнь, иначе тебя задолбят, забьют, загрызут, зажуют и выплюнут, как окурок.
Может, пишу Вам корявыми словами, чисто по-крестьянски и не стараюсь приукрашивать свою речь, тем более набор слов-то убогий, как у первобытного человека, которые более выражались мимикою и жестами, чем речью человеческою. Вы, Алтан Гэрэл, очень и очень тяжелый человек для меня, простому мужику, преступнику трудновато понять Вас заочно, в письмах… Вы решили выкупить меня словесами, как я клюну на Вашу мякину? Считайте, что клюнул, еще чуть-чуть — и крючок проглочу с лескою, вот такой я, бестолочь. А Вы всегда разыгрываете комедии с мужчинами? Это Ваше хобби? Но если Вы действительно хотите иметь хоть какое-то представление о заключенных, теперь нас принято именовать осужденными, хотя от словесной смены нам не легче, что даже между нами, отбросами общества, на первом месте стоит закон справедливости, и только справедливости. Нам нельзя писать всей тюремной правды и кривды, даже о том, как нас кормят, какая любовь между нами и администрацией, ибо все это кончится бедою. Конечно, нас не кормят колбаскою, тушенкою и салом, а дают пшенку, перловку и овес, которые в —60 градусов мороза не греют, а тулупы носить не разрешается, чай же крепкий пили все великие люди. Что же они, по-Вашему, чифирили, что ли? Мы чай не жрем ведрами, где его столько набрать, если в месяц отсыпают всего 50 граммов.
Если Вас унижает или угнетает тюремная цензура, то не делайте мне одолжений, не пишите. Ведь миллионы людей переписываются через цензуру… нецензурно ее матеря. Закоренелые зэки обходят цензуру-дуру, как блохи сито. Но в самой тюрьме есть еще тюрьма, о ней и думать страшно. Посылаю это письмо нелегальным путем, чтобы предупредить Вас, что на нашу переписку в зоне обратили внимание. Учтите, что, увлекшись содержанием, могут перепутать конверты, бывают всякие недоразумения, письма бывают и не доходят до адресата.
Был я грубияном, а теперь стал вспыльчивым, часто психую. В зоне чем больше нервничаешь, тем больше льют масла в огонь, наслаждаются этим процессом со стороны, ждут результата, чем хуже, тем интереснее зрелище, которое оканчивается скверно, бывает, что осужденного из усиленного режима переводят на строгий или особо строгий, добавят и срок.
На воле я тоже полагал, что в лагерях сидят одни жуткие мерзавцы, головорезы, «мясники» да садисты, но встретил в зоне немало нормальных, даже по-своему хороших людей.
Письмо 22
Пестик да тычинка
Да двойка за помюдор
Учился в школе кое-как на трояки. Кто и как нас учил, дураков? Некоторые учителя сами были пьяницами. Учитель ботаники и химии приходил на уроки бухим, под явными парами с осоловевшими глазами. Выведет нас на пришкольный участок, даст задание, а сам пошел догуливать вокруг сельмага, пока супруга за уши не потащит домой, как нашкодившего школьника. По ботанике я сам научился отличать пестик от тычинки. По химии знал только формулу воды Н2О, за что имел железный трояк.
В начальных классах мучился со словом помидор, в диктанте напишу то помюдор или же пюмидор. Сколько двоек получил из-за проклятого помидора! Все смеялись надо мною и прозвали Помюдором. А я красный, как помидор, лепетал у доски: поми-поми-поми-дюр! Раздавался жестокий взрыв хохота, и я получал очередную двойку за помидор! В третьем классе выручила меня из беды мама: она положила передо мною три красных помидора в один ряд — круглый, продолговатый, круглый.
— В помидоре пишется два О, в начале и в конце, а в середине И. В помидоре нету никакой Ю! Понял?!
Я с удивлением кивнул.
— Спасибо, что понял! Съешь помидоры без Ю, они самые вкусные! — И мать рассмеялась: — Ох, горе ты мое помидорное.
Любил больше всего физкультуру, всегда был королем-отличником. От природы был силен, хотел заняться спортом, но что я мог сделать в глухой деревушке? Гранаты школьные раскидывал так далеко, что их порою не находили. Играл колуном, раскалывал дрова, как богатырь, разойдусь и готов, бывало, расколоть вокруг все пни! Каждое лето я косил сено, и мать радовалась…
А в какой семье я вырос? Об этом лучше никому на свете не рассказывать. Я впервые в жизни только от Вас и услышал эти дивные «социальный фон» и «нравственные и генетические корни преступлений» при социализме… Скажите, кому эти корни нужны? Мой адвокат Молин на суде молчал, как рыба. Был напуган кровью жертвы, брызнувшей мне прямо в лицо! От кого адвокат должен был меня защищать??? От меня самого? Я до сих пор не уяснил этот вопрос. Вы пишете мне о «социальных корнях преступления», а я почему-то вижу широченный пень, который никак невозможно вырвать с вековыми корнями.
Пестик да тычинка — вся моя наука. Вот и сиди теперь до тридцати пяти в подвале жизни. Может, придется сгнить заживо?
Алтан Гэрэл, Вам неаппетитно будет переписываться с таким типом, как я. Но о чем я могу написать, кроме своей жизни, которую испортил сам себе?! В корнях же никаких я не разбираюсь.
Сегодня 1 июня 1980 года, воскресенье, с 2—24 июня буду сдавать экзамены на аттестат зрелости… в тюрьме.
Мелентий
Письмо 23
Алтан Гэрэл! Приветствую Вас! Здравствуйте!
Сегодня 18 июня, среда, получил от Вас письмо, большое спасибо. Очень ждал от Вас письма, а последние четыре дня письма снова не приносили, на этот раз наш цензор ушла в отпуск, а отдавать письма вовремя никто не торопится, вот так и живем, волнуемся, переживаем, скучаем, гадаем, кто будет проверять письма вместо цензора?
Мне, как и всем, ужасно хочется свободы, только о ней, о свободе сладкой, как мед, мечтаем. У нас почему-то так заведено, не знаю почему, что прошение о помиловании пишут только после прохождения половины того срока, на сколько ты осужден. Я почему-то уверен, если придется мне писать прошение о помиловании, то мне снизят срок на два-три года. У меня были нарушения, но незначительные. Здесь нет такой работы, с которой не справился бы осужденный, в том числе и я, была бы воля, хотя меня не посадят на лесовоз, если у меня нет прав вождения.
Помиловка в основном зависит от начальника отряда, какую он даст характеристику, а таким, у которых нет никаких нарушений по режиму содержания, а есть благодарности по работе, начальник отряда укажет все поощрения. Но, Алтан Гэрэл, Вам нет необходимости беспокоиться об этом, таких, как я, сидят тысячи и тысячи, все жаждут свободы, стремятся домой, к родным и близким, многие пишут в высшие инстанции, родные проводят годы в хлопотах и заботах, многие добиваются помилования, пересуда и т. д.
Алтан Гэрэл, Вы — удивительный человек, только ответьте честно, что заставляет Вас отвечать мне: развлечение? любопытство? Или Вы просто хотите познакомиться с настоящим преступником, чтобы узнать о нашей жизни в неволе? Хотите ли изучать жизнь разных людей? Может, Вас интересуют трагические судьбы и характеры?
Алтан Гэрэл, мне не верится, что Вы когда-нибудь надумаете приехать в зону усиленного режима, чтобы увидеть меня, может, чудеса возможны и я напишу, что к чему. Во-первых, не стоит рассчитывать на свиданку более двух часов, разве что в особых случаях дадут больше времени. Краткосрочная свиданка рассчитана на два часа. А с кем Вам приехать? Этого не знаю. Возможно, ко мне приедут братья, возможно, матушка, но это не раньше ноября, так как длительная свиданка дается один раз в шесть месяцев, также и краткосрочная, но краткосрочную мне разрешат в любое время, по той причине, что я ни разу на ней не был, они у меня не использованы, пропадают пропадом! Говорят, что на краткосрочной свиданке чувствуешь себя крайне скованно — присутствуют заступившие на вахту прапорщики. Заявление с просьбою о предоставлении свиданки пишется на имя начальника колонии и подписывается оно начальником или замполитом. Все это не просто, нервозно. Но все зависит от того, кто приехал на свиданку, естественно, администрация колонии регистрирует все: кто и по какой причине и к кому приехал?
Ежедневно где-то в час дня с Ярославского вокзала идет поезд Москва — Воркута под названием «Северное сияние». Летом идут два дополнительных поезда, но на станции Чикшино они не останавливаются.
Вот вроде и все. На этом я свое письмо закончу.
До свидания! 19 июня 1980 года. С уважением.
Мелентий
Письмо 24
Алиса Васильчук
В апреле 1976 года я вернулся из очередной командировки, на минутку сперва забежал к своей матушке, оставил вещи и сразу побежал в детсад к Аленушке. Это было в четыре часа дня, я заглянул в столовую через стеклянную дверь, где детишки сидели за длинным столом, у них шел полдник. Лена сидела с торца стола ко мне спиною, но она почувствовала мой взгляд и сразу повернулась. Было жалко дочку, я крепко прижал ее к себе, а она уткнулась лицом мне в шею. Я мысленно проклинал командировку, одел дочурку, и мы с нею вернулись в нашу опустевшую и осиротевшую квартиру, которую разорила моя жена Стелла.
Именно в этот день я увидел поразившую меня незнакомку. Стройная, с летящими волосами мягче шелка, с ласковым лицом, с румяными щеками, живая, как ласточка, естественно выпятив груди самых идеальных размеров, как само совершенство женской красоты, готовая вот-вот невинно улыбнуться своею неотразимою лучезарною улыбкою, она с радостным любопытством то летела, то пленительною походкою шествовала по нашему селу. Я никогда не видел такого явления в Архангельской Слободе — мне хотелось спрятаться от чудесной незнакомки и без конца наблюдать за нею украдкою. Когда она исчезала из поля моего зрения, я оглашенно наводил марафет, брился, чистил и чистил туфли до зеркального блеска, словно собирался на свадьбу женихом… и насилу дождался вечера, когда придут знакомые с работы, чтобы узнать о ней.
Оказалось, что она приехала к нам работать, с мужем из Ивано-Франковской области по переселенческому билету, муж ее был осужден. Я подумал тогда: «Повезло же мужику с такою женою». В то время Алиса еще не работала, и я, приехав из Керчи, тоже недельку отдыхал, ходил на канал загорать, купаться и удить рыбку. Замечал, конечно, что из окна ихней квартиры за мною кто-то смотрит, наблюдает. Это была она. И на улице иногда случайно наши взгляды магнитом притягивались друг к другу.
Дня через два я познакомился с Лилианом, с ее мужем. При дальнейшем знакомстве я понял, что они живут плохо, постоянно ссорятся, она боится мужа, а живут они вместе, может быть, ради сына? В середине августа 1976 года Алиса тайком удрала с сыном от своего мужа, точно так же как моя жена с младшею дочерью Нелли, также оставила записку, что никогда к нему она не вернется. Как тяжело было Лилиану! Представьте себе, переселенец, человек новый, в прошлом судимый, в глазах всего селения брошен женою, остался один без семьи, без сына. Через недельку Лилиан подался за женою, сел на попутную машину в кузов и поехал до Каховки, а в городе грузовик налетел на грузовик, и несчастный Лилиан перелетел через борт и головою врезался в асфальт, раздробил вдребезги череп — аж мозги разлетелись по канаве… Хоронили Лилиана у нас в поселке, приезжали его родные и Алиса. После похорон родители мужа сразу же уехали, а Алиса осталась, чтобы по обычаю через девять дней помянуть погибшего. На девятый день я ездил в Каховку, и когда стоял на автостанции и ждал автобус с другом ее мужа — Мариманом, увидел, что к нам идет Алиса, и заметно растерялся. В автобусе мы сидели рядом. Мариман предложил мне пойти на могилку, я обрадовался, чувствуя, что Алиса хочет, чтобы я был с ними. Пока они собирались, я сходил в детсад за дочкою. Алиса иногда брала Аленушку на руки и спрашивала: «Леночка, ты любишь меня?» Дочка смущалась и не отвечала, она ведь помнила свою маму, которая сбежала от нас.
На следующий день мы случайно встретились по пути, когда я шел на обед. Аленушке хотелось поболтать с Алисою, но я же всегда терялся и не знал, о чем начать разговор. Когда мы подошли к ее дому, я робко попросил ее домашний адрес, куда она возвращалась жить к родителям. Алиса встрепенулась: «А зачем?»
— Просто так, — глухо вырвалось у меня.
Она зашла к себе, я же, несмотря на свою тупость, хвалил себя за то, что набрался-таки смелости и выпросил адрес! Она вынесла открытку с двумя чудесными зебрами, где на обороте гибким женским почерком нарисовано вкосую: Главпочтамт. «До востребования».
— А если не востребуешь? — вспыхнул я. На западе Украины есть обычай: после смерти мужа жена должна год блюсти одиночество, ведь Алиса наполовину украинка.
— Тогда, оседлав зебру — примчишься? — пошутила вдова, которая завтра же собиралась уехать. И я решил во что бы то ни стало проводить ее.
Утром со своим старшим братом я стоял на остановке наготове. Пришла и Алиса, ее провожали знакомые из Чернигова. Зачем-то она села ко мне спиною в автобусе, и за всю дорогу наши взгляды ни разу не встретились, словно сам черт наложил табу. Когда все высыпали из автобуса, я сразу же подошел к ней и сказал, что хочу проводить ее. Мы договорились встретиться с нею здесь же в 15 часов. Но я не мог дождаться и полдня, никого я более не хотел видеть. Пекла жара, на автостанции толпилось множество людей, среди них я зорко высматривал Алису, словно петух жемчужное зерно в прошлогоднем навозе… а она же сидела на лавочке под высокой акацией и с улыбкою наблюдала за мною.
Затем мы пошли в аэропорт купить ей билет. Самолет на Киев летел только в 17 часов, и у нас оставалось достаточно времени для душевного расставанья. Не зная куда деваться от жары и многолюдья, мы молча пошли за летную полосу, в лес, где долго сидели молча. Может, и перемолвились какими-то ненужными пустыми словами, но не помню ни одного слова от того сердцебиения в лесу. Я вначале даже не смотрел в ее сторону от смущенья, а когда я повернулся к ней лицом, она сидела ко мне спиною, слабыми пальцами заправляла волосы за уши. Уши же у нее были такие выразительные, такие отточенно-красивые, чуткие, как птицы, уши ее цвели и готовы были взлететь на вершины деревьев. Рука моя невольно потянулась и приласкалась к ее плечу, она не вздрогнула, не отстранилась, не повернулась ко мне — и я тихо поцеловал ее пунцовую мочку, а она медленно склонилась ко мне головою на грудь. Не владея собой, я начал безумно целовать Алису…
…С тех пор я не мыслил жизнь без прекрасной метиски.
Как видите, метил Мелека в мужья, а угодил в бездонную яму: подругу милую зарыли в могиле, а самого— в дыре тюремной.
22 июня 1980 г. воскресенье
Мелентий
Письмо 25
Здравствуйте, далекая Алтан Гэрэл!
Сегодня 25 июня 1980 года, среда, впервые после выпускных экзаменов вышел на работу, немножечко устал, но сходил в библиотеку, взял книжку «Манифест Коммунистической партии» и прочитал. Как удивительно написан Манифест! Я рад, что именно Вас отыскал для переписки, Вы пробуждаете во мне такое, чего раньше никогда не ощущал в себе, не подозревал даже… Чтобы учиться великому искусству жить, нужно видеть все корни пней и цветущих деревьев. О, как хочется мне очеловечиться в течение своей жизни, найти самого себя и цель жизни. Больше всего на свете хочется заново лепить семейный очаг и жить тихою, милою семейною жизнью, любоваться благородною, верною женою и растить своих детей любовно.
Наверно, выйти на свободу равносильно второму рожденью па свет из тюремной тьмы, с умом и опытом неволи. Начнется новое судилище людей, коллективов, инстанций, и они будут ненавидеть и презирать, бояться и шарахаться, угнетать нас пожизненно, отгородившись крепостною стеною, а чтобы наладить отношение с обществом, потребуются многие годы упорного труда, исключительного поведения в жизни. Может быть, я поехал бы на большую стройку и вкалывал честно. Кто лишен романтики воображения? И почему нельзя взять из заключения год свободы взаймы, в рассрочку под тайным или явным наблюдением, чтобы человек осужденный мог проявить себя, развернуться, доказать самому себе, родным и обществу, что он может быть нормальным человеком, тружеником, мастером, может любить, дружить, может иметь совесть, честь и достоинство.
«Кто сидит в тюрьме— у того мысли на воле, а кто на воле — у того мысли в тюрьме»— утешает нас мудрая турецкая пословица.
Вы спрашиваете, что у нас усиливают? Вот с сегодняшнего дня будут наказывать тех, кто посмеет написать более трех писем в месяц, хотя должны просто вернуть письмо, если оно лишнее, но получать же письма разрешается без ограничений. Не огорчайтесь, если будете получать от меня всего одно письмо в месяц, но зато оно будет веским, массивным, толстым, что будут от тесноты лопаться конверты. Сегодняшнее письмо в июне последнее по лимиту.
Гэрэлма, режим у нас все более ужесточается, бараки друг от друга отгораживают сеткою, невозможно будет друг к другу ходить в гости.
Алтан Гэрэл, Вы думаете, что я могу как-нибудь наладить жизнь с женою Стеллою Петровною? Советуете? Нет, этого никогда не случится, если даже ни одна душа мне не будет писать и приезжать. От жены я слышал тысячи словес о любви и ненависти к себе, о верности и изменах, о прощении и мщении — все это для меня пустой звук. Сухой, суровый, жесткий я стал к красивым, стройным женщинам, которые гниют, как червивые персики… ни верности, ни долга от их клятв не жди. О проклятые клятвы любви, сколько сердец вы погубили?! Избавь бог меня от встреч после освобождения со смазливыми кукушками. По-моему, ни один мужчина по собственной воле не становится половою тряпкою, один боится потерять семью, другой — любовь, третий боится пуще всего законов и тещи, четвертый сам не знает, как он стал ковриком в прихожей собственной квартиры. Но я не создан быть подопытным кроликом для семейных наук, каким бы ни был простым мужиком, порою бывал я гордым, самолюбивым, страшно ревнивым, но всегда слишком искренним, слишком доверчивым, так жаждал большой, цельной любви — и вот прошло три года, как сам избавился от своей любви — не мог я извиваться и шипеть в змеином клубке, предпочел тюрьму… выходит.
Алтан Гэрэл! Мужайтесь и не презирайте меня заочно. Рожден ли я был убийцею? Об этом много передумал. Слышал, что одни рождаются убийцами генетически… Мать говорила, когда я еще в зыбке качался, кричал страшно и кусал пальцы и мне, подростку, предрекала, что вырасту бедокуром, счастья не увижу.
— Ну и пусть проживу бедокуром, — огрызался я, смутно угадывая под счастьем нечто исключительное, недоступное всем, как золотая медаль, лотерейный выигрыш или Василиса Прекрасная.
И будто я вчера убил человека — буквы моего письма дрожат, вибрируют, нервно подпрыгивают и сжимаются в бисеринки вместе с сердцем. «Не перо пишет, не чернильница — пишет горюча слеза». Как будто вновь сижу у следователя и впереди неизвестный приговор. Но как хочется верить, что нет и не может быть у сердца заочного суда.
Мелентий
Письмо 26
Засуха писем
Далекая Алтан Гэрэл, здравствуйте!
Сегодня 6 июля 1980 года, воскресенье, вот уже полмесяца ни от кого ни слова. Наш постоянный цензор ушла в отпуск, а письма теперь переданы в другие руки, и никто не спешит, не бежит их проверять и раздавать — устроили нам засуху писем. Я каждый день с тревогой жду вечера, всевозможных писем. Но не видать ни зги, позабыт-позаброшен, никому на свете не нужен. Где томятся и задыхаются от немоты наши бедные письма? Их, наверно, накопилось полный кузов грузовой машины, ими завален чей-то кабинет до потолка.
А нам в тюрьме запрещается вести Дневники. Все наше богатство — это письма, письма, ими дышишь и живешь.
Когда же теперь получу от Вас ответ? Неизвестно. Может, Вы раздумали переписываться со мной? Ответьте хоть словом.
Посылаю Вам стихи:
АЛЬБЕРТ АЗИЗОВ
ДЖОРДАНО БРУНО
Чтобы устоять среди засухи писем в переписке с Вами, Алтан Гэрэл, посылаю Вам великого Джордано Бруно.
Мелентий
Письмо 27
Иванка купается в афоризмах
Здравствуйте, добрая Алтан Гэрэл!
Сегодня 13 июля 1980 года, воскресенье, в пятницу вечером получил от Вас значительное письмо, за что искренне радуюсь и благодарю Вас. Вы мне прислали пожизненный список шедевров мировой литературы, может, до конца дней своих не прочту всего. В библиотеке нашей мыши дохнут с голоду. Постоянно ищу Иванку, нашего библиотекаря, чтобы застать его в библиотеке. Он молдаванин, по профессии был фельдшером, но шмякнул головою об пол своего ребенка. Не хотел он иметь детей? Или не хотел платить алименты? В каком состоянии убил ребенка? Я этого не знаю, но его у нас в зоне ненавидят. Иван Чумордан боится осужденных, чересчур он старается угодить начальству, недавно он меня не пустил в библиотеку — отбирал книги для начальника колонии. То он в кино сидит, то на лекции, пишет, рисует плакаты, занимается оформлением зоны, по сравнению с нами умный и начитанный человек. Но самое смешное, изюминка Иванки — это то, что он собирает в толстые тетради чужие мысли, копит цитаты. Вот такое у него благородное занятие, наш библиотекарь купается в афоризмах, как семга в Печоре, за что его хвалит замполит. И правильно. Голова у Ивана Чумор-дана крупная, самая крупная голова в зоне, неизвестно только — сколько тысяч афоризмов можно начинить в башку за десять лет? Ему тридцать лет, через пять лет выйдет Ивапка с томами афоризмов на поселение колонии и откроет там кафедру мудрости, будет зазывать женщин раскрасивыми посланиями на удочку. Мил человек Иванка, это его так ласково прозвали в его родной деревне в Молдавии, думали — человеком станет. Кто знает, кем он станет со своими афоризмами?
Как читатель, теперь я зависим от Иванки, обещал он откладывать нужные книги. Прочитал Гоголя «Шинель», «Нос», «Портрет». Боже мой! Умер человек из-за шинели несчастной и чертом стал, что ли? А нам государство выдает всем новые ватные телогрейки, и никому не понять позорных унижений Акакия Акакиевича из-за шинели. Таковы мы, зэки, привыкли ко всему готовому под конвоем.
В харьковской колонии библиотека была приличная, не такая убогая, как наша. Там я прочитал Алексея Толстого, добрался до «Гиперболоида инженера Гарина», но не успел прочитать, привезли нас, 77 преступников — уголовников, насильников, тех, кто «пострашнее», на Север, чтобы летом нами кормить комаров, а зимою отмораживать по частицам конечности.
Алтан Гэрэл! Не бойтесь, уверяю Вас, что займусь серьезно самообразованием, хотя «Рожденный ползать — летать не может»… Читаю биографию Ленина, более семисот страниц, кровно заинтересовался. Сижу, в поте лица пишу Вам это письмо после отбоя — бац! Дежурные контролеры с обходом нагрянули — и пожалуйста, Мелентий Семенович лишился права пользоваться ларечком на июль месяц. А нарушение занесут в личное дело без предупреждения. На Севере и тюремщики лютые, как морозы, откроешь рот, плюнут туда.
Завершаю писанину. Вовремя утром не встанешь — лишат свиданки на полгода. У Иванки не было ни одного нарушения режима, может, поэтому его окрестили кличкою — Мифом, а меня — Графом.
Спокойных снов Вам, добрая Алтан Гэрэл!
Мелентий Мелека
Письмо 28
Клубок змей
Как мучают меня июльские белые ночи! Извиваюсь бессонницею червоточною. Удалось было заснуть, но приснился омерзительный сон.
Вышел я на поселение и сразу пошел в магазин за продуктами с мрачным предчувствием: нужно было пройти через виноградник, а его охраняет белая собака с черными ушами, озверевшая на цепи, наша злая Бося, так и рвется, лязгает и грохочет цепями от гнета блох, готова разорвать глотку и вцепиться в меня, оторвать точеными зубами самый сокровенный золотник… брюки-то светятся, как марля… Повернулся и бросился бежать со всех ног и упал ничком, лицом в песок, никак не могу подняться и вижу вполприщур клубок змей. Оцепенел я от ужаса. Расплетаются ядовитые змеи, большие и малые, поползли и напали на меня вразброс. Лежа, я кидался вслепую песком и выбился из сил, а змеи заползли под рубашку, оплетают меня всего, шершаво скользят чешуей между лопатками. Я почему-то зажал уши, но услышал голос неизвестного:
— Змеи владеют тобою, как фараоны рабами, окрутят тебя с головы до ног и разом укусят! Замри, притворись мертвым!
А я заорал и схватился за горло, которое стал оплетать и душить огромный удав — проснулся в холодном липком поту, соскочил с кровати и обмахивал себя руками, пока не опомнился ото сна. Загнул кондовый трехъярусный матюг и пошел мыться под краном, хоть ночью парься в бане! В тюрьме и сны-то снятся богомерзкие, ничего человеческого не увидать, нет продыху от ядовитых гадюк и собак, которые терзают, кусают меня.
Алтан Гэрэл! Как мне избавиться от страшных снов? Научите. Хоть кто таблетки изобрел бы от ужасов сна» А наяву, может быть, голыми руками я раздавил, разорвал бы в клочья клубок змей, когтями вырвал бы зубы и размолол в муку! Вот до чего озлобили змеи. Подарите же мне мангуста ненасытного, чтоб сожрал их всех.
О, какой топор судьбы разрубит весь узел зла!
Мелентий Мелека
Письмо 29
Алтан ГЭРЭЛ
ЗАКЛИНАНИЕ ЗМЕЙ
(прозою ползучею)
Высшие создания сверхбожьей благодати, змеи!
Мудрее всех пророков, вождей земных племен и Соломонов,
Гибче всех тварей во всей Вселенной бесконечной,
В головах кипящие бальзамом, нектаром ядов,
Блещете золотистым серебром, алмазом черным,
Лунным светом зеркальным, прекрасней радуги,
Бурлящей дугою на жалкие десять минут!
С узоров Ваших волшебных рисунки крадут царицы
Для убогих ковров, мертвые нитки плетя, слепнут очи,
Машины дивные созидают узоры для блаженства пыли домашней!
А тайна жал змеиных не снилась никому,
Она вне материализма, вне сферы вещизма,
Чем давится мир сверхглупый, вещной чешуей!
О, змеи!
Зачем Вы, сверхдивною красотою блистая
Должны спускаться в ад тюрем богомерзких?
Оплетать худые ребра, что ломаются с треском,
Щекотать мозоли на ступнях толщиною в три копыта!
Зубы чудные ломать в таких дровах негоже.
Змей зовут сытые!
Нежнейшей кожею трепещущие тела,
Пуза, вздыбленные ввысь из кресел,
Словно господа на сносях тройнею —
Задницы, набитые государственным жиром,
Каким не горела на Земле ни одна свеча!
Сливки человечества, фараоны и султаны
Алчут сатанинских наслаждений и пиров!
Баюкать прочный сон — ваш удел,
Уста, как розы, уши краше всех раковин,
Ноздри чуткие с кольцами из рабства дивного
Для Вас раскрыты настежь в храмах чудных!
А в тюрьмах холод лютый и босота,
Здесь гниют преступники глупые —
Прочь отсюда, змеи, навсегда!!!
Эй, Ме-лен-тий! Зэ-ки! Где казан? Не заржавел?
Вернутся змеи — живьем кидайте их
В кипящий тигровый жир, закройте чугунной крышкой!
Я — дочь степей всего Востока, потомок грозных ханов —
Из сердец змей суп сварю китайский
И жгучий холодец из змеиных мозгов, языков
С красным перцем, что любил известный Мао Цзэдун.
Стальными спицами и белым твердым ногтем
Будем ковырять мы змеиные глаза
И радостно пировать, плотоядно и беспробудно,
Пока не свалит нас сон чудотворный…
Письмо 30
О пище зэков и плодах
Здравствуйте, несравненная Алтан Гэрэл!
Представляю, как Вас боятся разного рода змеи за язык, беспощаднее зуба змеи. Наизусть заучиваю Ваши обалденные письма, чтобы научиться на них отвечать.
Нас не кормят хуже свиней, ведь никто не заставит жрать гадость, которая не лезет в глотку, пока с голода никто не умер в тюрьме. Даже ягоды едят те, кто работает в лесу, а из леса не разрешают привозить в жилую зону, но мы изредка лакомимся дарами тайги. Некоторые собирают пайки сахара за неделю и варят варенье, пробовал черничное. У нас на Урале тоже росла черника. К осени, если с моим сроком возьмут, хочу проситься работать в лес на просеку, строить лежневую дорогу для вывозки леса. Осень богата грибами, брусникою, морошкою… Жаль, что сосна здесь не растет. У нас на объекте одни доски да брус. А какую серу брали с собою космонавты в космос? Сосновую или лиственницы? Чью смолу называют живицею? Вы не жуйте горький канифоль подмосковных елей, дрянь поди. Я серу жевал до отрыжки пеною на Урале, умею топить, даю Вам рецепт: серу с корою заворачиваешь в марлю, на весу опускаешь в кастрюлю с водою и ставишь в русскую печь или на плиту, сера плавится и капает на дно посуды, чистая, вкусная, душистая. У нас тоже, как в Бурятии, продавали плавленную и разрезанную на кусочки серу. Жевал бы я серу зубам на здоровье и бросил бы курить, а то закурился так, что мои «письма пропахли дымом насквозь с конвертами, что их никакие почтовые бури, ураганы не могут проветрить». Намек понял, людишки скуриваются насмерть.
Кино нам показывают каждую неделю в клубе зоны, всевозможные фильмы воспитательного характера типа «Калины красной» Василия Шукшина. В эту субботу смотрели «Десять дней за свой счет» — болгарский фильм о современной молодежи и любви, слава богу, не было измен и трагедий. Шекспиров я не читал, но знаю, что ревнив, как Отелло. А кто сейчас потерпит первобытную ревность? И сколько я ни проклинал Стеллу Петровну за лютую проституцию после меня, но в глубине души тайно желаю ей добра, жалею: была мне первою законною женою, родила моих детей, не видела от меня счастья. Если Стелла в корне скурвится, то что будет с нашими детьми?
О белые ночи черных тюрем! Научите меня думать и мечтать. Ведь красота светил высекла искру поэзии даже из головы дауна: «А ночь такая лунявая, всюду звезды понатырканы!» — это строка какого-то поэта-пэтэушника из колонии для несовершеннолетних.
Так и Вы, Алтан Гэрэл, полируете корявый сук на голом дереве в ожидании золотых плодов? Что будет с Вами, если сук безжалостно срубит топор Судьбы?! 27 июля 1980 года, воскресенье.
Мелентий Мелека — «современный сельский Отелло с херсонских степей?»
Письмо 31
Алтан ГЭРЭЛ
О долгожителях
Милый крокодил Мелентий! Здравствуйте!
К Олимпиаде я в своем общежитии рабочим прочитала лекцию «Труд, спорт и долголетие». Для этого встретилась со старухою, которой девяносто девять лет! Худокормова Вера Корнеевна — долгожительница нашего района, нашла я ее через сына, которому семьдесят пять лет, но работает в парткоме жэка и тоже читает лекции, он меня пригласил домой, чтобы показать свою матушку. Старуха состоит из одних мослов и морщин, трясется, тяжело дышит всем телом, глаза без конца слезятся, вытекают из глазниц, по телевизору она ничего не видит. Спит на кухне, на диване, днем выходит на балкон и греется на солнце, укутанная огромнейшей теплою пуховою шалью, купленной у какой-то кореянки за 200 рублей. Она плохо слышит, невестка, которой семьдесят семь лет, кричит ей прямо в ухо. Но Вера Корнеевна в свои девяносто девять лет не болеет, голос крепкий, сама варит и ест рыбку, моет посуду и даже вытирает пол! У нее многочисленные внуки и правнуки, она не помнит, сколько их, но все приходят, целуют ее в щеки, она радуется. И самое удивительное, что старуха не потеряла юмор. Когда я с ее сыном сидела в зале, говорили о долгожителях, старуха на кухне сказала невестке:
— Ленька с молодою уединился, гляди, чтобы не увели его! — и Вера Корнеевна прыснула со смеха.
Недавно у Худокормовых был казус из-за матери. Пришла к ним паспортистка из конторы жэка и начала ругаться: «Давно все жильцы получили новые паспорта, одна Худокормова Вера Корнеевна не обменяла паспорт, уже три года никто в ус не подует, чтобы обменять ей паспорт, подводят контору! Надо же было вызвать фотографа на дом, сделать фото, а вы ждете, когда ей стукнет сто лет или умрет! Нарушаете порядок, надо оштрафовать, тогда живо обменяете!»
— Ы-ы-ы, куды мне с новым паспортом ехать-то? Вся дорога в доме — в туалет и на балкон! — вмешивалась Вера Корнеевна в дело. — Ы-ы-ы, ковты белые шить, в невесты! — пошутила старуха, и суровая паспортистка улыбнулась, отменила угрозу штрафом. Бывает, что порою старуха так запоет! До ста лет ей осталось полгода, будут ей отмечать столетний юбилей, придут к ним представители исполкома. Паспорт новый Вера Корнеевна получила теперь, на фотографии одни морщины и беззубая широкая улыбка обвязаны белым платком, без платка же она никак не согласилась сниматься, почти лысая… выпали волосы, а новые не растут. Невестка сняла ее белые шерстяные носки ручной вязки и показала ноги матери, какие, мол, чистые, без мозолей и болячек. Корнеевну хвалят врачи, которые не находят у нее серьезных болезней, говорят: бабку надо посадить в музей здоровья! Всю жизнь жила и работала в селе, а доживать век приходится в Москве у любимого сына Леньки, с женою которого ужились, как родные: «Невестка моя золотая!» — обращается столетняя к семидесятисемилетней, оседланной солью в три погибели.
Золотая невестка гостеприимно угостила меня чаем, конфетами «Птичье молоко», крепко засохшими, обещала пригласить меня на столетие Веры Корнеевны, которая на прощание пожаловаласк на бога, потирая страшный синий нос:
— Ы-ы-ы, тяжко-то как, смерть не идет! Черт или бог ее держит? Все меня позабыли. Все меня позабы-ли-и-и. Смерть-то поди заблудилась по дороге, раз выдали новый паспорт — остается жить до ста! Ы-ы-ы, старость — не радость…
Представляете, Мелентий, в нашей стране около 120000 столетних! Какой-то Ширали Мислимов из Барзаву в Азербайджане побил всех чертей и прожил 168 лет! Поразительный рекорд долголетия в СССР! Утверждали, что Мислимов родился 26 марта 1805 года. А еще говорили, что в 1966 году старец отметил столетие своей третьей жены Хатуны.
А один шустрый корреспондент из Пекина легкомысленно поведал миру о сказочном Чуде мирового долголетия— будто китаец Ли Чунгюнь, родившийся аж в 1680 году, умер в 1936, дожив до 256 лет!!! Вряд ли кто поверит такому фантастическому возрасту, ибо подтвердить-то его некому… Да к тому же ни одно другое явление не окружено таким ореолом тщеславия, туманною пеленою подлога и обмана, как долголетие. Человек, проживший 256 лет! Да он имени своего не помнит, перепутал все стороны света, не может отличить неба от земли. За какие чудовищные грехи растянулась такая кара веков?!
Словно сатанинский оргазм рекордомании движет родом человеческим!
(Признаться, и я жажду взобраться на свой Мунхэ-Сарьдак, покорить высоту—3491 метр! Со мною вместе работает воспитателем один альпинист — Мужичок с ноготок. Он видел мир с высоты. На вершине гор человек очищается от всего мелкого, недостойного. Кто хоть однажды испытал упоение счастья от красоты и духа природы, тот, как окрыленный орел, будет тянуться ввысь в горы, пока есть силы. Теперь альпинист Алга штурмует московскую прописку по лимиту, сотрясает склеротиков инициативами, щедро предлагает руку и сердце видным деятельницам жэков и прослыл безнадежно странным. Нынче в отпуске он хотел взять ребят в горы, но ему отказали: мол, поломают драгоценные руки-ноги строители без подготовки…)
А из писателей Бернард Шоу прожил девяносто четыре года.
В день своего девяностолетия гений парадоксов раздраконил себя по телевидению 26 июля 1946 года:
«Здравствуйте! Откуда же вы все собрались сюда и что вы собираетесь увидеть? Старика, который был некогда знаменитым драматургом и говорил обо всем на свете и писал обо всем? Что ж, смотрите, что осталось от него, — не так уж много, верно? Однако приятно видеть, что у тебя столько друзей. Это почти единственное, что остается у человека искусства — что остается у писателя, у драматурга, у артиста. Налоги военного времени оставили мне совсем немного сверх этого, хотя вы все думаете, что я очень богат. И все же мне не на что жаловаться, и когда я смотрю по сторонам… А! Тут есть и американцы! О! Да тут, я смотрю, есть иностранцы тоже. У меня есть друзья повсюду, и вы знаете, как один человек — это был в некотором роде очень знаменитый человек — говорил, что у меня всюду друзья, что у меня в мире нет ни одного врага, но никто из моих друзей меня не любит. Вы с ним согласны, нет? Мне, однако, кажется, что теперь друзья меня любят немножко больше, чем в былые времена, и это показывает, что я становлюсь старым и слабым и больше никто меня уже не боится.
И всё же вы не должны думать, что раз я стал очень старым, я стал очень мудрым; возраст не приносит мудрости, но зато он приносит опыт, которого еще не может быть у молодых. Даже самый глупый из людей к девяноста годам успевает увидеть вещи, которых никто из вас не видел… Лично мне довелось пережить безвестность и неудачи, а теперь я достиг успеха и славы. Наверное, многие из вас полагают, что это отличная штука, но вы ошибаетесь.
Я никогда в жизни не задумывался — потому что я всегда был очень занят — над тем, что я великий человек, но теперь, когда я уже больше не великий человек, а всего-навсего старый маразматик, я могу судить, что это за штука — быть великим. Уверяю вас, все удовольствия от этого занятия получаете именно вы — люди, которые меня чествуют, развлекаются этим, мне же достается вся тяжелая работа, мне досаждают просьбами об интервью или приглашениями на обед, и я от всего этого едва жив».
«Это ураган на паре человеческих ног — ураган гнева, сверкающий в нашем наспех сколоченном обществе. Это бич, свистящий над спиной поколения…» — писал о Бернарде Шоу сотрудник «Дейли ньюс» А. Гардинер.
Когда я была студенткою и сдавала экзамен за третий курс по зарубежной литературе, мне попался вопрос именно по творчеству Шоу. Прочитав к экзаменам «Пигмалиона», «Профессию миссис Уоррен» и несколько рассказов, я получила тогда отличную оценку. Вот уж поистине, как сказал сам Шоу: «Я твердо придерживаюсь того мнения, что все университеты на свете следует сравнять с землей, а место, где они стояли, посыпать солью».
«А университеты выпускают людей с искусственным умом».
Меня потрясла биография Бернарда Шоу, хотя сам он предупреждал: «Когда вы читаете биографию, помните, что правда никогда не годится для опубликования…» и «Страшно подумать о биографах, которые только и ждут моей смерти!». И что бы сказал Шоу, прочитав свою биографию, написанную Эмрисом Хьюзом???
Дорогой Мелентий!
Давайте писать друг другу такую предельную правду, которая «никогда не годится для опубликования», зато, если доживем до старости — будем с наслажденьем читать на пенсии.
Удивительно заманчиво объять собою век, когда столетие сожмется в одной твоей жизни! Но можно иначе, не временным способом вобрать в себе века… Врезалась в память удивительная строка Шарля Бодлера из «Цветов зла»:
Душа, тобою жизнь столетий прожита!
Автор «Овода» — Этель Лилиан Войнич прожила 96 лет!..
Представляете, слишком увлекшись чужим долголетием, совсем забыла, что поставила на ужин варить яйца всмятку. Слышу, что-то на кухне взрывается и стреляет! Побежала и увидела я в дыму раскаленную алую плиту, сгорело дно кастрюли, стреляют и взрываются черные яйца! Остудив их в холодной воде, я зачем-то попробовала на вкус уцелевший желток, нечто резиновое и выплюнула, как горечь долголетия. Пришлось подкрепиться новым фруктовым кефиром, он розоватый и отдает клубникою, кричащею на зеленом бумажном пакете, его изобрели нынче, видимо, для долголетия. Но чтобы не утомлять Вас своим бытом в общежитии, не чадить черными обуглившимися яйцами, перейду к феномену Шоу.
Гений-долгожитель до двадцати девяти лет проходил невинным юношею, блистая ослепительною чистотою девственника, не спешил и жениться до сорока двух лет, пока не встретил свою ирландскую зеленоглазую миллионершу, которой было в то время всего лишь сорок один год, и она горько жаловалась, что кто-то ей в Италии вдребезги разбил сердце.
— Ничего подобного! Оно не разбито! — пророчески уверил Шоу, и сердце женщины расцвело новою неведомою любовью к нему, вскоре чувства их были освящены мировою свадьбою с кругосветным путешествием.
Когда семидесятипятилетнему Бернарду Шоу задали довольно неуместный вопрос: «Как бы вы хотели умереть?»— он отшутился:
— От руки ревнивого мужа!
На прощание дарю Вам афоризм Шоу, который зарядил меня более всего:
«Разумный человек приспосабливается к миру, неразумный упорствует в своих попытках приспособить мир для себя. Поэтому прогресс всегда зависит от людей неразумных».
О как пышно, благоуханно цветут нынче приспособленцы всех мастей на питательных корнях! Вот кто подлинные долгожители нашего времени! Потому что нет у нас своего Бернарда Шоу! Нету!
Зато кандидатов ложных наук расплодилось больше, чем крупного рогатого скота в государстве. А дубовых докторов наук застолбилось больше, чем племенных быков на пойменных лугах. И строчат тлетворные ученые мужи докторские диссертации:
«О вреде табачных тлей для курения»
или
«Как запрячь в телегу Крокодила?»
На земном шаре больше всех повезло черному ворону. Клюет глаза всякой падали и живет всеядный стервятник триста лет!..
Я жизнь хочу праздновать как белую ворону!
1 июля 1980 года, Алтан Гэрэл
Письмо 32
Юбилей Чехова
Здравствуйте, замечательный зэк Мелентий!
Нынче юбилейный год Чехова — отмечаем 120-летие со дня рождения. Мы, воспитатели со своими рабочими, ездили на экскурсию в имение Чехова Мелихово. Какой чудесный музей-заповедник! После Мелихова я забросила все дела, заботы и оглушенно читаю Чехова — вот кто мой любимый писатель! А какие чудеса кривлянья выкидывает Чехов в письмах! А мы с Вами будем учиться да учиться у настоящих мастеров эпистолярного жанра. Согласны? Антон Павлович советует: «нужно вольнодумство, а только тот вольнодумец, кто не боится писать глупостей. Не зализывай, не шлифуй, а будь неуклюж и дерзок…» Послушайте, как сам он дурачится в любовных письмах к красавице Лике Мизиновой от 29.03.1892 года: «Какие муки мы должны придумать для Вас, если Вы к нам не приедете? Я оболью Вас кипятком и раскаленными щипцами вырву из Вашей спины кусок говядины. Клопов и тараканов у нас множество. Делаем из них бутерброды и едим. Вкусно. Напишите мне, Мелита, хотя две строчки. Не предавайте нас преждевременному забвению. По крайней мере делайте вид, что Вы нас еще помните, обманывайте нас, Лика. Обман лучше, чем равнодушие. Ваш от головы до пяток, всей душой и всем сердцем, до гробовой доски, до самозабвения^ до одурения, до бешенства».
Мелентий, будь проклят тот, кто не читал никогда Чехова! Таких надо сечь по лицу крапивою! Я каждый год буду праздновать гений Чехова! Это только Шоу мог заявлять такое: «Я давно перестал праздновать свой собственный день рожденья и не вижу, почему я должен праздновать день рождения Шекспира…»
С ума можно сойти от чеховского «Черного монах а»!..
14 июля 1980 года Алтан Гэрэл
Письмо 33
Лаевский — чистый ангел!
Алтан Гэрэл, не пугайте меня крапивою, я в диком ужасе вижу Вас с крапивным веником в двенадцать часов ночи! Только что прочитал повесть Чехова «Дуэль», и она всколыхнула всю душу! «…Он (Лаевский), как чужой или нанятый с другой планеты, не участвовал в общей жизни людей, был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям, борьбе, он не сказал людям ни одного доброго слова, не написал ни одной полезной, непошлой строчки, не сделал людям ни на грош, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жен, жил их мнениями и, чтобы оправдать свою презренную, паразитную жизнь перед ними и самим собой, всегда старался придать себе такой вид, как будто он выше и лучше их. Ложь, ложь и ложь…» Мне страшно от этих слов, и мысль, словно заколдованная, терзается вокруг них. Надежду Федоровну я все сравнивал то с Алисою, то со Стеллою, словно о нас написана эта «Дуэль», вечная дуэль. Все эти бабы — хорошие стервы! И дураки, и гении погибают из-за них. А меня чуть не расстреляли! И что будет со мною — с «бугорчатым» за двенадцать лет неволи? А Лаевский для меня — чистый ангел, который сумел скрутить себя в бараний рог! «Воздух, которым дышу, это вино, любовь, одним словом, жизнь я до сих пор покупал ценою лжи, праздности и малодушия. До сих пор я обманывал людей и себя, я страдал от этого, и страдания мои были дешевы и пошлы…» Эх, мне бы его заботы! Даже сам великий гуманист Чехов никогда бы до конца не узнал всех чувств, мыслей и мук этого «бугорчатого»… даже на Сахалине,
Алтан Гэрэл, я бы никогда не осмелился просить Вас о встрече. Зачем Вы приедете в такую даль ради двух часов разговора со мною через стекло?! Как мне будет искренне жаль Вас, не встречал я в жизни такой отзывчивости. Можно, конечно, увидеться без стекла, это когда нас выводят на работу, еще лучше вечером, когда приводят, стоим у ворот зоны во время проверки-обыска, можно наглядеться молча…
Живи Чехов в наше время, может, придумал бы День проветривания тюрем — и нас отпускали бы на сутки под расписку…
Некому, некому в мире проветрить все тюрьмы, чтобы ураганы прошлись по настежь распахнутым дверям и окнам, чтобы ливни окатили весь фундамент.
Бессонными ночами я мысленно купаюсь среди мировых бурь.
1 августа 1980 года. 5 часов утра, начался подъем.
До свиданья! С приветом на рассвете Мелентий Мелена
Письмо 34
Тюрьма стоит на месте
Здравствуйте, дорогая Алтан Гэрэл!
Сегодня 7 августа 1980 года, четверг. Меня с развода вернули в жилую зону, так как в картотеке у них не оказалось моей карточки. А я тут при чем? Ведь я не имею доступ к своим документам. Я даже не знаю, где лежит мой аттестат зрелости. Опять у нас засуха писем, и невольно вспоминаю сущий рай Харьковской тюрьмы, где мы могли обратиться к администрации зоны по любому вопросу и получить ответ. Здесь осужденные до того запуганы, что боятся даже спросить: «Когда дадут наши письма?» А завхозы должны их требовать. А поди потребуй — упрячут на пятнадцать суток в изолятор. Писать жалобу бессмысленно, сожрут. Цензор еще в отпуске, мы мучаемся, и сны ухудшаются. Снятся мне страшные пожары, горят наши бараки, а я мечусь обгорелый, чтобы спасти свой альбом с фотографиями родных и Алисы Васильчук. Выбегаю, объятый пламенем, из барака, катаюсь по земле, вижу, сгорают все бараки с гудением и треском, огонь стреляет моими фотографиями в воздух, они, шипя, загораются в воздухе и гаснут. Вот теперь ничего у меня на свете нет, ни фотографий, ни писем, ни барака, ни тюрьмы — кругом воет сирена, лают псы остервенело, стреляет конвой… Просыпаюсь— болит сердце, тело чешется от укусов, тюрьма стоит на месте, ребята мирно храпят, достаю альбом из тумбочки и разглядываю родные лица возле окна на рассвете, себя, молодого, беспечного, непрошибаемого, с самодовольною улыбкою. Вот кого я спасаю от пожаров во сне.
Да, тюрьма стоит прочно на месте, только поползли черные слухи о смерти Владимира Высоцкого. Господи, как не хочется верить этому. Алтан Гэрэл, напишите нам, ради бога! Может, очередная утка к нам залетела?
В эти дни слушаем песни Владимира Высоцкого, аж мороз по спине, в груди тесно, слезы закипают внутри, чуть не плачу… А слушаем его песни на работе, здесь через запретную зону живут газовики, буровики, нефтяники и другие «спецы», приезжают геологи. У них около вагончиков на столбе радио, громкоговоритель, и они часто включают магнитофонные записи. Так мы лакомимся чужими песнями, грустим, тоскуем, горюем, заочно провожаем Владимира Высоцкого в последний путь, А как он умер? Ведь он был молодой! И немыслимо, чтобы бунтарь и ерник Высоцкий лежал в гробу… Алтан Гэрэл, пришлите нам, хоть какие! — стихи Владимира Высоцкого, будем горячо благодарны.
Алтан Гэрэл, Вы, пожалуйста, берегите себя во время Олимпиады. Я почему-то представляю Вас бледною. Есть ли рядом с Вами парк или лес, чтобы отдохнуть от суеты и давки?
До свиданья! Жадно жду ответа! Мелентий Мелена
Письмо 35
Вся полнота летнего бытия
Здравствуйте, дорогая Алтан Гэрэл!
Сегодня 13 августа 1980 года, среда — дивный день!
Получил от Вас Олимпийскую энциклопедию! — подарок ко Дню строителя, поздравительную с прекрасными словами о созидании всего доброго и долговечного на Земле, также билеты на Олимпиаду — на футбол, бокс и легкую атлетику, Огромное спасибо!!! Я не в силах выразить Вам всю радость и благодарность от такого щедрого подарка, как это исключительное издание Олимпийской энциклопедии! С большим шумным интересом мы прочитали выдержку из Вашего письма о том, что космонавты не дали выпасть дождю на Москву в День открытия Олимпийских игр. Ребята все удивились, поначалу даже не верилось нам. А билеты на Олимпиаду мы разглядывали на солнце, оказывается, есть на них водяные знаки, как на денежных купюрах, мы их щупали, нюхали… и даже целовали, словно Вы прислали нам символ Олимпиады-80, Благодарим все!
От радости вся усталость улетучилась. Мошки покусали, все тело чешется. У некоторых тело опухает от укусов мошкары. Я стал привычным к укусам, не опухаю. Пошел сразу после работы в баню, напарился, а парилка у нас такая раскаленная, что заходишь и уши в трубочки сворачиваются. А я уральской закалки мужик, люблю попариться и после обваляться в снегу, Пришел из бани и вновь перечитал Ваши последние письма, и улыбка не сходит с моего лица.
Да, читаю Чехова параллельно с Вами, прочитал «Степь», «Огни», «Скучная история» и «Дама с собачкой»… Ничего подобного я в жизни не читал! Если других произведений Чехова в зоне не найду, то вновь и вновь я буду перечитывать эти, особенно Даму!
Бедный заяц!
Вчера вечером на своем объекте мы поймали дикого зайца, уже большого. Если кто смотрел со стороны, смеялся бы до слез! Пришли мы только с работы и начали было переодеваться, кто был полуголый, кто в трусах, кто в чем, и часовой вдруг как закричит во все горло:
— Заяц в запретзоне! Заяц попал в запретзону! — ну и мы покатили с гуканьем, с визгом, с охотничьим азартом с голыми руками, а мне попалась в руки тоненькая елочка без сучьев. Ох, и гонялись мы за ним, кто падал, хватал землю вместо камня, словно первобытные люди за мамонтом! В конце концов затравили мы — зэки — зайца голыми руками. Заяц был замечательный! Сразу приготовили зайчатину с картошкою. Так мы отведали тут ресторанное блюдо.
Бедный заяц! Может, какая заклинательница змей прислала нам этого зайца?
Алтан Гэрэл, у нас 10 августа, в воскресенье в клубе зоны отметили День строителя, на собрании зачитывали список строителей на поощрение. Мне присвоили звание «Лучший по профессии». А на свободе грамот за работу я, признаться, не получал. Помню, от военкомата награждали грамотою за стрельбу из мелкокалиберной винтовки, из 50 возможных очков я выбил 49, а второй раз все 50 очков. Еще в школе по стрельбе из «воздушки» были у меня одни пятерки.
На этой неделе освобождается мой товарищ, который вычеркнул восемь лет своей жизни, за три месяца отрастил волосы, страшно волнуется, все гладит и гладит брюки, то похлопывает себя по бокам, без конца стрижет ногти и ходит, руками так сильно размахивает, словно у него вырастают крылья!
Алтан Гэрэл!
Я давно выжег на березовой доске Ваш портрет из Строительной газеты и бравого Олимпийского Мишку и посылаю Вам как знак благодарности за письма, за все доброе. Мой товарищ отправит бандеролью из г. Электросталь Московской области, откуда родом. А я для всей полноты летнего бытия читаю и перечитываю лирические стихи калмыцкого поэта Давида Кугультинова в библиотечке «Огонька», почти выучил очень понравившийся мне стих — «Лишь о тебе в безмолвии, впотьмах…» — прочитайте обязательно!
До скорейшей встречи! Одевайся теплее. Мелентий
Если мы приветствуем только тех, кто нас приветствует, то какая нам награда?
Евангелие
Ура, ура! Встает некий оригинал Алтан Гэрэл, откормленная молозивом степных овец, бросила четверых младших сестер и братьев на произвол злой мачехи-слезокормилицы и приехала в столичное общежитие работать по лимиту среди бездарных швалей Безматерных — Хватаймух! Будет писать Июльский Дневник, чтобы обогатить мировую печать описанием ливневых протечек и фекальных масс в подвале общежития. Землячка Очирка обозвала мои сапоги-обновы говнодавами!.. М-да, тут на всякое чихание не наздравствуешься, надо говно разгребать. Столица пыхтит-кряхтит, пучит живот, авралит.
У меня в жизни не было случая, чтобы я бросила киношный билет мимо урны. И не брошу до тех пор, пока руки не отсохнут, пусть мусорные свалки достигнут самого Солнца и загорятся от его лучей.
Рамиз Манафов
Самый содержательный человек в нашем общежитии — это следователь Рамиз Манафов, вечным метеором летит куда-то за столичными жуликами. «Для лихой собаки — семь верст не крюк».
Мой скоростной сосед дает мне читать юридические шедевры типа «100 лет криминалистики», «Франсуа Видок» и «Тайны Парижа». Рамиз — вот кто знает тайны московской мафии? О господи! Что же со мною будет в неравной схватке со свинцовым стандартом столичного бытия?!
До переписки с убийцею я никогда не обращала особого внимания на соседа, хотя у него интересная работа. Рамиз — азербайджанец, выпускник Волгоградского юридического института. Ему двадцать восемь лет, холостой, невеста ждет его на родине, Отца у него не было, росли три брата у матери, а мать — уборщица. Рамиз занимает однокомнатную квартиру без ордера, устроил его здесь Суетников из Управления жилищно-коммунального хозяйства Главка. Неужели и следователи работают в Москве по лимиту??? Эта временная квартира у него совершенно пустая, так как комендант следователю не выдает ни мебели, ни белья. Книги у него валяются повсюду, на окне, на полу, на холодильнике, где внутри пусто, Рамиз постоянно пьет кофе, у него кроме кофейного прибора нет и посуды. Книг у него очень много, собирает серию «Пламенные революционеры», любит поэзию и между делом учит английский, читая сонеты Шекспира в подлиннике. Мне же он сует «Записки следователя» Льва Шейнина, как воспитателю преступника, хотя следователь против моей безрассудной переписки. Всегда до пояса раздетый, он при мне хватает свои пудовые гири с пола или эспандер и нарочно с рвением начинает играть белыми бицепсами. Загорать же ему некогда. Свой спортивно-гончий образ жизни аскет подогревает одним горячим кофе. Завидую я только тому, что он сонеты Шекспира читает в подлиннике и готов до смерти совершенствоваться! Перечитывает «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели — это любимая книга моего соседа.
В квартире у него два стола, четыре стула, пишмашинка «Эрика».
— Трещит зараза, а ходу нету! — жалуется он на новую машинку, ерзая на стуле в растянутом трико, въедливо чешется указательным пальцем в коротких черных кудрях.
Домой он возвращается с работы ночью, гоняется за преступниками, а может, и за женщинами? В общежитие женщин не приводит, верен невесте? или ему некогда? Обливается холодною водою, надевает милицейскую форму и несется гончею:
— Привет!
Однажды я даже пытала следователя, чтобы он рассказал мне об интересных преступниках, которые встречались ему. Мы пили с ним кофе с сухарями, благо у него оказались эти вкусные сухари, а то бывает, что крошки хлеба у него не найдешь, когда надо.
— Мне некогда хлеб покупать, преступники одолели!
Или:
— Мне некогда хлеб жевать, зато мыши ко мне не лезут! — отвечает неизменно Рамиз.
— А кто они — эти преступники? — и перестаю жевать.
— Мразь всякая! И все! — с раздражением отмахивается.
Что за человек этот Рамиз? И поговорить с ним невозможно, начинает зубрить английский, читать сонеты. Если Рамиз прочитал бы эту запись о себе, Днев-ник-то порою лежит у меня на столе! — кажется, что ничего в его поведении не изменилось бы, небось меня бы еще и обозвал дурою! И все? Недавно похвастался, что его наградили Грамотою, будто стал лучшим следователем нашего района. Самая интересная его черта — он умышленно хвастается и постоянно подбадривает себя, словно заговаривает:
— Скажи, разве я не бравый парень?! — и ярится голыми мышцами, остервенело играет ими.
— Скажи, я — молодец1 Сколько пламенных революционеров я прочел?!
— Вот достану… себе речи Кони, Корабчевского и Плевако и не дам ни одной соседке, которые не покупают хлеб! — рычит Рамиз.
— Мне тоже некогда, я в поте лица переписываюсь с преступником, вчера под проливным дождем отнесла срочное письмо на почту — вся промокла, нету зонта, — жалуюсь я.
— Ну, давай с тобою переписываться, тогда я, может, узнаю, что у тебя на уме. Может, ты хочешь из воспитателя переквалифицироваться в адвокаты своего преступника? — спрашивает он.
— И о чем бы ты писал мне в такой спешке?
— «Приду в воскресенье в четыре утра. Купи мне хлеб заодно в субботу».
— Я в эту субботу еду с рабочими на экскурсию в Архангельское, имение князя Юсупова.
— A-а, Феликса Юсупова? Читал я «У последней черты» Валентина Пикуля. Эх, сколько развелось у нас новых Распутиных! Может, мы тоже докатились до последней черты?! — спросил он зло, черные глаза мрачно сверлили меня. — Вот мы с тобою из подвала общежития подпираем плечами основы мирозданья…
— Рамиз, а Рамиз, может, тебя познакомить с Шагинэ?
— Чтобы хлеб мне покупала? — и смотрит на электронные часы. — Ну, я побежал… за новой мразью! — и расстаемся с соседом чуждые, еще более непонятные друг другу.
Я достаю «Французскую новеллу XX века» и с карандашом в руке читаю шедевр Анатоля Франса «Кренкебиль»… Выписываю себе:
«Правосудие — категория социальная. Одни только смутьяны ищут в нем человечности и сострадания. Его отправляют, руководствуясь твердо установленными нормами, а не болью душевной и не светом разума. А главное, не требуйте от него справедливости: раз оно— правосудие, ему не обязательно быть справедливым. Более того, идея справедливого правосудия могла зародиться лишь в анархическом мозгу…»
«…Когда человек, дающий показания, вооружен саблей, прислушиваться надо к сабле, а не к человеку. Человек достоин презрения и способен ошибиться. Саблю же презирать нельзя, она всегда права…»
«Причину большинства человеческих поступков нужно искать в подражании. Кто строго следует обычаям, тот всегда будет считаться порядочным человеком. Честными людьми называют тех, что поступают как все».
А невеста — раскудрявая от природы Динара Карак-мазли ждет не дождется своего витязя Рамиза, которого здесь русские переименовали в Романа Манафова. А бедному Роману некогда читать любовные романы, некогда даже жениться — у него бесконечные черные романы с подонками. И мчится следователь Рамиз по черным следам пуще гончих псов, а жгучая чертовка Динара хохочет на фотографии…
Неужели следователи живут хуже всех гончих?
И моя романтичнейшая подруга школьных лет — Лидия Доржиева хотела стать следователем уголовного розыска! Но затем не вынесла всей отравы и мук кошмарной семейной жизни — и сошла с ума… а дети растут врозь, где придется,
Шаганэ, ты моя Шаганэ
Отдала я Шагинэ последний рубль на хлеб, она еще потащила сдавать свои бутылки из-под напитков, долго ждать ее придется. Сегодня она ждала своего Димку, он так и не приехал. Мать его сторожит телефон и кричит, стеною встала поперек будущего брака, чтобы не прописывать какую-то армянку у себя. Бедная Шагинэ натерпелась в Ереване от армянских обычаев и предрассудков, а тут столкнулась с московскими жлобами. Этот Дмитрий Маминский вроде музыкант, дарит голодной женщине французские духи за тридцатник, не знает, что она живет в общежитии контрабандою и сдает стеклотару? Шагинэ украдкою занимает комнату в 17-й квартире надо мною, за это ей приходится задаривать коменданта иранку Акулаблатову Сакинэ Тишаевну, у которой дядя работает в Главке главбухом, и директора общежития Тину Ширшову. Дома у нее одна мать, тут у нее в комнате ни стола, ни стула, ни посуды нет, одна кровать и тумбочка в комнате. А когда приходят разные комиссии в общежитие, она запирает комнату, приходит ко мне на чай или же уходит гулять по улице, ее об этом предупреждают сами взяточники.
А приехала она в Москву петь, поступить учиться. Надевает длинное ярко-бирюзовое платье до пят, нацепит свои дешевые блестки, безделушки и заливается соловьем, словно Ламара Чкония!
— У меня сплошная полоса невезения, а этот год — страшный год! — постоянно твердит Шагинэ. Она уже поседела к тридцати годам, ходит в неудачницах.
Недавно она меня позвала на кинофильм «Пиаф» — о великой французской певице Эдит Пиаф, в конце фильма мы обе заплакали и после этого особенно близко и душевно подружились, стали доверять друг другу все беды и тайны.
Голодная, грязная, круглая сирота воробышек-маленькая худышка Эдит пела на улице и получала милостыню. А мы с Шагинэ беззащитны в этом мире, как голубиные яйца… Потом я искала Дневник Эдит Пиаф и не нашла его в десяти библиотеках. Хочу научиться у нее писать предельную страшную правду о себе, не боясь, не таясь, свободно, как ветер!
После фильма «Пиаф» мы с Шагинэ не могли расстаться до трех часов ночи, и она мне рассказала историю смерти своего родного отца.
Отец работал главным бухгалтером, сделал крупную растрату — и его посадили в тюрьму на десять лет! Мать одна воспитала пятерых детей, ездила к мужу в зону, страшно состарилась, вся поседела, а отец сумел каким-то образом сохраниться в тюрьме, пил чай с маслом…словом, сумел прижиться и угодить начальству, и его подкармливали, щадили. Шагинэ показала мне фотографию отца, быка-буйвола! Вернулся отец домой после десяти лет заключения — лег спать с женою и в первую ночь сломал венгерскую деревянную кровать! Здесь я залилась звонким смехом, а Шагинэ без обиды продолжала рассказ:
— Он же весил сто двадцать килограммов и так дико сотрясал дряхлую кровать, что развалил ее на части! Молодожены с утра поехали покупать новую кровать, но она недолго удерживала отца дома, связался он с другою, молодою.
Так супруги три года прожили в скандалах, затем отец-гигант совсем ушел жить к любовнице. Не прошло и полгода, как он умер на ней от инфаркта! Мать вздохнула: «Бог наказал рьяного быка!..»
Если этот отец был горем всей семьи, то у Шагинэ было свое горе в Ереване. Высокая, стройная, душевная, с прекрасным голосом Шагинэ имела, конечно, разных поклонников, которые сватали ее. У них мужчины женам дают все, кроме свободы… которую оставляют себе после женитьбы.
Шагинэ работала в институте лаборанткою, один обеспеченный тип решил на ней жениться, взять измором, гонялся за нею по институту и целовал насильно! И вот однажды доведенная до белого каления омерзительными насильными поцелуями Шагинэ плюнула ему в глаза и ударила с размаху по щеке!
— Я тебя убью! — кричал разъяренный тип ей вослед.
— Алта, ну ты встречала такое, чтобы убивали девушку за то, что она не хочет выходить замуж за мерзавца?!
— Нет. Но он же тебя не убил! — у меня вырвался даже смешок.
Спасибо ему. Но ты представляешь, что он сделал? Он поднял всех против меня — и меня уволили с работы!!!
— За что же уволили?
— Плюнула в очи, влепила в морду! Я с этим институтом полгода судилась и ничего не добилась! Ужас! Что только на меня не собирали, что я — дочь подсудимого, вела себя недостойно, опаздывала на работу, красилась, смеялась! Что я — неудачница, которая лезет в певицы! О, господи! — Шагинэ закатывает жгучие черные глаза и обессиленно запрокидывает голову в потолок.
— На меня смотрели, как на ненормальную. Я не смогла во всем Ереване нанять адвоката! Дело дошло до Верховного суда Армении, где ответчик института, юрист, выступил, что «лаборантка неисправимо противопоставляла себя всему коллективу института», что у них на эту должность принята сейчас самая достойная из одиннадцати кандидатур, что институт в конце концов сам имеет право объявить конкурс и выбрать себе лучшую из них!
— Которая не будет плеваться и царапаться, а выйдет замуж за любого нахала! — продолжила я, и мы обе покатились со смеху.
— А начал этот тип так: «Шаганэ, ты моя Шаганэ, выходи за меня замуж и будешь как царица Тамара жить! Сервиз и все такое будем доставать из Парижа-Лондона!»
— Шогик, а Шогик, давай я тебя познакомлю с Рамизом Манафовым! Случись что, следователь тебя защитит!
— От матери Дмитрия? Ой, начнет как димкать — все пересолишь…
— От Ширшихи и похабной Акулаблатовой, если начнут тебя выселять из общаги.
— А у Рамиза есть слух? — задает Шагинэ свой главный вопрос.
Она приготовила из фасоли и зелени блюдо — лобио, чудо обжорства у нас, уплетаем, даже замолкли, боясь проглотить языки.
— Шогик, а Шогик, а ты бы спела перед заключенными? — вырвался нечаянный вопрос. Армянка опаляет меня жгучими лучами черных очей.
— Алтан, окстись, разве Эдит Пиаф выбирала слушателей?
— Шаганэ, ты моя Шаганэ,
Потому что я с севера, что ли?
Сегодня к Шогик приходил в общагу ее ненаглядный Дмитрий Маминский, а я была на семинаре воспитателей в МГСПС, жаль, так и не удалось увидеть холеного маменькина сынка. Но Шогик цветет! Гляди-ко, припозднившийся жених принес ей перепелиные яйца, маленькие, пестрые в бумажных коробочках в микроклеточках. Я, благодаря «резиновому женишку», впервые в жизни отведала эти нежные яйки.
Неизвестно — сколько еще будут прицениваться к безвестной певице кондовые столичные жохи?
— Димка без мамки — голая роза: без листьев, без шипов! — защищает Шагинэ возлюбленного.
— И ты любишь голую розу? — мучаю невесту.
— А что? Столичное дитя-одиночка, все знает, ничего не может. Зато у Димки уникальный слух!..
8 июля 1980 года
Сегодня утром прочитала «Палату № 6» Чехова. Страшная правда жизни настолько потрясла меня, что я в универсаме потеряла кошелек с деньгами, в нем оставалась рвань-трешка. У кого теперь занимать до аванса? Как мне надоела эта крохоборническая жизнь! Буду с грохотом собирать бутылки по общежитию и сдавать. Сегодня я закончила курс лечения, приняла 30 уколов алоэ, мокрота исчезла, дышу легко. Улучшения зрения не замечаю, зато кожа стала бархатистою, мягкою-мягкою. Это алоэ — панацея от всех болезней?
9 июля 1980 года
Дул такой ветер, что бумаги и птицы кружились в воздухе вихрем, ветер вырывал деньги из карманов воров, и деньги бешеными смерчами уносились в небо, как взятки Богу… от Акулаблатовых.
Выли и визжали сирены реанимационных машин на Алтуфьевском шоссе. Ливень и град разбудили уснувших от запоя строителей.
О, как страшно я томлюсь в этой клетушке общежития!
В универсаме был передан мой кошелечек старшему кассиру, мне его вернули. В кошельке нашла несколько волос — свои же очески… а сам кошелек стоит 2 рубля 60 копеек. Я написала благодарность магазину, у них есть подобные записи. Говорят, что находили по 200–300 рублей и возвращали владельцам. Слава всем честным!
В Москве уже около десяти дней ежедневно идут дожди, одна сырость, нет нынче лета, холодно, словно осень наступила. Я хоть на кровати в июне с утра успела позагорать.
10 июля 1980 года
Как мне спасти Мелентия в тюрьме?!
Эх, до чего доведет нас эта страстная переписка?! Сколько бумаги зря переводим на пустые страсти, в которых род человеческий вовсе не нуждается!
Приснился мне Карл. Прилетел из Америки, прикатил ко мне в общежитие и говорит по-русски:
— Вот она — Алтан Гэрэл — замучила меня заочною страстью, а сама хохочет! И никаких следов татаро-монгольского ига в ней не осталось… Вот что за птица! — и жмет мне крепко руку.
— Я, как неистовый пролетарий, клюю, что в рот попадется — вновь потеряла кошелек! Не знаю, сколько проживу? Не велика птичка — воробышек.
Клюю сытный пепел мякины, парчу лучей цветущей плесени, узоры сияющей паутины чудотканой, раскаленный алый гвоздь с креста антихриста. И плавится мой клюв — остужаю мигом в божьей луже жиропотной. Укоротила я жалкий клюв воробьиный, а с живодерного гвоздя шляпку едва сковырнула…
О нет, не стану я — воробьиха — из лужи шакалов нектар лакать, а гвоздь расплавленный буду пить до дна!
— Как Тициан, девяносто девять лет! Моя бабка — Шопенгауэр! Дали мне диплом Нобелевского лауреата! — Карл роется в карманах, и я в изумлении просыпаюсь…
Может, «Совращенный поселянин» Ретифа де ла Бретона так опьянил меня? Этот шедевр из «Литературных памятников» дала прочитать воспитатель Татьяна Дворянкина. Это она подала пример, как доставать бюсты Ленина для красных уголков общежития. Ведь родная жилищно-коммунальная контора № 34 нам ничего не дает к Олимпиаде! Мы выклянчиваем бюсты у шефов в строительных управлениях, словно нищие попрошайки милостыню, а СУ отмахиваются от воспитателей, как от назойливых мух.
А шустрая Таня Дворянкина не стала разоряться в кабинете начальника СУ:
— Меня — драного воспитателя общежития — каждая комиссия драит и драит, скоро уволят с работы! Устала я за девяносто рублей получать втыки ото всех! Вы тут богатые, новый бюст себе купите! — и не успел начальник СУ опомниться, как Татьяна уволокла бюст Владимира Ильича, привезла на грузовике. А директриса общежития Тина Котовна Ширшова хвалит воспитателя на совещании:
— А кто вырвал у Дворянкиной Ленина? Никто! Она крепко обняла Ильича. Вот так! Хоть воруйте, но чтоб к Олимпиаде бюсты были! Кровь из носу, уяснили?!
Воспитатели сидели, опустив глаза, но никто не осмелился возмутиться. Это же позор! Пусть меня трижды уволят с работы и выпишут вон из Москвы, чем так осквернять память о Владимире Ильиче!
Разыгралась чиношвейка с дипломом курсов кройки и шитья, вышла в мундиры, выпендривается перед педагогами, как может. Разрывается по швам черепушка пополам, череп крепкий чиношвейки не стучится в ателье, вышивает языком расчудесные узоры.
«Все показное не имеет цены» — эти золотые слова из «Совращенного поселянина» вышить бы на знаменах у изголовья новых гениальных мыслителей человечества.
Боже, но как мне голыми руками оформить это общежитие, когда шефы плюют на него?!
Однако прежде чем вернуть книгу шустрой Дворянкиной, надо выписать навеки самые лакомые кусочки:
«…ни один светский человек не обретает в своих наслаждениях столько радости, сколько обретал святой Франциск в своих самоистязаниях…
Все мы, какие ни есть, любим людей, которые отказываются от того, чего мы сами добиваемся; их отказ от своей доли усыпляет в нас две изнуряющие страсти: ревность и самую подлую из всех — зависть, Святой Франциск создал себе счастье, неслыханные радости, которые ни у кого не отнимали — ни любовницу, ни сокровища, ни поместья, ни имущество, ни должности, ни почести, к которым всякий стремится, — поэтому все уважали и чтили его. Кто мог бы ему завидовать? Только тот, кто избрал бы такую же стезю».
«Если бы можно было взглянуть с большой высоты на все препоны, унижающие род людской, то мы убедились бы, что все это — ухищрения слабости и малодушия, имеющие целью заковать силу и мужество».
«…наконец, брамины, самые бесполезные из всех, пользуются большим почетом; индусы уразумели, что не будет вреда, если считать этих людей самыми достойными уважения…»
«Человек, находящийся на самой низшей ступени общества, наслаждается особой безмятежностью, лишенный забот и хлопот; быть может, в этой беззаботности и заключается единственная возможность быть счастливым»,
Разве??? Какая парадоксальная новость!
Тому, кто придумал эти общежития — надо поставить свинцовый памятник, среди мусора, и пусть «проживающие» в своих общежитиях изучают его биографию и жизнь. И причину — как его осенила эта гениальная идея общежития?
«…люди — ничто, они в большинстве случаев не ведают всей черноты своих проступков: один бог проникает в самые сокровенные недра сердца».
Да, если убийцы осознали бы всю бездну своей подлости, то они расхотели бы жить, каясь и казнясь безнадежно.
В июле прошлого года руки у меня были в экземе на нервной почве, нельзя было стирать в порошке, даже мочить их, протирала пальцы спиртом. Врач запретил есть виноград, изюм, мед и прочие сладости, которые мне не по карману. Лечила я руки мазью фторокорт и пила глюконат кальция, таблетки мела по 7 копеек,
9 июня 1979 года с десятого этажа моего второго подъезда днем выпала девка Тамара Соломко и разбилась насмерть: до сих пор вижу это лиловое лицо, крашеные соломенные волосы, снизу на палец отросли темные, свои, под расстегнувшейся кофтою пепельного цвета дрянной бюстгальтер, потертые, грязные джинсы на молнии, босоножки на тяжелой глупой платформе, а вокруг нее валялись подушки, которые я в страхе собрала.
Тогда я работала воспитателем мужского общежития по Абрамцевской, 1. 8 июня, вечером не было вахтера, комендант Одноглазова не сочла нужным найти замену, бросила подъезд на произвол судьбы, а девка проникла ночью к шоферу Женьке Ехтереву, проночевала у него и днем сама выбросилась после ссоры с ним, как утверждает этот жестокий Ехтерев. Все собрались вокруг трупа несчастной, вызвали милицию. Поздно вечером я под проливным дождем без зонта поехала на телеграф, отбила срочную телеграмму отцу Соломко:
«СРОЧНО ПРИЕЗЖАЙТЕ МОСКВУ ПОГИБЛА ТАМАРА»
Именно в тот день 9 июня я с утра обходила все квартиры рабочих, раздавая мышиный яд в бумажных свертках, и в квартире, где живет злой Женя Ехтерев, никаких девиц я не видела, может, они ее спрятали в туалете или в шкафу.
В ЖКК-34 оплатили мне чек телеграммы, объявили выговор, как горе-воспитателю, хотя я проработала здесь всего полтора месяца. Так я сразу прославилась на все управление, меня затаскали по инстанциям, обо мне кричали с трибун всяких семинаров и собраний.
Следователь 145 отделения милиции выявил, что Тамара Соломко была временно прописана по лимиту в женском общежитии по Новгородской, 30, но там по существу не проживала, хотя оплачивала свое койко-место. Сожительствовала она с Ехтеревым и после ссоры покончила жизнь самоубийством. За моральный облик своего водителя заступился Оганес — заместитель начальника треста, деятель со связями, и Евгения Ехтерева отпустили.
Только я — новый воспитатель, впервые увидевшая эту жертву Лимита посмертно, — получила выговор и с ходу угодила в черный список. Какая гадкая история! Почему же подушки валялись рядом с нею? Разве самоубийцы выпрыгивают, обняв подушки? Женька ходил очень нервный, красный, я — с экземою, и мы не здоровались более. Бедная, хрупкая Тамара Соломко унесла с собою в могилу свою тайну и взяла вину полностью на себя.
Потом началась у нас какая-то почти религиозная кампания: «Подготовка к приезду ПОГУДКИНА», которая затмила все постороннее. Узнала, что этот ПОГУДКИН — заместитель начальника Главмоспромстроя по воспитательной работе и по распределению жилья и давно собирается объехать общежития, особенно отдаленные мужские, где совершаются преступления. Стали приезжать в общежитие руководители ЖКК-34, устроили срочный ремонт, выдали новую мебель, привезли ковры, особенно старалась председатель месткома Сорокина-Липатова, которая нашла средства на цветы, чаепитие. Она придиралась к моему почерку, к цветам фломастера, к тому, как я пишу планы, объявления, документацию, учила: «Понимаете, все должно быть вывешено на уровне глаз Погудкина, чтобы, не поднимая головы, на ходу он мог прочитать!»
Нет худа без добра. Благодаря этой кампании по подготовке к мифическому приезду Погудкина, мы получили прекрасные мягкие желтые стулья для красного уголка, желтые шелковые шторы на окна, все общественные комнаты оклеили кипящими оранжево-золотыми обоями и наш подъезд стал словно золотым! Ребята перестали в красном уголке лузгать семечки, курить украдкою, с удовольствием приходили смотреть телевизор, в квартирах сделали генеральную уборку, все блестело, только ковры хранились у комендантов, чтобы постелить девственно чистыми к высоким стопам Погудкина.
Наконец-то объявили долгожданный день — завтра выезжает! Техническая служба жилищно-коммунальной конторы вымыла общежитие снаружи шлангами! А мы, воспитатели восьми подъездов, ночью выпустили свежие стенгазеты, посвященные Дню учителя…
А в тот день с утра прибежала ко мне в подъезд директор общежития Байкина Гитара. Богатырь-баба вырядилась в кримпленовое платье вопиющей пестроты, которое затмило бы самых ярких попугаев на свете, и, брызжа в лицо слюною, ядовитою и желтою от сигарет, выпалила:
Слышь — улыбайся до ушей и не говори ни слова!
Ты — человек новый, я сама отвечу, если что спросят.
— А если меня спросят? Сказать, что я оглохла?
— Ты, бурятка, улыбнись, своею степною раздольною улыбкой, а язык мерзкий прикуси!
Я невольно улыбнулась Байкиной Гитаре, смертельно трусящей перед начальством.
— Во-во! Чудесная улыбка! Проводим Погудкина — я тебя приглашаю в ресторан, угощаю!
Тут я одарила Байкину Гитару действительно неудержимою улыбкою, но судьба изменила всем нам. Весь день провели в напряжении, лишь к концу рабочего дня нам позвонили из конторы:
— По дороге у Погудкина в машине телефон сломался! Сегодня не приедет…
Нынче опять заговорили о приезде Погудкина в общежитие к Олимпиаде, наводят тройной лоск, душат духами потные подмышки, а Тина Котовна Ширшова пироги печет бесподобные. Сшили роскошные шторы с пузырями и бахромою. Золотыми нитками и бисером вышили алый бархатный лозунг:
Рады самому дорогому гостю!
Еще семь лет будут ждать в общежитиях Главмос-промстроя самого дорогого гостя — Погудкина, пока его в 1987 году не отправят на пенсию.
А пока люди объяты нервною суетою, ждут не дождутся слепоглухонемого для общежитий высокопоставленного Чиновника, который ездит в автомобиле с телефоном, вхож к самому В. В. Гришину, возит Его по строительным объектам.
Сегодня торжественно объявили, что пока товарищ Погудкин, вероятно, не приедет. Заболел его помощник Засядько-Храппердяй. Говорят, что этот — Сачок № 1 в Главке, вросший задницею в сонное кресло. Разве какое землетрясение вырвет бездельников вроде Засядько-Пересядько из глубин кресел преждевременно до пенсии?!
11 июля 1980 года
Кузьма Кузнечишко — величайший из всех друзей на свете принес мне в зубах огурцы, продукты, достал мне три билета на Олимпиаду, каждый билет по 5 рублей. Бедный Кузьма все студенческие годы меня подкармливал, теперь воспитателя по лимиту подкармливает, ему не привыкать, Пылает сердце!
Читали мы по очереди вслух Овидия «Науку любви», у нас совершенно разные манеры чтения. Я затягиваю, перепеваю стихи вольным счастливым голосом, а он читает с юмором, смеясь и пародируя. Вычитал где-то Кузьма, что средневековые схоласты, те ироды, что сожгли Джордано Бруно, ломали свои инквизиторские копья над тем, сколько же чертей помещается на кончике иголки? Тысяча или полторы тысячи? И это очень забавно Кузьме. Как он любит дурачиться, кривляться, пыжиться, важничать, умиляться, психовать, подозревать, ревновать, ненавидеть, осуждать, презирать, отвергать, краснеть, визжать и ликовать! Резвый Стрекозел так и прыгает, как блоха! От ревности пылает рьяное сердце, кровоточит болью.
Сердце Кузьмы Кузнечика! Вот уже одиннадцать лет кровоточит любовью-ненавистью, болью-ревностью ко мне! Познакомились мы 30 июля 1969 года во дворе нашего института, приехали на вступительные экзамены, он только что сошел с поезда, а я 29 июля прилетела из Бурятии. С первого взгляда понравились друг другу, решили помочь друг другу на вступительных экзаменах, он был силен по истории и немецкому, а я — по литературе. С тех пор так и не расставались до самого окончания института, а после сама жизнь раскидала нас по стране, умер отец Кузьмы…
12 июля 1980 года
Спала я на полу для разнообразия, словно спасаясь от оглушительного гула и визга тормозов на перекрестке Алтуфьевского шоссе. Общежития строятся в самых худших местах красавицы столицы. Распахни окна, впусти бурю смога и пыли, тополиный пух летит в рот, спой нежную песню «Тополя, тополя…» Чтобы смерчи вырвали эти тополя с корнями, с пухом!
Мы с Шагинэ сегодня слушали по радио священное пение-служение Шаляпина. Со старых обшарпанных пластинок льются шершавые переливы изумительной чистоты — ария Алеко: «…Моя Земфира охладела!»
После Федора Шаляпина Шагинэ экспромтом бесстрашно поет Эпилог!
О, как преследует меня современный сельский Отелло из херсонских степей! Пахнут ли письма Мелентия духом и кровью? Истинно великое женское сердце может позволить себе грешные муки искать нежную дружбу не среди королей и знаменитостей, отгороженных Гималаями леденящих кордонов, а среди обездоленных, падших преступников. Кто знает, может, именно среди них-то и томятся современные Алеко, Отелло и Раскольниковы??? Крупного духом и сердцем мужика скорее найдешь среди зэков, чем среди конторских крыс и гнилых трусливых критиков, скользких, как угри!
Как измельчали нынче люди, как они заражены социальным страхом! Будто навеки отравили их таблетками, чтобы трусили и ползали запрограммированными рабами бронетанковой Бюрократии. Какое шелковое единомыслие царит в служении угнетающей элите!!!
Мне омерзителен мир, где вместо веры царит Недоверие.
О боже! Как мне спастись от тотального угнетения и распада Духа? Все говно всплыло наверх и правит Регрессом.
13 июля 1980 года
Безликий день
И вновь настало лето без лета, зима без зимы.
Человечество изнасиловало Землю, и она изрыгает выкидыши. Все смешалось в дыхании Земли: зловонный перегар воздуха, ржавые зубы гниют, гнойные реки текут. И зацвела старуха Земля фурункулами ракет.
Никнут и вянут седые крылья времен года.
«…Общая мировая душа — это я… я… Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню все, все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь».
Милая девочка Нина Заречная! По воле Антона Павловича ты сидишь лунной ночью на большом камне вся в белом и болтаешь его пророческие речи, а ведь надо тысячу лет изучать мировую философию и тысячи раз сойти в гроб в черном теле, чтобы обрести эту общую мировую душу!
…Общая мировая душа — это я — Алтан Гэрэл. Во мне душа и Будды величайшего и Чингисхана, и Ленина и Далай-ламы, и белого верблюда и золотой пчелы жужжащей! Но каким волшебным гением труда и подвига воскресить в себе симфонию общей мировой души???
В двадцать четыре года у меня вырос единственный зуб мудрости слева в нижнем ряду. Остальные три так и не выросли… и никогда более не вырастут? Значит, суждено мне точить свой единственный зуб, чтобы обрести свою Судьбу. Зубов же у меня всего двадцать девять штук дано природою, пока все целы. Весь наш род никогда не знал зубной боли, какое благо унаследовано мною!
15 июля 1980 года
Письмо тому, кого нет на свете белом
Здравствуй, высший разум сердца!
С кем только не сводит нас великая жажда любви?! Это неизбывное чувство сравнимо только с биением сердца и дыханием души! Я готова любить даже заочно, лишь бы великою любовью. Любовную отраву хочу пить, хочу до дна, она хлеще гадкой водки опьяняет. В любви каждый открывает свою Америку. Бездушно сердце, которое не раздувает пожар любви, не раздувает пламя в жилах, а сидит в конторе, прямо в сейфе, и подшивает липовые бумаги. Кто не любил страстно, глупо, не гнался за всевозможными экземплярами человеческой породы на диво и заглядение — тот покинет сей мир румяным, жирным, вкусным на съедение червям, которые так и кишат, чтобы сожрать человеческое сердце и мозг! Когда смерть ко мне придет, то я искупаюсь в смоле, обваляюсь в вороньем пуху и попрошу сограждан исполнить мою последнюю волю:
— Я не хочу умирать на Земле, где развелось безумие червей. Я хочу умереть на Венере! Запустите меня в корабле. А там кто знает? найдется такое явление, кто меня пожалеет, оживит и буду инопланетянкою жить. И никогда меня, Алтан Гэрэл, не съедят подлые черви. Ведь золотой луч несъедобен, он вечен!
О женщины Земли! Самые великие в любви — царицы Клеопатра, Екатерина Великая — София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская! Где Ваши «Интимные Дневники», где тайны тайн сердец львиц, сердец волчиц, сердец орлиц?! Вместо изумрудного памятника этим сердцам, люди плюют в бездонный колодец, из которого пили, утоляли жажду.
Даже сердце хищницы Авроры Дюдеван, которую люто ненавидел Шарль Бодлер за тупоумие и желал пристукнуть ее по голове кропильницею, вместило столько страстей бессмертных и смертных мужчин!
«Бог шельму метит!» — твердит мне Кузьма Кузнечишко безжалостно и ревнует меня к заочнику.
Я словно больна проказою одиночества и хочу вырастить огромные крылья орлицы для любовной добычи.
Мелеке я послала свои любимые строки Тараса Шевченко:
Последняя ангельская строка меня смущает. Попробуй сохранить сердце чистой голубицы… Я почему-то не люблю голубей, их закормили хлебом жирно, на голову Пушкину садятся и гадят на памятники святые!
Попробуй сохранить сердце чистой голубицы среди черного воронья…
А Стрекозел безжалостно твердит мне, заклинает: «Бог шельму метит!»
16 июля 1980 года!
Ода другу
Ирине Михайловне Катковой
Сегодня на семинаре воспитателей в клубе строителей «Огонек» начальство возбужденно разыскивало воспитателя Каткову Ирину Михайловну, а когда ее нашли в перерыве, она стала громко возмущаться:
— Куда я в таком виде поеду? Ни платья, ни прически! Могли бы заранее предупредить. Ужас какой-то! — раздавался ее звонкий, переливающийся перламутром голос, который нельзя спутать с ничьим среди миллиардов голосов жителей земного шара. Я подошла узнать:
— Уж не в космос ли запускают без подготовки?! Оказывается, что не до шуток. Сегодня Ирину Михайловну награждают медалью в Георгиевском зале Кремля, а она только что узнала! От волнения чуть не трясется и доказывает, что позорно в таком виде туда появляться. А я так обрадовалась, стала уговаривать:
— Какое тебе платье? Сама английская королева в ситцевом платье танцует на балах! А бесприческа лучше всего тебе идет. Ты, друг мой, соберись лучше духом и выступи, пусть правительство услышит голос воспитателя! Поняла? Не упусти такую возможность, все-таки передовой класс Страны Советов воспитываем…
Ирина сразу забыла о постороннем:
— Ты думаешь, что я смогу выступить с такой трибуны?
— Да с таким дивным голосом надо говорить с трибуны ООН! — убеждаю так страстно, что Ирина Михайловна заливается рассыпчатой серебряною трелью. У нее счастливый соловьиный смех!
Вечером я пошла к ней домой. Напекла Ирина горы чебуреков, осетинских фыдджин[14], уалибах[15], помог ей сын Алан — искусный повар.
На белоснежном свитере блестит медаль воспитателя «За трудовое отличие». Наконец-то оценили чудачку, «чародейку общежития». В День новой Конституции она сумела привести в клуб «Товарищ» космонавта Владимира Джанибекова. Поди, раздобудь в клубы строителей, уголки общежитий знаменитостей. Кто позарится? Разве что Иисус Христос, которому безразлично было, где быть распятым. Выступила-таки наша чаровница в Георгиевском зале Кремля:
— Ну, я рада, что на пыльном мундире воспитателя общежития будет сиять медаль! — И она дрожащими от волнения руками приколола на застиранное ситцевое платье драгоценную награду, а красную коробку прижала под мышкою, чтобы рука не тряслась, и продолжала:
— На земле и в космосе ныне насчитывается около полутора тысяч профессий. А когда же появилась новая профессия воспитателя в рабочем общежитии? Я тринадцатый год работаю, и право, не знаю. А теперь нас к Олимпиаде вспомнили, что есть такие! — Тут оживленный зал приветствовал аплодисментами, а Ирина Михайловна невольно два раза погладила медаль, горящую, живую, трепещущую, как она сама на трибуне.
— Товарищи! Товарищ Яснов! Воспитатели рабочего класса Страны Советов должны трудиться в условиях равноправия, а не служить гончими на побегушках у всех иерархий. Неуправляемые господа-жэки прочно оседлали воспитателей, как ишаков! В кого превратили педагогов? В уборщиц, дворников, сантехников, комендантов, вахтеров — словом, в битых козлов отпущения! — и тут, опомнившись, что нельзя более говорить ни одного слова, она сошла с трибуны. А зал аплодировал «битым козлам отпущения»…
Я обняла Ирину Михайловну и съела груду чебуреков, не смогла остановиться, до того вкусны были чебуреки!
Эх, как жаль, что я не умею слагать оды! Но нет пока стихов, посвященных этой щедрой, бескорыстной, подвижнической натуре, которая всем сердцем греет приезжую молодежь материнскою любовью.
А дочери Зарочке всего десять лет, танцует девочка так, что будет выступать на открытии Олимпиады!
Сегодня Ирина Михайловна так тактично и ласково меня упрекнула:
— У нас Алтан Гэрэл по земле ходит — себе равных не находит! С кем же ее познакомить?
— «Страдает душа, если равных себе не находит», — еще Хафиз жаловался, — отшучиваюсь, а пристрастные гости просят почитать Хафиза.
— Слава богу, что эту строку не позабыла — столько чебуреков слопала, — отвечаю.
Стройна Ирина Михайловна в белоснежном свитере и в коричневых трикотажных брюках, лицо лучится морщинами и короткою стрижкою, смахивает на Анни Жирардо. От сравнения с француженкою осетинка заливается ликующим перламутровым смехом. Оценили-таки! А слывет она чудачкою, «чародейкою общежития»… Как странно, что женщина с таким чарующим, обворожительным голосом — не диктор Всесоюзного радио или телевидения, где скрипят старухи деревянными, растрескавшимися голосами или сюсюкают девицы, лениво жуют языки, что тошно слушать.
Юный, звонкий, как ручей, ликующий переливами, счастливый, магический голос Ирины Михайловны Катковой увековечить бы, как голос женщины Земли, и послать другим мирам на радость слуху гуманоидов!
— Прочти, Ир, отрывок о Ван-Гоге! — прошу ее, словно желая увековечить голос друга.
— «Если человека могут убить голод и страдания, значит, он не заслуживает спасения. Только тем художникам место на земле, которых не может погубить ни бог, ни дьявол, пока они не сделали всего, что должны сделать»[16],— поет-плачет-колдует голос Иры. — А я — старая швабра в заплатках медаль нацепила сегодня и ничего кроме пирогов не напекла! Так угощайтесь, — она перевела дыхание и села. Злобно затрещал ненавистный телефон, подбежала ее дочурка Зарема и отвечает кому-то:
— А вы сами к нам в гости приезжайте, а то у мамы моей от звонков сверлят уши, сгорели сырники…
— Для лягушки ее головастик — что луч солнца! — любит повторять Ирина Михайловна свою осетинскую пословицу, когда речь заходит о ее худеньких детях.
После окончания педагогического института, когда начала учить детей в сельской школе, а вела она ботанику, зоологию, химию и анатомию, — то в первый год работы Ирина Михайловна на 8 Марта получила от учеников 199 поздравительных открыток!
Директор восьмилетней школы от изумления прочитал все поздравления до единого и признался:
— Отличный биолог, гимнастка, фотограф-любитель… очаровательная девушка! Я люблю вас сам! Ну, признайтесь честно, чем же покорили всю школу, влюбили всех? А?
— Я сама люблю всех детей, а двоечников просто о-бо-жа-ю! — Ирина чмокнула в пустоту и с беспечным счастливым смехом выпорхнула из учительской.
Счастливый человек Ирина, она по сути своей природы— высокий жаворонок в безмерности небес.
После самозабвенности песни-дара жаворонка так и видишь, как пузырьки сумасшедшей радости взрываются в бездыханной пустоте.
17 июля 1980 года
О, господи! Послезавтра начнется Олимпиада-80! А дожди и ливни все усиливаются, хлещут весь июль, словно само небо взяло соцобязательство размыть всю грязь и охладить истерию Джимми Картера и пламя вражды в Черном Доме погасить… А я буду как кура-наседка сторожить свое общежитие, не дай бог нам ЧП… Случится несчастье — мне прописку не продлят по лимиту, затаскают до экземы.
Получила от Мелентия Мелеки толстое письмо, пылающее заочною страстью, обжигающее. Видимо, сердце его обугливается. Я так и вижу огромное сердце черно-алое, которое то горит, то гаснет, сердце-уголь в нимбе бурлящего пепла!
Если буквы его первых писем невольно сжимались в бисеринки от содеянного зла, то сейчас как они осмелели, раздались, вытянулись, подняли головки! О-о, как меняется его почерк, то чеканный, стальной, то огненный, пламенный, то поперек, вредный, а порою почерк словно плачет, буквы размазываются.
Чтобы бумага не загорелась от страсти Мелентия, я подарила ему холодное дыхание вечности — стихи Николая Минского, пусть в своей тюрьме читают преступные сыны отечества, которые поехали не в ту степь пасти овец…
НИКОЛАЙ МИНСКИЙ
псевдоним Николая Максимовича Виленкина
Жил с 1855 по 1937 г.
Сегодня, 17 июля 1980 года, мне эти стихи нравятся бесконечно.
Отправила в тюрьму, переписала в Дневник. Эти стихи подарил мне геодезист Лев Иванович Жмуров, когда я в прошлом году жила в его комнате по Ананьевскому переулку и искала работу в Москве. Добрейший Лев Иванович за три с половиною месяца проживания взял с меня символически всего десять рублей, доверил книги, вещи.
Где теперь милый Лев Иванович? Уехал ли с женою в Алжир? Надо со временем его разыскать и поблагодарить за все. А его друг Никита Плаксин восхищался воображением Грина, разговоры о литературе сводил к Грину, не мог он без любимого писателя спорить, доказывать. Благодаря Никите Михайловичу я заново возлюбила Александра Грина. Жмуров составил список античных авторов для моего самообразования, советовал читать словари просто так, для своего удовольствия. Читать для удовольствия узнавания.
18 июля 1980 года
Якутский борец
Мы провели интернациональный спортивный вечер, посвященный Олимпиаде-80 благодаря Степану Попову, моему соседу сверху. Степан Попов — якут, чеканщик и спортсмен, живет временно в нашем общежитии, как художник-оформитель. Степан вырос сиротою: в школе-интернате учился, затем закончил детскую спортивную школу. Нынче осенью он поступает учиться на чеканщика в Костроме. У него есть брат — философ, выпускник МГУ. Самое драгоценное у Степана — это золотой характер, редкий, завидный характер. У него множество хороших друзей-спортсменов. Знает моих земляков-спортсменов. Так получилось, что меня, бурятку, якут Степан Попов познакомил с моим земляком — боксером Александром Дугаровым и сфотографировал нас на память! Олимпийский чемпион якут Роман Дмитриев в знак встречи подарил мне свою фотографию с моим земляком Зоригтуевым — подписал автограф: Алтан Гэрэл!.. Этот чудесный Романчик — чемпион мира по борьбе в наилегчайшем весе. А другой борец — друг Степана — серебряный призер Монреальской Олимпиады. У этого борца интересная судьба. Вырос круглым сиротою, родом из детдома, окончил детскую спортивную школу и пошел в гору…
Советская сборная команда борцов, куда входил якутский борец, была принята в Белом доме Президентом США Картером. Ах, Джимми, Джимми! Тридцать девятый Президент в общении подкупающе свободен и талантлив. С нашими борцами он символически глотнул виски из горлышка бутылки и закусил огурцом. А как Президент мог себя вести с тупыми спортсменами?! Когда гуманист Чехов в одном рассказе черным по белому пишет: «тупой, как якут». Сейчас якуты не так уж тупы. Я познакомилась с якутом — аспирантом МГУ, биофизиком, который учится у Капицы, о, вот где я была тупа! что пером не описать всю мою непроходимую тупость!
Якутский борец по-своему туп, читает очень мало. Вся жизнь почти до тридцати лет прошла в сплошных тренировках, схватках. У борца сломаны шесть пальцев, три ребра и оба уха… Но основное в нем — хребет — уцелел, и сейчас он работает тренером в Алма-Ате. Жена у него врач-педиатр, умная, добрая, любящая, страдающая… Вместе с нею росли в детдоме, учились вместе. Дочь у него занимается художественною гимнастикою, девочка уже кандидат в мастера спорта. Сынишка маленький, борец его шутя назвал Афоней…
В каких только странах не боролся якут! Увидел весь мир.
— Когда стал Олимпийским чемпионом, нашлись даже кое-какие дальние родственники, а до этого был круглым сиротою, — доверительно, с мягкою иронией улыбается мне он. Весь вечер с явною симпатией он держался рядом со мною, у Степана за столом сел рядом, рассказал случай, что в каком-то студенческом общежитии в Москве две якуточки из-за него подрались, поругались, а были закадычные подружки. Ох, какой самонадеянный, какой самодовольный мужик! Он в диком восторге от самого себя! Видимо, он живет на широкую ногу, помогает всем нашедшимся дальним родственникам и ему очень нравится поддерживать, опекать их. Степану Попову — другу по ДСШ до сих пор помогает.
Этому тренеру сейчас тридцать два года. Жену извел, видать, раз она плачет, кричит на него, что он — «страшный человек!» Видимо, из-за девок, которые будто бы дерутся вокруг него? А за что собственно дерутся-то? Эдак можно тоже поломать себе пальцы, ребра и уши… А стоит ли его феномен таких жертв и адских болей?
В этом новом общежитии более года живу без штор на окнах. Завтра Олимпиада, а шторы воспитателю так и не дают. Живу хуже, чем мои «проживающие» — девушки. Зато у меня в окне загар, а в кармане дым!
19 июля 1980 года!
Какой напряженный, чудесный и полноценный день был у меня! Моя землячка Валентина Дашиева покрасила мне волосы на ночь хною, заварив чифирь индийским чаем. Волосы у меня густые, а теперь отяжелели от краски, огрубели, словно конская грива, зато блестят и переливаются ореховым, сочно-коричневым цветом раздавленной ягоды черемухи. С утра нарядилась в белое праздничное шелковое платье в бордовый горошек, с темно-бордовыми пуговицами до пояса. Это легкое платье с оборками молодит меня лет на пять, я иду и танцую, а так хочется побежать, пробежаться в Лианозовском парке среди деревьев, будто вновь мне двадцать лет!
Сегодня мы смотрели по телевизору открытие Олимпиады, все были в счастливом восторге от показательной программы!
Сегодня я, как никогда в жизни, чувствовала себя гражданином и дочерью великой Страны Советов! Это священное чувство величия Родины настолько переполняло сердце, что невольно вылилось в слова восторженной любви в заполненном до отказа красном уголке общежития, и девушки испытывали то же самое чувство, выражая его аплодисментами.
Вечером якут Степан Попов, который славится золотым характером, пригласил нас в свою временную квартиру на Олимпийский ужин. Вчерашние гости Олимпиады привезли литовский джин из Олимпийской деревни, провозгласили тост:
— За самую лучшую в истории Олимпиаду — за нашу Московскую!
Я залпом выпила мягкий и приятный джин от радости.
Пусть навсегда запомнится этот счастливый день открытия Олимпиады-80!
25 июля 1980 года!
Гимн мужчинам!
До изнеможения, до одури смотрю Олимпийские игры по телевизору и на стадионах. И многому учусь. О, какое наслаждение! Как обогащает Олимпиада нашу жизнь! Моя жизнь в эти дни, как никогда, интересна.
Я зорко распахнула глаза и будто увидела всю борьбу миров. Увидела всю телесную мощь и красоту Мужчин сверхбожественных, их величие Духа — разведчиков Человечества. Какой чудовищный, смертельный, самоотверженный натиск у Олимпийцев!
Сгорают мужчины метеорами яркими, осветив все вокруг! О, как невозможно не любить их, не жаждать! Навсегда обездолена та женщина, у которой не было мужа, возлюбленного, Друга. Эту потерю не может восполнить весь земной шар со всею гуманною мудростью веков! Без сладостного внимания мужчин и женщина не женщина, не поет душа, не танцует тело, меркнут очи от книг. Женщину делают великою только усилие настоящих мужчин!
Боже мой! Сколько прекрасных мужчин сгорают от водки гадкой, от никотина, что убивает лошадь! Живут на износ мигом единым. А бедные женщины живут долго, как Вера Корнеевна Худокормова, и живут ведь плохо, хуже, чем мужчины. Как утомительно и нудно живут женщины, как много они страдают, болеют, терпят! Наши куриные мозги не дали Человечеству ни одного великого философа. Тьфу!
О, нет! Я не хочу быть ни мужчиною, ни женщиною! Я хочу быть всеобъемлющим человеком, иначе с тоски можно погибнуть… Допустим, что я доживу до семидесяти семи лет и прочитаю сегодняшний бред и что я подумаю о самой себе, драгоценной?!
31 июля 1980 года!
Чем интереснее и богаче моя жизнь, тем хуже пишу Дневник. Да и так ли нужно писать его, как я? Дневник должен стать хранилищем сокровенных тайн сердца, а не фотографией мелькающих лиц вокруг. Кстати, о лицах, — нужно собирать Лица великих людей, чтобы смотреть в них, как в непостижимое влекущее лицо Джонатана Свифта. Величие, мудрость, гений, страсти, неистовый дух борьбы и роковые тайны вылепили это прекрасное лицо феномена. Выразительнейшее лицо Свифта— это всеобъемлющее зеркало всего лучшего в Англии того времени. Я бы часами созерцала такие лица живых великих людей, чтобы постичь драгоценные тайны их сердец.
Что есть все эти Олимпийские сражения сильнейших мира?
Заражение миллионов красотою побед и выходом за пределы своих сил? Вчера поляк Козакевич прыгнул с шестом 5 метров 78 сантиметров. И я со всеми бесновалась на стадионе, словно сама прыгнула выше собственной головы! Но кто знал, что Сергей Бубка 24 июня 1987 года прыгнет шесть метров и три сантиметра!
Феномен человека — стремление к бесконечному совершенству, иначе он не может! Вот что за чудо есть Человечище!
Да, Олимпиада причастила меня к тяге Человечества ввысь.
Но как долго нет желанных писем от Мелентия! Тюремные мыши съели его письма? Крупы им не хватает.
Как поет сейчас по радио наш бурятский молодой певец Болот Бороев на пределе певчих сил! И я чую дрожь пальцев его рук, искры катящегося горячего пота по вискам, вулканический вылет воздуха из ущелий гортани и тело, все сотрясающееся от пения.
Говорят, что поющего соловья можно взять в руки!
Кто одел голого, накормил голодного, посетил заключенного, тот меня одел, меня накормил, меня посетил.
Евангелие
Съездила в зону усиленного режима в Чикшино Коми АССР к своему заочнику Мелентию Семеновичу Мелеке. Да опиши ты всю правду, как она есть, ведь за это никто тебя в тюрьму не посадит! Каким чудом я отпросилась с работы на неделю за счет отгулов, заработанных в дни Олимпиады! Тайно договорилась с директором общежития Тиною Ширшовой, которая жаждала заполучить от меня подарки и вытребовала угрозами адрес тюрьмы, фамилию, имя и отчество того, к кому я поехала в виде расписки с подписью от 27 августа 1980 года для перестраховки и шантажа…
— А если мне прикажут срочно отозвать воспитателя из отгулов?! А если у тебя в подъезде случится ЧП со смертельным исходом?! Мне необходим точный адрес, чтобы срочно вызвать тебя телеграммою в случае чего! А если тебя там изнасилуют?! Или убьют тебя?! Мне за тебя отвечать головою, в тюрьму садиться! Ты это понимаешь?! — орала красная как мак Тина Котовна.
— Честное общежитское слово! Вернусь живою и расплачусь с тобою валютою!
— Валютою, — передразнила меня Тина, — которая плавает в унитазе!
Известный писатель Евгений Михайлович Богат помог мне получить командировку в зону усиленного режима через журнал «К новой жизни». С паспортом, временно прописанным на койко-место общежития по лимиту, где не указаны ни квартира, ни комната, я пошла в Политотдел МВД СССР на собеседование. Журнал мне оплатил командировочные сто рублей, в Политотделе помогли купить билет по брони. Подруга Гэсэгма Очирова посадила меня в поезд, помахала рукою! Чемоданы туго набиты, словно камнями.
Эх! Что меня гонит в тюрьму северную?! Назовем это чувство заочною любовью или жаждою любви великой… Ее мне среди суеты и Лимита не найти никогда. Может, в тюрьмах она заточена и раскаленными железными когтями скребет стены? Как прекрасно сесть в поезд с сердцем полным ожидания любви и счастья! И так счастливо мечтается в дороге без забот! Чуть не написала без страха… Страха в сердце нет, лишь сомнения точат, как черви яблоко познания.
Вперед, мой поезд! Прекрасны все виды из окна, даже с уплывающими назад уборными… движение красит нашу жизнь. И чай красивее, и краснее вкусом, чем в застое, в нем сотрясение бурлит. Устали глазки? Точи язык, как кинжал, говори что хочешь, тут все свои на сутки, трави любой анекдот, задавай глупые вопросы — ответят, все простят. И смейся, наконец, беззаботно, как богиня, поезд скорость набирает! И не упадет, как самолет! Сойдет он с рельсов — не беда, очухаемся, встанем все, пешком пойдем на север. Возьму каменные чемоданы в руки и поперла вперед! С семнадцати лет езжу по стране с такими чемоданами одна, не надорвалась, как сильна я, как паровоз! От Сахалина до Кишинева, от Ялты до Печоры изъездила Родину свою.
Алтан Гэрэл — мятежная душа, сатанинская кровь, львиное сердце! Самостийный странник! Все будет о’кей!
Жизнь, товарищ, заваривай —
И расхлебывай сам!
Кажется, Михаил Шиханов в Бурятии выдал эти радостные строки.
Это было 29 августа в полдень, когда я с содроганием увидела всего змея во всем переплетении круговерти ада:
Разваренный змей ползал, извивался, Замороженный змей застыл вечным льдом, Высушенный змей рассыпался сухою чешуей и перхотью. Ни капли крови не было у змей,
А сердце билось кровью всех кровей.
Таким я увидела впервые Мелентия Мелеку в комнате свиданий.
Исчадие ада ни о чем не говорило, оно молчало, оживало, дыхание согревалось, сердце у него набухало, росло, казалось, что это существо искало самого себя. Коксующийся уголь разгорался! Я дала ему махровые носки, две пары привезла ему, он тут же надел сверх своих изорванных, синтетических. Заварила кофе, подала ему в большой алюминиевой кружке, что стояла на столе, испытанная, с несмываемыми пятнами во вмятинах, обжигающая голодные губы до пузыринок! Зубы Мелентия, забронированные каким-то легким металлом от крошения, стучались о края кружки. Оказывается, что мастера-зэки из медицинских банок куют себе коронки. Боже, как Мелентий пил запретный кофе, словно нектар небесный! Мы чокнулись шоколадом «Вдохновение» и потихонечку, как мыши, погрызли сладострастные тающие дольки, но расплавленный шоколад застревал у меня поперек горла. Как мне страшно и стыдно было невольно глазеть на изуродованные руки, похожие на пепельные куриные лапки в чешуе! Ноготь на левом мизинце раскромсан, искрошен словно ювелирными щипцами неизвестно зачем-то…
Свежебритая голова выпирает белизною капусты, худое изможденное лицо горело каждою порою, освещенное любовью, как лицо художника-подвижника. Огромная бордовая бородавка, как перезревшая ягода, села за ухом, эта бородавка, вся в сморщенных пупырышках и узорах, как изюм, вопила всеми дыринками от лезвия нечаянной бритвы, которая может полоснуть толстую горловину паразитки. Мне вдруг захотелось, чтобы на эту наглую бородавку села пчела-матка и ужалила ее насмерть, чтобы она высохла бескровно. А серые ласковые глаза Мелентия загораются, вспыхивают от величайшего смущения и стыда! «Сдалась тебе моя бородавка!» Он снял напульсники со страшных рук, это широкий ремешок для спасения сосудов при поднятии тяжестей. О, как круто вздуты вены, словно веревки переплетенные, кажется, что вот-вот они лопнут и кровища зафонтанирует! Мелентий говорит, что у него теперь разжижилась кровь от скудного питания и неволи, от ран кровь сразу не сворачивается, течет ослабшая кровь, как водица… О, господи! И кровушка-то в нем отощала, а в ком-то до того зажирела кровь, загустела, что не капнет ни капельки. Переливать цистерны жирной кровушки угнетателей ослабевшим нищим людям серебряными черпаками…
И сидит бледный Мелентий в монашеском черном одеянии, но пылает желанием, жаждет ласки, алчет сердце слияния! Какая священная концентрация всех земных желаний пылает и кипит в нем! Священный пламенный экстаз жизни клокочет, как сгусток нектара в переполненной чаше любви годами неволи страшной. Пей без дрожи, не беги, как заяц от удава! Подними бокал нектара, как вызов небу самому, пусть видит одноглазое Око, одеяло дырявое, простыни серые в заплатках, полы немытые, матрас изодранный — о ложе моей невинности не в розах белых, голубых… Все мы обмануты миром, самим человечеством отравлены. Что есть святость? Это противостояние подлому рассудку, всей земной косности назло действовать сердцем своим. Пусть целует убийца меня до дыр и будет счастлив несказанно! Что судьба? Сегодня правлю я судьбою. Не удирать же теперь, еще повесится горемыка-зэк, не совершу я грех. Какие иссера-серые глаза и какая обезоруживающая искренность! Как все это странно, не глуп ли он? Все мы люди глупы непостижимо. Угощает он дольками шоколада и апельсина, ошкуривает, в рот мне кладет. И какие робкие, виноватые движения этих роковых рук!
И как будто онемел Мелентий от моего очного явления…
— Господи, ты, что ли, со мною переписывался? — спросила я прямо.
— А кто же? А теперь сгораю со стыда, — ответил он искренне. Голос его звучал слабо, мягко, взгляд выклянчивал величайшую милостыню любви, и мое женское сердце дрогнуло. Какою будет жестокостью и обманом, если сейчас же сбегу, бросив ему набитые книгами и продуктами чемоданы, ими он и не интересуется вовсе. Мелентий же будет обманут всем миром, самим Человечеством, чтением самого Гельвеция «Об уме», «О Человеке»…
Да вот же Он — человек перед тобою, с которым ты — воображуля — переписывалась столь страстно, искренне… И не надо искать другого Человека в иных мирах, в чужих странах. Мы с опаскою, каждый со своим страхом поочередно поглядывали на серые, застиранные до дыр простыни на кровати, стопкою лежащие на темном ветхом одеяле. Мелентий волчьим нюхом голодного чуял, что я сейчас удеру и он никогда больше меня не увидит в жизни, он ловил мое дыхание, каждое невольное движение, напряжение, расслабление, запах, чувствовал меня всю. Да, этот Дом свиданки прилегает к зоне, к самим воротам тюрьмы, охраняется часовыми.
Что будет сегодня с нами? Что будет с Мелентием, если я сбегу?
— С моими руками только помирать, — вымолвил он робко, с бесконечным смирением, уже приговоренный мною…
Я встала из-за стола. Мелентий встал и подошел ко мне близко-близко, виновато взял мою руку на прощанье, прижал к щеке своей пылающей, зажмурил глаза… И я неожиданно от огромной женской жалости, раздирающей меня, погладила его худое, изможденное лицо, которое согревало мои окоченевшие руки.
………………………………………………….
— Во-во-во! Смотри! — живо и трепетно позвал меня Мелентий к окну, я подошла и через приподнятую штору увидела осужденных, прибывших из леса под конвоем с собаками. Открыли ворота тюрьмы, а их по одному быстро, профессионально обыскивали перед воротами, они по очереди подходили в сапогах, ватниках, в шапках, поднимали обе руки вверх. И я видела, как формально скользят руки по бокам, как смягчается обшаривание. Глядя на них, на своих товарищей, Мелентий возбуждался все более, словно боялся, что на моих глазах произойдет при обыске оплошность и обнаружится что-то недостойное, спрятанное.
Это был момент, когда сгущалось безобразие среди черно-серой массы заключенных со съеженными лицами. Ручным обыском ничего не нашли, только воздух был взбаламучен, передерганы мрачные лица согбенных невольным трудом. Занавесили изыски обыска и сели за стол переговоров… с алюминиевыми кружками, обжигающими голодные губы.
До захода солнца пришел замполит за мною, чтобы проводить меня в гостиницу ИТУ. Я сидела уже одетая, в осеннем пальто, поджав ноги от холода, завязавшись коричневым крепдешиновым платком с кистями. Замполит с подозрением несколько раз взглянул на стопку сложенного белья на ветхом грязном одеяле. Со стола он убрал фольгу от шоколада, как следы неположенных продуктов.
— Гражданин начальник! Осужденный Мелека провел свиданку нормально! — доложил Мелентий при мне, и я впервые рассмеялась в тюрьме.
Мелентий, словно воскресший Христос, шатаясь, ушел с моими чемоданами, не оглянувшись, не попрощавшись. Со странною обидою я проводила его глазами, пока он не исчез из коридора.
Мы с замполитом бодро зашагали к гостинице. Настроение у меня улучшилось, мучительные запахи простыней развеялись от ходьбы.
Какое облегчение освободиться, избавиться от чугунных чемоданов, растянувших мне руки! Осталась только боль в мышцах…
Расконвоированный осужденный Глеб Тягай служит в этой гостинице со всею страстью. Ему пятьдесят пять лет. Теперь он отмечается в зоне с 12 до 14 часов, а в остальное время мечется как угорелый, крутится, кружится, убирает, рубит дрова, носит воду, топит баню для начальства ИТУ, копает картошку, варит для постояльцев, собирает грибы, ягоды, удит рыбу, сторожит все вокруг… О, как несется гончею Глеб Тягай — резвее всякого молодца! «Для лихой собаки — семь верст и в колонии не крюк». Бегает по утрам, тренируется, чтобы не ослабнуть, не опуститься. Тягай затопил баню для начальника отделения, и я успела попариться в ней, смыть грязь от Москвы до Чикшина. Неутомимый Глеб сварил свежую картошку, принес молока в трехлитровой банке от коров подсобного хозяйства, хлеб со склада, поджарил хариуса. Подкармливают на всякий случай — вдруг окажусь членом какой-нибудь комиссии? И Глеб Тягай не ужинает со мною, сколь его ни зову. Умер его отец, которому было восемьдесят лет, получил телеграмму от жены, выпил немножко, помянул украдкою, зеленые глаза Глеба поблескивают. Вспомнил он, как мать надела ему на шею серебряный крест, как благословение.
— Крест был из чистого серебра, и я запаял его в свинец, чтобы сявки[17] не позарились, Отняли падлы, нюх собачий! Шмонают так, свинец насквозь видят, сявки! — и от возмущения Глеб Тягай плюнул в горящую печь, плевок шаркнул по алым углям и взорвался нежными лепестками пепла. Черными задубевшими пальцами отер влагу с уголков глаз, жара пышет у печи, разомлел Глеб Тягай, но рад ли необычному собеседнику? Не знаю. Бывает, конечно, выпьет он украдкою остатки водки из стаканов, когда захрапят офицеры, ведь ему надо убраться, вымыть посуду, закрыть печь без угара. И жена к нему приезжает каждый год с пирогами, жена его любит крепко, ждет не дождется своего расторопного мужа, слава богу, год остался кочегарить! Деньги у него на лицевом счету не переводятся. Вернется домой, отдохнет за все девять лет, «брошенные шакалам под хвост», будет только жену кочегарить да спать сном медовым.
— Наишачился бессловесно, что говорить разучился! — и Глеб Тягай, зажмурившись, разглядывает свои деревянные черные руки в мозолях.
Он подравнивает угли множество раз, сдувает с них пепел, боясь закрыть печь с угаром, задвинул заслонку не впритык и наконец-то уходит ночевать к себе в халупу, а я закрываю дверь на железный крючок и сваливаюсь.
Ночью меня мучили умершие родители упреками, криками и слезами:
— Свет души нашей — Алтан Гэрэл! Кто из нас мог предвидеть такой позор, что попадешь в тюремные когти-клыки?!
Мне было мучительно жалко рыдающих родителей, и я не находила ни одного слова для оправдания своего сердца, которое надрывалось невинно.
1 сентября 1980 года, понедельник.
Что такое «Личное дело» осужденного? Фотографии Мелеки, снятые анфас и профиль в первые месяцы после преступления, бритый, в черном, необычайно возбужденное лицо с невольною полуулыбкою при вспышке. На снимках надписи — Мелека. Волосы чуть-чуть отросшие. Отпечатки всех пальцев. Его приметы: рост 1 метр 77 сантиметров, размер обуви 41, глаза — серые, особых примет нет. А бородавки, которую потом, будущим летом ужалит пчела-матка, нету… Здесь хранится его аттестат зрелости с хорошими оценками. Актов об отказе от работы у него нет. Зато сколько фотографий пляжных женщин, которые прислали его глупые братья и дружки, хранятся в личном деле надежно в несгораемом сейфе! У меня зудели ногти, чтобы изорвать их в клочья и спалить в печке!
Вырвется на свободу и получит в подарок кучу пожелтевших фотографий давно состарившихся чужих женщин, которые вряд ли узнают его, если и суждено им встретиться после двенадцати лет заключения!..
Пошли с замполитом в гости в секцию, где нас встретил Мелентий с завхозом. В секции барака живут около тридцати человек, двухъярусные узкие железные кровати аккуратно заправлены, матрасы со всех сторон обернуты темно-серыми старыми одеялами. В плоских подушках я прощупала затвердевшие комья ваты. Вот где, други, коммунизм при бедности! На двоих положена одна тумбочка, в тумбочке хранится все богатство осужденных: письма, конверты, тетради, учебники, книги, полулысые зубные щетки с редкою щетиною…
Мелентий показал мне мои же письма, подшитые, такие донельзя истрепанные, облапанные, почерневшие, что мне стало жаль себя. Какая у меня популярность в каталажке! Мелентий достал свой драгоценный альбом, который частенько спасает от пожаров во сне, первою показал Алису Васильчук с сыном на руках — существо необыкновенно женственное, славное и легкое, лицо с лучезарною улыбкою обращено к сыну, ребенок в тяжелом пальто и в мохнатой шапочке так и давит, тянет вниз грациозную легкую фигуру матери. Алиса стоит в черной кофточке с горлышком воланчиками и белом сарафане с пуговицами. Как странно, что такое летучее очаровательное создание двадцати двух лет потеряло всякое желание жить из-за гнусных безмозглых кобелей, пьяных самцов вокруг… бросила сыночка на произвол судьбы, а на фотографии с таким обожанием к нему устремлено ее мягкое, нежное, сияющее лицо матери! Оно такое беззащитное в этой чистой улыбке…
Ну, Стелла Петровна, здравствуй! Угловатая, худая, жилистая, светловолосая, умнющее лицо с лучистыми глазами, просящими, лукавыми, цепкими, полными скрытых страстей. О, такие сразу не теряют волю к жизни, у нее на крепком лбу словно светилась печать долголетия! «Какие разные женщины были у Мелентия», — и я невольно сравнивала себя с ними.
— А теперь обнимаю батарейку теплую, по блату! — говорит. Он спит в углу, в почетном, завидном месте рядом с батарейкою.
— А где же пузырь Руслан Безкаравайный-то?
Отец показывает Аленушку, вылитую себя, Неллечку — копию Стеллы Петровны и Русланчика — братика своих дочерей.
И как-то не сразу замечаю, что Мелентий сегодня нарядился в новый черный молескиновый костюм, видна белоснежная майка-сетка из-под лацкана, голова свежа, как капуста на грядке, может, за ночь дружки ему вновь обрили голову? Он пьян от счастья и. может, кричал среди них: «Лафа!» Вчера вечером устроил праздник в секции, раздал всем по помидору и по головке чеснока, а самых близких угостил апельсинами и салом.
Но что творится в этих секциях зимними долгими вечерами, когда по тридцать преступников предоставлены самим себе и никакое Око не проникает через щели? Аккуратно вытянутые одеяла хранят их лежбище, ждут укрыть их от холода, голода и всех тюремных бед. Откуда получают эти вытянутые в ниточки одеяла? Наверное, одеяла БУ поступают в тюрьмы. У нас в общежитии новые хорошие одеяла коменданты и директора обменивают на свои старые, конторские крысы обворовывают рабочих в общежитии безнаказанно, новую мебель. выделенную лимитчикам, везут на свои дачи.
Пошли мы с замполитом в столовую колонии, которая сотрясалась от топота сапог и грохота металлической посуды, которую швыряли, словно для стука, шума и грома в спектакле художественной самодеятельности. На кухне, где работают повара, мне дали поужинать. Я съела густой вкусный-превкусный борщ, только от кусочков мяса у меня в зубах скрипел песок, который я извлекала ногтями, боясь выплюнуть на грязный пол. Вот такие грязные, жирные полы черною водою моет Глеб Тягай, копает картошку, и потому руки у него почернели, как угли, сгорели на черной работе. Перловую кашу с подливой съела с удовольствием. Может, повара мне отвалили из своего котла? Мне, голодной лимитчице, и тюремная пища вкусна, ей-богу! Но вечен ли мой волчий аппетит?!
Небольшая библиотека тюрьмы завалена общественно-политическою мертвечиною, утопает в макулатуре, которую не читают. Мало художественной литературы, может, хорошие книги на руках, я откопала для Мелентия «Доктора Фаустуса» Томаса Манна, «Во сне ты горько плакал» Юрия Казакова, «Повесть о лесах» Паустовского.
Какая крупная голова у Иванки, которого зэки окрестили Мифом. Алименты надежно оседлали мужчин, как двугорбых верблюдов, и погнали на грехи ловкие… И только в тюрьме за колючею проволокою не сбежать им от алиментов! Так и вижу мужчин двугорбыми верблюдами, где восседает Его величество Алимент с Указом, пугая одиноких женщин, скачет бессмертный черный всадник без сердца, чтобы накормить силою брошенных детей своих. Если бы тот гуманист, который изобрел волшебные алименты, увидел и услышал все визги, слезы, мольбы, обманы гениальные и преступления, которые взбаламутит черный всадник, всю подлость этого вынужденного блага для детей, то ужаснулся бы от вечного роста семени гнилых плодов.
Бледное лицо убийцы словно вытягивается от моих мыслей, с готовностью свалить весь черный грех на гнилые плоды, питая корни своею кровью. Шершавыми, как наждак, руками в ссадинах Миф ищет, достает свой Цитатник из шкафа. Завидным, блестящим мужским почерком, недоступным женским скользким перстам, выписывает он мудрейшие мысли из всего прочитанного:
«…что за редкостный дар уменье держать себя! Сколь трудно его определить, сколь несравненно труднее к нему приобщиться! Оно важнее богатства, красоты и даже таланта, с избытком возмещает их и не нужно, пожалуй, только гению. В этом искусстве нужно совершенствоваться неустанно, сосредоточивая на нем все внимание, не щадя сил. Тот, кто достиг в нем наивысшей ступени, то есть: кто умеет применительно к цели очаровывать, проникать в душу, убеждать — тот владеет сокровеннейшей тайной дипломата и государственного деятеля, тому нужен лишь благоприятный случай, чтобы стать «великим», — читаю вслух слова Бульвера-Литтона из неизвестной мне книги «Пелэм, или Приключения джентльмена».
Мелека смотрит на всех с завистью, замполит с гордостью, а Иванка просит прочитать отрывок из «Опиомана» Де Квинси, тоже мне совершенно неизвестного:
«Я всегда ставил себе в заслугу, что умел непринужденно more socratico, беседовать со всеми людьми, — мужчинами, женщинами и детьми, с которыми сводил меня случай; — привычка, благоприятствующая познанию человеческой природы, развитию добрых чувств и свободных манер, которые подобают человеку, желающему заслужить имя философа. Ибо философ не должен смотреть на вещи глазами жалкого ограниченного создания, именующего себя советским человеком и набитого узкими эгоистическими предрассудками; он должен, напротив, видеть в себе поистине вселенское существо, находиться в общении и отношении со всем, что выше, и со всем, что ниже его, и с образованными людьми, и с людьми, лишенными всякого воспитания, с преступными, как и с невинными»,
— Иванка, — прошу я Мифа, — подарите мне эту цитату— вашим каллиграфическим почерком на память! — и протягиваю блокнот как для автографа. Кажется, только смутно начинаю понимать, почему его окрестили Мифом. Да помогут нам мудрейшие мысли при всех исходах судьбы! Сейчас Иванке тридцать лет, выйдет на поселение в 1986 году. Его ненавидят заключенные, и ему особенно одиноко и тяжело живется меж двух огней — «гадиловкою», которой надо угодить, и преступниками, которые открестились от него столь загадочным презрением. И сжалось сердце от злосчастной судьбы бывшего фельдшера, над которым теперь глумятся в тюрьме. Еще ребенком я не могла видеть, как пацаны камнями забивают змею насмерть, убегала. Было страшно и жалко божью тварь, где билось сердце!
— Все руки и ноги наши в невидимой красной крови горят! — говорила моя бабушка. — Сколько невидимых насекомых убиваем, размахивая руками!
Эта невидимая красная кровь, льющаяся рекою вокруг нас, навеки запечатлелась в сознании пятилетнего ребенка.
3 сентября 1980 года, среда.
Как мне описать тюрьму в тюрьме?! Эту дыру в дыре, заткнутую парашею, этот фурункул на фурункуле, где мозги людей гниют от собственного дерьма. Желто-зеленые, гнойного цвета люди задыхаются в жутком смраде параш. Я на миг задохнулась, меня затошнило, навернулись слезы удушья — закрылась платком и вышла. Этих злостных нарушителей лучше бы заковали в цепи, как прежде при царизме, но оставили на воздухе. В сутки полчаса прогуливаются эти несчастные строптивцы, их выводят в узкие проходы, накрытые сверху железною сеткою, вокруг изолятора. Им носят какую-то бурду-баланду, которую не станут лакать собаки наших господ. Вот так строптивых преступников усмиряют парашею, превращают их в живой гнойник. Не гуманнее ли их сечь розгами?! но чтобы они дышали воздухом, а не испражнениями. Общество должно проветривать собственные тюрьмы, как свои туалеты в квартирах!
Я надевала наручники. Говорят, что есть такие силачи, что с треском рвут их. Зачем я надевала наручники? Прошли те времена, когда декабристы своим женам из кандалов ковали браслеты… Ну, мои слабые руки не разорвут наручников, тюремщики быстро сняли их с рук моих. Но откуда у меня, все-таки женщины, эта дьявольская попытка разорвать железо, как символ рабства?! Вони нанюхалась?
— И за что упекли их в штрафной изолятор? — не раз спрашивала я тюремщиков, но никто не пожелал мне ответить, даже Мелентий и Глеб Тягай отмахнулись тем, что сами они сидели там…
— Даром, что ли, «затрюмовали» их?! — нервничал капитан.
По какому моральному праву я должна проникать в эти дыры дыр и разглядывать человеческое несчастье? Зачем взвалила на себя миссию философа? Стыдно. За что эти купоросно-зеленые люди месяцами дышат смрадом параш? Вот они самые цветущие фурункулы на нашем теле. Гнойные реки вспять потекли в болота.
В условиях засорения сознания собственными испражнениями заживо распадаются люди на гнойные трупы.
А тот узник, которого я видела в первый день приезда в доме свиданий, был белым, как выщербленная меловая скала. Пятнадцатый год несет наказание затяжное телесное увечье, нанесенное председателю сельсовета при исполнении служебных обязанностей. Самый изнурительный последний сверхадовый год. Улыбка у него нечеловеческая. К нему на свиданку приехал брат, готовили они еду на кухне общей. Почти таким же выйдет на свободу Мелентий, если отсидит свои двенадцать лет. У этого, с нечеловеческою улыбкою, статья не подлежит помилованию. Рассказали случай, когда подобный преступник совершил побег, хотя ему до освобождения оставалось всего шесть дней!!! Говорят, что сроки наказания должны укорачиваться, а режим содержания ужесточаться. При этом разговоре Мелентий не выказал ни малейшего удовольствия: «Отобьют почки». Может, его били?
Разок он сидел в изоляторе. Ночами воевал врукопашную с клопами, кишащими в облачении. Вся одежда была набита вшами да клопами и шевелилась… Измученный и угоревший от гадкой вони перебитых кровопийц, он вздремнул под утро и видел во сне летящие вихри клопов. От вихрей клопов загорелись нары, и он проснулся, гася пламя, хватал клопов по телу. Все лицо, все тело вспухло от волдырей: «Как будто перенес оспу наоборот, вспухлины вместо ямочек».
— Эх, Мелентий, Мелентий! Весь расписной, как персидский ковер! Зебра поблекла бы рядом от зависти. Может, сердце у тебя тоже в татуировке?
— Татуировку, говорят, снимают лазерным лучом, остаются белые следы игл, которые лечат вытяжкою из бычьего семени, даже шрамы удаляют, — вспыхивает Мелентий, багровеет от стыда. — Мать продаст кабанов, хватит расплатиться!
Удивительно, как незаметно и вдруг похорошел Мелентий за неделю! Видимо, каждый вечер мажется моими кремами, душится моими духами «Серебряное копытце». Глаза иссера-серые сияют, стал артистичным, шутливым, юморным, комично дразнит своих «кентов», «ментов». Он все просит достать ему книгу Ахто Леви «Записки Серого Волка», сам записал мне в блокнот, чтобы я не забыла. А я такую книгу и не встречала сроду.
И как заговоренный повторяет он одно: «Любил я Алису безумно, выйду — пойду на могилу. Месяц буду приносить свежие тюльпаны, она любила тюльпаны!» — и Мелентий, неожиданно переменившись в лице, потер себе грудь слева.
Алтан Гэрэл — Золотой Свет! Это имя тибетское? Или монгольское? А твою мать звали Палма — что означает Магнит? Теперь я верю в магию и тайну имен. Тебе ведь недаром Судьба подарила лучшее имя на свете — Алтан Гэрэл. Ты для меня — золотой луч солнца, который надо заслужить. Иногда он клянется. Может, все осужденные любят клясться? Они любят детей, животных, цветы, фотографии красивых женщин, любят мечтать. Конечно, все это смягчает суровые условия тюрьмы.
Во многих именно в тюрьме просыпаются дарования, отыскиваются мастера на все руки. Изготовление, создание разных вещей, резьба, чеканка, рисование, выжигание, созидание шкатулок, ножей, авторучек, портретов детей и родных, сочинение стихов, учеба по разным специальностям, чтение книг, самообразование— вот далеко не полный перечень тюремных дел и забот. Каждую неделю в клубе показывают им кино. Выписывают себе газеты и журналы.
А какой ярый, кондовый у них язык! Порою зэки выдают гениальные по экспрессии выражения, в точении ляс рождают шедевры.
У работника ИТУ я тайком достала «Перечень жаргонных слов и выражений, употребляемых в устной и письменной форме преступным элементом», назначенный для служебного пользования. Вечерами в гостинице я успела полностью переписать его в общую тетрадь. Раз приехала в тюрьму для полноты познания жизни, изучай матерый, смачный язык. Переиначив все по-своему, зэки не оставили в покое и самое солнце, обзывают его «балдохою», «блатным шариком». Солнце им светит, видать, по блату.
Визжало — сало. Здорово! Жаришь сало, словно поросенок визжит.
Ловить сеанс — смотреть на проходящую по зоне ИТК женщину. Вот за мною они «ловят сеанс» и наслаждаются, жадными голодными очами раздевают. Бедные мужики! Жалко их.
Лохматый сейф, мохнатая кража — акт изнасилования. Да, дорога плата за вскрытие мохнатого сейфа, до десяти лет усиленного режима без помилования за миг животного удовольствия!
Молитва — Уголовный кодекс; Правила внутреннего распорядка ИТУ.
Мотороллер — вставленные, вживленные в мужской половой орган инородные предметы, «жемчуга».
Мочи рога — убегай, скрывайся; не уговаривай на признание.
А наш комендант общежития Одноглазова Зойка-психопатка орет на пьяных рабочих: «Скоты! На рогах приползли!» «Жри жопой!» Боже, Зойка не очень-то отстала от зэков, умеет она «на фене ботать», еще как!
Обрыв Петрович! — побег из ИТУ.
Светлана — умывальник. Как светло и поэтично именован у них рыломыльник!
Селедка — галстук.
Солнце в мешке — обман.
Ряженка — водка.
Чешуя— белье.
ЧТЗ — рабочие ботинки, выдаваемые осужденным. Видимо, эти ботинки славятся особою, железною прочностью.
Железный фрайер — трактор.
Шпаргалка — справка об освобождении из ИТУ. Без шпаргалки из тюрьмы в лес не шагнуть.
Рогомет— человек, совершающий преступления и не задумывающийся о последствиях, идущий на любую крайность.
Дать по рогам! — запретить жить после освобождения из колонии в центральных городах.
Шевелить рогами — думать.
Бык-рогомет — хорошо работающий на производстве осужденный.
Все рога да рога, словно пасешься среди стада быков!
Икона — внутренний распорядок в ИТУ. Босиком на коленях уголовники молятся на свою икону?
Звонить в квартиру — убить на стене камеры клопа. Тюрьма богаче всех на земле клопами, вечно «звонят в квартиры».
Фрайер зуб за два шнифта — осужденный, сообщающий администрации о делах других осужденных.
Метла — язык; дневальный по изолятору. Любая дерьмовая метла чище тюремного жаргона!
В «Дерьмовом словаре» тюрьмы деньги богаче всех синонимами. Именно деньги в тюрьме засверкали, заиграли во всем акробатическом, магическом блеске цирка.
Деньги — алтушки, бабки, башли, белки, бобули, бон, время, гульдены, голуби, драхмы, дубы, капуста, колы, лава, лавешки, ловое, натыр, пиастры, пресс, звон, са-раман, тити-мити, филька, фишки, хрусты, чабар, чистоган, фанера, шайбочки…
Я заболела от заразы грязных слов, мразью опутавших меня со всех сторон. Как смертельно я устала, будто перестирала все половики общежития, отдраила поганые унитазы. Зачем-то заложила уши ватою и завалилась спать отравленным сном, охраняемая домовыми гостиницы ПТУ.
И всплыло во сне страшное слово котлован, откуда я никак не могла выкарабкаться. Всю ночь ругала подлых строителей — гениев акробатики, которые на голове ноги строят, а затем из котлована самородок откапывают в дар государству.
Ночью преступники тайно варили золотые монеты всех времен в огромном чане с тысячелетней накипью. Плывет, выплескивается черная, как вакса, густая пена от грязных монет на раскаленную плиту. А монеты прыгают, скачут и звенят в завораживающем сказочном бурлении, золотыми рыбками выпрыгивают из кипятка! Будто сто лет варится этот суп из червленых золотых монет для зэков… Каждый грешник должен проглотить свою горячую монету — и больше никто из них не будет голодать! Пока желудок переварит золото, все они освободятся. И мне наливают тарелку черного супа с золотою монетою с николаевским двуглавым орлом, такие крупные монеты моя мать носила в молодости в косах, а затем их же — с дужками в мочках.
Когда мне было всего семь лет, свинцовыми гибкими серьгами с острыми наконечниками мама проколола мне мочки, с каждым днем все туже и туже сдавливая кольца. Ох, как горели и зудились пунцовые, толстые, как пончики, мои мочки, плакали гнойными слезками, а мама слюною натощак по утрам облизывала мне мочки, умиряла плачущие уши. Затем от сдавливания наконечников боль прекратилась, так я, не пролив ни капельки крови, имела прекрасные отверстия для украшений. Жаль только, что я оказалась такою нетерпимою к серьгам, точно наш Ураганчик к узде! Аскетически и духовно ношу зарубцевавшиеся точки в мочках, как память о старании моей бедной матери!
Ой как чудно-волшебно звенели, пели, подпрыгивали рыбками трепещущие монеты в бурлении тайного черного супа!
Мелентий страшно обрадовался моему сну и выпалил:
— На воле сварю золотую монету и проглочу!
— Не вздумай сожрать чужую, опять засадят в каталажку!
Мелентий ковыряет дыры моих мочек кончиком булавки, а я терплю боль, «чтобы дыры дышали ветром»!
Боже мой! В тюрьме даже игольное ушко и то свободою веет!
Как велики иллюзии женщины молодой! Сердце, охваченное жаждою великой любви, может полюбить равно и белого медведя, и гуманоида, и убийцу! О бездна химеры, но сердце болит, кровоточит, хоть лопни оно. Что ты за человек, Алтан Гэрэл, самой себе загадка, самой себе тайна, сосуд какой-то бездны, ей-богу! Рискуй, пока рискуется… Нет для меня декабристов, чтобы следовать за ними в родную Сибирь, не те времена… Страною правит Леонид Ильич Брежнев, доживший до маразма по-синему и увешанный орденами. Угробят меня, босую, никто на свете не защитит, кроме Далай-ламы. Может, только Далай-лама и понял бы, как чисто сердце убийцы Мелентия? И как сладко сжимается мое сердце от любви! И не в силах разорвать оковы косной морали, ты боишься этого странного чувства? У Мелентия вся жизнь впереди, и он меня сильнее? Или утопающий хватается за соломинку?
На прощанье 9 сентября он сказал: «Теперь мне еще тяжелее будет томиться». Боже мой! Он подарил мне невиданной красоты венценосную Жар-птицу на открытке! Вот чудо, в тюрьме раздобыть Жар-птицу! Поди всех на ноги поднял? Всю зону обыскали? Сколько на свете великих художников — столько разных Жар-птиц, у каждого творца — своя Жар-птица. Прогонялась я полжизни за сказочною Жар-птицею и нигде ее не нашла. И только один несчастный заключенный, осужденный на двенадцать лет заточения, угадал мою неземную мечту вещим любящим сердцем. Как я тронута! Горит, сияет моя Жар-птица дороже всех драгоценностей ложного мира, вечно будет ласкать взор и согревать сердце красотою от стужи одиночества. И почему мужчины «на воле» такие тупые-раступые???
Отныне я решила собирать лики Жар-птиц, мне нечем на свете питаться!
Чего я хочу более всего? Чтобы Мелентий смыл свой страшный грех и стал святым?..
Глеб Тягай устроил мне на дорогу грандиозный ^подогрев», Где-то раздобыл большущий хвост осетрины — видимо, остаток. Зажарил голубую картоху. Бедный Глебушка не дал мне выбросить хвост с плавником, говорит:
— Отварю с картошкою, навар будет!
И рассказал Глеб невинный прощальный анекдот.
Пришла глупая цыганка гадать в тюрьму:
— Ой-ей-ей! Пропадешь ты, Дениска, даром!
— Э-э, будет брехать-то. Попробуй, пропади, когда в сутки трижды считают, затем вновь пересчитывают?! Ты мне даром погадай — когда выйду? День и час знаешь— вот тогда и расплачусь, честное тюремное слово!
В Коми детсадовского мальчика спросили:
— Кем ты станешь, когда вырастешь?
— Стану бесконвойником, — гордо ответил малыш.
И выпила слепая курица бокал гноя для услады грешника-страдальца…
И закусила хвостом осетрины, чуть не проткнула рот. Ну и кости! Острее, чем шило.
Я там видела сахар рафинад чернее угля, а тюрьма была ночи черней.
«Полезнее пройти путь жизни, чем всю вселенную».
А наши писатели — чем больше катаются по свету, тем они бездарнее пишут, словно оскоплённые своими великими благами.
Днем с огнем не сыскать в отечестве мятежной литературы! Самая снотворная, духом мышеносная, по сути супервральная, по чину шедевральная халтура века, идущая за макулатурный детектив… сгори в печах еще дровами! Согрей сирот печным теплом, самая орденоносная в мире — литература титулованных сановников!
Письмо 36
Алтан Гэрэл — ты, прервавший тьму моей жизни чудесный луч, одиннадцать суток освещала нашу тюрьму как солнце, ветер, дождь и ураган и мчишься в поезде по вольной земле, а я остался один во всей Вселенной и задыхаюсь от любви и счастья, клокочущих во мне океанскими волнами, я никого более не слышу, никаких пинков конвоя, зажмурюсь — и глыбы океанских волн несут, качают, сладостно подбрасывают меня в небо до головокружения!
О зыби опьянения!
Океан великий — это ты, моя Алтан Гэрэл!
Время, годы, испытания унесли и унесут навеки все мои физические мощь и гладь, и силы, которыми я был одарен от природы, часть, куски я рассеял по КПЗ, тюрьмам, лагерям, «Столыпиным»[18], но я обрету нечто высшее, чем кожа да кости, я обрету облик человеческий, в чем я более чем уверен, поверь!
Может, я и сейчас недостоин жить на земле, я этого и сам не знаю, я самолюбив, безмерно ревнив, коварен даже, но неравнодушен к чужому горю, не хочу клясться в том, что никогда не совершу зла и горя, но если такое случится, я уйду из жизни, чтобы более не угнетать родных и близких, а сейчас, как никогда в жизни, я удалился от смерти.
Я проклинаю и благодарю тот день навеки, когда я написал свое первое письмо к тебе, кто мог угадать, что ты — такая!
Я был поражен тобою, сколько хлопот, забот и тревог ты взяла на себя безвозмездно, суд и страсти людские— зачем?!
Чтобы только вытянуть меня из этой грязной берлоги, где «Закон — тайга, медведь — хозяин»?
«Мне не дожить до старости своих лет, но я не хочу умереть в неволе».
Эх!!! Проводил я тебя до КПК с красавцем Николаем Кизиловым, у которого хоть нашлись для тебя сувениры— блокноты в рукодельном переплете, а теперь каждую минуту чую и полон твоим отъездом, так и хочется страусом помчаться, догнать скорый поезд, чтобы поцеловать тебя еще раз, в прощальный раз за воротами тюрьмы.
Алтан Гэрэл, но нам с тобою поздно повернуть от той великой цели, которою мы задались, но знаешь ли, что по ночам я чуть с ума не сходил, молился за каждый будущий день при тебе, чтобы ты оставалась еще и еще, пока они сами не купили билет и не посадили тебя в поезд, эти блюстители порядка в любви.
Да будет все у тебя хорошо на работе и дома в Москве!
Теперь целую тебя бумажно, нежно, заочно, как горько!
10 сентября 1980 года. Твой Мелентий
Алтан Гэрэл, милая, я никак не хочу расставаться с тобою в письме, пока поезд мчит тебя прочь от наших гиблых мест, вся земля здесь на болоте, потому она колышется летом, а зимою плавучий слой-тесто примерзает льдом к остову прочно, чтобы никто-никто не провалился, вот где родились эти океанские зыби полноты счастья, поднимающие меня высоко-высоко к небу над колючею проволокою, чтобы увидеть хоть хвост твоего поезда, глотнуть бы дым счастливого паровоза!
Ну, до свиданья, Алтан!
Ты слышишь мой пронзительный крик?
От одной мысли, что более не увижу тебя, меркнет солнце над головою, но твой луч не допустит тьмы надо мною…
Да неужто я — Мелека Мелентий Семенович, родившийся 7 октября 1953 года???
Уильям Шекспир
Письмо 37
Солнце жизни моей — Алтан Гэрэл!
Ну, как ты доехала? Выспалась ли в дороге? С ходу ли вышла на работу? Не потеряли ли тебя там?! На что же будешь жить? Я написал домой матушке, чтобы она возместила все твои расходы, ведь приехала с двумя чугунными чемоданами, а уехала голодранкою пусторукою. Ради бога, получишь посылку и перевод на сто рублей, купи себе новый спортивный костюм хороший, тебе подойдет бордовый цвет. Ладно? Я так и вижу, как ты в бордовом шерстяном костюме играешь в волейбол, лупишь здорово, резвишься. Но как пожирало тебя алчными полтинниками наше офицерье, как голодное воронье, словно пятилетку прожили без законных жен, голодными зенками, как клыками грызли твое алое пальто, лизали слюнками твои белые туфельки, будто они жаждали услышать что-то об Олимпиаде или смерти Владимира Высоцкого, так они вдруг все одухотворились, хотя все знали прекрасно, что ты приехала только ко мне, а не ко всей зоне в гости. Ты видишь, что сегодня я как никогда привязан к жизни золотыми цепями самого солнца, и ревность, как кобра, поднимает свою голову вновь, вслед поезду озирается неблагодарная тварь! Но не о черной кобре ревности, а о высшей белоснежной зависти хотел я написать сегодня, как вольно, вольготно звучал твой грудной просторный голос, когда ты встала в кабинете замполита и широко, смело, вопреки тюрьме нашей размахнула руками:
«…и Он разорвал цепь бесконечных забот к тридцати годам, следуя звезде великой истины, не изменяя своей беспримерной внутренней честности — ночью после рожденья сына своего покинул царство навеки и пошел по земле босиком, подвижником святым скитался по миру более сорока лет, чтобы совершить свое великое Дело словом простым, объединяя народы Добром учения своего».
Алтан Гэрэл, как я завидовал тебе, родная, в ту минуту я хотел быть тобою! Но как я высоко взлетел в мечтах от счастья, которым ты одарила, словно я помилован одною тобою на земле, так я полон ликования. А кто я? Деревенский мужик, который едва ли отличал Льва Толстого от Алексея Толстого, теперь грызу гранит «Доктора Фаустуса» так, что из зубов искры сыпятся! Даже сходил я в санчасть и выдернул зуб, через два дня снова пойду, чтобы лечить, крепить зубы, чтобы грызть тюремные науки, с 1 октября начну учиться на крановщика башенных кранов.
Милая Алтан, если найдешь «Записки Серого Волка» Ахто Леви, ведь сама с удовольствием прочитаешь, говорят, что автор в прошлом святым не числился, а стал знаменитым писателем… Вот как бывает. А я, может, стану камнетесом, нужны камнеобработчики для индивидуального строительства, представляешь, буду шлифовать громадные глыбы гранита в совершенные шары для украшения безликих городов. А почему бы мне не стать камнетесом?
О, как ты права в том, что никакая Сорбонна не даст столько, как ежедневное самообразование! Жизнь обретает все больший и сладостный смысл, и я презираю это пустое «се-ля-ви», пусть жуют языки пустомели. Тебя я встретил в двадцать шесть лет, смертельно голодным в тюрьме, но все-таки жизнь еще впереди.
Сердечными строками горянки завершаю письмо. 13 сентября 1980 года. Твой Мелентий
Письмо 38
Привет с осеннего Севера! Здравствуй, Алтан Гэрэл!
Получил твое первое письмо после нашей встречи и счастлив, что ты не потеряла чувство юмора после знакомства с нашей тюрьмою и со мною, хотя тебе пришлось порою голодать, отдавая харчи тощему другу, если бы Глеб Тягай каждый день не варил тебе картошку в мундире, ты ослабла бы. Теперь отдыхай, не переутомляйся, отсыпайся, наша встреча все-таки состоялась этой чудесной, золотой осенью, которая дарит нынче небывалое тепло, а утром рано, когда мы идем на работу, дикий свежий воздух пьянит сердце. Как хочется побродить одному по осеннему лесу бесцельно, просто дышать чудным воздухом, наполняться красотою щедрой осени, даже листья с деревьев облетают благостно ласково, с нежностью и любовью к миру, с каким-то достоинством увядания.
Курить я бросил, мне сам воздух помог в этом. Хочется найти пень, покрытый густым зеленым мхом, сесть как на трон природы и наблюдать бурление счастливой жизни муравьев, червей, букашек, любоваться блеском крылышек нарядных бабочек, стрекоз, слышать шелест тьмы мелких жизней и всласть мечтать о счастье, о тебе, о будущем. А ведь мы немножечко дерзили друг другу для форса, что оживляло пыль в кабинете замполита.
Помнишь, я говорил тебе про друга Сергея, бывшего летчика, который сдуру кому-то разбил морду и схлопотал себе четыре года, он иногда доставал спирт и пил, за что на его голове Громиловы рубили табуретки на дрова, так вот, Сергея нашего отпустили на химию в город Ухту, лишился друга и рад за него. Вот так подружишься в неволе с человеком, как с родным братом, потом расстаемся, может, навеки и никогда больше не увидимся, защемило сердчишко.
Когда я к тебе в первый день на свиданку пришел, помнишь, я был в новой майке-сетке, это Сергей выручил меня, одолжил. У нас порою майки, футболки, носки и прочее превращаются в круговую чашу, когда приезжают женщины на свиданку, ведь не каждая догадается привезти тебе плавки, другое дело жены, они везут мужьям буквально все на свете: кто — «Граф Монте-Кристо» Дюма, кто — «Птичье молоко», а кто — японский презерватив с усиками… Но более всего жены разводятся с мужьями, «получившими большой срок. Твои спортивные штаны сошли мне за полубрюки, закатал до колен и хоть по телевизору покажи — ничего зэк. Пока не начались занятия в ПТУ, я теперь весь в зубных заботах, дважды ходил к зубному, вытащил два корня, остался лишь один больной зуб, нужно будет врачевать его, жаль, что здесь нет возможности вставлять зубы, только теряют их до последнего… затем на свободе вырастают вновь в меру своего капитала несокрушимые стальные или сплошные «рыжие» зубы, самые благородные, что и чистить не надо, ополоснул пасть чистою водою и пошел.
Алтан Гэрэл, я с зубовным скрежетом дочитал «Доктора Фаустуса», затем вновь перечитывал то сзади, то с середины, но так и не понял — во имя какого всеобщего блага Адриан Леверкюн сознательно заражает себя сифилисом? Что за такое великое Добро это, чтобы человек злоумышленно страдал самою страшною и самою постыдною заразою? Ты перечитай, пожалуйста, со мною вместе:
«За вещи, возникавшие на пути болезни и смерти, жизнь уже неоднократно с радостью ухватывалась и взбиралась с их помощью на большую высоту».
«…умножающая силы неправда без труда потягается с любой бесполезно добродетельной правдой. И еще я хочу сказать, что творческая, одаряющая гениальностью болезнь, болезнь, которая с ходу берет препятствия и галопом, на скакуне, в отважном хмелю перемахивает со скалы на скалу, жизни в тысячу раз милее, чем здоровье, плетущееся пехом. Никогда не слыхал я большей глупости, чем утверждение, будто от больных исходит только больное. Жизнь неразборчива, и на мораль ей начхать».
«…Что, напротив, в болезни и как бы под ее защитой действуют элементы здоровья, а элементы болезни, приобщившись к здоровью, сообщают ему гениальность? Да, именно так, я обязан этим взглядом дружбе, уготовившей мне немало забот и страхов, но зато всегда наполнявшей меня гордостью: гениальность есть глубоко проникщаяся болезнью, из нее творящая и благодаря ей творческая форма жизненной силы».
Боже мой! Я был здоров, как буйвол, чтобы убить… и теперь твердокаменным лбом бодаю железное решето кары.
Алтан Гэрэл, дорогая, об одном прошу тебя еще раз, у тебя никого нет из родителей, съезди в отпуск к моей матери в гости на парное молоко, она сама тебе напишет обо всем, уверяю, что у нее ты отдохнешь лучше, чем на любом курорте, согласись же!
Я даже умоляю тебя об этом, и ни о чем другом более.
15 сентября 1980 года. С умолением,
твой Мелентий
Письмо 39
Милая, хорошая Алтан Гэрэл! Здравствуй!
Сегодня 25 сентября, четверг, получил от тебя третье письмо, где список лучших книг мировой литературы. Большое спасибо.
Милая Алтуха, тебе, наверно, кажется, что я постоянно ною, жалуюсь, изливаю душу свою перед тобою. Пойми, мне и писать будет почти нечего, если я не буду мечтать о будущем и проклинать то, что есть в зоне. Не только я, но любой и каждый пишет домой отсюда все свои переживания, но родные понимают нашу жизнь и не убиваются сильно, ведь ничего никто не изменит здесь. И прошу тебя, Гэрэл, не принимай все близко к сердцу. У меня и в мыслях не было, жаловаться на свою судьбу, а рассказываю все тебе ради интереса, но не для того, чтобы ты душевно болела и страдала за меня. А ведь нас осуждают и дают срок наказания не для того, чтобы нам жилось хорошо и вольготно, а для того, чтобы мы почувствовали вину, горе, разлуку, скорбь, тоску. Я в своем безумии одним ударом ножа убил любимую женщину, за что меня должны разумно и методично убивать в течение двенадцати лет лишениями усиленного режима. Так что, милая, давай больше не будем об этом писать. Лучше опять о зубах. Зубы вылечил все, сегодня последний зуб запломбировали. Уже второй день хожу в ПТУ на занятия. Времени у меня очень мало.
Алтан Гэрэл, если ты напишешь обо всем, что ты видела в зоне, а также со слов наших, например, как один осужденный проглотил пятнадцать вилок — в журнал «К новой жизни», то цензура ничего подобного не пропустит. Как дошел до такого состояния советский заключенный? Это покажется диким и невероятным. Ты сама когда была здесь, просила рассказать о разных случаях из нашей жизни и сама же перебивала меня очень часто, постоянно, потому что тебе все казалось маловероятным, а некоторым эпизодам каторжной жизни ты поверила или нет? Я так и не знаю об этом.
25.09.1980 До свидания! Мелентий
Письмо 40
Милый крокодил Мелентий, здравствуй!
Отпуск у меня с 22 сентября до 21 октября, уже купила билет на Херсон, 22-го улетаю к твоей матери, но прежде решила разрядить весь свой гнев, написать тебе разносное письмо, может, как-нибудь по-мужски проглотишь эту выходку злобы? С тех пор, как рассталась с тобою кое-как, вся моя голова забита твоею дрянною жизнью в тюрьме, когда выпадают твои зубы и ты гробишься в аду холода и голода, ведь эдак можно совсем загнуться и не выжить, не вынести срока наказания! Помнишь, что я изучала словарь «преступных элементов» и от омерзительных, гадких, циничных слов закипала негодованием и злобою, ведь по словарному запасу и представляешь души и образ жизни всей этой «кодлы», «шоблы» и «шушеры» — ну, кто? кто тебя сохранит от мерзостей лагерной жизни??? Сможешь ли ты прыгнуть выше своей низменной среды, низменных инстинктов, подлых истин — выше потолка своей тюрьмы?! Членовредительство зэков мне омерзительнее всякой проказы, как печенка содрогалась от духа этой помойной патологии и мне поныне гадко на душе, как будто я пожила среди прокаженных умов и сердец!
О, господи, даже слова сгнили в тюрьме, отравилась я, будто выпила бокал гноя! хотя, признаюсь, часть соленых слов с тайным наслаждением я выписала в Дневник, где я не стараюсь выглядеть лучше самой себя. Но если ты — крокодил Мелентий, будешь изощряться, как эти подонки, будешь расшивать себя татуировками пуще аспидов, пуще гремучих змей, да крошить ногти и вживлять в корягу «жемчуга» — то я никогда к тебе более не приеду! Клянусь могилами матери и отца! Раньше я толком и не понимала — за что люди так шарахаются от заключенных, как от бешеных собак?! Может быть, людишки ненавидят и презирают зэков не столько за их преступления, сколько за подлые уродства, за мерзопакостные тюремные нравы и привычки? За все телесное мракобесие-изуверство!
Куда должен род людской девать тех выродков, которые докатились в лагерях до того, что боятся выйти на свободу, не ручаются за себя, что не совершат новых злодеяний? Вошедших во вкус тюрьмы и садизм кровопролития мерзавцев и ублюдков! Такие человекоподобные обречены на вечные танталовы муки, значит, так они испортились, сгнили заживо, что им среди нормальных людей нет места на земле. Ты посмотри на себя в зеркало — как впали твои глаза, как ты истощал, кровь твоя разжижилась, соки высосаны неволею, а что творится с твоею душою и сердцем? Зачем, зачем ты убил легкомысленную молодую женщину, пусть бы сама она погибла, если надоело ей гулять?! И теперь заживо разлагаешься в отместку за ее жизнь, может, тоже гниют твои мозги, если ты начал крошить себе ногти, как ювелир? О, пойми меня, ради Иисуса Христа, как все это гадко и подло, что хочется завыть волчицею, закричать на весь мир, да некому, вот ору тебе самому — так ты этого добился! Это кричит, вопит боль сердца моего, которую никому не высказать кроме тебя самого, раз я связалась с тобою, уголовником. Я всего лишь глупая женщина и ничто женское мне не чуждо, да хранит тебя бог, который живет в душе каждого, ото всех пороков тюрьмы! Аминь. А «Доктора Фаустуса» перечитывай с толком, с чувством, с расстановкою минимум три раза. Я сама с трудом одолела этот «роман века», но теперь мне не до книг, ношусь в отпускных заботах, сдаю работу, укладываю чемодан, смотри-ка, какой серебряный лак с блестками купила для окровавленных своих ногтей, которые так и зудятся, как у котенка…
Мой гончий сосед Рамиз Манафов дал мне книжечку «Виктимологические аспекты профилактики преступлений» Вениамина Полубинского. Виктимология — это наука о жертвах, об Алисе Васильчук… А прощальные стихи поэтов памяти Владимира Высоцкого унес Рамиз, после отпуска вышлю тебе книжною бандеролью.
От твоей матери получила телеграфом сто рублей на дорогу, также телеграмму: «Очень ждем Алтан Гэрэл. Я всегда дома».
Как я завидую всем, у кого есть родная мать — святыня всех святынь! Я бы носила на руках свою маму, купила бы ей оренбургский пуховый платок и сдувала бы с матери каждую пылинку…
Теперь пиши мне домой…
20 сентября 1980 года. До свиданья!
Алтан Гэрэл
Письмо 41
Здравствуй, северное сияние!
Ох, и тяжело было добираться мне до Архангельской Слободы, дважды пришлось ночевать на скамейках: сперва самолет проклятый задержался во Внуково на двенадцать часов! Погода прекрасная, а он не летит в Херсон, пассажиры гадают о причинах застревания, говорили, что нет горючего, может, кто бензин весь пропил? Ночевала в аэропорту из-за полной неизвестности вылета, затем опять на скамейке автостанции в Старой Каховке и только утренним автобусом добралась до вас, автобус подвез меня измученную к улице Урицкого, показали ваш дом — тащусь с огромным чемоданом на немыслимо высоких каблуках, купила самые шикарные югославские туфли, коричневые, за 55 рублей, к этому отпуску, они ноги жмут, а тут ваша Боська бросилась на меня с цепи, залилась диким лаем, я испугалась, но никто не выходит из дома, а она бегает от конуры до самой двери хаты, так засадили кандалы, чтобы скользили по проволоке. Я и не знала, как ее зовут-то, села на чемодан, разглядываю — белая собачка с черными ушами, такая симпатичная, может, и не кусается, просто лает, пугает воров?
— Белая собачка с черными ушами, какая славная ты, только не кусни меня по ошибке, я к вам в гости приехала из самой Москвы, две ночи на скамейках ночевала, видишь, как устала, и туфли новые жмут, стоять не могу, так что будь доброю собачкою, пойми, — говорю, а она подняла хвост, распахнула черные уши и слушает, а я тем временем потихоньку прошла к двери и вошла, оставив чемодан в сенях. Думала, в доме никого нет, затем увидела, что Неллечка беленькая так сладко спит, щечки порозовели, волосики светлые выгорели добела, крошечные молочные зубки пожелтели, и, отгоняя мух, я созерцала спящую твою дочурку, пока твоя мать не вернулась с фермы около десяти часов утра, бросилась обнимать и поцеловала меня в щеку, словом, встретила так сердечно, радостно, что у меня вся усталость улетучилась, мать твоя начала оладьи печь, я побежала умываться на улицу из-под крана, а Бося вышла из конуры и словно любовалась моим приятным умыванием ног поочередно на весу и мы с Босею подружились сразу, я погладила ее бархатные черные уши мокрыми руками, затем выбежала проснувшаяся от кухонного чада Неллечка, протирая сонные глазки:
— Здравствуй, тетя Алтан, здравствуй, тетя Гэрэл! Так, что ли, надо тебя звать? А мы тебя давно ждем с бабушкою, а что ты привезла из Москвы? Ну-ка, поговори на своем языке — интересно! — и пыталась поднять мой тяжелый большой чемодан, сцепив зубы, тряслась, красная. Мелентий, дочурка твоя — сущий Гаврош растет, она оседлала чемодан и поскакала лягушкою на нем.
Затем мы сели завтракать и обедать, Босю угостила кусочком московской колбаски. Это было 23 сентября до обеда, а после обеда я в тапочках вышла с Неллею на улицу погулять и посидеть на лавочке — и гля! Идет такая бабенция — Тарас Бульба в юбке, видна за двадцать пять километров кругом, улица имени Урицкого под нею подгибается, слегка пылится, волосы красные дыбом, как кустарник, да еще потряхивает красною шевелюрою страстно, телесная мощь и ходьба так и распирают всю одежду на металлических блестящих пуговицах, и зачем-то эта грация трижды прошлась мимо меня, и Неллечка все мне рассказала:
— Это тетя Лилия Ковальчук, у нее муж утонул давно в канале. И она хотела выйти замуж за моего папу Мелентия. Она была моей мамой, целовалась с моим папой, когда с нами ездила в зону. Лилия хотела остаться в Чикшино, но папа не женился.
— Почему же не женился-то? — меня бросило в жар.
— Потому что у нее усы да борода растет, как у Деда Мороза, а нос висит огурцом! — смеется Нелля. — Теперь папка хочет на тебе жениться и ты будешь моею мамой! Да?
Мы с твоею матерью не знали, смеяться или плакать от Неллиного язычка, выдающего все интимные тайны взрослых! И сколько бы ни ругали домочадцы Неллечку, бабка в отчаянии несколько раз замахивалась половником, а ребенок твердит свое, как партизан на допросе. Боже мой! Какой смышленый чертенок, какая цепкая у нее память! И пришлось-таки твоей бедной матушке выкладывать все карты: как она сватала Лилию Ковальчук за тебя, как вчетвером поехали в зону и Лилия писала страстное заявление о предоставлении ей краткосрочного свидания с тобою.
Мелентий! Неужели ты спаривался с этою бегемотихою, с этою гориллою?! Так и лезет слово Танкодром!.. Хотя дело-то прошлое, но ответь! Слава богу, замужем, по-прежнему заведует клубом. Бедная я женщина—113-я заочница — кроме шуток! Твоя мать упустила такую мощную помощницу под боком, поди, тайком сокрушается. Жили они душа в душу, и все расстроилось из-за какой-то заочной переписки? Стрелял в белый свет, как в копеечку — попал ты в меня, господи! А у вас тут в Хохляндии бабы с жиру бесятся…
Представляешь, как я вчера ночью металась от ревности, как тигрица в клетке! Хотела на рассвете вызвать на дуэль Тараса Бульбу в юбке, сорвав с супружеской постели, — и только воображаемый кровавый исход охладил мое дрожащее сердце — впутается в женские страсти грозный муж и не избежать нам горы трупов, как в шекспировских трагедиях, тут достаточно пало людей в Архангельской Слободе!
Успокою сердце тем, что поеду смотреть зубров Аскании-Нова.
Гаврош спит грязный, набегался чертенок. Слипаются и мои узкие глаза, валом наваливается отпускной сладкий — украинский сон. Сплю я одна в зале на бывшей кровати твоей сестренки Валентины. Мою-то первую сестренку Очир-Ханду по-русски зовут тоже Валею, на все руки мастерица, неугомонная моя ласточка! А снится мне сестренка всегда ребенком, которую страшно люблю и жалею…
24 сентября 1980. Спокойной ночи тебе, Мелентий!
Алтан Гэрэл
Письмо 42
Здравствуй, Мелентий!
Пишу тебе специальное письмо ко Дню твоего рожденья — к твоим прожитым двадцати семи годам на свете белом, сохрани послание навсегда, кто знает, может, никто и никогда тебе больше такого не напишет??? Но сохрани, хотя великих истин не открою, может, ничем не улучшу твою породу. Федор Михайлович Достоевский писал, что «В человека надо выделаться…» А ты — жертва своего отца, своих родителей, своей убогой среды, сытой салом и водкою, не имел никакого стремления к духовному, возвышенному и героическому, а посвятил свои молодые физические силы и здоровье к телесному самоутверждению среди сельской молодежи, влез в безголовую среду зэков проклятых Лилиана Гнилова, Маримана Котоманова и прочих испорченных людишек, нахватался у них разгульной смелости и широты, чуть ли не сознательно культивировал их «идеалы», изображал, имитировал какого-то супермена, отсидевшего в лагерях за шальную молодость, словом, подсознательно готовил себя к «романтике» тюремной жизни — выделался в преступника! Пил запоем и лупил Стеллу Петровну потому, что надоела тебе семейная жизнь? Добился того, что она, родив двух девочек от тебя, вынуждена была сбежать, после чего вы все тут сплелись, как змеи, в каком-то групповом разврате, в чертополохе свинарников, который ты тоже не вынес… поешь песни о своей небывалой ревности, а тебе, может, заранее тюрьма снилась, как пристань для успокоения! Ты был румяным боровом, пил запоем, даже брюхо чуть не отросло и тебе не жаль было ни чужой, ни своей жизни, не щадил ни мать родную, ни детей, чтобы убить! Боже мой! Какой ужас, что ребенок Алисы Васильчук — мальчик двух лет — буквально умылся кровью сердца своей матери, хотел вытащить нож из груди мертвой, всаженный по рукоять, вымазался весь в крови, плакал, дергал, раскачивал нож и бегал по квартире, слизывал и ел с пальцев кровь матери и захлебывался — а ты после такого жуткого греха хотел спастись на суде распискою Алисы, написанной 1 апреля!!! Как ты мог допустить такое, будучи сам отцом нежных дочерей?! Мелентий, от всего этого я чуть не получила инфаркт, слегла больною. Как же ты думаешь дальше жить, чтобы смыть такую вину??? Твое прошлое и настоящее ужасны, только Иисус Христос, может быть, простил бы всю подлость этого злодеяния. Что же будет с тобою дальше-то? Весь в алиментах, как сито в дырах, сможешь ли выйти со временем на поселение? Видела твоих братьев обоих, сестру твою, едва ли они помнят день твоего рожденья.
Бедная твоя мать по горло ушла в совхозных телят и домашнюю свою живность, сады, огороды, что с пулеметом ее не оторвешь от всего этого, плачет по внучке Аленушке:
— Отобрали мою милую Аленушку, ведь восьмидневную из роддома взяла себе на руки со слезами радости и растила пять лет, а теперь внученька моя ихнего Русланчика нянчит и по бабке плачет.
Уже неделю она собирает-колдует тебе небывалую посылку, то-се, то-се, все хлопочет да все некогда отправить. Тут всем некогда, некогда написать тебе письмо, а сами пьют, гуляют, жрут, болтают. Ворюги, как и везде, все тащат из совхоза, зажрались страшно, ходят и страдают одышкою от ожирения, повсюду дома сторожат злые цепные псы, кусающие свой собственный хвост от блох. У кого мозги заплыли жиром, у кого «разрушение печени на почве алкоголя»…
Как я слегла от расстройства, а Нелька-Гавроша стащила мой лак с блестками — намазала себе все ногти на руках и ногах, намазала свои тапочки и ногти немому придурку Витьке и выбросила пустой флакон в сад! Твой брат Владимир Неллечку жутко избаловал, тут ее запустили совсем. Мать ее Стелла там в Липецкой области у себя моет бидоны на ферме, а муж — Безкара-вайный пасет коров.
О, сколько цветов зла ты здесь посеял! Если не выкорчевать корни — может разрастись зловонный свинарник до Архангела… И я чувствую себя пустым флаконом из-под блесток, брошенным для наполнения, а брат твой Владимир, который приехал из Каховки, чтобы увидеть меня, говорит, будто видел меня во сне: «В белой шубке, в белом платке!»
— Ну, какой белоснежный сон, можно подумать, что я — Снегурочка! — отвечала я, орудуя страшно мухобойкою. — Пока рука моя не оторвется, сколько тысяч черных жирных откормленных мух я перебью? А?
Мелентий, ты, может, представляешь, как мантулит твоя мать с пяти утра до десяти вечера, что ей не до мух поганых, а браток твой Юрка, которого называют Магаем, как приехал, все рыбачит.
Вот сутки шли страшные дожди с ветрами, так что я затопила печь в зале, чтобы просушить хату, а твоя дочурка-Гаврош нарисовала картинку «Пловцы, под ливнем». Она дарит пловцов папе на День рождения, смотри, как затопило село и детишки плывут по улице Урицкого! Ну и Гаврош! Я расцеловала ее вечногрязное лицо. А я решила такою правдою довести тебя до белого каления, устроить тебе памятный День двадцатисемилетия в жизни — смотри, не взорвись вместе с тюрьмою, переживи, как мужик. Ну, что тебе пожелать необычного? Пусть татуировки твои слижет бешеная собака! Уж не заложить ли вслед за Адрианом Леверкюном душу дьяволу?! Но мне кажется, что еще до рожденья душа моя была уже заложена, вырастут все четыре зуба мудрости и я узнаю — чему же такому бессмертному она отдана?!
Следовало тебе, Мелентий, отвесить двадцать семь пощечин самых увесистых в этот день, но не достать тебя господнею десницею, но остаюсь с тобою мысленно.
27 сентября 1980 года. Алтан Гэрэл из Архангельской Слободы лютует, Неллечка тебя целует.
Письмо 43
Вечное мое клеймо
Здравствуй, лютая Алтан Гэрэл!
От последних твоих писем я закипаю, как котел, едва не взрываюсь и спасаюсь тем, что вновь и вновь перечитываю «Любовь к жизни» Джека Лондона, которую друзья заранее подарили мне ко Дню рожденья. Алтан Гэрэл, я думал, что будешь отдыхать в отпуске на молоке и фруктах, спать, читать и наслаждаться югом Украины, а не заниматься новым расследованием моего преступления с помощью моих домочадцев, чтобы наносить мне удары за ударами прямо в израненное сердце ко Дню рожденья! Боже мой! Мне и в голову не приходило скрывать от тебя все подробности своего преступления, но не мог же сразу до самой мизерной мелочушки рассказать все, выложить подноготную души до крохи, а ты сама смогла бы? Меня всего трясет, мысли путаются, на письма подобного рода не приходилось еще отвечать, нужны крепкие, нерасшатанные нервы, да на бумаге казенной немыслимо все изложить, тем более если при встрече мы обошли эти кровавые подробности, но письма, может, удобны тем, что, не сбиваясь, можно выразить самое главное. Видимо, ты нахваталась разных верхушек о преступлениях и наказаниях Достоевского, Льва Шейнина, но пойми, когда все это было? В какие годы? А сейчас завершается 1980-й год, хочешь раскусить свое время — посиди хоть год в тюрьме, чтобы развился дальше твой философский пыл, не примыкая к бездарному большинству, чтобы говорить от имени людей, ненавидящих и презирающих нас. Всего месяц назад ты называла нас «спартанцами», говорила, что во мне «нет ни полкапли эксплуататорского жира» и даже от удовольствия щипала мне ребра, так тебе противны были буржуи. И что же? Ведь суд давно выдал приговор— меня не расстреляли при всем желании родных Алисы Васильчук, а они, родители — военные, а моя матушка хотела, наоборот, смягчить приговор, но изменить его равносильно тому, как заставить реку течь обратно, сколь велики хлопоты и затраты пересуда, тем более что у родных уголовника нет ни сил, ни здоровья, ни права, ни доверия, ни состояния, ни духа… кроме того, еще бывают случаи, что после пересуда добавляют срок, так что «гроб — дорога!» до срока моего освобождения 1 апреля 1989 года: будут бить золотые колокола, отзвенит золотой звон! А до него на поселении или в тюрьме пахать, мантулить, угробляться за полкопейки, во-первых, высчитывают 20 % зарплаты государству нашему благородному, во-вторых, 33 % пойдут на алименты детям любимым и родным, а теперь посуди сама, сколько же я получу на руки? Ведь я не на заработках, нас посылают на самые малооплачиваемые работы, куда и дебилы не позарятся. Так что не больше сорока рублей в месяц, а мне надо жрать, одеваться и обуваться, чтобы вкалывать, как вол, учиться в ПТУ, да еще заниматься самообразованием, когда желудок воет, сосет голод и нет сил порою идти в библиотеку, чтобы просить, клянчить, искать нужные книги, ноет все тело, гудят ноги, трясутся руки…
Во как ненавидят и презирают люди тюремный образ жизни! А кто создал гадкий образ жизни, мерзкие условия содержания? Если ты считаешь, что мы дурнеем, гнием и заживо разлагаемся, то не связывайся с таким, как я, который унижает твое достоинство в глазах родных, друзей, в очах коллектива и общественного мнения, если оно еще существует. Представь, что они говорят все за твоею спиною? Конечно, ни один поэт не прославит уголовника в одах и балладах. А знаешь ли ты — специалист по долголетию, сколько живет осужденный после тюрьмы? Меньше всех других людей.
Я не забочусь, не хлопочу о тех, кому чужда свобода, кто жить не может вне тюрьмы, имеют по семь судимостей, они, может, вошли в некий дурманный вкус злодеяния, если рассуждают так: «Мне страшно идти на свободу. Тюрьма — мой родимый дом». Конечно, такой сразу специально залезет в карман, в магазин или склад, подожгет, подерется, но своего добьется, ибо не мыслит самостоятельной жизни без конвоя, без направленных на него дул новейших автоматов АКМС, у которых пули со смещающимся центром тяжести, и сколько ни плюйся — мразь не станет чище, злодейство не убывает… Или я не прав? Вам, воспитателям молодежи, читают лекции о корнях преступлений, тебя сосед-следователь пичкает литературою даже о жертвах, это поди сами судьи, посаженные в тюрьмы, считают себя жертвами юстиции. Ха-ха-ха! Вряд ли кто в пользу зэков изобретает науку о жертвах, когда сам гуманизм не живет без корысти в сердце. А те, кто опускается, падает духом и погибает, — выходит, они естественные отходы общества, обреченные, отверженные заранее, так почему же где-то содержат, кормят даунов, сумасшедших? Зачем такое лицемерие?
Алтан Гэрэл, какую мировую посылку хотите собрать-то? Кто ее мне пропустит, мне до положенной посылки еще два с половиною года! Бог с тобою, только что навезла всего, бросьте посылку, вышлите коллективную фотографию всех до одного: Алтан Гэрэл, мама, Владимир, Юрий, Василий Андреевич, Неллечка и Бося — все во дворе на лавочке сфотайтесь и пришлите, а то увязла ты в философских выводах, все учишь, как мне в тюрьме сидеть! Посидела бы сама — тогда узнала бы, что ничегошеньки здесь по-твоему не вышло бы! Сама же подарила «Записки из Мертвого дома», где Достоевский вспоминает условия своей каторги: «Да и каким способом весь этот народ, развитой, сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу, насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь нормально и правильно, своей волей и охотой?»
А ругаться ты можешь и ругаешься так, что я после каждого письма с руганью пишу тебе прощальное письмо… и рву в клочья! Как может восточная женщина, читая мировых философов, так люто по-бабьи ругаться с несчастным зэком, который полюбил ее? Ты не даешь мне опомниться, как наносишь удары за ударами в сердце, истекающее кровью! Алтан Гэрэл, я ведь тоже «Как бабочка — я на костер Лечу и огненность целую…»
Алтан Гэрэл, прошу тебя в День своего рожденья — никогда более ни в шутку, ни всерьез не называй меня разными там «зебрами», «зубрами» или «жирафами». «Пусть татуировку твою слижет бешеная собака!» — шутишь ты злорадно и больно царапаешь мое сердце, даже всё тело зудит от заноз твоего языка. О чем же я думал, «украшая себя леопардами»? Воображал себя вождем племени индейцев или готовил себе тюремную долю? Заглушал ли тоску по женской ласке? Это было в Харьковской тюрьме. Есть ли элемент мазохизма в татуировках? Хотелось ли забить боль сердца, кромсая кожу? Кого хотел поразить наповал своим разрисованным телом? Я и сам не знаю. Пусть подлою природою татуировок занимается теща с рогами. Или я тебе снюсь разрисованным, как Змей Горыныч? Меня это бесит, когда же перестанешь царапать эти «татуированные розы» до крови? Зажмурься и плюнь трижды, сдалась она тебе, не ходить же тебе со мною в мужскую баню, где моются консулы иностранных держав, жить буду наверняка в лесу, бомжем, подальше от благородного люда. Итак, с татуировками мы покончили, договорились? Не то клеймо ты видишь! Или твое воображение нарочно вяжет узоры татуировкою? «И муху убить, так руки умыть». Мне на этом свете никакою священною водицею не отмыться, прикоснулся к твоему белому платью, уже замарал грязными ногтями звериными. Мое подлое клеймо «УБИЛ!» выжжено на моем узком лбу каленым железом, как на роге скота, навеки, эта мета сотрется только в гробу, сожрана будет червями вместе с костями, а ты приехала ко мне в белых туфельках, в алом пальто, но женщине, которая отважится связать свою судьбу с моею, не придется ходить в алом и белом по паркету, а в черном теле жить, в черном ходить, святою быть, чтобы уравновесить весы Добра и Зла… О, вечное мое клеймо, вряд ли кто разделит его со мною!
Дорогая Алтан Гэрэл, это письмо я начал писать сегодня, 7 октября 1980 года, во вторник утром после завтрака и писал до обеда, в столовой был праздничный обед, дали рыбные котлеты с макаронами, компот у нас светлей и чище родника, во рту не киснет, а полощет, как вода. Кенты мне подписали открытку, подарили маечку-сетку, достали где-то таблетки против курения и преподнесли на ладони, а природа северная подарила нынче самую чудесную, золотую осень моего двадцатисемилетия! Подкрепившись, я продолжил письмо, как заговоренный, до самого отбоя и решил его завершить корявыми, но своими строками:
Солнцу жизни моей — Алтан Гэрэл посвящаю!
Да, что ни говори, оторвал я у вечности двадцать семь годочков! Спасибо Вселенной.
Как самый чистый родник пью и пью целебную ярость твоих писем, как богато и насыщенно прожил День своего рожденья! Если бы электронная машина записала все мои мысли и чувства этих дней, пусть самые сумбурные, запутанные и противоречивые — то, все равно, она вывела бы итог: НЕВИДАННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СИЛ УМА И СЕРДЦА ПРОИСХОДИТ В ЧЕЛОВЕКЕ.
С благодарностью любящий тебя пуще прежнего Мелентий Семенович Мелека
Письмо 44
Здравствуй, дорогой Мелентий!
Пишу тебе последнее письмо из Архангельской Слободы перед отъездом. Ну, я рада, что ты перенес всю нагрузку моей брани как мужчина и не надорвался в День рождения.
Твоя мать манту лит хуже, чем на каторге, с пяти утра до десяти вечера, директор совхоза не дал ни одного дня на отдых, пока я жила у вас, ее руки телята изжевали, изрезали зубами, три раза в день ходит на ферму пешком и поит телят чаем, яйцами, молоком, бардою, но они все равно подыхают, а то еще и крадут их, бывает. Дома она кормит своих телок, чушек, кур — надо им таскать, добывать корма, едва ходит, все у нее болит, но надо выдержать до пенсии, Василий Андреевич тоже работает на износ. Бедный старик, на старости лет никого у него нет и живет с твоею матерью, во всем ей помогает и при мне здесь никакой пьянки не было, браток твой Юрка фотографировал всех и меня одну, кормил нас рыбою свежею. Мать твоя ходит кое-как, порою качается, тяжело дышит, а ты все приветы шлешь Третьяку и Бурлаченко, а она их в год раз видит. «Всю жизнь делаю только добро, а оно всем боком выходит!» — причитает она о сынках, правда, однажды задала мне интересный вопрос:
— Если люди произошли от обезьян, то почему перестали? Ведь сейчас никто не происходит от обезьян?
— Теперь обезьяны проклинают людей и поэтому открестились от нас навеки, — отвечала я.
В три часа ночи какой-то кормодобытчик дважды стучался в окна, двери, зовя твою мать, а я спросонья прогнала его, потом оказалось, что договаривались о семечках… В этом богатом теплом краю мозги людей повсюду забиты комбикормами, «дертью», кавунами, семечками, которые надо натаскать центнерами, иначе они похудеют, с голода подохнут на одной зарплате!
Три раза ездила в Каховку в гости к твоим родственникам, ездили все мы к твоей сестренке Валентине на день рождения ее сыночка Андрюши, купили слона и танцующего зайца, с Валею мы обменялись серебряными кольцами на память, у них я пила домашнее виноградное вино, ледяное, что у меня затем першило горло. Мне больше всех понравилась твоя сестренка Валентина, толковая и добрая, самая душевная. Семья у нее хорошая, и мать твоя всем помогает, слава богу, что у нее есть такая славная дочь!
Затем я гостила у твоей родной тетки Софьи, у них своя машина, немного меня покатали, показали знаменитый памятник в Каховке, который ты мне прислал на открытке, Каховское море — Днепр, Вечный огонь, площадь Трудовой славы. Купила пятый том Тараса Григорьевича Шевченко: его Автобиография, Щоденник, Избранные письма — за счет какого-то сбежавшего подписчика из Каховки. Муж твоей тетки — крутой, вспыльчивый, прямой, въедливый русский мужлан заколебал, замучил спорами, противопоставляет интеллигенцию народу, придирается к каждому слову, но человек бывалый и очень интересный, крепко с ним сцепились и кое-как разнимала нас Софья, у них ночевала дважды, жаль, что нельзя описать эти споры, цензура не пропустит.
— Алтан Гэрэл — вы загадка для нас! — чешется он.
— А вы хотели разрезать меня, как помюдор на гарнир?
— «Не люби друга потаковщика, а люби встречни-ка», — отвечает.
Ну, что я еще видела из окон автобуса? Как кавуны лежат на полях да поливальные фрегаты «Волжанки», да канал, где утонул муж Лилии Ковальчук. Кстати, она подходила к нам и поздоровалась со мною, ее позолоченные пуговицы словно расплавлялись на солнце, а румяна таяли и жгли ей щеки, с толстых ногтей до половины ободрался маникюрный лак вишневого цвета, туфли носит, наверно, сорокового размера, если не больше. Трудно поднять такую красоту даже атлету, разве штангисту одолеть такой вес, а ведь баба — «самый цимес», около тридцати лет. Как странно, что ты, Мелентий, отказался на заправской «дунь-полечу» бабе жениться, когда она согласна была остаться ради тебя в Чикшино бухгалтером или поваром, а предпочел пустую переписку со мною, правда, сейчас переписка стала лютою, накалилась до белого каления! грозится войти в историю эпистолярного жанра, тем более весь отпуск я посвятила письмам к тебе да чтению одной-единственной книги «Курортник» Германа Гессе, которую специально взяла с собою в чемодане.
«Нет больного, который одним-единственным шагом, пусть даже шагнув через смерть, не мог бы обрести исцеления и вернуться к жизни. Нет такого грешника, который одним-единственным шагом, возможно даже через казнь, не мог бы очиститься и обрести божественность. И нет такого хмурого, сбившегося с пути и, казалось бы, пропащего человека, которого внезапное озарение не могло бы обновить и превратить в счастливое дитя…» — так пишет не какой-нибудь зажравшийся на курорте миллионер-буржуй, а лауреат Нобеля, апостол райской свободы духа! Вот какую истину нам с тобою надо усвоить, нести в сердце своем.
Самые последние новости — приезжает твоя бывшая теща за Неллечкою, получили телеграмму, а я уезжаю именно в этот день—18 октября — будем все прощаться, разъезжаться, зарезали кабанчика, вся родня налетела и мясо растащили, как стервятники, я ела почки, печень и студень, после у меня была страшная изжога от жирного, а до этого я питалась арбузами, виноградом и парным молоком. Мы все искупались в вашей баньке и сидим на лавочке симпатичные, Неллю я хорошенько расцеловала, пока она не замаралась, после баньки она просто прелесть! она нарисовала для тебя самых кудрявых на свете барашков с закрученными рогами, такие мелкие, рьяные, шипящие кудри не завьет поди ни одна химзавивка! Какой способный ребенок — твоя Гаврош, а на конкурсе детских рисунков за этих барашков дали бы приз, а теперь Неллечку увезет другая бабушка, говорят, медовая матерщинница. Погуляли сейчас с Нелькою по Слободе под шумным гудящим ветром, яростно срывающим еще сочные листья, какая шикарная расточительность природы! Село утопает в зелени, как курорт, для смягчения жуткого лая злющих, безумных псов, озверевших на цепи от блох, нежно цветут пышные лиловые георгины, как у меня на крепдешиновом платке, а Нелля почему-то называет их «англинами», шукаем мы с нею падающие красные яблоки в этом щедром благодатном краю. А ведь неизвестно, ступит ли еще когда моя нога в этот край? Сидим на лавочке, лузгаем кабачковые семечки, лицо и руки ласкает прощальный осенний загар. Какой чудесный, грустный, полно-прощальный день! Даже куры, гуси, пацюки и щенки подходили и обнюхивали меня на прощанье, и для полноты сердца Боське я помыла черные уши мылом «Элегия», аж блестят, как бархатные! а Гаврош поливала из черпака.
В этом мире никто не обещал мне высшего счастья, и только один несчастный заключенный, осужденный на двенадцать лет, полюбил меня роковою любовью и манит безграничным счастьем. Я не знаю, когда, как и чем он меня осчастливит навеки, но верю вещим сердцем, что Мелека Мелентий Семенович меня не обманет, что бы ни случилось, и я буду молиться всему святому на земле, чтобы сбылась эта высокая человеческая мечта.
Греческий мудрец Биант сказал: «Все мое ношу с собой».
В одном мы с тобою свободны — от груза материальных миров.
Гаврош целует все твои веснушки.
15 октября 1980 года
С южноукраинским приветом Алтан Гэрэл
До свидания, Архангельская Слобода!
Письмо 45
Приветствую тебя, Алтан Гэрэл, сегодня 19 октября 1980 года, воскресенье, живу под чарами золотой осени, избалованный частыми твоими отпускными письмами, а сегодня ты в дороге и начнутся у тебя гонки столичной суеты. Я учусь в ПТУ, но, к сожалению, у нас всего один-единственный учебник и очень прошу тебя, достань, пожалуйста, учебник Л. А. Невзорова и других авторов «Машинист башенного крана» — издательство «Высшая школа» и вышли книжною бандеролью на спец, часть или замполиту, будем благодарны.
Кто тебе наговорил, что я сам напросился на Север? Плюнь тому в морду и разотри грязным носком. Нас не спрашивают: «Милые люди! Есть ли желающие податься на Север? Выбирайте, пожалуйста, тюрьму по вкусу». Такое обращение к зэкам ты поищи в мировой фантастике, да и вряд ли там найдешь. На Севере нужна рабочая сила, приехали и отобрали по личным делам самых «ретивых» уголовников и приказали перед самым этапом, чтобы в течение 10 минут были со своими мешками на вахте. Тут и опомниться не успеешь, не дадут по-человечески помочиться перед дорогою, как через каждые две минуты прибегают и подгоняют чуть ли не палкою. А ведь живому человеку надо проститься с теми, с кем успел подружиться, делился куском черствого черного хлеба. На днях освободились сразу четверо, в том числе мой друг из Донецка, именно в этот день передавали песни Валентины Вишневской по Маяку. О, как плакали скрипки, пилили нежно сердце, и мне казалось, что я способен пойти на подвиг под звуки цыганской песни, способен начать жизнь заново. Как волновались друзья перед уходом, напарились березовым веником, намылись в бане, пришли румяные, лица сияют, сердца трепещут. Свобода — разве она не второе рожденье, рожденье со взрослым умом и волею, с новым взглядом на жизнь! Да, освобождение — это тоже своего рода день победы, победы над прошлым, над самим собою и бедами. А журнал «К новой жизни» я в глаза не видел, хотя он где-то выходит для нас, осужденных, большинство из нас и представления не имеет об этом журнале. Может, администрация им зачитывается до дыр или тираж у него мизерный?
Теперь о самом главном — о пресловутой ревности. Ты сама начала меня ревновать к Лилии Ковальчук, которая давно уже замужем. Ну, что я мог сделать, если мать привезла мне «невесту» в зону, навязала на шею, на этот буйный цимес все зэки пялят голодные глаза, возбуждаются, что мне — прятаться и бежать от нее? Но, увы! И понюшки не было, не дали длительную свиданку. Ты почему у нее там не спросила, когда она сама околачивалась вокруг тебя, что у нас с нею было? И теперь откровенно через цензуру и всю администрацию зоны спрашиваешь была ли у меня за три с половиною года заключения какая-нибудь женщина?! Да нет же, ей-богу! Поверь и перестань ревновать к Лилии-Шпобель, нашла соперницу…
Ты пишешь, что твои любимые строки у Пушкина таковы:
Мне же ужасен любой обман, возвышающий хоть до седьмого неба!
У Пушкина я нашел лучшие строки против себя самого, где он навеки заклеймил лютых ревнивцев:
Именно эти строки Пушкина гениальнее всех для меня.
Письмо 46
Здравствуй, несравненная моя Алтан Гэрэл!
Сегодня 7 ноября 1980 года. Какая буря в моей душе! Пришел после завтрака — дали вареный рис на воде без масла, даже забыли посолить в честь праздника… решил весь день отдать тебе — Солнце жизни моей — Алтан Гэрэл! Получил перед праздником письмо с шестью фотографиями. Вот это да! Я счастлив, что в будущем буду делить с тобою все невзгоды и радости жизни, но мне очень жаль тебя, Алтан Гэрэл, что ты в своей жизни делаешь такой необычный шаг, что некоторые навсегда отвернутся от тебя, если приедешь жить со мною на поселение, молва не пощадит никакую любовь и счастливый брак. Но мои родные братья, сестра и мать будут счастливы за нас и всем миром они помогут, зимою ты могла бы жить у них, и только летом со мною, ведь здесь морозы лютуют до минус семидесяти градусов. Сперва, конечно, дождемся выхода в колонию поселения, ты приедешь ко мне и на месте решим — как жить дальше? Чьими стихами и как выразить всю бурю счастья в моей душе?! Из Гете выучил строки:
Алтан Гэрэл, родненькая, тут один мужик — специалист по женам глаголет, внушает всем: «Первую жену дает Бог, вторую — наш народ, люд, а третью жену дарит сатана, значит, навеки дадена». Видимо, есть смысл, с третьею — после пережитого моря страстей и горя — меня разлучит лишь могила, любой крест понесу до смерти. Наше поколение пятидесятых годов не видело никаких страданий, не было испытаний, да тюрьма мне выдала. Помнишь, как я написал, что есть «возраст тюрьмы», и вызвал огонь на себя, ты отвечала: «Есть вечный возраст — глуп, как репа». А кто знает, может, для дураков и есть возраст тюрьмы — двадцать семь. В среднем, может, двадцатисемилетние дурни всех мастей и сидят? Я на свободе слышал, как одна бабка в автобусе ругалась, увидев пьяную юную девушку с парнями: «Господи! Видать, в пеленках потеряла честь. Кару надо», — и как пьяные парни дружно заржали. И лишь теперь осознаю, что слова старухи были пророческими — кару понес я. Мальчишка! Жизни-то не видел путной, кроме тюрьмы, но в ней же, пагубной, и возрождаюсь…
Алтан Гэрэл, мне даже странно было, как ты обрадовалась тогда Жар-птице на открытке и до сих пор всякие философские рассуждения пишешь об этой птице, жаль, конечно, что не я тебе нарисовал! Мне же с самого детства приходится работать, орудовать топором, косою, пилою, ломом, теперь мать моя вообразила, что я стану художником-оформителем… думает, что в совхозе имени Блюхера буду ДК украшать! резьбою по дереву. «Хороша дочь Аннушка, как хвалит мать да бабушка» — это любимая пословица моей матушки.
Эх, один только я — бугай рогатый — загремел кандалами на двенадцатилетний «наркомовский паек»?!
Знаю, жизнь ждет меня нелегкая, но не будет она невыносимою. Я не рассчитываю на большую помощь со стороны матери, хотя мать, если будет жива, изо рта вынет ложку для меня. Бедная матушка увязла в грязи с совхозными телятами, угробила последнее здоровье, дважды отказалась от путевки на лечение, на отдых в санатории. Сколько я просил, требовал, умолял и даже ругал, чтобы она все бросила и лечилась. Но разве убедишь се, тем более на расстоянии?! Иногда высылал ей деньги, сколько мог, но и те уходили на меня… Держит большое хозяйство, встает в пять утра, как мы в зоне, и ложится также в полночь. Бандероль от матушки получил богатую, отдали все содержимое в ней, трусы, роскошное полотенце, перец и мелочи. Не видел я здесь такого полотенца хорошего, этому красивому и пышному полотенцу я так же рад, словно на свободе выиграл в лотерею автомобиль! У нас вся одежда, кроме белья, черная, словно мы кроты Черного царства, хоть можно цветным полотенцем утираться. Ей-же-ей, вещь! Любуюсь ею, как на ковер-радугу гляжу.
В воскресенье я был ужасно болен, не знаю, отчего голова разламывалась. Весь день провалялся на нарах, возможно от перемены погоды, был мороз, шел снег вчера, а сегодня целый день льют проливные дожди, растопили снега, всюду лужи по уши, под ними стылая земля, очень скользко.
Не писал я тебе, что в «Записках следователя» Льва Шейнина мне больше всего понравился случай, когда во время войны немцы разбомбили одну тюрьму, а освободившиеся таким образом зэки все сами построились, выбрали старшего «командира» и пошли на восток к своим, найти и доложить, что мы, зэки, прибыли в целости и сохранности, возьмите вновь под охрану, решайте нашу судьбу. Мы с ребятами горячо обсудили этот случай. Да так честно могли искать своих людей только наши советские заключенные, имеющие Родину, народ, веру и надежду на будущее.
Мой кент — Силантий Шишкин благодарит тебя за черные бархатные розы.
Алтан Гэрэл, ты даже перестала ходить в кино, но все равно пиши мне хоть понемногу, пусть короткие письма. Ты не разгневаешься, если я скажу, что ты мне пишешь такие предельные, великие по смыслу письма, будто их пишешь не мне, зэку, а послание самой Вселенной… Прости, может, ты не умеешь иначе писать, но мне каково отвечать? У меня нет образования, мощи воображенья такого, нет тут книг Германа Гессе «Курортник», «Степной волк»… что цитируешь:
«Разве поистине не потрясающе, что религия, учение, теория тысячелетиями все тоньше и строже разрабатывает учение о добре и зле, правде и неправде, ставит все более высокие требования праведности и покорности, чтобы в конце концов, достигнув вершины, перейти к магической истине, что девяносто девять праведников меньше перед богом, нежели один кающийся грешник!»
Боже мой! Алтан Гэрэл! Ты, наверное, хочешь, чтобы именно я стал этим драгоценным миру грешником?! Вот что ты замыслила?.. «Приехала сюда, чтобы выпить бокал гноя!» — вырвались однажды ядовитые и полные тайны слова из твоих гневных уст. О, так могла говорить разъяренная царица! Мне было страшно переспрашивать смысл этих слов… Ради какой великой цели ты выпила бокал тюремного гноя?! Ответь.
«Быть может, такие неслыханные, дерзостные, даже ужасающие истины и прозрения, какие содержатся во многих речах Иисуса, следовало бы тщательно скрывать и хранить за семью замками. Быть может, было бы хорошо и правильно, чтобы человек, дабы узнать хотя бы одно из этих могучих слов, вынужден был тратить долгие годы и рисковать жизнью, подобно тому, как делает это в жизни ради других высших ценностей…»
Твой антисвятой Мелентий
Письмо 47, написанное 10 декабря 1980 года
Здравствуй, родненькая Алтан Гэрэл!
Извини, что целый месяц я молчал, не мог написать— непредвиденные обстоятельства тому виною. Даже невероятно, как это я впервые осмелился написать тебе в марте, не имея ни малейшей надежды получить ответ — так силен инстинкт любви и свободы, крепка вера, как хребет! И как я затем боялся вспугнуть тебя незваными страстями, клокочущими во мне, боялся громкого гомерического хохота, иронии и презренья. Конечно, только преступник понимает жизнь изгоев и прокаженных. Алтан Гэрэл, милая, если бы ты знала, как цензура и администрация любит твои письма, задерживают их, перечитывая, а зэки выписывают из них то, что им вздумается: цитаты, стихи, твои мысли и т. д. Ты сама видела, как я подшиваю, нумерую, ставлю на них дату получения, веду учет пуще, чем деньгам, но хранить их приходится в тумбочке, куда без меня залезет любой и украдет, поэтому на обороте, где чисто, нарочно красною пастою огромными буквами пишу:
ПИСЬМА, НАПИСАННЫЕ МНЕ — МЕЛЕКЕ МЕЛЕНТИЮ СЕМЕНОВИЧУ НИКОМУ БОЛЕЕ НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ, В СЛУЧАЕ МОЕЙ СМЕРТИ ВЕРНУТЬ ПИСЬМА АЛТАН ГЭРЭЛ
Пойми, дорогая, я не собрался умирать, я это для того, чтобы никто не зарился на твои письма, а то они порвутся, до того их истрепали, что они почернели, все края надорвались, помяты, словно в переделке побывали. А что мне делать остается, если с единственным моим благом, отрадою и богатством так обращаются?!
Начальники отрядов у нас частенько меняются, при тебе громил Минутин, он редко приходил в секцию, зато бывал короток на расправу, мог прибить. Теперь новенький, может, очередной Сиеминутин из текучки Вечности?'
Зубы пока все вылечил, моему товарищу на свиданку привезли два флакона минеральной воды из источников Болгарии, где берут воду для изготовления зубных паст «Мери» и «Помории», этою драгоценною водою полощу зубы на ночь. Алтан Гэрэл, если бы ты знала, как гадко клянчить все на свете, всякие мело-чушки, зубной порошок и все такое, сам себе не рад, так и хочется завыть порою волком на всю Печору. Выпускали бы для нас, зэков, порошки пятого сорта и выдавали по кило в год, не у всех полон рот зубов, хватило бы как-нибудь. А я коллекционировал бы зубные щетки! Нельзя.
Знаешь ли ты, что Всесоюзное радио не выполняет заявки зэков, а также заявки, адресованные к ним, нашими родными, представь такое: «Передаем песню «Малиновка» для осужденного Мелека Мелентия Семеновича, который отбывает срок своего наказания в зоне усиленного режима близ поселка Чикшино Печорского района Коми АССР. Слушайте, дорогой, уважаемый в своей тюрьме, Мелентий Семенович, Вашу любимую песню за ваш достойный вклад в строительство домов», От такого взлета отечественной демократии правительственный «Голос Америки» инсульт получил бы и навеки остался заикою! А надо бы, чтобы осипли кое-какие голоса.
Вчера получил от тебя письмо с кричащею чайкой. Боже мой! Ты сердцем чуешь мою беду, и нам приходится кричать, как этой птице. Сегодня я вновь закурил, но после одной сигареты меня затошнило, и решил больше не дотрагиваться до курева. Знаешь, каждое утро занимаюсь на перекладине, поднимаю самодельную гирю из обрезка рельса весом 30 кило.
Алтан Гэрэл, ты просишь, чтобы они перестали меня звать по кличке — Графом. Ой, как трудно отскоблиться от такого тюремного титула, ведь около тысячи человек уже два года кличут-каркают Граф! А его сиятельство Граф Огородное пугало в кирзачах, дрянном ватнике, брит наголо, руки в цыпках, как наждак, можно ножи ими точить! Тюремный Граф заставит уважать себя ворон, разлетайтесь, стервы, или глаза вам выклюю!
В детстве был веснушчатым, по когда мне девять-десять лет было, я упал с велосипеда лицом прямо в засохшие комья грязи и ободрал веснушки, остались они по овалу лица. Эх, Алтуха, где мое графство, родное Дубровино? Там я рос диким бурьяном, немытым поросенком…. и вот брежу мыслью о теплом своем уголке.
так поется в одной лагерной песне. Мы вчетвером на работе заняли одну комнату, там переодеваемся, иногда чуть-чуть посидим и такое у нас чувство, будто это паша квартира, хотя это сиюминутный уют… пока этот дом строим.
О, если бы ты знала, как здесь душат нас! Какой Аракчеев, какой троглодит этот начальник колонии! Вот сегодня вызвал меня хозяин-барин Храма Смерти и Греха и зычно пригрозил:
— Мелека, если не будешь работать старшим на лесопильной рамс и выдавать нам план, то сгниешь в изоляторе!
Вот так шантажируют испытанным методом, дразня меня предстоящим выходом на поселение, ведь через четыре месяца суд мог бы решить это дело. Убей меня топором, а не знаю я, с какой стороны подойти к этому механизму! Вот где «Закон — тайга, медведь — хозяин», все осужденные подтвердят, что хуже этой зоны нигде другой нет и тюремщики на подбор преподлые. Я вынужден буду письменно жаловаться во все инстанции и просить, чтобы меня перевели отсюда подальше— хоть на Бермудский треугольник, чтобы сгинуть! В 1971 году я выучился на плотника и в этой колонии два года работаю плотником, имею множество поощрений, в ПТУ учусь отлично. На воле я работал станочником по изготовлению оконных и дверных блоков, ходил в подсобных рабочих на пилораме, толкал каретку, но я — не профессиональный пилорамщик, не дружил же с пилою. Если бы я был заядлым пило-рамщиком, то какой мне смысл отпираться и навлекать на себя гнев начальства?! Только страх угробить дело и распилить себе руки, ноги и все прочее угнетает меня. Согласитесь, я ведь — не Емеля-лентяй.
Алтан Гэрэл, если долго не получишь письмо, не думай, что разлюбил, забыл, о нет! и нет! Может, придется отсиживаться в ужасном, гнусном изоляторе, где ты видела купоросно-зеленых людей, как они сидели вместе с парашами. Гэрэлма, береги себя, как зеницу ока, при виде кричащей чайки мне страшно тревожно, может, тебе даже хуже, чем мне? Если бы я был рядом с тобою, то берег бы от всего, а тут меня самого упекают еще дальше, но, может, еще обойдется? Старший прораб Лотарев Владимир Леонидович ко мне прекрасно относится, кроме благодарностей за хорошую работу я ничего другого не слышал, — может, он защитит меня?
Однако сегодня я начал сильно «молоть ветер», до того мне Аракчеев хвост накрутил — тьфу!!! «Тюрьма не дурна: пуста не стоит». Государству от нас убытку нету, где оно найдет такую бесправную и дешевую рабочую силу?
А я-то сколько мечтал увидеть сполохи — северное сияние, а тут глядишь — «Суд да дело — собака съела».
Шолом алейхем!
Твой Мелентий
P. S! Как бы ни рвалось сердце мое от любви, жажды счастья, кровавая моя вина и человеческая совесть мучают меня: «Ты не смеешь на свободные плечи Алтан Гэрэл взваливать тяжелую ношу, пятнать ее своим грехом, подвергать ее людскому суду».
Жизнь на воле идет по своим законам, привольно, а где-то на Севере многие тысячи преступников томятся вдали от счастливого общества, но они больше, чем кто-либо, понимают цену жизни и свободы, простого человеческого счастья. Вся моя жизнь — это заблуждение и обман. Люди считают нас потерянными, чужими. Как ажиотажно произносят они слово «зэк!», словно вот-вот ударит ток, словно мы все с ножами или рогатые. Сколько же можно судить и рядить нас заново, когда мы сами себя осудили, когда наши сердца истекают кровью. А нам все дают и дают советы, ЦУ, издают и переиздают приказы, а мы должны и обязаны выполнять, иначе у нас отнимут последнее — отравленный остаток нашей жизни.
Вина моя растет со мною вместе. Вина перед всеми близкими, неисправимая вина перед Алисою и перед ее сыном.
И вина моя восьмою черною дугою влилась навеки в радугу над миром.
Очернил свою радугу до смерти.
Алтан Гэрэл! Какой поистине високосный год устроили мы друг другу!!! Не парад планет, не космические силы, взыгравшиеся предельно, а ты чудом озарила этот великий 1980-й год для меня.
Мелентий Мелека
Уильям Блейк
Письмо 48
Дорогой мой любимый сыночек Мелентий здравствуй!
Сегодня мне знаешь пятьдесят три годочка, а я уже не хожу по сырой земле а ползаю едва живая снова случился приступ давления на 220 вот уже за три месяца три раза. Сижу дома в больницу не ложат старых не обязательно лечить и больничный давать давление же не вылечивается а как пошевелило сильно думала не увижу больше тебя надо приготовиться во Млечный Путь навеки. Местов-то в больнице в декабре сейчас нету приезжает с Перекопа скорая помощь и проверяет конечно когда были места сама сдуру не легла а пала когда прибрало спина болит свирепо она не гнется ноги вовсе отказывают ходить с октября до сих пор грязюка непролазная и сапоги резиновые с ног не снимались в них и свалилась. Вот такой из меня работник телятник, бывает дома одна лежу и стакан воды некому подать. Дед Василий при людях держится а как до свободы дорвется так запоем пьет работу свою бросит да и чего ему не пить когда не выгонишь старого-то вот и ходит пьяный обвыкает углы не только на улице бывает и в хате речьки текут мочевые а сердце мое уже такое не выдерживает все невзгоды беды заботы скучились и ударили кружится сильно голова и падала признали упадок сил еще. Дома завела целую аптеку из Каховки зову Валю чтобы переезжала в совхоз с семьею работа найдется любая им молодым да где же поедут сюда? Владимир по командировке работает в Херсоне два месяца не вижу. Кабанчика зарезала и телку продала нынче за 200 рублей и дала Юрке на дорогу в Якутию чтоб не стоять ему на пути пущай на произвол судьбы разъезжается по стране как оперились так все разлетелись орлы кто куда под материнской юбкой сидеть вам душно и некому сторожить недостойную мать. Но я все терплю чтобы выкарабкаться и дождаться твоего возвращения живою и ты сын все терпи только терпение спасет нас с тобою горемычных. Вот так меня замучила гипертоническая болезнь пожаловаться некому только тебе одному Мелентий пишу чтобы ты не делал в тюрьме нарушений и все терпел по закону. Ты спрашиваешь насчет моих легких нынче проверили и вылечили выпила много алоевого соку Соня все мне покупала да возила да целые листья алоя ела и мед пила и легкие отпустило. Пальто зимнее у меня почти новое правда ворот искусственный оно недорогое мне и ладно за сто рублей лишь было теплое и шаль пуховая есть у меня богатая за 180 рублей дороже чем пальто и воротника ненадо никакого и ковты две шерстяные и ничего мне ненадо только дожить до пенсии а если еще два года не знаю смогу ли хоть сторожем дотянуть? Вот и в родилку телят не пошла а начальства уж стыдно что всегда им забота искать подменную как я свалюсь сейчас сама где под силу подменяю. Написала на родину доверенность на свидетельство о рождении с 1927 года чтобы заменить паспорт но глухо не отвечают может какая-то бестолковщина там. Буду еще живая кроме птицы ничего не буду держать скота сейчас не на что держать зерна я лишена на 100 % потому что была задержана директором с соскою молока и судили нас несколько человек народным судом. Как штрафанули на разные суммы и лишили годового заработка зерном вот так тяжело. Директор совхоза новый ужасно строгий люди из совхоза рассчитываются а экономист еще пуще директора только и выглядывает караулит как часовой где кого бы задержать за руку экономист даже дрался до крови на пульте где давят сок из помидор. Людям надо жить а заработки малые и начальству надо порядок блюсти. Я раньше 150 получала было мало а теперь еле-еле 90—100 зарабатываю и думаю слава богу хорошо а то бывает сядешь на все 70–60 рубликов. Надо мне к Новому году встать чтобы Аленушке и Алтан Гэрэл твоей на 16 января посылки сделать слава богу что в один день родились считай повезло и не забудешь разом отправить посылки телеграммы только опять ящиков нет и все тряпки изрезала на обшивки.
Алтан Гэрэл у нас питалась одними семечками тыквенными жарила и лузгала она кроме орехов ничего не любит насушила ей не знаешь чем она питается в Москве Мелентий ты уговори ее выучиться заново пусть она станет адвокатом с нею ни один преступник не пропадет а то какая у нее работа в общежитиях хотя я ничего не понимаю. Хочется мне всем детям угодить и внукам всем послать все чем богата тем и рада а положить не во что да сама еще слаба кое как письмо нацарапала куриными ножками перед глазами мазурики летают всего сразу не рассказать но как мне дождаться тебя сыночек родненький свет мой в окне еще тебе семь лет сидеть или восемь в крайнем случае пойду в Дом престарелых он работав! в Каховке сдаст туда совхоз и там всех принимают бесплатно а если суждено мне будет умереть не дождавшись тебя ты на мать не обижайся и помни мой наказ терпеть всё как и я виновная не уберегла тебя от преступления греха. Целую.
Ну да ладно. «Какова Устинья, такова у нее и ботвинья».
Я никого кроме себя не виню.
17 декабря 1980 года Мать твоя Варвара
Письмо 49
Здравствуй, мой бесценный друг и дар небес Алтан Гэрэл!
1 января 1981 года и я счастлив в каждый Новогодний день, сердце мое полно обновлением и ожиданием свободы. Знаешь ли, что грешник любит женщину глубже, чем невинные мужья, он любит всем раскаяньем и муками сердца, стремленьем к солнцу святости, хотя оно светит в иногалактике. Учуяла ли ты это инстинктом?
Вчера вечером замполит вызвал меня на беседу сердечную, человек он душевный и окрылил меня морально, обещал ускорить получение книжной бандероли. Таблетки мела, что ты положила в конверте, изъяты, лекарства высылаются только через санчасть, но не велика потеря.
О, какое сказочное супружество я вижу в мечтах после смертельного сожительства с Алисою! Снится мне женитьба. В изоляторе я не был и всеми своими силами буду стараться не попасть туда. Не дай бог!
В этом году буду получать одну-единственную газету «Комсомолку» и один-единственный журнал «Сельская молодежь» — и все. Ты в курсе моих финансов, на лицевой счет у меня в месяц поступает не более 5–6 рублей. Вот почему я так мало выписал прессы.
Спрашиваешь, холодно ли? Зима нынче теплая. А вот в Новогоднюю ночь 1979 года было — 59° мороза, в городе Печоре за одну ночь замерзло 16 человек, в том числе две женщины, как шли обнявшись, так их и нашли мертвыми. Мой кент перебегал из барака в барак и нос отморозил, мы долго смеялись над его носом, ведь самое главное — золотой болт цел, а нос зарастет, не носом детей стругать. Но ты не беспокойся за меня, уральца.
Правда, в детстве на Урале я один раз обморозил все лицо, ночью зимою шел пешком тринадцать километров. А уши, нос, щеки обмораживал много раз, аж веснушки сошли, вытекли с отмороженным мясом. Мне с пятого класса по восьмой приходилось каждую неделю ходить пешком по тридцать километров. В детстве я испытывал на себе и холод и голод. Однажды пришлось есть озимую проросшую пшеницу, ел эту зелень, и сейчас помню — сладковатая, полубезвкусная, без запаха. В тот же день с братом двоюродным нашли одну стылую картошку малую, разделили и съели и сразу в теле почувствовали прилив жизни. Странно, что в Новогодний день с горечью вспомнил эти полкартошки. Здесь все мы прехудые, выпирают копчики. Да и парная баня вымывает наши кости. Кости наши становятся ломкими, кровь гибнет и дохнет, едва свертывается, раны заживают долго, гноятся.
Был у нас книжный ларек, купил пачку тетрадей, две пачки конвертов, три бутылочки чернил, трехцветную ручку. Это Новогодний подарок самому себе, чтобы всласть писать тебе письмена.
Милая, чем объяснить мне тот ноябрьский перерыв в нашей переписке? Да ничего со мною не произошло, я здоров, в изоляторе не сидел, ей-же-ей! Это ты позволяла себе почти год беспрерывно проверять меня в прямом смысле слова, однажды даже обозвала меня «пустым парнем» только за то, что я от нервной перегрузки начал вновь курить, и дошла до крайности: «Не пиши больше!» У меня есть тоже какое-то достоинство, а может, и упрямство, к тому же я растерялся, испугался и молчал почти месяц, переживал, сомневался, «гнал»… хотя мы с тобою забурились и ввысь и вглубь. Как я тогда беспокоился и ждал писем от тебя! Не знал куда деваться, смастерил перекладину, две самодельные штанги по 35 и 60 кг, приобрел гантели и ежедневно на тощий желудок с впалыми глазами тренировался. Вот где было «О, горе мне!». Бывало, не выдерживал и писал тебе длинные прощальные письма, но рвал в клочья и бросал на ветер! Часто вспоминал, как ты заплакала, когда мы вдвоем сидели в кабинете замполита, а я, олух царя небесного, растерялся и не знал, как быть, что сделать, чем утешить, а ты заплакала еще пуще, думала, что я — железный. Я не видел женщину три с половиною года, одичал страшно, мог бы и с ума сойти от этого. Скажу более того, что я тогда украдкою собирал твои очески, по одной волосине, всюду их высматривал, счищал все твои плечи и клал в карман, воровал твои носовые платки, но ты не замечала, не до платочков тебе было. Волосы твои шелковые, такие сладостно-вольные, не ведавшие мук завивки и крашения, я храню и целую, к платочкам припадаю от тоски и страсти.
Никогда тебе не писал о своих мечтах совместной жизни, чтобы не отчуждать тебя. Но мы по-прежнему не знаем друг друга, ибо никакая предельно искренняя переписка не вскроет глубин человеческого сердца. Не вмешиваюсь в твои дела и в работу, так как не вижу отсюда, не представляю до конца. А как служить тебе опорою из тюрьмы? Мужчина и в тюрьме должен оставаться мужчиною и служить опорою для матери и любимой.
Для начала я, как плотник, сам смастерю нам крепкие здоровые нары, чтобы не гнулись, не скрипели, прекрасную жесткую постель, новые столы и табуретки, может, раздобудем списанные шкафы и мебель. За свежим сосновым столом без всякой скатерти будем пировать с тобою консервами, порою даже стряпать сибирские пельмени — «ушки». Если ты, Алтан Гэрэл, почти до двадцати пяти лет бегала по стадионам, занималась всеми видами спорта, в том числе тянула женский марафон — 2 км — здоровье у тебя, как у степной кобылицы! прости за колоритное сравнение, но это так, выросла ты на молозиве овечьем, значит, можешь со мною наравне ходить в тайгу, собирать подножий корм, грибы, ягоды, будем сажать с тобою голубой картофель, рассыпчатый! а мать будет присылать сухофрукты для компота. Я придумаю способ, как сберечь тебя от комаров и мошкары, а зимою согрею от холода. Для закалки и разнообразия ты два-три года проживешь со мною в лесу, будешь длинными зимними вечерами вслух читать стихи и труды философов, а я, после работы каторжной, растянувшись на нарах и закрыв глаза, буду слушать всю эту мудрость и ежедневно биться над загадкою: КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ? Может, это станет началом нашей совместной жизни, а дальше сама судьба поведет, подскажет… Ну, скажи честно, Алтан Гэрэл золотая, разве ты испугаешься лесной жизни в северной глуши? Ведь она не будет вечною, а мы молоды. Глядишь, на себе испытаешь романтику Севера не ради длинного рубля, а ради самой жизни в судьбы. А пока ты в Москве, жадно пользуйся всеми благами культуры, здесь же будешь ценнейшим специалистом: учителем, библиотекарем, журналистом, воспитателем… Но более всего ты смогла бы стать гениальным, уверен! — выдающимся адвокатом! Мне кажется, что не только преступникам, но всем простым смертным более всех нужны адвокаты…
К светлому Дню твоего рожденья дарю тебе твой собственный портрет. Он увеличен в натуральную величину и понравился всем, кто тебя видел в зоне и помнит. Я собственно «художничал» несколько месяцев на березовой доске, а теперь оцени саму себя через мои усилия… Целую тебя двадцать семь раз волшебно!
Письмо 50
Здравствуй, бесценная моя Алтанхан!
Сегодня 14 января, послезавтра День твоего рождения. Рад буду, если ты уже получила свой портрет, а сердцем и душою я всегда с тобою. Учусь отлично, только одну четверку получил по черчению от усталости, но исправлю на «5».
За полмесяца 1981 года я прочитал повести и рассказы Александра Фомича Вельтмана: «Эротида», «Ольга», «Иоланда», «Радой», «Карьера» и «Урсул»: «Любопытно мне знать твою жизнь».
«Зачем тебе знать? Знает про то бог. В его великой книге все записано… Сам я записал в нее и мое имя, и дела, и помышления, без допроса, без грозы и истязания… Придет время, Он скажет только: «На, читай — судись и казнись!..» Для меня пришло это время; и день, и ночь, и наяву, и во сне, все читаю я про себя и, со скрежетом зубов, подкладываю под себя огонь, вымещаю на душе и теле все дела воли моей. Сушу в костях мозг, кипячу кровь, вытягиваю жилы… О, зол человек! Он сам себе мститель!»
Приятная новость: сегодня отправили из нашей зоны десять человек в колонию поселения. Дай бог им вырваться затем на свободу. Эх! Завидую им белоснежной завистью, рад за всех, на прощание прочитал отрывок из «Урсула», горестно вздохнули.
Буду рад, если поедешь в Звенигород лечиться, не упускай это направление, собирайся шустро, как спортсменка, погуляешь в зимнем сосновом бору, подышишь, пожуешь хоть горькую канифоль вместо серы. Сразу же напишешь адрес санатория, буду тебе туда писать.
Из всего, что ты мне посылала, потерялась только одна книга, это стихи Гарсиа Лорки. Никогда не читал и не знаю цены этой потери, может, эта книга была лучшею, что ты отправляла и потому именно ее украли?
Получил от матери письмо. Два раза ей вызывали «скорую помощь», а болезнь свою скрывает. Труд у нее адский, работает без выходных и праздников, посадила она совхозное начальство на шею, и те никогда не дают ей подменную телятницу. Я иногда ей чуть-чуть помогал, эти взрослые крупные телята даже меня, буйвола, чуть не валили с ног, так они валят на пойло, руку сосут, кусают, могут пальцы оторвать. Телят с пяти утра до десяти вечера надо кормить, поить, ухаживать и только днем, когда их пасут, у матери бывает перерыв — приготовить себе обед, постираться. Я даже и подзабыл, пасут ли их летом? Может, ради привеса вообще перестали пасти, только и пичкают их комбикормами. Вот так матушка моя хочет заработать себе пенсию. Все старается для внучат, посылки Аленушке и Неллечке шлет к каждому празднику, пальтишки, платья, кофты, колготки, трусишки, ведь сейчас все одевают детей, словно на праздник! А баба Варвара с ног валится, инфаркты получает, жизни своей не жалеет, ишачит и ишачит ради нас. Совестно мне, но не отговоришь ее, писал и такое: «…учти, мать, доработаешься так, что найдут тебя павшею под копытами совхозных телят! А меня не отпустят проститься с тобою, ведь знаешь это…» Думаешь, помогло? Прочитает такое, улыбнется, даже обрадуется, что сын такую судьбу предсказывает ей, всем это перечитает, пойдет к соседям, покажет письмо, а после пойдет вкалывать пуще прежнего, с новою силою… А теперь мне пишет: «Боже мой! Мелешка, как ты можешь не рассчитывать на материнскую помощь на поселении? Здесь я заработаю пенсию и приеду к тебе на поселение подрабатывать и помогать». Вырастила такого Балду Разбалдуевича себе на гибель, чтобы горе мыкать на старости лет. Вина моя растет перед матерью, и нет мне прощения! И как горько, что ничем не смогу смыть свою вину перед нею. Тебе, Алтан Гэрэл, я посвящу всю мою жизнь без остатка до конца своих дней. Когда же наступит тот день высшего счастья, когда я сольюсь с тобою воедино?! Наступит ли он?
Листаю о Григории Сковороде — украинском философе, поэте, бродяге из XVIII века, наткнулся на чудные строки:
Алтан Гэрэл, милая, это книга в ЖЗЛ о жизни этого странствующего чуда нищеты, одержимого подвигом самопознания? Но где разыскать его труды? Кроме этих строк ничего не сыскать мне.
Письмо 51
Здравствуй, дорогая Гэрэлма!
Сегодня 22 января получил от тебя письмо и открытки, большое спасибо. Но в них уже нет тех чувств, какие ты питала ко мне два-три месяца назад. Конечно же, правы те, кто тебя отговаривает ради тебя же самой, чтобы ты перестала со мною переписываться, ведь ты из-за меня, голодранца и преступника безумного, можешь в столице потерять все: работу, прописку, комнату, авторитет и многое другое, чего уже не вернуть никогда. Я же ради твоего благополучия в комнате замполита говорил тебе, чтобы ты не отказывала себе ни в чем ради меня, а если встретишь большую любовь, то выходи замуж, и я искренне рад буду твоему счастью — и тогда ты заплакала навзрыд и я растерялся. Если ты встретила настоящего мужчину, любящего тебя, то решай свою судьбу, за меня не беспокойся, для меня после такой жизни, после этих условий любой лес, любая деревушка будет раем.
Моя бывшая теща медовая Евдокимовна пишет мне из Липецка, что моей Аленушке на Новый год подарили книгу за отличную учебу, что получили мое поздравление с Днем рождения 16 января, Неллечка пишет, что смотрит по телевизору «Поднятую целину» Шолохова, читает книжки, газеты, готовится к осени в школу.
Здравствуй, дерзкая Гэрэлмушка!
3 февраля получил от тебя телеграмму с новым адресом, по нему я должен вновь писать бесчисленные письма, на которые я теперь получаю ледяное молчание. Что случилось? Ты же прекрасно знаешь, о чем я могу писать тебе без конца: жив, здоров, работаю, такая-сякая погода и люблю тебя пуще прежнего, до безумия.
Что же ты молчишь? На мои пять писем отвечаешь одним и даже ты меня однажды зачем-то обозвала исусиком… Почему ты так делаешь? Я не хочу ссориться. Но я понял, что своею эпистолярною любовью я не смогу более тебя удовлетворять. Зачем ты начала вновь дерзить мне? Подумай хорошенько, не нервничая, не спеши рвать наши отношения. Каждый день смотрю на твои фотографии. Учти, что нет никакой 100-процентной гарантии, что я в апреле выйду на поселение. Но какой странный у тебя адрес? Тебе большой привет от начальника Кизилова Николая Васильевича, это он прошелся вместе с нами до КПП, когда ты уезжала и подарил тебе художества зэков и блокнот. Этот Кизилов больше всех тут перечитывает твои письма и, возможно, он тайно влюблен в тебя. Как твое здоровье?
Очень жду подробного ответа. Мелентий
Письмо 52
Сегодня 5 февраля 1981 года, получил более чем долгожданное письмо. Большое спасибо. Боже мой, Алтанхан Гэрэлма, что же ты раньше времени все плачешь и плачешь, то будет холодно, то голодно. Да, воздух здесь действительно разряженный, но никто не жалуется, может, привыкли или вообще не чувствуется? Я лично ничего подобного не чую, может, на самом деле на нашем Севере лучший в мире воздух! Уверен, что в Москве воздух в сто раз хуже, чем у нас, ведь миллионы автомашин газуют, смердят тебе в рот.
Получил открытки «Большой театр», спасибо.
Встаю в пять утра, пьем кружечку кипятку с сахаром 15–20 граммов и до обеда вкалываем.
Гэрэлма, мы все еще с прошлого года читаем и горячо обсуждаем материалы в «Комсомолке» под рубрикою: «НЕТ ПОТЕРЯННЫХ СУДЕБ». Хотим написать в газету коллективное письмо с указанием адреса нашей колонии. Но письмо цензура может не пропустить и даже наказать нас, организаторов сбора подписи. Может, ты отнесешь в «Комсомолку» письмо от моего имени с указанием адреса колонии? Сделай, пожалуйста, ради осужденных, для тех, кто думает, что пропал окончательно и никому на свете он не нужен. А ведь найдутся добрые люди, которые будут и переписываться, а после примут на работу.
На поселении можно ходить в вольной одежде. О работе же ничего не могу сказать. Может, придется ежедневно разгружать из вагонов цемент или работать в лесу от зари до темна, поездка в лес занимает много времени. Куда прикажут, туда пойду работать, а кассу нам никто не доверит. Дают всегда самое худшее.
Получил письмо от младшего брата из Якутии, уехал туда и сразу устроился сварщиком. Эх, если бы не сидел, махнул бы с братом хоть куда вкалывать. У меня брат двоюродный живет в Ирбите Свердловской области, а служил он в Петропавловске-Камчатском. Уходил в море на два-три месяца и рассказывал, что за этот короткий срок люди так надоедают друг другу, что смотреть в лица тошно, разговаривать трудно. А каково нам? Поэтому перевод в другую зону для зэка большое событие и разнообразие. Ведь нет похожих, как две капли воды, тюрем. От природы был вспыльчивым, а тут стал психом, в лагерях нервы не крепнут, а расшатываются, как зубы.
Письмо 53
Дорогая Гэрэлмушка! Здравствуй!
10 февраля получил от тебя два письма в одном конверте из санатория. Боже мой! Сколько я могу писать и писать и все о себе, повеситься можно! А ты все читаешь одну книгу умнее другой, живешь по книжным мудростям. А я крестьянин, не умею ни хитрить, ни лодырничать, душа нараспашку. Когда спрашиваешь, что мне нужно из одежды, то пишу, что нужны белье теплое, носки, трусы… Спасибо большое, что все закупила, мать моя не останется в долгу перед тобою. До Севера я не подозревал о теплом белье, рейтузах. Снабжение здесь хорошее, в г. Печоре почти все есть, были бы деньги. А мы, деревенские простофили, когда переезжали с Урала на Украину, то дом собственный, баню, две конюшни для скота «загнали» за двести рублей. А теперь в селе сколько тысяч стоит дом со всеми пристройками? Твой земляк говорит, что в бурятском селе такой дом оценивается около десяти тысяч рубликов. Семейным на поселении дают какие-то квартиры, но я их не видел, не могу расписывать узоры.
1 апреля 1981 года исполняется 1/3 часть моего срока наказания, после Дня смеха нужно ждать, когда будет административная комиссия, после — наблюдательная, затем после комиссий состоится суд, который решит перевод в кол. поселение. Так что канитель протянется на год, если не больше. После суда надо ждать, когда и куда пойдет этап. Обычно шлют на Лун-Вож, за сорок километров от Чикшино, где живут одни холостяки. Да пройду ли все комиссии и суд??? Я не знаю истинного отношения начальства ко мне. Нужно ли начальству, чтобы мы выходили на поселение? Ей-богу, не знаю. Ты знаешь, как гибельно на земном шаре любят и обожают власти угодников, в тюрьмах тем паче. Я же антиугодник, вспыльчив, упрям, неуступчив, не трус, не лицемер, не взяткодатель и в конце концов — убийца. На глазах всей зоны переписываюсь с тобою, с бесстрашною бунтаркою. Учти, что я — тот самый тяжелый для всех преступник, который все вещи называет своими именами и никому не продается. О, как таких ненавидят и зажимают! Именно строптивый характер да тьма египетская толкнули меня на страшный грех при свалке всех причин в одну кучу. Именно я спалил эту мусорную кучу, которая воняла на все село, и пеплом посыпал себя навеки. Но все равно — вина моя растет.
Искренне твой Мелентий
Письмо 54
Здравствуй, Мелентий Семенович!
Пишу тебе последнее письмо из больницы № 45, где «лечилась» с 28 января по 10 февраля, завтра меня выкидывают, диагноз — хронический эндобронхит. Врачи плюют: «Бронхит — не болезнь, а состояние», видимо, навеки приобрела это состояние, которое будет расти и развиваться до самой смерти. Как мне не повезло в том, что меня положили в хирургическое отделение, где орудует доктор наук, наглый профессор Волков, который, как мясник, вырезает легкие, сторонник страшных операций. И мне сделали бронхоскопию: то ли не заморозили до конца, то ли в спешке врачиха-бронхолог не объяснила толком, что надо расслабиться и ровно дышать— к концу зондирования я инстинктом расслабилась и дышала мягко, но мне разодрали все горло, бронхоскоп страшно раздражал и щекотал. О, как премерзко было! Залили бронхи фурацилином, пью эуфиллин для расширения бронхов, в нос вводили демидрол, и я до сотрясения мозгов чихаю! видимо, от аллергии… льются мокрота и белая липкая пена изо рта, горло першит. Выходит, поликлиника направила меня ради бронхоскопии в больницу санаторного типа, где таких, как я, не лечат, — тут отдыхают месяцами богатые люди: завмаги, врачи, завучи школы. Удавы жрут в три горла сервелат, карбонад, икру черную и красную, запивают ананасовым соком! Шумная бабенция— завмаг — весом 140 кило, — орет на всех без разбору, как в своем магазине, словно собака лается. Профессор-хирург любит лечить богатых, и чтобы скорее выписать бедолагу воспитателя в шараш-монтаж, каждый день твердил: «У нас койко-место в больнице за сутки обходится в пятнадцать рублей государству!»
— У нас в общежитии койко-место всего два рубля восемьдесят копеек за месяц! — отвечала я. Представь такую взаимную классовую любовь и симпатию друг к другу. Сначала назначил желтый олететрин в капсулах, а теперь лечусь кашею манною и лапшою до завтра.
Представь, как тараканы обезумели от обжорства завмагов и врачей — среди бела дня бегают по постели и забираются в карманы халатов, так могут ночью тараканы забраться к ним в жирные рты, правда, храпят они немилосердно, эти туши по два центнера весом, что наша 601 палата вся сотрясается по ночам, уши закладываю ватою, завязываюсь, увязываюсь платком, все равно не могу заснуть допоздна, пока не обессилеваю.
Я в больничной библиотеке откопала Дневники Эжена Делакруа в двух томах, и даже в чтении мне не повезло, не успела дочитать, чтобы подписать обходной, вынуждена сегодня сдать их, и чтобы украсить это неудачное письмо, выписываю для тебя чудеса гениальной мысли Эжена Делакруа, которому повезло родиться украдкою от самого Талейрана!
8 октября 1822 года Делакруа пишет для нас: «Когда открываешь в себе какую-нибудь слабость, то вместо того, чтобы таить ее, брось лицедейство и увертки, исправляйся! О, если бы душе приходилось бороться только с телом! Но у нее самой есть дурные склонности, и надо, чтобы одна ее часть, самая нежная, но и самая божественная, без устали сражалась с другой. Все телесные страсти низки. Но низкие страсти души— это настоящий рок; таковы зависть и т. п. Подлость так отвратительна потому, что коренится и в душе и в теле».
«Всегда помнить о том, что природа человека способна перенести любое положение и даже извлечь из него известное преимущество…»
«Я пишу не саблю, а ее блеск»,
Говорят, что простому советскому больному летом не сунуться в Звенигородскую больницу, 45-я больница превращается в рай для загара каких-то «французов», которые наслаждаются целебною кустотерапией в хлебных полях.
Какою саблею волшебной дорогу к правде проложить? Пусть Дьявол с Богом соединятся и скуют совместно саблю века.
Хочу я по-рыцарски сразиться насмерть с гениальными тараканьёнами в темноте, искрошить этих мякотных, яйценосных крылатых вездесущих насекомых с благородным хлебным блеском! Был случай — у одного чабана тараканы забили вентилятор холодильника и остановили его, у кого-то напились чернил, бегали синими, но не отравились. Говорят, что в ядерной войне выживут только тараканы, да и то ненадолго, ведь некому будет их кормить и поить… Надо бы неистребимых тараканов запускать на Марс и Венеру для обживания этих планет.
После гимна тараканам тебе же, друг Мелентий, дарю роковой блеск кухонного ножа, повисший в воздухе навеки.
10 февраля 1981 года. Алтан Гэрэл
До свиданья, место Поречье Одинцовского района Московской области! Как снега вокруг оплеваны…
Плевок лоснится и летит,
Как осколок солнца самого!
Письмо 55
Золотая моя Алтан Гэрэл!
Писал же я тебе 2 и 4 марта, поздравил с женским праздником, как всегда старательно-тщательно выводил каждую буковку, каждую точку-запятую, словно орнамент. Последнее письмо отправил 9 марта — в День рожденья Тараса Шевченко и Юрия Гагарина. Но почему мои письма не доходят до тебя?! О чем страшном я мог написать, что мои письма о любви исчезают с ли* ца земли? Может, кто-то велеумный запирает их в сейф или жгет? Меня дважды вычеркнули из праздничных списков на поощрение и нарушения мои не перекрыты.
22 марта, в воскресенье, наш начальник отряда — Одноминутко вызвал меня на беседу и отрезал, как самодур:
— Заявление твое на поселение пролежит до тех пор, пока не заработаешь тринадцать поощрений. Понял, Мелека?
Что я мог ответить? Спросить, почему именно тринадцать надо? А сейчас подумай, каким же образом мне заработать эту чертову дюжину, если я до этого весь выкладывался на работе? Третий год вкалываю на стройке, а некоторые выблядки числятся в нашей бригаде считанные месяцы, а их уже обласкивают, подкармливают дополнительными посылками, длительными свиданками, благодарностями и т. д., а меня, как последнего тунеядца, вычеркивают. Продажные менты ловко подтягивают тех, чьи состоятельные родственники задаривают падло, везут подарки вагонами. Я же не способен обивать пороги администрации, у меня ноги корявые, спотыкаюсь о ковры. А где искать справедливость? Я решил написать весь беспредел подлой тюрьмы в «Комсомолку», в их рубрику: «НЕТ ПОТЕРЯННЫХ СУДЕБ». Мы жадно перечитываем и горячо обсуждаем эти материалы, сначала даже удивлялись тому, что на всю страну, значит, на весь мир печатаются отрывки писем зэков. Мы соберем подписи, чтобы обратить внимание людей на нашу беломраморную тюрьму, на наши нефритовые лица, пусть разберутся, чем блещем среди других. Воздушные замки невесомы, только обломки их тяжело обрушатся на наши бритые головы…
До 1953 года, как раз до моего рожденья или до 1957 года? суд выносил приговоры до двадцати пяти лет, благо — у меня срок вдвое меньше, не дали и пятнадцати лет. Ты помнишь белого, как мел, человека, который мучается пятнадцатый год, ты тогда как-то сжалась: «Ой-ой, как сама смерть бродит». А если я от звонка до звонка до 1 апреля 1989 года протяну, краше смерти не стану. В фильме «Калина красная» один черненький, как уголек, зэк поет со сверлильною тоскою, мне кажется, что в зоне его откопали и сняли. За долгие годы неволи одни чернеют, как уголь, другие белеют, как мел, третьи зеленеют, как изумрудные поганые мухи. Однако мне надо остановиться, а то я тебе отравлю отпуск. Прости меня, что не смог сдержаться и превратил тебя в предохранительный клапан адского котла…
Тебе, как царице духа,
Несу одной все беды ада!
Но я не увяз по горло в сплошных бедах. Нет и нет! Ты слышишь мой голос? С тобою мой голос восходит на Машук. Перечитывал «Мцыри», хотелось плакать, может, и плакал…
Алтан Гэрэл, я выучил «БЛАГОДАРНОСТЬ» Лермонтова, чтобы «Недолго я еще благодарил».
«Гений страшен для людей», — писала ты о судьбе Лермонтова.
Убийца ужасен для людей, втройне ужасен он для детей…
М. Мелека
Письмо 56
Золотой луч души моей, здравствуй!
25 марта, среда. Вчера излил ливнем на тебя страшные грозы сердца своего. Бедная ты моя. Сегодня остыл, решил смягчить это горькое письмо, тем более — ты не получила мое поздравление с 8 Марта: всю мою мучительную любовь к тебе я выразил на открытке стихами индийского поэта Назрула Ислама:
Переписывая, я выучил стих Назрула «Безымянная».
Да, телеграмму из Пятигорска я получил, только индекс твоего адреса не разобрать, пишут в спешке, что сами не поймут. Вышли календарик за 1981 год.
Счастливого тебе отпуска! Всего пятигорского желаю, не зная сам, что там.
Привет с Печорского Севера курортникам Пятигорска!
Сегодня 27 марта, пятница, сдача экзаменов. Рад сообщить, что госэкзамен выдержал на отлично, не подвел преподавателей, могу вздохнуть облегченно. Сдавал вторым по счету, из всей группы на отлично сдали всего трое. Не только мне нужны знания, тюрьме тоже нужны отличники. Веду бухгалтерский учет писем, регистрирую число получения и отправления своих писем, ты тоже считай, тогда мы узнаем, сколько писем пропало из цензурного воза.
Читала ли ты повесть «ТАК ЭТО БЫЛО» Валентины Елисеевой? Зэки зачитываются этою былью в «Новом мире» № 6 за 1977 год. Но боже мой! Семь лет они переписывались, прежде чем соединиться навсегда! Что же будет с нами? Ответь, Алтан Гэрэл.
Еще один день неволи: 30 марта 1981 года, вторник, запомнится тем, что по поводу письма матери 26 съезду КПСС о помиловании, вызвал к себе Одноминутко и известил, что пришел запрос из Москвы на меня. Я написал прошение о помиловании и отдал ему. Он дал прочитать характеристику, написали с замполитом черную клевету на меня. С такою бумагою из этой тюрьмы меня выпустят только на расстрел. Вот так. «ПРЕЖДЕВРЕМЕННО». Все преждевременно. Сердце мое разрывается. Что же со мною будет дальше?
По радио иногда слышу о лечебницах Пятигорска и рад этому, что ты хоть впервые отдыхаешь, лечишься, принимаешь ванны, пьешь бесплатно целебные воды. Мы не будем преждевременно падать духом, будем терпеть и бороться. Мелентий
Черные змеи поползли по сугробам
1 апреля 1981 года. Ровно четыре года прошло, как безобразный, пьяный, тупой, подлый, клокочущий низкими страстями, безумной ревностью некий мерзавец Мелека Мелентий убил заблудшую в жизни женщину. С отвращением и ненавистью смотрю на себя со стороны на упитанного пьяного борова, занесшего кухонный нож над сердцем Алисы… Испортил жизнь людям в четырех семьях, довел мать до инфарктов.
Почти не спал, заснул на час и опять во сне видел змей: черные змеи ползли по сугробам за мною, шипя, расплавляя снег и подпрыгивая, чтобы достать меня!
Вот они извиваются, ползут со всех сторон на меня, подпрыгивают — сердце оборвалось от страха и гадкого омерзения — и я проснулся! Господи! Разбросал я все, что навалил на себя перед сном, чтобы не окоченеть. Секция, где спит наша бригада, всю зиму не отапливается. Погода отвратительная, хлещет нещадно ветер холодный остервенелый, ночью давит тяжелый мороз, нет и признаков весны, солнце еле-еле показывается, словно слепнет и заболело чахоткою. Может, ему тошно освещать этот грешный мир?
Представь, в этот день я чуть не остался без глаз! Стеклил окна на работе, стал откалывать, и кусочек стекла отскочил и угодил прямо в левый глаз. Я сразу наклонился, чтоб он выкатился, но осколок, наоборот, закатился под веко… Не мог работать больше, выворачивал веки пальцами, чтобы не кололо, а вечером подался в санчасть, где промыли глаз и извлекли стеклышко-иглу длиною три миллиметра.
Боже мой! Когда же кончатся кары судьбы и змеи во сне?!
Ответь еще раз, есть ли рука Судьбы, а не какой-то там генетический код??? Пусть Машук тебе подскажет, он видел смерть Поэта. Или мы бессмысленно барахтаемся в слепом хаосе, как мухи в сметане?
Клянусь тебе всем святым, если оно есть у преступника, что вина моя растет. Кажется, что мне не выжить. Черные змеи поползли за мною по сугробам. Ты видишь, я их нарисовал…………
Господи, и зачем ты связалась со мною, уголовником?!
Вдохнуть бы глоток вольного воздуха Кавказа…
1838?
М. Лермонтов
P.S! Эх, знала бы, как живу одним — как в туманных далях свободы светит мне единственный немеркнущий маяк семейного очага! Но когда в неволе мужчина не может заткнуть рот женщины поцелуями, то ее язык превращается в жало пчелы…
1 апреля 1981 года. Грешный Мелентий
Письмо 57
Не держу ли я путь На Золотой Кукиш?
12.04.1981 года. Чикшино Печорского района Коми АССР 7 отряда осужденный Мелека Мелентий Семенович пишет: Говорят, что за правду умирают. Я решил писать насмерть. Только что вызывали, выясняли точный адрес моих детей. Они живут сейчас со своей матерью. Все они носятся с черною характеристикою на меня; когда я бурлачу как вол, как проигранный на смерть. Ты посмотрела бы на мои руки, то вновь ужаснулась бы, хотя ежедневно подмоложиваю, парю в горячей воде, но руки мои в сплошных кровавых цыпках, трещины забиты краскою, мазутом, что бензином не отмыть. Мантулю до потери пульса, чтобы приползти и упасть мертвым сном — а утром снова конвой, лай собак и адский труд. А что творится в секции? Всю зиму температура не поднималась выше 10 градусов тепла. Даже воды в умывальнике не бывает порою, умываемся из кружки на улице. Некоторые в зимнюю стужу перестали умываться, сковырнут грязным ногтем с уголков глаз засохший гной и пойдут. В секции сидим при одной лампочке 100 вт. Читаю и пишу, еле различаю буквы, поэтому такими крупными буквами пишу! Представь, у меня два месяца не проходит ангина. Алтан Гэрэл! В феврале я отправлял тебе письма: 2, 5 и 12, в марте: 2, 4, 9 и 24, в апреле: 1, 3, 5. Ты и половины моих писем не получила, так администрация ополчилась на меня, как стая волков на беззащитного оленя. Хотят любою ценою разорвать мою связь с тобою, перекрыть кислород… А как мне добиваться выхода на кол. поселение??? Пусть забьют меня, как мамонта, но ползать в ногах и лизать подошвы никто не заставит. Представляешь, что всю грязь собрали по зоне и впечатали в характеристику, чтобы показать верхам, как они в поте лица бьются с нами, с уголовниками и рецидивистами… А начальника отряда видим всего раз в месяц, уж он-то с нами не угробился. В секции царит кулачный закон. А что творится в «Петушатнике»?! Самое гнусное растление слабых, петухи заклевали беззащитных так, что люди становятся психопатами, попадают в дурдом! А тюремщики охотятся, удят, пьянствуют, разъезжаются по личным делам, хапают взятки, обогащаются. Приехавших постовладельцев холуи даром кормят, поят щедро, катают, развлекают, парят в бане, вывозят на природу, задаривают. Порочный круг опутан, скован стальными цепями, нечем распилить. Хотел я наедине тебе рассказать, как убивают людей, но ты ведь не поверишь, не можешь представить тюремное изуверство.
Алтан Гэрэл, мне даже страшно тебе описывать всю — быль тюрьмы, ведь мои письма со штампами «ПРОВЕРЕНО» валяются на полке общежития возле прохода. Может, ваши директор, коменданты и прочие работники крадут твои письма из любопытства, вражды или мести?! А ты прописана на койко-место временно, еще не дали постоянку, а третий год гоняют, кидают, перемещают тебя «по производственной необходимости» по разным подъездам заплеванных, захарканных общежитий. С тех пор, как я увидел тебя, живу я в постоянной тревоге и страхе за твою судьбу, хотя порою ты кажешься романтичною девушкою. Но как мне тебя жаль! Особенно жалею тебя, когда ты отбиваешь мне длинные телеграммы, тратишь последние рубли, вспоминаю, как ты без оглядки плакала в кабинете замполита. Да, 1 апреля получил от тебя телеграмму, я не даю тебе отдохнуть со своими бедами и неувязками, но они вечны в тюрьме. «Закон — тайга, медведь — хозяин». Ты знаешь, что мы жадно следим за рубрикою в «Комсомолке» — «Нет потерянных судеб», а мне вернули мое письмо от
4 декабря 1980 года в эту газету, хотя все написанное— правда, и еще раз правда! Говорят: «Бог любит правду, а читает известия»… Может, написать еще похлеще дополнение к этому письму и отправить все нелегально, рискуя сгнить в изоляторе?
Душа моя, горит бушлат от ихнего беспредела!
Алтан Гэрэл, родненькая! В марте я написал тебе четыре письма, а ты ни одно из них не получила, поэтому решил писать иначе — такое сплошное письмо и отправить сразу.
22 апреля 1981 года, среда. Радость моя, Алтан Гэрэл, здравствуй! Получил от тебя письмо с польскими красавицами и памятником Лермонтову. Большое спасибо, что не забыла меня даже перед отъездом в Москву. Но как ты умудрилась так измотать себя в отпуске? Или ванны, источники и лечение так сильно обостряют болезни? Но кто же там до воспаления легких мотается по экскурсиям, после серных ванн лазает по горам?! А вечерами до упаду носишься по увеселениям и зрелищам, словно ты после отпуска собралась ехать на необитаемый остров?! Господи! Какая ты завидущая баба, хуже девчонки! Одна радость, что получил фотографию, где ты верхом на ослике катаешься. Я даже поцеловал бедного ослика, которого заездили алчные, неугомонные курортники, как ты, но осел еще жив только благодаря своему известному упрямству. Представь, именно глядя на осла, во мне шевельнулась надежда, загорелась искорка, а чем черт не шутит?! Вдруг там гуманисты возьмут и на пару годков помилуют, простят меня, бедолагу, несмотря на черную характеристику? Так охота верить, надеяться. У нас лужи и грязь весенняя по уши. Дня три назад передавали по радио, что в Бурятии 21 градус тепла. Также узнал, что у Вас есть писатель Михаил Жигжитов, который пишет охотничьи рассказы. Зацвела ли в Бурятии черемуха?
24 апреля, пятница. Получил от тебя кучу бумаг, открыток и журнал «Новый мир» с произведением Валентины Елисеевой «Так это было». Как я рад! Здорово! Вот это оперативность! Тебе бы с красавцем Кизиловым работать! Вы развели бы такую кизиловщину!..
Гэрэлмушка, для твоих бессмертных писем я достал компостер и все подшиваю. Я тут разбогател, как капиталист, занял один всю тумбочку, забил се литературою— сколько шуму подняли, что я занял один целую тумбочку, а она положена на двоих. Скандал был приятный, я гордился в душе, но книги отнес в каптерку. Я весь в бумагах, чую запах неизбежного пожара, жду огня… Пуще всего мучаюсь изжогою от ежедневного хлеба, от пшеничной каши и постного масла. Отлично помогают мне таблетки «гастрофарм», может, где достанешь? Библиотека у нас не работает больше месяца, откроется после Майских праздников.
Пацаны увидели твои длинные телеграммы у меня на тумбочке, и то тебя жалеют: «Зачем она деньги вываливает?» Не трать деньги на телеграммы, лучше яблоки погрызи, ты ведь бледненькая.
Братишка из Якутии пишет, что там теплынь, журчат ручьи якутские, а он форсит в одном пиджачке, ему и работа, и природа, и якутки — пока все нравится! Ему я заказал для себя борцовки, кроссовки или велотапочки. Доволен, что братуха у меня самостоятельный парень и может работать сварщиком в далекой Якутии. Нам спортивная одежда разрешается, буду в кроссовках футбол гонять хоть раз в неделю. Вообще-то я — мужик спортивный, не каждый меня ущипнет.
25.04.81. Суббота. Смотрели фильм «Странная женщина». Да, она всего лишь странная, а ты по сравнению с нею сверхстранная!
Письмо 58
Привет с весеннего Севера!
27 апреля 1981 года. Получил от тебя письмо и поздравление с Маем. Почти счастлив. Благодарен тебе за все-все, чего не перечислить. Благодарен тебе даже за свое неизвестное будущее. Милая, то стеклышко, закатившееся в глаз, ничего не повредило. Медработник Рачкова промыла, и на следующий день глаз нормально глядел.
Сегодня снова составили списки на поощрение к 1 Мая, может, наш Аракчеев опять отыщет причину и вычеркнет меня? В эти дни буду узнавать, консультироваться, может, напишу заявление на имя начальника Управления, если, конечно, заявление мое дойдет, а не свалится на мою голову шишкою.
Гэрэл, ты в Поречинском санатории полмесяца лечилась, а в Пятигорске довела себя гонкою по лермонтовским местам до воспаления легких и теперь перед праздником слегла в больницу?! Слов не нахожу такому расточительству себя на износ! Господи, уймись хоть в больнице, поела кашу, получила укол и спи, спи, спи! Не читай, не смотри телевизор, не мучайся ничем, ради Будды! Ты, видимо, неуправляемая, невыносимая особа. Прости, конечно, но это так и есть. Таблеток нет от неугомонности— зато «нашла вынужденный приют в больнице с двусторонним воспалением легких»… Давай лучше я тебе расскажу что-нибудь хорошее: у нас улучшилось питание, на дополнительное питание стали давать маргарин и горох. В одно время давали даже мясо кабарги, очень нам понравилось, оно нежное, чуть сладковатое на вкус. Знаешь ли, что я умею делать все домашние работы: готовлю любые блюда, стряпаю, стираю, глажу, подшиваю, зашиваю, мою окна, полы, белю, крашу, ловлю рыбу, охочусь, разделываю дичь, скорнячу? Милая будущая философиня, со мною ни одна белоручка не пропадет. На Урале почти год питался одними дарами природы, жил один в семнадцать лет в пустом доме с заколоченными досками крест-накрест окнами, имел два хороших ружья и собачару, топор — и все. Сутками бродил по тайге, знал все охотничьи избушки, привязывался к охотникам и неделями не отставал от них. Хочется на свободе первым делом навестить свою родную деревеньку ДУБРОВИНО, где остались одни пенсионеры, которым нет смысла искать счастье по свету. Может, даже сохранился наш дом, где я родился и вырос, в стенах его каждое бревно и доска со всеми щелями, щербинками до боли мне теперь милы и желанны. Прийти на могилу отца, упасть на колени и вдохнуть эту землю со слезами… Жить на ней свободно, совестливо, неустанно творить только добро и любить Родину великою любовью.
28 апреля 1981 года. Вновь я перечитывал большого гуманиста Льва Романовича Шейнина, и хотя «Записки следователя» моя собственная книга, которую товарищи читают по очереди, выписал в блокнот любимые и бесценные сердцу истины:
«…в нашей стране, у нашей родины не может быть потерянных людей, пасынков».
«…Смысл закона в том, чтобы он помогал людям жить, а не умножать их несчастья. Так, и только так надо толковать законы. И так надо их применять…»
«…мне приходилось несколько раз наблюдать обвиняемых, моральный облик которых при всем том, что они действительно совершили, был не ниже морального облика их следователей, обвинителей и судей, а иногда, к нашей беде, в чем-то и выше…»
Гэрэлма, родная, ты видишь, что я, как наш библиотекарь Иванка, начал тоже собирать крупицы мудрости по зернышкам:
«У нас нет негуманных профессий, а есть негуманные люди».
Узнаешь себя? Администрация зачитывалась, а зэки записывали…
Письмо 59
Богоравная моя — Алтан Гэрэл!
Поздравляю тебя с Первомаем!
Прими мои корявые вирши:
Письмо 60
Здравствуй, моя степнячка — Алтан Гэрэл!
Сегодня 20 мая, среда, год 1981-й. Получил от тебя телеграмму, большое спасибо. А письма твоего «Об убийцах человечества» в большом конверте до сих пор не получил, не знаю причину задержки, может, оно сверхострое и над его смыслом бьются умы ИТУ. Передохнули мы с тобою немножко в нашей переписке и начнем с новою силою. Я был озлоблен в последние полмесяца, пока от тебя не было никаких вестей. Неужели ты не смогла дать телеграмму, что тебя упекают в больницу? А ведь я мог подумать, что ты уехала куда-нибудь, к кому-нибудь. Обычно на Майские праздники стараются не ложиться в больницу… В эти минуты, когда читаешь эти строки, ты думаешь, что я ревную тебя. Да, совершенно верно, опять вынужден «хвастаться низменным чувством собственности», как ты выразилась в одном из своих писем. Здесь, в зоне, я говорил тебе о том, как же можно быть голодным, сидя на мешке с продуктами? Слишком разные мы с тобою люди. Меня бесит разговор о ревности, который сам же завожу без улик, и мне трудно будет остановиться даже в письме, таков мой недостаток, этот порок у меня в крови, и ничем его не вырвешь, не выжжешь, я ревностью навеки прокаженный. И чтобы остановиться, я ногтем больно ковырял свой пуп.
Перехожу ко второму больному вопросу — к выходу на кол. поселение. Сколько воды утечет из Печоры в Баренцево море, пока пройду комиссию и суд?! Как мне надоели все эти пустые песни! Но все равно я представляю себя на поселении, отрастут мои волосы, буду щеголять в самых дешевых и простых костюмах, может, сам научусь шить на ручной машинке, ты же будешь кроить. Не нужны мне и парфюмерные прелести, мне достаточно крема после бритья. Нужно запастись спортивками и кроссовками.
Алтан Гэрэл! Зачем ты в каждом письме пишешь, чтобы я скорее выходил на поселение, шлешь подобные телеграммы? Можно подумать, что я — начальник тюрьмы и сам себе судья. Бедная, сколько ты учила меня, как сидеть в тюрьме, а теперь учишь — как мне выйти на поселение. Как ты далека от этой системы, словно инопланетянка на Марсе! За всю твою наивную святость люблю тебя пуще прежнего. Не реви, не мучайся, если никак не удастся выйти на поселение, то через два годика мне светит УДО. Есть такое условно-досрочное освобождение. Но его надо заслужить особо. Мелентий
Письмо 61
Здравствуй, родненькая Алтанхан!
Сегодня 8 июня 1981 года, понедельник. Он прекрасен тем, что я получил от тебя письмо с французскими духами и стихами, нанюхался так, что голова кружится, а тебя все нет и нет рядом.
Если бы объявили чемпионат тюрем среди зэков по прыжкам в высоту с условием прыгнуть 2 метра 20 сантиметров и выйти в колонию поселения — я прыгнул бы и тем самым доказал бы миру, что преступник может превзойти самого себя и прыгнуть выше собственной грешной головы. Вот до чего ты меня опьянила духами!
Но странно то, что ты пишешь о моем преступлении так, как будто я выбирал, какое лучше мне преступление совершить? Если честно признаться, я нисколько не сожалею о том, что я не совершил такого легкомысленного преступления, как угон машины, хулиганство, драка, поджог и т. п. Человек, который совершает преступление подобное моему, он ведь не думает и не собирается на него идти, как на ограбление государственного банка. Ни капли корысти не было в моем преступлении, а обуяла месть лютого ревнивца в роковом змеином клубке. Змеи же сами оплетаются в клубок… Я вырвался из этого клубка в тюрьму, чтобы встретить тебя, Алтан Гэрэл. Да, вот он перст Судьбы, если он есть…
«Есть три рода подлецов на свете: подлецы наивные, то есть убежденные, что их подлость есть высочайшее благородство, подлецы, стыдящиеся собственной подлости при непременном намерении все-таки ее докончить, и, наконец, просто подлецы, чистокровные подлецы», — писал Федор Михайлович Достоевский.
К какому роду подлецов отнесла ты меня?
Еще в начале нашей переписки ты цитировала какого-то немецкого писателя Карла Кернера:
«Нет негодяя, который был бы настолько глуп, что не нашел бы ни одного довода для оправдания своей подлости».
Тем самым ты хотела, чтобы у меня не было ни одного довода оправдания. Согласен я со всеми, готов отдать свое сердце лишь тебе на заклание…
Я не смел говорить открытому суду в клубе Архангельская Слобода ни о чем: я не говорил, что был доведен до белого каления, молчал о том, как Алиса вымогала, выпрашивала себе смерти. Убийца — я. Только тебе одной на свете, любовь моя, пишу об этом. Себя же я тогда не убил, чтобы встретить тебя. Что же теперь судить-то? Мы с тобою не судьи для собственных сердец.
Рад и весел, что получил твои новые фотографии. Копировочную бумагу не отдали, не разрешается осужденным пользоваться копирками… А что нам копировать кроме приговора суда? О, если бы можно было скопировать все тайны сердца убийцы! Разве ты сумела бы постичь их рассудком?!
Но позволь мне мысленно поцеловать тебя от макушки до пят вместе с каблучками!
Твой грешный Мелентий
Письмо 62
Здравствуй, хорошая Алтан Гэрэл!
Сегодня вторник, 16 июня 1981 года, получил от тебя яростное письмище, но «Об убийцах человечества» так и не получил. Учти, что его могут послать в политотдел МВД СССР, чтобы перевоспитать воспитателя. А если это письмо там очень понравится? Может, оно гениальное? Что тогда будет? Ты знаешь, как велико я верю в твои страстные способности! Одна у меня просьба— не угрожай больше мне, что перестанешь писать, если я не выйду на поселение. Сколько можно? Это меня взвинчивает, Боюсь схватить новые нарушения, только за писания писем тебе ночью заработал три нарушения. Сжалься, милая Алтан, нет больше моих сил в каждом письме объяснять тебе — почему я не могу выйти нынче на поселение. Не хочу обивать пороги и блуждать по кабинетам в штабе колонии, от хождений моя судьба не изменится, сколько у меня нарушений режима— столько же и останется, так как администрация перестала меня поощрять. Порою бывают такие отвратительные минуты рабской жизни, что хочется плюнуть кровью на все на свете и сидеть сложа руки, исцарапанные, в сплошных цыпках, — будь что будет1 Но и это отчаяние проходит, ведь я не тот отрицаловец, который холоден даже к собственной жизни, который способен умышленно поломать себе руки, ноги, проглотить партию домино или горсть гвоздей, вспороть себе вены, чтобы не работать и развлечься своею физическою болью… Терпя, и горшок надсядется.
О, пентюх, сколько здоровья я отнял у своей дорогой матери?! Только здесь в неволе я ругаю себ, я за то, что иногда находил сотню отговорок и дел лично своих, чтобы только не помогать матери, отказывал даже ко>пать картошку, переносить ей уголь с улицы в сарай. Так и хочется убить себя за прошлое, а жаль… Но мать не помнит таких досадных мелочей, только одно мое преступление рвет ее сердце. Пишет: «Не помру я, Мелешка, пока не увижу тебя свободным». Боже мой! Как мне хочется оправдать ее надежды! Спасибо ей, что у меня есть такая мать. Спасибо тебе великое, Алтан Гэрэл, что ты есть на свете для меня…
Заявление на поселение на имя начальника Управления я не писал, оно и не дойдет до Печоры. Проконсультировался я у начальника, он ответил, что вопрос о выходе в колонию поселения решает начальник отряда— и все. По существу эти Громиловы-Сиюминутины вершат наши судьбы.
Писать же больше не о чем. Еще зимою в кабинете лейтенант Кизилов предупредил меня не выносить мусор из тюрьмы нашей богоугодной, ненаглядной, а писать тебе о погоде, о звездах Севера, о здоровье своем. Так вот следую совету Николая Кизилова и прочих: погода отличная, ночи светлые. Здоровье у меня действительно чудесное. Поэтому целую тебя с головы до ног с каблучками и следы твоих каблучков целую…
Мелентий Мелека я сам
Письмо 63
Здравствуй, планета Солнца — Алтан Гэрэл!
Мы рады-радешеньки, что ты прислала нам босого графа Толстого из Ясной Поляны в наш Дыростан! Тут на обороте написано, что картина Репина — «единственное изображение Л, Н. Толстого во весь рост». А что-то красное в кармане белой длинной толстовки — это туфли своей работы засунул он? Да, Толстой босыми стопами пил все земные соки, словно Ахиллес. А где я у нас, в Дыростане найду «Исповедь» Толстого? Почему же исповедь величайшего гения земли не издают миллионными тиражами?
Эх, Алтан Гэрэл, к моему освобождению ты получишь все двадцать два тома Толстого, и будем мы с тобою вместе читать да перечитывать каждое его слово.
Письмо твое заказное не получил еще, сегодня сходил к Иванке, так как все письма, кроме заказных, разносит теперь он. Попросил его, Мифа, узнать у цензора, было ли мне заказное письмо и если было, то у кого оно гостит? Представь, мне Справочник машиниста башенного крана целый месяц не отдавали, а художественную литературу тем паче. Наверняка сами сначала зачитают до дыр, а потом мне вручат ко дню рождения. Здесь в колонии есть три книги чьи-то, кому-то привезли из дому. Но так и не нашли, чьи они. А сегодня мне принесли почитать Василия Шукшина «Брат мой». Читаю с огромнейшим интересом, с упоением. Каждый рассказ взят из жизни живой, слова, фразы встречаются действительно лагерные. Особенно нравятся мне народные выражения, местный говор, деревенские частушки. Почти каждый зэк скажет о Василии Макаровиче Шукшине — Брат мой. Из современных писателей мы больше всех любим Шукшина и Владимира Высоцкого.
Читать можно сейчас ночи напролет, ночи у нас светлые, солнце заходит ненадолго, но светло белесой утомительной светлостью. А комаров тьма-тьмущая, жуть, ко-шмар и ужас. Дни стоят солнечные, крепкие и жаркие. Работаем на улице, залаживаем фундамент под новый дом, одновременно и загораем жадно, буквально обугливаемся. При малейшей возможности я работаю в одних трусах и загорел, как негр, блистаю? или блещу, как уголек. Это первое такое жаркое, знойное лето, а летом 1978 года здесь даже шапки не приходилось снимать.
В изоляторе или, как ты говоришь, «в карцере» я не сидел и не горю желанием побывать там, когда нам и здесь несладко. Брат мой, сестра моя, в тюрьме да еще внутри тюрьма, и я не заговорен от изолятора, нет таких молитв на свете. Муторно становится на душе, когда за сущий пустяк лишают ларька или посылки и кладут в личное дело клюкву о нарушении режима содержания. А такое, как ШИЗО с 15 сутками, тем более страшно.
Знаешь, Алтан Гэрэл, я научился видеть тебя воображением, так, я видел тебя в лесу, в бордовой спортивке ты бежишь, лазаешь по деревьям, ковыряешь себе серу, находишь розовую пахучую живицу, радуешься, отламываешь половинку и протягиваешь мне пожевать, живо-живо щелкаешь орешки, как белочка…
Вижу я тебя, Алтан Гэрэл, идешь ты босая по степи.
И взошла опять радуга с восьмою, черною дугою — идешь ты босиком по радуге, пальцы ног твоих сжимаются, трепещут, горят от бурлящих, щекочущих, обжигающих лучей, жемчугами сверкают лепестки твоих ногтей.
И вижу я тебя вечно такою, босою в бархате…
И слышу каменный гром аварийной грозы над твоею головою.
Да хранят тебя боги, любовь моя.
22 июня 1981 года. Мелентий Мелека
Письмо 64
Здравствуй, моя бесценная Алтан Гэрэл!
Сегодня 21 июля 1981 года получил от тебя книжную бандероль, которую ждал страстно. Получил все, и замечательную финскую бумагу. Золотое тебе спасибо, целую тебе обе руки за книгу «ТАК ЭТО БЫЛО» Валентины Елисеевой в серии «Наедине с собою». Действительно наедине с сердцем я буду перечитывать эту книгу о любви. Если «Записки Серого Волка» нигде невозможно разыскать, то брось ты этот дохлый номер, может, потом переиздадут к моему выходу на волю.
Бандероль-то, оказывается, валялась здесь с 25 мая, но получил только сегодня, Алтан, как бы мне ни хотелось, но должен тебя огорчить сплошною невезухою:
1. 1 Мая к нам в секцию забрел навеселе прапорщик Хвостососов из ДПНК и попросил у меня «Записки следователя» Льва Шейнина на недельку, что ты подарила мне на день рождения… Я не мог отказать ему, естественно, ведь он обещал вернуть книгу в 100-процентной сохранности лично мне в руки, а он так и не вернул, хотя я его видел и несколько раз напоминал об этом. Придется идти к замполиту, если это не поможет, то вынужден буду жаловаться прокурору по надзору. Вот какие у нас хлопоты с хорошими книгами.
2. Случилась со мною беда — я семь суток отсидел в изоляторе. А за что, спрашивается? Кажется, что предусмотрел все мелочи, обдумывал каждый свой шаг, чтобы не схватить новые нарушения, но вновь погорел. Скажу честно, хотел я на работе постирать куртку — разжег мизерный костер, чтобы подогреть воду, так как в балках— в помещениях, где мы переодеваемся, нельзя топить печки. Вот и устроили меня, злополучного, в изолятор. А зачем я-дурак костер палил? Палил не я один, почти все палили каждый день в сухую, жаркую погоду большущие костры, а пострадал за всех я один. Вот так любит меня начальство, постоянно меня из всей шушеры и шоблы выделяет, так как я стал скандальным борцом за справедливость в нашей зоне. В одном я убежден, что не пришьют мне нарушение за мое дыхание.
Алтан, родненькая моя, отныне я тебе буду присылать одно-единственное письмо через цензуру, решил застраховаться. Не огорчайся, в конверт свободно влезает по пять стандартных листов. В июле написал тебе два письма: 16 и 21-го, сегодня. От тебя в июле получил четыре письма бесподобных. Спасибо, спасибушко, спасибище!!! Богоравная ты женщина… Ей-богу! Мелентий
Письмо 65
У нас с 30 июля по 4 августа стояла ужасная жара, невиданная жарища, не знаю, сколько градусов даже. Прекрасно, что работаем на улице, я постоянно в одних трусах обугливаюсь. Построили полдома, завтра начинаем рубить второй этаж. В работу, как и в письмах к тебе, вкладываю всю свою душу, все силы, словно нам с тобою придется жить да поживать в этих домах. А кто знает? Только ты не принимай слишком близко к сердцу все мои невзгоды, эти мелочи жизни растают, как утренний туман.
Сегодня 6 августа 1981 года, получил от тебя письмо и буду спать с улыбкою на лице. Глядел и глядел на твой родной почерк и как будто услышал твой живой голос, грудной и свободный, такой приятный, порою страстный: «…ошибки женщины почти всегда происходят от веры ее в добро или из ее уверенности в правде». Что ты хочешь сказать этими словами Бальзака? Ответь. «Женщина не может по-настоящему любить мужчину, который уступает ей в мужестве», — цитируешь Жорж Санд. Намек понял, я и не собирался уступать тебе в мужестве. Алтанхан, я давным-давно понял, что тебе ни в чем нельзя уступать. Если ты в семнадцать лет читала «Сержант милиции», а я — в двадцать семь — это еще не означает, что я отстал в самообразовании от тебя на десять лет. Я наверстаю упущенное здесь. С понедельника, т. е. 10 августа снова иду учиться в ПТУ, теперь на сварщика на шесть месяцев. Постараюсь и на этот раз сдать экзамены на отлично, выучиться; ибо специальность сварщика мне особенно пригодится в жизни. Времени снова будет в обрез, что хорошо для меня. Мать свою я не потяну сюда, это равносильно тому, что живьем ей в землю закапываться. Что она будет здесь делать? Где жить, где работать? У нее и так нет никакого здоровья, я сгубил все ее здоровье. Мать глубоко укоренилась на Украине, вросла в землю всем большим хозяйством, да к тому же ей нужен теплый, сухой климат от ревматизма. Ума не приложу, как это она после пенсии побросает из-за меня все на свете и прикатит ко мне?! Поверь, я маму не зову даже на свиданку, ибо знаю, как достается и обходится эта поездка в чужие, дальние края в тюрьму, да еще с пересадками, вещами, продуктами. Бедная-бедная моя мама! Слов нет у меня, чтобы выразить всю свою страшную вину перед нею.
Алтан Гэрэл, родненькая, уже утро, в 6 ч. 55 минут — надо бежать на развод. Дописал это письмо 7 августа 1981 года,
PS! 8 августа 1981 года, суббота. Алтан Гэрэл, милая, как тоскую по тебе, как жажду тебя одну на свете! Я свято помню все короткие, ворованные минуты наслаждения и счастья с тобою, когда мы оставались с тобою вдвоем. Когда я целовал тебя, получал тебя всю-всю без остатка — я испытывал рай впервые в жизни. О, если бы ты знала, каким вознаграждением, чудом небес было то счастье! В первый день нашей встречи вместо бокалов вина мы стукнулись шоколадом «Вдохновение» в обертках и я съел несколько долек «пищи богов» и почувствовал, как по венам погнало вялую кровь, застывшую от стыда и от скованности. И когда ты попросила меня подняться со стула для того, чтобы посмотреть, сравнить, насколько я выше тебя ростом? Ведь не для этого ты попросила меня подняться? В те минуты я, наверно, обладал телепатией, угадывал и разгадывал малейшие твои желания, ловил каждое твое дыхание. А когда мы поднялись после шоколадного бокала, то расстояние между нами сократилось вдвое, и в то мгновение никакие силы не могли остановить меня. Я взял твои руки и прижал к своему лицу. Но ты молодец, Алтан Гэрэл, что такая! Ты подарила мне великое счастье в неволе, которое перевернуло всю мою жизнь. О, как я переполнен клокочущей горячею лавою в тюремном котле— любовью к тебе! Где ты, Алтан Гэрэл? Когда же я увижу тебя??? Услышь же кровный зов всей моей любви и жажды!
Осыпаю тебя всю самыми страстными поцелуями. 8 августа 1981 года Твой верный Мелентий
PS! 9 августа 1981 года, воскресенье. Здравствуй, Алтанхан!
Перечитал свое вчерашнее письмо к тебе и вижу, что в письме слова любви расплываются, обесцениваются, слова эти просто бессильны выразить всю глубину и преданность моих чувств к тебе. Решил сказать тебе просто: я буду беречь всю мою любовь к тебе, значит, и себя, для тебя одной навеки.
Алтан Гэрэл, бесценная моя! Здравствуй!
Сегодня, 13 августа, получил от тебя письмо, написанное тобою 26 июля, только сегодня. Его не принесли почтою, а из штаба колонии, где мы с тобою беседовали. Бедненькое твое письмо все помятое, грязное, испачканное, оно прошло через десятки рук, его обсуждали и осуждали все, кому не лень копаться в чужих сердцах. Я, как всегда, первым встречал почтальона, ты видишь, что творится, какие страсти кипят вокруг нашей переписки! Алтан Гэрэл, как мне жаль тебя ужасно, что из-за меня тебе приходится переживать, страдать, надеяться пока впустую. Об этом жутком изоляторе — я же, родненькая, обдумываю каждый свой шаг, чтобы не было больше нарушений, но получилось так, что не только я, но никто из нашей бригады не думал не гадал, что прораб наш сможет поступить так подло. Ты, конечно, прости меня за этот промах. Видишь, что письма собираю за весь месяц в один конверт, как одно письмо. Я не имею права звать тебя к себе, когда ты будешь в отпуске, но только твой приезд в этом году может спасти меня и ускорит выход на поселение. Поверь же мне, любовь моя, я не хочу вести тебя долгие-долгие годы по ложной тропе. В письмах же до конца ничего понять невозможно. И только лично, сидя рядышком, сообща мы с тобою вместе найдем выход на поселение.
Неустанно перечитываю письма великих людей о любви «Что движет солнце и светила?» Евгения Богата, чтобы научиться любить тебя, мое сокровище. До сих пор не видел ни одного томика Шекспира, зато нашел однотомник Николая Семеновича Лескова и читаю с отрадою. Лесков мне ближе всех писателей на свете.
Порою мне кажется, что в XX веке я — один-единственный на свете люблю женщину великою любовью.
Вновь я учусь, теперь на сварщика, мало свободного времени.
Это письмо почти за месяц на пяти страницах отправляю 13 августа 1981 года. Жду ответа на все высказанное мною.
Твой Мелентий Мелека
Письмо 66
Дорогой мой человек, здравствуй!
Сегодня 15 августа 1981 года, суббота. Только что пришли с работы. Поменял белье. Почты сегодня не будет. У меня одно-единственное желание в этом году— это увидеть тебя наяву. Каждою живою, дрожащею клеткою во мне зову тебя, взываю. За эти полтора года я успел проверить себя, не убывает ли моя любовь к тебе. Нет, любовь моя растет с каждым днем, очищается от всего былого во мне. В совместной жизни, только на деле ты убедишься в том, что я буду любить тебя, как никто на свете.
PS! Сегодня 18 августа, вторник. Нет писем от тебя, тишина. Через полчаса бежать в ПТУ, порою некогда просмотреть газету. На работе сильно устаю. Но ни на минуту не могу забыть о тебе. С трудом засыпаю, все думаю о нашей долгожданной сверхжеланной встрече. Дай бог! Но душа Алисы мучает меня во сне: приходит в тюрьму, вышибает железные ворота, устраивает дикие скандалы, все требует, чтобы меня расстреляли! О, как сводит счеты Алиса с того света, мстит, как может… Ах, как долго от тебя нет писем?!
27.08.1981. Здравствуй, дорогая Гэрэлма моя!
В августе пишу тебе четвертое письмо, опять коплю их. Голова моя забита всевозможными электросхемами, протонами, электронами. Алтан, надежда моей жизни, что же молчишь? Здорова ли ты? Не случилось ли чего? Вчера прочитал в «Комсомолке» о книге Евгения Богата, которую ты мне подарила. Я не знаю даже, о чем тебе писать. Не знаю, что со мною происходит в последнее время, на душе сгусток всей тюремной тоски, хоть скули волком на луну. Последние дни не хотел встречать своего почтальона, думал, что ты сжалишься надо мною, напишешь, приедешь — как будто ты видишь меня, следишь за мною повсюду. Напиши, любишь ли ты меня? Любовь в письмах — это тоже великое счастье, это испытание любви, проверка самого себя, самопознание, достоин ли ты любви такой женщины, как несравненная Алтан Гэрэл?! Основной вопрос моей жизни. Через месяц и десять дней мне стукнет двадцать восемь лет. Господи, хоть бы кто приехал ко мне в этом году!
Мелентий
PS! 28 08.1981. Ужасный день для меня, не знаю, с чего и начать. Хочется все высказать о своей горькой судьбинушке. Администрация всеми силами и способами добивается перекрыть мне кислород, оборвать мою переписку с тобою. Сегодня меня вызвал Громилов и за письмо тебе ночью выписал мне нарушение режима. Я всячески оправдывался, а когда же мне писать, если я после работы, кое-как поужинав, бегом бегу в ПТУ на учебу. Что толку, что я убивался у него? Замполит Пилипенко в отпуске. Идти к начальнику колонии на прием — это равносильно, что напрашиваться в изолятор. «Закон — тайга, медведь — хозяин». Твое письмо, написанное простым карандашом в ответ на мои три письма, Громилов не отдал мне. «Она встала не на ту ногу», — говорит. Обещал твое письмо отправить тебе на работу. Что там написано??? Боже! Как я не хочу, чтобы из-за меня страдала ты. Извини, прости, что я причиняю тебе столько горя. Ты писала простым карандашом, чтобы не обратили особого внимания, а они еще пуще! При всем желании они сумеют порвать нашу переписку: мне не будут отдавать твои письма, а мои не будут отправлять — и все. Громиловщина подошла к самой границе, а мы с тобою стоим над пропастью с разных сторон вслепую. Что будет с нами? Сколько хлопот, забот и переживаний принесло тебе наше знакомство… Сколько неизвестных трудностей ждет впереди??? Но никому не удастся убить мою любовь к тебе, пока я жив. Нет!!! Моя любовь к тебе разжигается огромным костром все ярче, чище, сильнее, выносливее. Забудь о том, что я раньше смел ревновать тебя, мое солнце. О! Какое же большое горе, что мы не в силах быть вместе. Но все эти преграды только усиливают мою любовь, мою самую чистую страсть к тебе. Скажу тебе, Алтан, может, ни один человек на всей земле за все века не любил тебя так пламенно, как я тебя. Ни один философ, ни один психолог ничем не могут измерить всю силу и выносливость моей любви к тебе. Все любящие на белом свете, собранные в одно целое, не наберут такого веса своей любви, каким я люблю тебя — всем смыслом моей жизни, всеми муками тюрьмы. И верен буду я тебе до последнего рокового часа своей смерти. Пусть я — уголовник, убийца в прошлом, но буду тебе самым лучшим мужем на свете, поверь! Какое блаженство и наслаждение я получаю в эти минуты, когда пишу свои лучшие строки любви даже в такой пагубной псарне. С любовью не может сравниться ни одно счастье на земле! Готов написать обо всем этом кровью своего сердца.
Алтан Гэрэл, через цензуру я вынужден в дальней-шсм отправлять всего три письма в месяц, всем по одному— тебе, матери, брату. Крепко обнимаю тебя, Друг и Любовь.
Всегда и весь твой Мелентий
Письмо 67
Среда, 16 сентября 1981 года. Получил от тебя уже третье письмо, а ответы коплю в одно письмо, как капитал. Никак не хочу нарушать режим. Может быть, в октябре еще напишу. Большое ценное письмо получил тоже, все в целости и сохранности. Огромное спасибо. Только не пиши, чтобы я звал свою мать на день рожденья. Она больна, от дома не отходит «скорая помощь», которую ей вызывают соседи. Ведь теперь она живет одна-одинешенька с тех пор, как Юрий укатил в Якутию. Я не смею ее звать на свиданку, пока сама не оклемается и не напросится. Высылать мне ни-че-го-шень-ки не на-до! Я полностью нахожусь на государственном обеспечении: одет, обут и накормлен. На работу ведут — считают, с работы ведут — тоже считают, порою трижды пересчитывают для того, чтобы я только не потерялся. Для тебя я стал, да и был глуп. К тому же я стал некрасив, заработал шрам на весь нос. Сколько я принес тебе хлопот и неприятностей? Сколько времени, сил и денег на меня ты истратила?! Что будет с тобою, Алтан Гэрэл, если мне придется отсидеть все двенадцать лет в этой тюрьме??? Я содрогаюсь от такой мрачной мысли.
Курить я не бросил. Ничего не рисую. Читаю очень редко. В кино не хожу. Иногда смотрю телепередачи: эстрадные зарубежные ансамбли, хоккей, футбол и наших эстрадных артистов.
Уже прохладно, мы с 15 сентября перешли на зимнюю форму одежды.
PS! 30 сентября 1981 года. Здравствуй, моя бедненькая!
Получил от тебя письмо с красивыми открытками. Думал и думал: как я надоел тебе до скуловоротной тошноты желчью, но ты не таишь в себе ни обиды, ни зла ко мне, психомоторному. Благодарен тебе за все. Может, когда-нибудь отольется все на мне, если будем мы с тобою вместе жить? Я решил тебя не отвлекать постоянно от твоих нужд и дел. У меня одна огромная и вечная мечта — это освободиться пусть в 1989 году, лишь бы не было войны. Может, когда-нибудь выдохну из себя весь воздух тюрьмы, которым дышу с 1977 года. Но мне кажется, что на свободе еще долго будет преследовать запах неволи, смрад изоляторов. Мне до сих пор стыдно, что я подвел нас с тобою, разжигая костер, а мог бы предвидеть, чем эти костры окончатся, кто их собою потушит разом. О, сколько я испытал мук, обмана, беспредел, лютую ненависть и угнетение?! Сколько смогу еще вынести? Сколько я краснел перед людьми и богом, но больше краснею перед одной тобою, хотя в моих письмах к тебе не было ни малейшей крохи лжи.
А вот бандероль напрасно мне выслала, рано по сроку. Я же писал, что ничего мне не надобно, а письмо-то это у меня ведь. Но все-таки постараюсь уладить, так как день рождения на носу. В худшем случае жди обратно свою бандероль. Я не замерзну, есть что одеть. В пятницу пойду по телевизору смотреть кинокомедию «Дача»… которой не будет у меня никогда. До свидания, Гэрэлма, береги себя. Не умеешь — научись себя беречь от всех зол.
Мелентий Мелека
Письмо 68
Светоч сердца моего, Алтан Гэрэл!
Сегодня 6 октября 1981 года. Получил от тебя поздравительную телеграмму и бандероль: все беленькое, пушистое, теплое, пропитанное сказочными духами, царское белье и ласка для зэка! Слов у меня нет для похвалы, достойной этого подарка, словно все свалилось с небес для озарения неволи. Как я благодарен тебе!!! Бандероли в тот день выдавал Букис, муж нашей цензорши. Писульку и опись читал очень долго и внимательно, я думал, что спокойно отправит обратно. Сегодня иду в ПТУ сдавать контрольную работу по спецтехнологии, это наш основной предмет. Очень сожалею, что я в последнее время ничем не мог тебя обрадовать. Создали мне здесь райскую атмосферу с перепискою. Пишу всего три письма в месяц. Господи, если не писать письма — можно ведь удавиться! Прочитал «Пик удачи» Юрия Нагибина, которого ты называешь «специалистом по гениям». Вижу, что-то темно-бархатистое выпало из книги, смотрю — бабочка засушенная. Из Москвы она прилетела… с гениями!
В зоне вывесили выписку из Указа Президиума Верховного Совета СССР об амнистии. Освободят по всему Союзу 15–20 ветеранов войны, беременных женщин и малолеток.
Помнишь ли, что я говорил и писал тебе год назад? Какая счастливая золотая была у меня осень! Нынче еще теплее по сравнению с прошлой осенью, сегодня шел теплый-теплый дождь.
Алтан Гэрэл в своих письмах ты не пиши, сколько писем ты получила от меня, а то опера всюду ищут причину, чтобы наказать меня.
Счастливый день неволи
Сегодня 7 октября 1981 года, день моего рождения. Была бы ты рядом, так поцеловала бы меня 28 раз!
Крепко заварил чай, пригласил своих товарищей и угощал сладким. Сегодня у меня двойной или тройной праздник: в День Конституции СССР, сегодня в первый день, как мы всеми своими силами, объединив капиталы, купили телевизор с большим экраном. Смотрели передачу «Встреча с Раймондом Паулсом» и пела любимица зэков Алла Пугачева. Смотрели мы праздничную передачу и были даже счастливы в своем пагубном свинарнике.
Сегодня в день своего двадцативосьмилетия могу сказать впервые, что у меня появился любимый писатель, Это Николай Семенович Лесков. Читаю и перечитываю его, и перед глазами вся Россия-матушка тех лет, но, к великому сожалению, не все сохранилось, что он написал? Так? Как гениально он писал страшную правду народной жизни! Как прекрасно описывает Лесков природу! Прочитал «Продукт природы», и стало мне даже жутко от описания, как ребенок сосет грудь матери, а возле губ вместе с молоком кишат вши… Передавали по радио, что в Орле в каком-то парке возведены статуи героям рассказов Лескова, — это Леди Макбет, Левше и другим. Освобожусь и поеду специально в Орел, чтобы увидеть эти памятники. Ты писала, что твоя землячка Гэсэгма Очирова подарила тебе три книжки Лескова 1903 года издания. Прочитала ли? Если приедешь, то обязательно привези, буду читать по ночам.
Товарищи мне ко дню рождения подарили самые последние стихи Владимира Высоцкого, которые он написал за два дня до смерти, одно из них, говорят, читал Юрий Трифонов у могилы во время похорон Владимира Семеновича, — «Последний приют» и «Горизонт»!
Передай большущий привет Гэсэгме Очировой, зря она на поводу у русских стала Галиною зваться. Скажу, что Галей больше, чем галок и сорок вместе.
Солнце жизни моей — Алтан Гэрэл!
Сегодня, пожалуй, самый счастливый день моей тюремной жизни. Представь, впервые за четыре с половиною года неволи я увидел дивный, счастливый сон, благодаря царскому белью, наверно.
После парной бани нагишом и босиком я полез на самую высокую сосну, где недоступно высится воронье гнездо. Обдирая все тело, обливаясь потом и кровью, я добрался до заветного гнезда. Ведь я мечтал найти заветный золотой ключ к сердцу Алтан Гэрэл, и каково было мое изумление, когда в черном вороньем гнезде подпрыгивало огромное яйцо орлицы! Оранжевое яйцо подпрыгивало, как лягушка, и на солнце играло лазоревыми веснушками. И пока чудное яйцо не выпрыгнуло из гнезда, я дрожащими пальцами схватил его, горячее и тяжелое, как свинец, яйцо орлицы и, словно хищник, прокусил скорлупу зубами и выпил весь вековой нектар до капли, с хрустом съел и скорлупу. По лицу моему текли соленые слезы и пот, щекотали, жгли уголки губ, я облизнулся и вдруг взмахнул исполинскими трепещущими крыльями и полетел в головокружительной небесной вышине. Тюрьма чернела внизу самою крошечною точкою. Прощай навеки! Более я не был узником — Мелекою подлым, а могучим пернатым и летел в бесконечную яростную высь Солнца, все выше и выше, до последнего удара орлиного сердца. Ведь дороги назад на землю не было.
Это случилось ночью 7 октября 1981 года.
Поздравь.
Отчет читателю о наличии писем героев за 1981 год — как за самый урожайный в семилетней переписке:
| Герои | написано | получено | утеряно |
| Мелентий Мелека | 33 | 49 | 13 |
| Алтан Гэрэл | 66 | 20 | 17 |
| Всего: | 99 | 69 | 30 |
Их самые сокровенные письма пали в боях, как передовые солдаты в атаке
Погибло тридцать писем
Лимит завелся под хвостом Регресса и душит горло народное.
Письмо 69
Здравствуй, беззаветный мой строптивец!
Нет, ты меня не потерял. 23 сентября 1982 года мне сделали тяжелую операцию or гнойного перитонита. Эх, чуть не умерла… Проявила такой стоицизм, что врачи дрогнули. Одна-одинешенька перенесла все муки, никому домой не сообщила об этом, хотя у меня четверо родных младших сестер и братьев. Не хочется описывать подробности операции, поздравь, что выжила, как кошка, и вновь могу писать тебе, Мелентий. Прочти «Гадюку» Алексея Толстого, какою живучею была Ольга Зотова!..
Ай, бурхан! Как тяжело было умирать моей матери в тридцать семь лет, оставляя нас. пятерых своих детей, на произвол Судьбы!. Какое это величайшее горе не иметь родителей в беде! И как я мысленно звала моих родных, словно их души живы и блуждают по свету. Вот где начался горчайший поминальный плач взрослой женщины, и сколько еще слез зрелой скорби пролью в жизни бессонными ночами?
«Помыслы матери-отца — о детях,
Помыслы детей — о древесине-камнях» — гласит бурятская народная пословица.
Мелентий! Какое великое благо, что у тебя есть родная мать и две дочери, люби и дорожи ими, как солнечным тресветом.
Друг мой, но где на свете найти такую сказочную тюрьму, где преступники и тюремщики жили бы в любви и согласии? Может, я бросила бы Лимит к чертям! и посидела там с тобою до конца твоего срока? Так больно запала в душу одна твоя строка:
«Зэки унаваживают вечную мерзлоту».
От чего зависит отмена смертной казни? Смертная казнь торжествует на гнойном перитоните Фемиды… где адвокаты самые бесправные и пустые слуги.
Ты знаешь, есть такая наука — экзосоциология—это поиск сигналов внеземных цивилизаций. Мне пришла крамольная мысль, что эти поиски наверняка лимитированы!.. Нечистая сила играет между нами и гуманоидами.
Молодость прекрасна тем, что раны зарастают, как собачьи!
Выздоравливаю я с радостною быстротою. Хожу затянутая в специальный широкий бандаж, кажется, что я никогда не была такою стройною!
Горячо поздравляю тебя с 65-ю годовщиною Великого Октября!
Желаю тебе всего наилучшего, дорогой Мелентий!
Твоя Алтан Гэрэл
АЛТАН ГЭРЭЛ
ПОЗДРАВЛЯЮ ЮБИЛЕЕМ ОКТЯБРЯ БОСИКОМ НА КОЛЕНЯХ УМОЛЯЮ БРОСЬ ЧЕРТЯМ ЛИМИТ ПОГАНЫЙ ЖИВИ МОЕЙ МАТЕРИ И
ПОСТУПАЙ УЧИТЬСЯ НА АДВОКАТА ИНАЧЕ ОБА ПОГИБНЕМ
7 НОЯБРЯ 1982 МЕЛЕНТИЙ
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ ОДНОЙ ОБОРВАННОЙ ЛИМИТЧИЦЫ ГЛАВМОСПРОМСТРОЯ
Председателю Моссовета товарищу ПРОМЫСЛОВУ ВЛАДИМИРУ ФЕДОРОВИЧУ
Свое кровное послание с пометкою на конверте «лично и конфиденциально» Алтан Гэрэл передала 7 февраля 1983 года в экспедицию Моссовета, но оно с клеймом помощника Председателя— «Разобраться в этой клевете и антисоветчине!» — кувырком покатилось по лестницам всех красивых инстанций до подвала общежития. Даже возмущенные крысы терзали злополучное письмо зубами и клеймили, как могли, пометом.
Кто из беззащитных граждан «жалобщиков» не испытал на себе подобных «.разборов» собственных потрохов и пинков ниже пояса подкованными бутсами ярых вратарей Нуворишей-Кресловладык с волосяными сердцами?!
О, как рьяно увольняли с работы воспитателя Алтан Гэрэл! Дважды гнали «за прогулы», присылали в общежитие работничка милиции для сбора компроматериалов. Судья нарсуда Кировского района г. Москвы Молина В. Н. под дудку властей Главмоспромстроя во главе с Погудкиным пыталась представить на суде Алтан Гэрэл сумасшедшею, ибо эта судья не встречала столь странного случая, когда истец, прописанный на койко-место общежития, пытался отыскать какую-то фантастическую статью «за бюрократизм», чтобы привлечь к ответственности свое начальство…
Но как ни шельмовали, ни чернили так называемые «коллективы» именем Советской власти строптивицу Алтан Гэрэл, она все же не струсила, не дрогнула, оставшись самой собою, и открыто смеялась над коллективами-хамелеонами, меняющими окраску в зависимости от направления начальственной мысли и способными на любую коллективную подлость против личности, осмелившейся плюнуть против погромной уборки в мозгах.
Порою, наплакавшись до опухания и надрыва сердца, Алтан Гэрэл засыпала с четырьмя кукишами, которые расплетал глубокий молодой сон.
Наш советский Лимит — самый лучший в мире (Частное письмо помощника депутата Верховного Совета СССР)
Мы с глубоким возмущением прочитали и обсудили Ваши частушечного типа стихи-обращение, грубые не только по форме, но гадкие по содержанию, оскорбительные для слуха Моссовета. Они выражают эмоции обиженного человека, но сразу видна однобокость этой обиды. Как я Вам уже говорила не раз при встречах, в Москве тысячи и тысячи коренных москвичей живут в коммуналках (как Ваша покорная слуга), не имея сколько-нибудь реального шанса быстро улучшить условия жизни, получая те же сто рублей, что и Вы. И много лет такие люди видят, что лимитчик, проживя положенное (некоторые — небольшое число лет), автоматически получает квартиру. Это больная тема. Особенно касается она одиночек, которых весьма много. Вот я, например. Мне и через десять лет не светит попасть в отдельную квартиру, хотя мне за сорок лет.
Кровоточащую проблему Лимита Вы не с той стороны освещаете. Вы утверждаете, что Вас несправедливо уволили с работы, а после этого в подъезде общежития без воспитателя с 10 этажа вновь выбросилась девушка. Вообще — кто эти люди? Почему они приезжают в столицу, чтобы покончить жизнь самоубийством? Вопросов много.
Но Вы-то, полагаю, знаете, что вся Франция (Париж) и Англия (Лондон) тоже охвачены «лимитом», как лихорадкою, назовем так приток иностранных рабочих. Я, конечно, понимаю, что Англия, например, захлебнувшаяся в «лимите», расплачивается в конце концов за свое былое мировое господство. Но за что расплачиваются люди? XX век такими страшными болячками ставит в тупик лучшие умы Человечества.
Ваше же письмо Председателю Моссовета пышет зоологическою злобою против нашей советской столицы, москвичей, которые не любят Лимита. Но любят или не любят, а многое и делают для этих людей, отрывая кусок от родных детей своего города. За что москвичам любить Лимит? Да кто его любит вообще?
Но и должна Вам, Алтан Гэрэл, сказать, что самые ненавистные враги Лимита — сами вчерашние лимитчики, ибо коренные москвичи терпимее относятся в целом и частностях. Меня не раз обзывали лимитчицей в транспорте, в перепалке дамы (мужчины никогда) весьма далекие внешностью от московского лица, с еще не выведенным тамбовским, симферопольским или мелитопольским акцентом. Я вот такого себе никогда не позволю, отношусь к этим людям, занимающимся ассенизационной работой, с уважением, а возможно, что жалею многих, ибо люди мучаются и погибают.
Алтан Гэрэл, я искренне хочу спасти Вашу жизнь, которою Вы рискуете, бросаясь в эпицентр всех социальных противоречий, связанных с Лимитом. Но клянусь Вам чистосердечно, что наш советский Лимит все-таки самый лучший в мире.
1 ноября 1983 года
С искренним сочувствием к Вам
Сталина Мастюкова[21]
PS! От души советую Вам оставить в покое Лимит, а пока временно устроиться работать вахтером в общежитии.
Алтан ГЭРЭЛ
Эпитафия Правде
1984 год
Культ всевозможных запретов
Слава богу, что сегодня любой Гражданин может свободно высморкаться и заточить по-своему простой карандаш!..
Сколько миллионов запретов изобретено самыми гибкими изощренными умами на высокооплачиваемой должности?
Только молчать у нас не запрещено.
Молчун ценится выше всякого гения.
Эх, никто не защитит воспитателя рабочих по лимиту! Напишу-ка я фельетон «ЗОЛОТОЙ УНИТАЗ» и отнесу в газету «ИЗВЕСТИЯ», которая расположена рядом с нашим Главмоспромстроем по улице Чехова…
Комментарий автора:
Но, увы!!!
В 1984 году от проблем, связанных с лимитчиками, целомудренные органы печати шарахались, как от проказы…
Только в октябре 1987 года журнал «Огонек» опубликовал статью «Падчерицы большого города», откуда привожу несколько строк:
«С каждой жилички берется расписка: «В случае моего выхода замуж обязуюсь покинуть общежитие в трехдневный срок после регистрации»…
«…И получается, что когда городские власти устраняются от ответственности за людей, поставленных в специфические условия труда и жизни, люди эти оказываются отданными на произвол администрации, которая относится к ним, как к орудию решения своих текущих производственных задач. Причем не чувствует себя ничем перед ними обязанной».
«Лимит вобрал в себя, сосредоточил, как в фокусе, многие наши экономические противоречия и ошибки».
Позвольте, а моральные?!
Лимит завелся под хвостом Регресса и душит горло народное.
Может, Лимит — это начало конца света?..
Эх, сколько раскаленных страстей загоралось, сколько гнусных интриг и грандиозной возни затевалось вокруг меня в свинарниках лжеколлективов?! Если всю энергию подлости и суеты сует эти знаменосные коллективы перебросили бы в благодатное русло, то, глядишь, на вечной мерзлоте вырастили бы фейхоа!
Но само солнце смеялось над сизыми фонарями.
Изгой страшен для людей, и нет ему никакой пощады.
«В бочке вырос, через затычку кормлен».
Самое худшее — это родиться дочерью маленького народа, скрученного в бараний рог в империи проклятой Бюрократии!
Живу под вечным тройным изгойством — не спасет меня сам царь небесный!
«Национальный энтузиазм — великая колыбель гения», — эти золотые слова написал американский поэт Генри Теодор Такерман.
О, дай мне, бурхан, колыбель!
Спусти с неба на золотой веревке обитую бархатом зыбку сирой и строптивой бурятке, выпадающей из Лимита в черную дыру!
Над земным шаром завис лимит на кислород.
Вселенская астма душит всех нас.
Слышите космический набатный звон из озонной дыры?!
Лимит завелся под хвостом Регресса и душит горло земное.
Шарль Бодлер
Письмо 70
Плевок кипятком
Бесценный друг мой, Алтан Гэрэл!
Пишу тебе в День горького тридцатилетия. Сегодня неделя, как лежу колода колодой с высокою температурою, обложенный холмами двуглавых фурункулов: один подлый, самый коварный засел внутри правого уха и огнем печет голову, кажется, что она взорвется, другой почти из пупа вытекает, срамные чирьи горят в паху… Надо ж такое, нарочно не придумаешь!!! Словно живьем жарят меня на углях…
С горем пополам пытаюсь дочитать роман «Спартак», но увы! «Комар парню ногу отдавил» — пишу тебе лежмя лежа. Чтение в такой лихорадке одно мучение, а сны — сплошные кошмары, прямо на меня падают башенные краны. Сердце прыгает от сверлящей боли, буксует в мандраже, словно хочет оно выстрельнуть из груди. Ты помнишь, Алтан, как у тебя 1 июля 1980 года, в жару начала нашей переписки, обуглились и стреляли из кастрюли черные яйца? Точно так и сгорело, наверно, мое сердце, почернело, как уголь, и стреляет в агонии. Но сколько бы на меня ни падали башенные краны во сне, они не задевали меня…
Самое страшное, нынче ночью я вновь бредил Алисою:
Алиса встала из гроба и в желтом саване пришла в тюрьму, чтобы учинить самосуд надо мною. Из груди ее торчала кровавая рукоятка ножа…
— Ежкин кот! Никто не смог вытащить нож из груди, у всех руки трясутся и врет приговор: «нож уничтожить»!
— Святой убийца Мелентий! Рука у тебя не дрогнула проткнуть насквозь мое гнилое сердце. Но Емченко ты не убил, пощадил, чтобы бык лизался с Зосею-Нечесою, завившей хвост. А сам ты полюбил другую. Нашел в тюрьме звезду Востока. Одну меня черви съели вместе с кухонным ножом — остался протокол! — и, задыхаясь от гнева, белая от неистовой ярости ведьма принародно плюнула мне в глаза кипятком! И я ослеп, слышу во тьме жуткий, сумасшедший хохот Алисы.
Уж лучше быть расстрелянным сразу, чем всю жизнь мучиться и бредить виною!
Семь лет несу заслуженную кару во сне и наяву.
Буду ли я когда-нибудь помилован?!
7 октября 1983 года в день своего тридцатилетия получил я плевок кипятком! Но я не ослеп, вижу, вижу, натурально вижу огромный фурункул в сердце своем.
Мелентий Мелека
Письмо 71
Солнце жизни моей — Алтан Гэрэл!
Сегодня 7 октября 1984 года, воскресенье… Слава богу, жив, здоров и прожил тридцать один год. Работаю я все на стройке, за этот срок стал строителем-асом, а сидеть мне еще, ох, как много, но пробивать железные стены у нас с тобою нет ни сил, ни здоровья. Тем более ты и поныне барахтаешься в лимитном тупике, чуть не умерла от операции — и с тех пор я боюсь звать тебя на свиданку, не писал и о любви своей неубывающей, зрелой. Когда ты в прошлом году голодала, уволенная с работы воспитателя за эпиграммы, у меня на лицевом счету не оказалось и 200 рублей, чтобы тебе помочь, вот и посуди сама, о чем я мог писать тебе без конца? Я жил памятью о тебе, которую подал мне сам бог в лице всемирного милосердия, любил тебя, как дочерей своих, которых не вижу годами, сердце мое истекало кровью от постоянной боли… В этом году не учусь в ПТУ, почти все специальности я приобрел и решил нынче отдохнуть. Мы с Иванкою всю библиотеку зоны перечитали заново, а новых шедевров, увы, нет. Начал немного рисовать, нарисовал портреты дочерей на ватмане, два автопортрета через зеркало со шрамом на носу… но не хватает мне взгляда со стороны, твоего взгляда на меня. Алтан Гэрэл, поверь, за один твой взгляд я отдал бы полжизни. У тебя изменился почерк. Я пишу тебе золотым пером, дорогою ручкою «Олимпиа-да-80», покупал ее, когда еще не платил алименты, но перо уже ломается, едва держится, поэтому кроме тебя никому этою ручкою не пишу. Знаешь, у меня накопился целый чемодан писем и открыток, хранится в каптерке, так я разбогател. Мать моя держится, каждое лето собирается привезти мне обеих дочек, но они живут порознь: Неллечка с бабушкою в Липецкой области, Аленушка с матерью где-то под Киевом. Брат Юрий женился в Якутии на якуточке или на якутяночке? а сейчас он служит в армии в г. Чите. Жена его — Саргалана живет у нашей матушки. С 1982 года у меня нет ни одного нарушения, все давным-давно были сняты. По-прежнему занимаюсь спортом, тренируюсь с железками. Нынче мы сообща застолбили бравую волейбольную площадку, натянули сетку и вечерами постоянно играли в волейбол возле своего отряда.
Алтан Гэрэл, о тебе все помнят в зоне, а начальник Николай Кизилов передает привет. Еще бы! Твои письма сотрясали всю тюрьму. Разве теперь мы с тобою выдохлись, исписались??? А что, если я при первой же возможности выйду на бесконвойное передвижение? Но на расконвойку выпускают тоже через комиссии. Все равно я неустанно мечтаю стать бесконвойником, как тот малыш коми в анекдоте… Разве смогу сразу все уписать? О, как мне хочется научиться читать твои мысли и чувства на расстоянии!
Целую твои босые ноги, целую их бесконечно. Мелентий
Письмо 72
Горизонты зубов
Святой светоч души и сердца моего — Вечная моя Алтан Гэрэл!
7 октября 1985 года, понедельник, сегодня мне исполнилось тридцать два года. Как всегда за неделю вперед, получил твою телеграмму, затем книжную бандероль. Кланяюсь тебе в ноги до самой земли, что меня не забываешь, Алтан Гэрэл, тебя же я не забуду до последнего проблеска сознания.
Ты помнишь нашего библиотекаря Иванку — Мифа? Так он 15 мая сего года переведен на поселение в деревню Сыня, где и станция Сыня в 120 километрах от Чикшино в сторону Воркуты. Сейчас Иван Чумордан везет почту, зав. почтой. Вот так! А лет ему тридцать пять. Эх, сколько афоризмов он мне подарил! Когда у меня нынче невыносимо болели зубы, Иван подарил строку В. Шекспира для смягчения зубной боли:
«Какой философ зубную боль переносил спокойно?»
Я с детства ужасно мучился с зубами. Один раз даже плоскогубцами раздавил коренной зуб, промаявшись ночь без сна. Лет мне было пятнадцать. Недавно вырвал коренной зуб, три попытки делал, но нитка не выдержала, хотя была капроновая. Но все равно добился своего — скрутил втрое и с треском вырвал! Оказалось, что корень одной стороною полностью прирос к челюсти, даже кусочек челюсти отломился и вылетел! Зубы у меня изрядно поредели. Зубная паста в зоне по-прежнему дефицит. Выжили у меня из коренных только зубы мудрости. Два моста нужно ставить, иначе останусь без единого зуба. Вот такие горизонты зубов маячат вдали.
Терять зубы не так страшно, взамен вырастают у меня зубы мудрости. Алтан Гэрэл, ты помнишь моего лучшего друга — Силантия Шишкина? Того, который коллекционирует розы, ему ты присылала черные розы-открытки. Мы с ним сидим вместе девятый год подряд, у него статья нельготная, должны его освободить в 1986 году. Заболел он сначала воспалением легких, потом подозревали туберкулез, затем его муки кончились страшною операцией — вырезали Силантию левое легкое… Боже мой! Как я переживал, слов нет, но друг мой выжил, осталось ему 11 месяцев сидеть.
Алтан Гэрэл, я тут шучу о горизонтах зубов, если бы ты знала, сколько грешных косточек зэков гниют по Северу!
От большого срока и морозов больше всех страдают пожилые люди, ведь многие из них не доживают до освобождения.
Дочери мои украдкою от матери пишут мне письма. Прошлою зимою я сильно отморозил руки и пальцы посинели, но пока не инвалид, не калека, не болен вроде, нужны мне теплые, меховые рукавицы.
Так и мои двенадцать лет — как в сказке — чем дальше, тем страшней. Господи, может, хоть посмертно помилуют меня ради детей моих, ради всего святого, ради твоей святой жертвы, Алтан Гэрэл!
Навеки преданный тебе Мелентий Мелека
Письмо 73
Здравствуй, мировая душа!
Как горько мне, что в самый светлый день твоего рожденья — к 16 января 1986 года не о чем писать, нечего подарить тебе, богоравной для меня женщине, которой я недостоин…
Да о чем мне писать? О новых и новых снегопадах, коими завален Север до макушки? Мне здесь в лесу и побриться даже некогда. Может быть, скоро… через год, через два выберусь живым и сам расскажу тебе страшную Сказку 4381 ночи «тюремного героизма», который я не в силах описать отмороженными синими пальцами…
Алтан, мировая душа! Услышь мой последний зов, услышь же последний вопль кровавой глотки и приди ко мне! Вновь я посылаю к тебе великого святого мученика-Джордано Бруно 1 января 1986 года, в среду.
ИВАН БУНИН
ДЖОРДАНО БРУНО
ТЕЛЕГРАММА
169640
Чикшино Печорского Коми
5 отряд
МЕЛЕКА МЕЛЕНТИЮ СЕМЕНОВИЧУ
Вручить 7 октября 1986
Бланк праздничный
ДОРОГОЙ МЕЛЕНТИЙ
ТРЕПЕЩУ ПОЗДРАВЛЯЯ ТЕБЯ ВОЗРАСТОМ ИИСУСА ХРИСТА КАК Я ЛЮБЛЮ ВСЕ ВЫСШЕЕ В ТЕБЕ ЖЕНСКИМ ВЕЩИМ СЕРДЦЕМ ПОКУДА БОГАТЫ МЫ ДУХОМ НИ жизнь НИ ЛЮБОВЬ НЕ УБУДЕТ
8 СЕНТЯБРЯ ЗАЕЗЖАЛ СИЛАНТИЙ ДОБРЫМИ ВЕСТЯМИ РАДА ТЫ БЕСКОНВОЙНИК МАТЬ ПРИВЕЗЛА ТЕБЕ ДОЧЕРЕЙ
НЕЖНО ЦЕЛУЮ ТЕБЯ ТРИДЦАТЬ ТРИ РАЗА ТВОЯ АЛТАН ГЭРЭЛ
Письмо 74
1 апреля 1987 года, среда, прошло ровно десять лет, как я совершил непоправимое злодеяние, стал прокаженным убийцею.
А сны мои совершенствуются.
Теперь мне снится один и тот же вещий грозный сон.
Взыгравшиеся космические силы: страшные наводнения, землетрясения, пожары, ураганы, вулканы и магнитные бури должны уничтожить все тюрьмы на земле.
Мы готовы к смерти в любой час, помылись, оделись в чистое, позобали рис с маслом.
Прапорщик Хвостососов навеселе вернул мне «Записки следователя» — вот последняя радость в этой жизни блеснула, чего я не ожидал.
Тюремщики тоже навели ослепительный блеск, дефицитным техническим спиртом, что лакают украдкою, почистили пуговицы, бляхи, оружие, автоматы АКМС с разрывными пулями.
Пробил общий роковой час. Ведь мы связаны с родною гадиловкою пуповиною. Она — наша тюремная мать-проститутка, но что менты видели кроме нас, отходов общества с «жемчугами»? Ведь зэки освобождаются, а тюремщики остаются. Бедные люди. У нас перед всеобщей гибелью нет вражды к ним, кому мы обязаны содержанием в стойле, в свино-псарне нашей, воспитанием, учебою — словом, жизнью. И даже запахом счастия. Ведь исчадия ада плачут-рыдают над осколками золотого блюдца, разбитого в бреду жизненного угара-перегара.
Эх! Построились мы во всем лучшем друг против друга во всем ослепительном блеске тюремного хит-парада.
Аж псы сидят в строю, высунули жополижущие языки, отдыхает псарня от горлодерного лая.
Сняли мы лагерные короны — свои драные ушанки-требуху, чтобы бритоголово встретить священный взрыв и полет в тартарары всех подлых тюрем человечества, сгнивших на корню.
И отыщу, разыщу на том свете свою тварюгу, нет, руки я не подыму, лишь посмеюсь вдоволь, как мертвецы смеются над мертвецами в лютой вечности, в аду:
— Здравствуй, Алиска, здравствуй, киска! Как ты тут вечность прогуливаешь? Господи, на что я позарился, за что убивал?! — и со всею силою плюну в полыхающие свечи— в очи тощей тени, и вылетит пуля тюремного гноя, сердце мое очистится для вечности, наконец-то будет мирно биться.
Жду не дождусь этой счастливой смерти для всех. Зря погибнут только псы, собаки. Вроде у них не было грехов? В лапах стражи служили, двойною цепью обвенчаны за помойные косточки. Пусть псы, собаки после слепого рабства попадут в рай, где нет смертельного звона людских цепей и кандалов, что сверлят уши и перетерли горло!
Ох, как разрывно-сладостно трепещут наши сердца в ожидании священной участи конца всемирного мрака тюрем.
Боже! Началось! Летит на зону железный метеорит, воет сирена, скулят волки.
Все взлетает и летит в тартарары, горит солнцем, горят на мне последние марлевые подштанники, я гоняюсь за твоими письмами — не поймать мне ни одного!
Журавлиным клином улетают твои письма в неведомую высь, никому не достались!
Затем сижу один обгорелый, голый, укрытый пеплом на дне вечной катакомбы. Один-единственный на земле выжил я из зэков в безвылазной яме.
На мне с корнями вырваны все меченые бородавки, из дыр неостановимо течет моя разжиженная водицею кровь.
Рыдаю, вопию во всю глотку, во весь живот, взываю от имени всех честных зэков к гуманной мудрости Вселенских миров из адовой пропасти, из дна которой мне не выбраться никогда:
— Да помилуйте всех погибших посмертно!
Помилуйте нас, грешников, посмертно!!!
От имени зэков взываю из бездны напрасно.
И взошла опять Радуга в подвале.
И вина моя восьмою, черною дугою
Влилась навеки в радугу над миром.
Как молитву шепчу, заклинаю:
— Помилуйте посмертно!
Чует сердце — сбудется мечта — помилуют посмертно.
Но как обрыдла мне тюрьма со всем белым светом!
Готов вырвать сердце из груди и живьем поднести на ладони высшему небесному правосудию:
— Ешьте с кровью!!! Успокойтесь, всем оно достанется…
О, сколько раз во сне я был расстрелян за жизнь Алисы Васильчук?!
Я — вечный виновник до конца своих дней…
Мелентий Мелека
И только 15 января 1987 года в «Литературной газете» впервые появилось письмо с комментарием
«ПОШЕЛ НА ВТОРОЙ СРОК»
Мне, человеку, неоднократно судимому, хочется поделиться своими мыслями о системе исправительно-трудовых колоний (НТК) МВД. Я уже предпринимал несколько попыток узнать, настало ли время писать о том, как обстоят дела в местах заключения, но мне не удалось это выяснить.
Вы, наверное, знаете, что есть колонии, зоны, как у нас говорят, где отбывают наказание неоднократно судимые. Так вот, количество людей, неоднократно судимых, на мой взгляд, гораздо больше, чем осужденных в первый раз. Трудно, конечно же, найти причины (общие), отчего люди попадают за решетку два, три и более раз, но некоторые обстоятельства наводят на размышления весьма безрадостные.
Попав за решетку в первый раз, я услышал: «Ну теперь пойдет и второй, и…,» Людям, говорящим это, не поверил. В зоне услышал подобные «пожелания» уже от «знающих» жизнь работников администрации. Для них настолько естественно то, что «зеки» сидят, потом гуляют, потом опять сидят, что «завязавший» вызывает у них интерес — как это ему удалось? Да и действительно, столько трудов прилагается для того, чтобы он забыл о нормальной жизни, а тут — живет! Значит, в чем-то крупно повезло. О том же, что, возможно, в заключении человек сделал определенные выводы, а тем более что ему помогли разобраться, встать на истинный путь, речи не идет. Если же человек попал опять в заключение, то тут все ясно: запил, на работу не устроился, нет прописки, надзор, — короче, совладать со всем сразу не смог, не научен.
В приговоре в таких случаях значится: «на путь исправления не встал» — отягчающее вину обстоятельство. И когда подсудимый старается объяснить, что пытался, хотел, но не получилось, не поддержали его, то это воспринимается как попытка добиться смягчения приговора и во внимание принимается крайне редко.
Все это пишу о тех, кто когда-то попал на скамью подсудимых за не слишком значительные преступления по молодости, глупости, незнанию и самообману — «авось проскочит». Попав в милицию, затем под суд, не сформировавшись еще в преступника, по какой-то сложившейся системе «новички» оказываются в разряде людей, которым будто бы верят, но только не всерьез, а выводы делают по стереотипу. Характеристика их, как правило, не дает полного, верного представления, а в судах нет времени как следует разобраться, покопаться, что за человек за барьером. Подсудимый это чувствует. Это первый моральный удар, после которого трудно психологически восстановиться. Затем заключение там — формальное «перевоспитание» на словах, фактически же — продолжение начатого процесса, постоянно ощущаешь какую-то настороженность, подозрительность, неверие ни в себя, ни в окружающих. Так называемая политико-воспитательная работа носит просто убогий характер. Она во всеуслышание признается неудовлетворительной, но не больше. Объясняется это элементарной неподготовленностью кадров, бесконтрольностью и пренебрежением к той функции, которая должна быть главной в этих учреждениях, — исправление.
И процветает в зонах развитие порочных наклонностей человека. Отбыв наказание, человек просто не в состоянии, не готов придерживаться тех норм жизни, которые приняты в обществе. Круг интересов на свободе замыкается в основном средой «себе подобных». Милиции надобности нет в присутствии таких людей на воле— слишком хлопотно, и стараются побыстрее от нас избавиться. Сделать это несложно. Исподволь действовать человеку на нервы — и он сорвется быстро.
В судах неоднократно судимые на поблажки рассчитывать не могут. То есть на то, чтобы им иногда верили. Любой проступок — срок. Фраза «был бы человек, а статья найдется» в той обстановке стала давно крылатой.
Письма, подобные моему, официально посылать из зон не представляется возможным, несмотря на то что в правилах внутреннего распорядка этих учреждений сказано: осужденные имеют право отправлять письма в общественные, государственные и прочие органы без ограничений. Попытки направить такие письма преследуются. Убедился в этом на собственном опыте. Формулировка постановлений о водворении в штрафной изолятор в таких случаях гласит: «За нелегальную отправку писем, содержащих клеветнические заявления в адрес администрации». Но почему они отправляются нелегально— мало кого интересует. Прокуроры по надзору не любят заниматься подобными вопросами.
Пожалуй, на этом все.
В. Ставровский Смоленск
Комментарий обозревателя «Литературной газеты» Юрия Щекочихина:
Стоило ли выносить письмо В. Ставровского на газетную страницу? Есть ли смысл проблему, касающуюся довольно своеобразного круга лиц, делать предметом широкого общественного обсуждения? Да и верить ли автору — человеку судимому, да еще неоднократно?
Предвижу недоумение и даже возмущенные вопросы некоторых наших читателей: и рядовых, и руководящих. Не раз убеждался в последнее время, с каким трудом кое у кого изживается закостенелая привычка к умалчиванию, перестраховке, засекречиванию проблем, которые давно нуждаются в открытом обсуждении.
Убежден: пора наконец сказать и о том, что происходит в исправительно-трудовых учреждениях. Как складываются судьбы людей, отбывших наказание? Эффективна ли сама система наказания? Не дает ли она осечек, превращая людей, однажды оступившихся, в рецидивистов, профессиональных преступников?
Пора, пора сказать и об этом. Пора вынести на гласный суд статистику работы НТК: сколько побывших в НТК вернулись к нормальной жизни, а сколько — опять к «зэковской». Пора привлечь к решению проблем НТК психологов, психиатров, социологов. Пора всерьез задуматься: что делает общество для исправления оступившегося человека? Не является ли существующая сегодня бюрократическая круговерть, в которой оказываются люди, отбывшие наказание («на работу не принимают потому, что нет прописки, не прописывают потому, что нет места работы» и т. п.), причиной того, что человек вновь встает на путь преступления?
Много, очень много накопилось вопросов вокруг «закрытой темы». И разобраться в них необходимо. Пусть даже речь идет о единичных случаях.
Правило гласности не терпит исключений.
Письмо 75
Алтан Гэрэл, дорогая, здравствуй!
Вот только выдалась возможность написать тебе после долгой болезни. Как пронеслось это вековечное время, эти горы годов, Северный Ледовитый океан молчания? О, не хочу тебе описывать ад тюремной больницы, уволь! Боюсь сглазить, но на четвереньках выкарабкался… и начал забывать о своих болячках. Такой больницы там, за забором днем с огнем не сыщете. Лучше о другом.
Как противно и тошно слышать все тех же вечных соловьев о перестройке и правильности пути! За эти полвека как они заливались гимнами и Сталину, и Хрущеву, и Брежневу… Если бы сегодня развевался лозунг на ветру: «ДОРОГУ ВЕЧНУЮ — ПЕРЕКИДКЕ ВРУЧНУЮ!» — то они с пеною сливочною взахлеб восхваляли бы тупую лопату и гневно клеймили позором зловредный экскаватор!
А наш брат, осужденный-заключенный, громыхает костями и дышит счастливыми слухами о большой перемене в тюремной системе, поговаривают даже о всеобщей амнистии к 70-летию Великого Октября. Эти счастливые слухи, возможно, согревают тюрьмы Отечества. Может быть, мне с этими слухами досидеть до самого «звонка» двенадцать положенных лет, коли одиннадцатый год сижу крепко и надежно, и хлебаю гадкую тюремную баланду, подогреваясь спасительною верою: «А вдруг и правда кто-то по-человечески к нам отнесется?» Что говорят в Москве о новом министре МВД СССР Власове? Правда ли, что он в свое время жил и работал в Бурятии? Алтан Гэрэл, может, Власов — твой земляк? Да, читали и обсуждали мы статью В. Ставровского в «Литературке». Надо отдать должное, времена пошли к лучшему. Дай-то бог и нам милосердия, но как скоро долетит до нас светлый луч новой жизни?!
Как хочется увидеть салюты в этот прекрасный майский День Победы! Счастливых тебе салютов о великая Родина!
Интересно, как звери и птицы в зоопарке видят и слышат салюты? Мне кажется, что они намного счастливее нас, хотя тоже томятся и гниют в неволе. Кто напоит хоть раз всех зверей и птиц зоопарков чистою родниковою водою? Алтан Гэрэл, ты передай братьям нашим меньшим по неволе гуманный привет. Ведь у них нету спасенья, пожизненный приговор, подпилены навеки клыки и когти. «Сгноили Царя зверей. Бедняга спит беспробудно в ужасной вони среди обглоданных костей говядины… спиною к зазывающим зрителям-вертихвостам», — здорово писала ты о львиной доле позапрошлым летом. Так жив ли тот старый, одряхлевший лев, который дремлет взаперти в клетке более тринадцати лет? Или усыпили совсем страдальца?
Кто знает, может быть, вконец и я попаду под амнистию???
Как и все сознательные зэки, мы, вальщики леса, вкалываем так, что сами валимся с ног, аж кирзухи в мозолях…
Но живы будем — безусловно встретимся, Алтан. 9 мая 1987 года, суббота.
Наипреданнейший тебе
из всех мозолистых людей на земле Мелентий Мелека
PS! Говорят — султан ГУЛАГ’ов застрелился!..
Письмо 76
Здравствуй, Алтан!!!
7 октября 1987 года, среда. Стукнуло 34 года, пока я — не старик и жить хочу сильно.
Слава богу, Великая амнистия к 70-летию Советской власти коснулась и моей судьбы. Вчера специально ездил в зону и расписался в том, что освобождаюсь я 15 мая 1988 года, а это будет воскресный день. Значит, мне подарили 317 дней и ночей свободы! Гудит все тело, в голове сумбур, сердце колотится от мучительной радости.
Что ни говори, а ходатайство о помиловании — это лотерея, которую никогда не выигрывают убийцы.
Да, крупно повезло всем мелким преступникам — почти все попали под амнистию. Признаться, у меня татуировка скукожилась и позеленела от зависти, что все хулигангстеры пируют на свободе!
Ну, а я по-прежнему валю лес, случается, что словлю рыбу и дичь, собираю грибы, нынче год богатый, грибной, а ягодами — скудный.
Бабье лето ясное нынче пришло в октябре, как подарок мне на именины, и напоминает счастливую осень високосного года… Помнишь ли, Алтан?
Все же по сравнению с тем, когда я отбывал срок под конвоем, нынешняя моя жизнь, если ее можно назвать жизнью, — это рай. Глядишь, как-нибудь переживу последнюю одиннадцатую зиму, уже кровью расписался о предстоящей свободе, сегодня осталось сроку— 7 месяцев и семь с половиною суток…
Знаешь, в Голландии, что ли? подсчитали, что дешевле, экономнее строить тюрьмы на якорях… А по мне — лучше всего содержать тюрьмы в Бермудском треугольнике — и никаких убытков!
Алтан Гэрэл, ты помнишь, как ты смеялась над моим парадным молескиновым костюмом в зоне? А я тебе объяснял, что не каждый зэк шелестит молескинкою. У нас молескиновый костюм ценится, как импортные шмотки на воле. Выдается, как спецодежда, тем, кто имеет дело с кислотою — аккумуляторщикам, а иногда токарям, фрезеровщикам и сверловщикам.
Тогда я молескиновый костюм достал для свиданки с тобою, а теперь к выходу на свободу сам заслужил, выдали шикарный новый молескиновый костюм, пришил я проклятую бирку:
МЕЛЕКА М. С.
7 отр. 77 бр.
Так, может, действительно выйду 15 мая 1988 года ценным специалистом — тюрьмоведом, как об этом ни горько шутить, смогу поговорить хоть с самим Александром Солженицыным, если он вернется домой на Родину.
Алтан, уж не побил ли я мировой рекорд — сколько же писем понаписал за весь уголовный срок?! Чем черт не шутит — может, недаром протяну проклятый морозно-резиновый срок и, глядишь, занесут меня — преступника за чистописания в книгу рекордов Гиннеса?! А?
Да, хотел я тебя рассмешить тщеславною шуткою, а у самого слезы закипают от пожизненного горя.
Мать моя ждет меня не дождется. Дочери любимые вырастают в невесты… Стелла теперь одна бьется с тремя детьми. Это я ей сломал молодую жизнь, и она, может, с горя сошлась с Безкаравайным? И я давным-давно— не тот Мелентий, и нет судьи строже меня самого на свете.
И где мне начать новую жизнь? Кем работать? Интересно, уцелело ли мое родное село Дубровино на Урале??? Знаешь, Алтан, и мне все чаще снится родной дом. А сегодня ночью проснулся в тревоге — в темноте кажется, будто я лежу в своем амбаре на Урале!..
Может, чудом найду ветхий наш дом, могилу отца, чтобы прижаться мокрою щекою к той земле, где я родился…
7 октября 1987 года. Лесничество зоны. Царит бесконвойное содержание. Сегодня Мелентию Семеновичу исполнилось тридцать четыре года. На праздник возраста приехала Алтан Гэрэл с двумя чугунными чемоданами, что нажила в столице по лимиту.
— Ну, здравствуй, змей разваренный, змей замороженный, змей высушенный,
а жало мудрости вырастивший!
Мелентий и Алтан Гэрэл крепко обнимаются, обессиленно и долго плачут.
В полдень умываются и вытираются одним полотенцем.
Алтан Гэрэл: Да не три так исхудалое лицо, будто стружку снимаешь!
Мелентий: Посмотрим, с кого стружки стругать московские!
Они улыбаются и, наконец-то, целуются.
Гаснет солнце на ясном небе— и стаи Жар-птиц загораются, горят, кружатся клином, озаряя мир волшебным парением.
Павлины распускают хвосты и зарываются головою в землю.
О как больно и сладко сжимается мое сердце в конце моей книги, когда описываю поцелуй убийцы, словно поцелуй века!
Мелентий целовал Алтан Гэрэл так жадно и странно, будто пил саму жизнь из ее сладких, полных губ, будто пил то волшебное яйцо орлицы!
АЛТАН ГЭРЭЛ
ЗАВЕЩАНИЕ ЗИМНИХ ЗМЕЙ
Стихопрозою
АЛТАН ГЭРЭЛ
ЭПИГРАММА
на проститутку № 1 — мировую печать, которая поднимает небывалый вой против ущемления священных прав миллиардеров.
Природа не одарила меня слухом к симфонии крепостного права. Степь вскормила меня гордым полетом орлов в счастливой небесной синеве. Смертельно тоскую по земле своей пуповинной!
Там в благостном ясном небе мои степные орлы взлетают выше вертолетов, споря духом с железными стрекозами.
Орел и орлица сажают птенцов на спины, поднимаются к солнцу на вершину самой рискованной выси над всеми животрепещущими крыльями и кувыркаются — кидая орлят — затем падают камнями, ловя их на лету! Так орлята парят, кружатся в привольной коронной вышине, в гибельном восторге учатся летать.
Вот что высшее благо! И если в мире осталось Богополье — оно там, где могучие корни гордых орлов.
Эх, орел-баба, пора домой лететь!
С
Т
Р
Е
Л
О
Ю
Письмо 77
написанное 7 октября 1988 года,
в пятницу на рассвете
(Здесь с жалобным писком сломалось золотое перо Мелентия Мелеки, и оборвалось его последнее письмо, написанное кровью сердца.)
Так «на воле» Мелентий получил первый инфаркт от свободы и выбора.
Вместо волшебного эпилога оставляю с молитвою моего героя в надежных руках любящих его родных — матери, жены Стеллы, сестры, братьев и милых дочерей.
Я не хочу опережать судьбу грешника-страдальца во времени, забегая вперед ради удачного и счастливого конца романа.
Да и что я могу предсказать о чужой судьбине, когда своя судьба высшая тайна и загадка…
Последний эпилог
Между двумя чудовищными землетрясениями 1988 и 1989 годов Алтан Гэрэл получила телеграмму из неизвестного городка Боровска:
ПРИЕДУ ВСТРЕЧАТЬ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД И ДЕНЬ ТВОЕГО РОЖДЕНИЯ
МЕЛЕНТИЙ МЕЛЕКА
Взволнованная Алтан Гэрэл напрасно искала Боровск на карте Украины, Урала и Коми — республики бесконвойников…
Тогда она в новенькой синей шерстяной юбке в красно-белую полоску, застегивающейся на запах и гордою этикеткою на правом бедре ТАЛЛИН-80, сшитой к Олимпиаде, ездила к Мелентию в зону.
Отбурлили, утекли восемь лет. Алтан Гэрэл хлопотала дома в той же, множество раз залатанной и подшитой, но поразительно прочной домашней юбке с покореженными шестью красными пуговицами, напоминавшими те самые кораллы ее детства…
Она вспомнила, как посадила два огромных, как тарелки, жирных пятна на шикарную юбку, таская в чем придется жареные хариусы Мелентию из гостиницы. Однажды, когда отчаянно сигналила присланная машина, Глеб Тягай завернул горячие хариусы в бумагу, Алтан Гэрэл в спешке сунула их в авоську, а в кабине положила харчи на колени, и весь жир хариусов вытек по дороге на сногсшибательную юбку.
А как вкусно шкварчали и шипели румяные жирные хариусы на сковороде, аж слюнки текли… Поди, ни в одном ресторане так не пеклись, так не старались для невесты уголовника, как «метрдотель» Глеб Тягай! Ах, как трещали и хрустели тогда хариусы!..
«Боже, в каком экстазе я жила тогда с Мелентием, если не замечала горячий жир, льющийся на колени? И в этой теперь насквозь задрипанной юбке встречаю его», — со странным удовлетворением думала она, ничуть не желая переодеваться.
За восемь лет жизни лились ливни с градом, кислотные дожди, ядопады, лилось и капало многое на добропрочную материю, все, кроме птичьего молока…
На олимпийской юбке Алтан Гэрэл зашила красными вышивками-крапинками сорок девять дыр! Эта юбка словно знамя ее человеческой и женской жизни за гнетущие годы, и она подыскала полированное древко сломавшейся швабры…
И когда душа ее более всего терялась в гнетущих догадках о судьбе Мелентия, вдруг раздался оглушительный, ржавый, бьющий током по обнаженным нервам, идиотский, чудовищный звонок, который Алтан Гэрэл собиралась заменить на более благородный уже пять лет… Она соскочила, как ошпаренная.
— Ме-ле-ка! — раздался глухой голос за тонкою, необитою дверью без глазка.
Она распахнула бедную дверь и увидела Мелентия в пышной снежномеховой шапке, надвинутой по самые темно-серые глаза в синих кругах.
Они с изумлением смотрели друг на друга в упор.
— Я проездом, с курсов, — едва начал Мелентий, колени у него подгибались, и весь он дрожал какою-то нервно-морозною дрожью, скидывая дерматиновый полушубок цвета повышенной мрачности.
Алтан Гэрэл, схватив подушку, мигом залезла на стул в прихожей, и придавив подушкою ненавистный звонок, несколько раз с размаху стукнула по нему, и спрыгнула со стула.
— Конец мерзавцу! — обрадовалась она, с силою давя на мертвую кнопку, словно топча голову изверга.
Потом они ели яичницу прямо со сковороды, запивая сухим кислым вином «Плай» вместо чая, который смертельно надоел Мелентию за срок.
Природная мужская красота, настоянная одиннадцатилетнею выдержкою в жестокой аскетичной среде, сделала Мелеку такой значительной личностью, что Алтан Гэрэл после восьми лет с той первой встречи в зоне видела совершенно другого мужчину с волнистыми волосами, крашенными хною, незнакомца тридцати пяти лет, будто перелицованного с головы до ног.
Она даже нагнулась к нему, чтобы разглядеть шрам на его носу.
— Я его тогда аккуратненько заклеил, — смущенно отвечал он, и она едва заметила тонкую, прямую ювелирную черточку на носу.
— Не ожидала тебя из какого-то Боровска…
— Из Калуги на электричке. В Боровске учился на курсах во Всесоюзном институте повышения квалификации лесного хозяйства. Работаю помощником лесничего в Чикшине. Зарплата всего сто двадцать пять рублей. Живу один… С Петровною расстался навсегда, обозвал лоханкою с зелеными мухами.
— А ты чист, как божья роса?!
— От чрезмерной раздражительности ем витамины «Декамевит»… и жую спички.
— Живи один. Пей лосиное молоко, чтобы заново сотворить кровь. Целебное молоко, неделю не киснет.
— Да, осталось мне лосей приручить, лосиху раздоить…
Мелентий из потрохов дерматинового полушубка «на рыбьем меху» достал флягу с брусничною настойкой.
— За долгожданную встречу! Алтан Гэрэл!
— За твою амнистию! За триста семнадцать суток! Мелентий!
— Я — бык в математике… Выпустили четырнадцатого мая, можно за сутки раньше освободить, но никак не позже. Сразу двинул в Печору, слегка пододелся, подоперился в городе и семнадцатого мая сел в поезд до Крыма. Пересел в Джанкое на автобус и высунулся в окно. А когда подъезжал к Каховке, от красоты природы, обилия зелени, от счастья свободы ком подкатил к горлу, слезы навернулись на глаза и текли по лицу. Через одиннадцать лет я не узнавал родной канал, на котором работал, рыбачил, загорал, целовался! Вдоль канала выросли огромные тополя, ивы, рябина. Такой красоты нигде не видел в жизни! В Каховке пересел на такси и поехал в Архангельскую Слободу. Село мое утопало в цветении, в песенных садах. Нет, нет! Я не могу передать тебе словами то, что со мною происходило при встрече с матушкою. Слава богу, дождалась меня. Получает пенсию сто рублей. Как сдала бедняжка, ты бы мимо прошла и не узнала, поседела вся до единого волоска, как будто отсидела тоже одиннадцать лет!.. А брат Владимир работал на Чернобыле и облучился…
Тут Мелентий перевел дыхание и от волнения начал жевать обгорелую спичку с чистого конца.
— Давай, Мелентий, по черпаку брусничной за погибель богомерзкой цензуры-дуры!
И ночами напролет они говорили о том, чего нельзя было описать ни в каких письмах.
— Так слушай, как «серые» в погонах убивали нашего брата. Старший лейтенант Сторожук на наших глазах из одного молдаванина-бедолагина сделал котлету! Молдаванин-бедолагин отсидел около восьми лет, и оставалось двое суток до свободы. Выскочил из барака и не добежал до туалета — мочился несчастный с торца барака, а там в это время стояла бортовая машина, на которой возят продукты в ларек. Взбешенный психопат белого каления вскочил за руль и на скорости вмазал человека прямо в стену, в лепешку раздробил все бедренные кости! Судили Сторожука в поселковом Доме культуры. Считай, что по головке погладили — дали всего три года колонии общего режима с отбытием срока наказания на стройках народного хозяйства. Через полтора года выбрался подонок, забрал свою семью и смылся подальше, в Коми его больше не видали. Ой! Сколько подобных ужасов за свой срок я перевидал! Сами зэки ножами резались, топорами рубились насмерть и гвозди молотком в уши забивали! Представь себе, отсидев две пятилетки, и я мог быть убитым с ходу, как тот молдаванин-бедолагин. Эх, Алтан, Алтан, что со мною сделали все эги годы?! Что они сделали?! — и он не мог говорить.
— Мы оба живы. За чудо встречи поднимем брусничный!
— Представь себе, когда я уходил из своего балка, из своего леса, мне жаль было своих собак покидать, жаль бросать топор, пилу, лопату… Алтан, все книги, что ты подарила, все до единой отобрали «серые» в погонах! С 1985 года, как стал бесконвойником, начал жить в лесу. Снегу — по пояс, к обеду мы промокали до пуповинной нитки, а вечером придавливал мороз аж до синевы соплей — синели руки, ноги. Едва отходили к полуночи. Иногда приезжал в зону в санчасть. Даже от зоны отвык в лесу с волками, которые охотились за моими собаками. А если честно — мне и сейчас вой волков дороже гула цивилизации.
— Как нам спастись от варварского прогресса?..
— Прогресс, он, как осел, не пятится назад… Я знаю только — как спасти яйца от морозов. Надевал шерстяное пушистое птичье гнездо, что мать привезла, когда меня замучили бредовые чирьи…
— Да, чтобы спасти человека, мало переписываться с ним восемь лет — надо посвятить всю жизнь!
— Эх, зачем я — осел, убил баптистку Алису, которая мечтала умереть молодою?! Не могу представить ее старухой. Страшно… Какая острая тоска разрывает меня на куски!
— Живи один, Зэк-Мороз. Будешь застывшие слезы точить, как алмаз… — по ее широким щекам текли кипящие, обжигающие слезы…
Щадя самого бога, Мелентий Мелека в обугленном сердце до сорока семи лет, до скончания нашего злонамеренного века будет нести горящий тайный уголек, сжигающий его грешную душу:
УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА — УБИТЬ И СЕБЯ —
УБИЙЦА И ЖЕРТВА В ВЕЧНОЙ СВЯЗИ.
Москва, 1980–1988
ГЕНЕАЛОГИЯ НОГТЕЙ
Конец
Редактор М. О. Акчурин Художник К. Г. Авдеев Художественный редактор О. Г. Червецова Технический редактор Е. А. Васильева Корректоры Т. Г. Люберец, И. И. Попова
И Б № 5078
Сдано в набор 31.10.88. Подписано к печати 10 05.89. А04195. Формат 84x108. 1/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 1t Усл. печ. л. 18,48. Усл. краск. — отт. 18, 95. Уч. — изд. л. 17,62. Тираж 50 000 экз. Заказ 184. Цена 1 р. эд к.
Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62
Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30
В 1989 году
в издательстве «Современник» выйдет в свет исторический роман известного бурятского прозаика Кима Балкова
«Байкал — море священное».
Действие романа происходит на далекой окраине царской России — в Прибайкалье, на строительстве Кругобайкальской железной дороги.
Завершается роман событиями 1904 года — волнениями строительных рабочих, военными действиями начавшейся русско-японской войны. В трагических судьбах героев романа отражаются противоречия эпохи, непримиримое противоборство классовых сил.
В 1989 году
в издательстве «Современник,» выйдет в свет
сборник карельских и финских сказок «Сказки Эро Салмелайнена». (Составитель У. Конкка.
Перевод с финского А. Пертту).
В сборнике представлены лучшие образцы устного народного творчества карелов и финнов, записанные и опубликованные (на финском языке) в середине XIX века студентом Гельсингфорсского университета, членом Финского литературного общества Эро Салмелайненом (1830–1867). Волшебные и бытовые сказки, рассказанные «детьми природы», живущими среди лесов, на берегах больших и малых озер Карелии, в яркой, самобытной образно-метафорической форме отражают поэтический взгляд на мир, мечты о социальном равенстве, о счастливой доле,