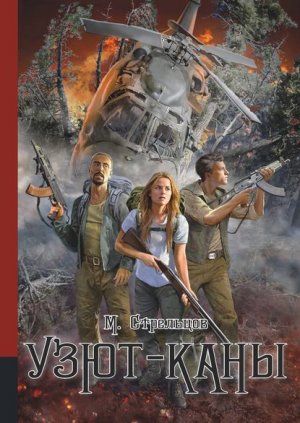
© Издательство «РуДа», 2019
© М. М. Стрельцов, 2019
© С. А. Григорьев, иллюстрации, 2019
Пролог
Никифырыч широко зевнул и прикрыл рот ладонью. Приспичило же кому-то лететь к чёрту на рога в пять часов утра! Да ещё и в выходной! Ранний сентябрьский холодок забрался за ворот и пощекотал лопатки. Вадик, радист, уныло курил, присев на корточки.
Из тумана, как на фотографии, со стороны метеостанции начали проявляться люди. Первые высокие фигуры рассекали грудью утреннюю прохладу. Их безукоризненные костюмы, тяжёлые квадратные челюсти и короткие стандартные стрижки навевали мысли невесёлые. Этим парням ничего не стоит выхватить из подмышки пистолет и изрешетить вертолёт вместе с экипажем. Следом за ними, скрючившись под тяжестью цилиндрического предмета, семенили два курсанта-связиста.
– Осторожней! – прикрикивал на них седовласый дедок в белом костюме.
– Ишь, щёголь какой! – высморкался Никифырыч. – И откуда только занесло?
К группе присоединились начальник метеостанции и хмурый капитан из райотдела ОВД. Вадим сплюнул окурок и принялся помогать курсантам. Втроём они закатили контейнер в грузовой отсек, причем там тяжесть попутно зацепилась за трос и, вырвавшись из рук, с грохотом заскрежетала, перекатываясь.
– Осторожно, прошу! – всполошился «белый» дед и внезапно бодро заскочил в вертолёт.
Типы с квадратными челюстями лениво оглядывали окрестности. Начальник метеостанции, юркий, пухленький добрячок, непрерывно снимал фуражку, заглядывал туда, вытирая платком лысину.
Контейнер напоминал собой гигантскую консервную банку серого цвета. Вадим прикинул по весу – с два ящика затвердевшего цемента. Цемент, кирпич, консервы, валенки и газеты – основной груз вертолётной компании «Никифырыч и Вадим», как в шутку окрестил её радист. Седой дедуля чуть ли не на коленях ползал вокруг контейнера, не щадя своего великолепного костюма.
– Всё в порядке, – выдохнул он и повернулся к пилоту, – но умоляю: доставьте как возможно осторожнее, и лишний раз не встряхивайте.
– Хрусталь что ли, папаша? – поинтересовался Вадим.
– Богемский, – хмыкнул один из квадратночелюстных.
Старик судорожно схватил радиста за плечо и часто-часто задышал, втягивая таёжный воздух в свистящие лёгкие.
– Вам плохо?
– Нет! Всё в порядке. Сердце, знаете ли, пошаливает…
– В общем так, Никифырыч, – начальник снял фуражку, заглянул туда, – карта у тебя есть, маршрут ясен, доставишь в целости и сохранности. За груз отвечаешь головой.
– Что везём-то?
– Это вас не касается, – отрезал капитан и строго взглянул на начальника, тот виновато напялил фуражку. – Докладывайте каждые пять минут. С вами летит академик Пантелеев.
– Но у меня же не пассажирский лайнер! Это всего-навсего старая рухлядь, которая навернётся при первом удобном случае. Ремонта лет пять не было!
– Разговорчики! Накаркаешь ещё! – щёлкнул зубами капитан. – Везти, как собственную семью. В случае непредвиденных обстоятельств – сразу же выйти на связь, и приземлиться в первом же приспособленном для посадки месте. Ясно?
– Между прочим, это гражданский вертолёт, – возмутился Вадим, но поймав умоляющий взгляд начальника, замолчал.
Оказавшийся академиком дедок печально вздохнул и, соорудив нечто вроде табурета из ящика и тюка валенок, присел рядом с контейнером, напоминая обиженную сторожевую собаку.
– Может, останетесь? Пошлём кого-нибудь из ребят, – капитан кивнул в сторону верзил.
Академик отрицательно покачал головой.
– Ну-с, с Богом, – отрезал капитан и исчез в тумане, за ним потянулись курсанты и короткостриженные.
– Никифырыч, ты смотри… того… – начальник раздосадовано махнул рукой и растворился в дымке, словно в молочном киселе.
Вадим уже примерял наушники.
Начальник метеостанции окинул недовольным взором пристроившихся на лавочке у входа мордоворотов, снял фуражку и вновь обнаружил в ней реденький клочок волос, вздохнул и прошёл в свой кабинет, где курсанты устанавливали рацию. В это время сверху послышалось характерное гудение вращающихся винтов…
Под ними раскинулась тайга. Вершины кедрача рвали туман и замирали тёмно-зелёными пиками. Неожиданно припустил дождик, прибивая остатки разорванного тумана к земле. Вертолёт шёл низко и медленно – сказывалась перегрузка.
Кедры ждали: вот-вот огромная стальная муха опустится чуть ниже и усядется на кроны, как кусок мяса на шомпол. Щёлкнула ветка, потом затрещал весь валежник, и обросший мхом валун, по которому ползали беспечные муравьи, приподнялся, вытянулся, запрокинул к небу косматую голову и тревожно замычал. Эхо разнесло рык вглубь чащи, где понурый лось встрепенулся и ринулся напролом, ломая молодняковые поросли. Всполошились разбуженные птицы, а кукушка по ошибке запорхнула в беличье дупло.
– За грибами бы сейчас, – выдохнул Никифырыч и взглянул вниз. Он много навидался на своём веку – и знаменитых кавказских хребтов, и просторных казахских степей, но эти горы, покрытые кипучей жизнью, нравились ему больше всего. Берёзовый сок, промысловая охота, шишки, ягоды, грибы – что может быть лучше?
– Откуда взялся этот академик? – пожал плечами Вадим. – В нашей-то глуши. Интересно, что всё-таки везём?
– Лучше бы нам этого не знать, – проронил Никифырыч и крепче вцепился в штурвал.
– Ну, а всё-таки? – не унимался радист, его светлые с рыжеватым отливом волосы гармонировали с восходящим солнцем. Упрямые губы, открытые, доверчивые глаза, не потерявшие своего юношеского блеска после трёх лет в морском флоте.
– Где ты служил? – спросил пилот.
– На подлодке. А то не знал? – удивился Вадим.
– Атомной, – напомнил Никифырыч.
– Угу, ну и что?
– Значит, всё должен понять. Обязательства о неразглашении подписывал? То-то.
– То в армии, а не на гражданке… Никифырыч! – лицо радиста стало жестковатым. Правда, что в Сумрачной Балке бункер под землёй?
– Чего не знаю, того не знаю.
– Чем они там занимаются?
– Наверное, тем, что мы везём, – ухмыльнулся пилот.
И тут же, как действительно накаркали, в кабину ворвался Пантелеев: его ранее блистательный костюм напоминал заплесневелую мешковину, волосы поднялись дыбом, перепачканные зелёно-жёлтым, в глазах – невыразимый печальный ужас.
– Там… – прошипел, – оно… Никто… Не должен…
В его руке появился пистолет. Никифырыч успел только удивлённо вскинуть брови, как через долю секунды над одной из них появилась аккуратная дырочка. Грохот и запах пороха оглушили и заложили уши. Вадим завороженно наблюдал, как дуло поворачивается в его сторону. Повинуясь инстинкту самосохранения, кинул в пистолет наушники. Съюлил на пол, в ноги академику. Выстрелом разнесло рацию, но больше Пантелеев стрелять не мог – тугие, эластичные шнуры от наушников сжали запястья, оказавшиеся за спиной, а пистолет нацелился в рот.
– Что мы такое везём, чёрт возьми?! – стараясь перекричать свою глухоту, орал радист. – Ты из бункера? Что мы везём? Зачем стрелял? И что будет, если не долетим?
– Конец света, – выдохнул академик, ему не хватало воздуха, лёгкие свистели.
Лицо юноши, пистолет, приборы, навек приподнятые брови на морщинистом лице – всё поплыло перед глазами. Над одной из бровей сидела красная муха, обугленная по краям. «Зачем там муха?» – мелькнуло в голове, но тут же стало неважным, кольнуло меж рёбер, и расплывающаяся реальность исчезла, уступив место мраку.
– Сердечник чёртов! Психопат! – выругался Вадим, уставившись на завалившееся тело.
Только что рядом с ним умерло два человека, но все чувства затмило ощущение надвигающейся опасности – вертолёт без управления! Вадим торопливо стащил старшего товарища с кресла и уселся за штурвал. Приборы сошли с ума, стрелки болтались, как камешки в погремушке.
Ориентируясь на бледное солнце, Вадим вёл вертолёт. Пот застилал глаза. Он просто не сумеет сесть в одиночку и без приборов! И этот запах! Вадим прислушался: за перегородкой кто-то катал пустые консервные банки. Вернее – банку! Она цеплялась за ящики и мотки троса, что заказали геологи из Промышленного; меняла направление, хаотично перемещаясь по отсеку. Откуда там пустая банка? Почему пустая? Потому что зацепилась за трос? Сейчас или тогда? Где же содержимое? Внизу всё ближе маячили пикообразные кедры и нагромождения валунов. Промелькнула лента реки. Какой ужасный запах! Как тогда – тс-с-с – под Вьетнамом – кто сказал, что русских там не было? – когда загорелось три отсека. И крики! Крики стояли в ушах:
– Братва! Горим! Горим!!! Гори…
Они бросились к задраенному люку, но на пути стояли мичман и старпом, наводя порядок матом и кулаками.
– Но там же люди! Моряки! Лёха! – вопил Вадим.
– Если откроете люк – мы сгорим к чёрту! Тоже! – крикнул мичман. – Но если здесь есть камикадзе, то клянусь, их сейчас не будет. Мы все тогда взорвёмся! – он достал пистолет и щёлкнул предохранителем.
– Горим! Братцы! На помощь!
– Васька! – крикнул кто-то и нерешительно сделал два шага к люку, и тут же согнулся пополам, обмякнув.
– Сосунки, я же предупреждал! – мичман отбросил выстреливший пистолет, сполз, прислонившись к вентилю, и закрыл лицо руками.
– Гори… Мать… ваш… Сво-о-о…
И вот сейчас опять пистолет, смерть, запах жжёной органики. Вадим чувствовал, как раскаляется штурвал, от обшивки несло жаром. Но он спокоен. СПОКОЕН. СПОКОЕН! Чей это голос? ТЫ НЕ УТОНУЛ ПОД ВОДОЙ И НЕ УМРЁШЬ В ВОЗДУХЕ – ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ ВЕЧНО! ВЕЧНО!
– Кто это? Чёрт бы тебя побрал!
Голос в голове рвал перепонки, хохотал, неистовствовал. Приборы бешено качали маятниками стрелок. Вадим уже видел надвигающуюся громаду тайги, но всё равно выпустил штурвал, зажимая руками уши, выпихивая локтем стекло в кабине – прыгнуть, разбиться, лишь бы не нюхать, не слушать – спрятать сознание от неприятного, всепроникающего голоса. Голоса цвета гари.
Что-то заставило обернуться. И за секунду до темноты и боли он увидел склонившиеся, нависающие, вскинутые брови, над которыми ширилась трещинами красная с белым муха. И глаза! Он никогда не видел таких глаз!
А НА ЕГО ПЛЕЧО ЛЕГЛА ТЯЖЁЛАЯ РУКА…
Часть первая
В. Высоцкий. «Маски»
- За масками гоняюсь по пятам, —
- Но ни одну не попрошу открыться:
- Что, если маски сброшены, а там —
- Все те же полумаски-полулица?!
- Я в хоровод вступаю хохоча —
- И всё-таки мне неспокойно с ними:
- А вдруг кому-то маска палача
- Понравится – и он её не снимет?
1
В. Высоцкий
- Кровати да стол – вот и весь их уют —
- И две – в прошлом винные – бочки —
- Я словно попал в инвалидный приют —
- Прохожий в крахмальной сорочке…
Небо нависло тяжёлым свинцовым полумраком, закрадывающимся в душу ощущением дождя – не того всепожирающего сумасшедшего ливня, а мелкого, муторного, моросящего. Но дорожки были сухие, с утра не пролилось ни капли, да и не прольётся – Молчун чувствовал это, хотя уже третьи сутки небо застыло в вязком полумраке. Но надежда на очищающий атмосферу дождь до сих пор оставалась несбыточной.
С противным карканьем пронеслась ворона. Её полёт перехватил находившейся в засаде порыв зябкого ветерка, перевернул, сбил с толку, и птица, обеспокоено задёргавшись в воздухе, сменила направление и, надрывно выкрикивая ругательства, умчалась в сторону тайги. Голуби, гордясь своей осанкой, тем не менее, частенько наклонялись и хватали клювами то обгоревшую спичку, то неуклюжего жука. Молчун бросил им горсть кедровых орехов и меланхолично двинулся по аллее, которая вела к декоративному трёхэтажному корпусу санатория, издалека напоминающему лесной домик из сказки про трёх медведей.
Прямо за зданием стеной поднимались кедрач и ельник, уводя высоко в гору, где отступали перед неумолимым Божеством железобетонной звезды, протянувшей великанские лапы к стальным проводам. Будто была готова выдернуть их в любую минуту из лап такой же гигантской звезды по другую сторону горы. Линия энергопередачи. Рядом с восьмилапой звездой – продолговатая арка подъёмника, остальные скрывались меж деревьев; и по ночам Молчун слышал скрежет покачивающихся тросов.
Он миновал лыжную базу и бассейн, присел на скамейку рядом с пустующими качелями и раскрыл местную газету в поисках программы телевидения. Озорной ветерок тут же спрыгнул с качелей и тоже принялся изучать газету, непрерывно шелестя бумажными краями, из-за чего газета как бы выпархивала из рук. Услышав знакомое тарахтение, Молчун поднял голову и долго следил за плоским животом ещё одного вертолёта, стремящегося куда-то вглубь тайги. Вертолёт спугнул ветерок, и тот спрятался у кухни в шёрстку дремавшего беспородного Тузика. Молчун уныло пробежал глазами колонку телепередач и свернул газету. На первой страница красовался снимок всё того же желтопузого вертолёта, и крупные чёрные буквы вещали: «ПОЖАР В СУМРАЧНОЙ БАЛКЕ ЕЩЁ НЕ ПОГАШЕН! ИТОГ ХАЛАТНОСТИ!»
Молчун взглянул на часы – до обеда оставалось пятнадцать минут – и углубился в чтение. Статья повествовала о том, что в течение трёх дней идёт интенсивное тушение пожара близ посёлка Майзас. По словам начальника МЧС В. С. Петрова, привлечены все имеющиеся в наличии средства, включая пожарные вертолёты и спасательные команды внутренних войск и отдела по туризму. Из-за недоступности дорог пожарные машины не могут принести пользу. В четверг прибыла комиссия по расследованию ЧС. Комиссия вылетала на место происшествия и выдвинула предварительную версию, которой и поделилась с журналистами. По их мнению, пожар был вызван обвалом заброшенной шахты. Не исключено, что на поверхность вырвались подземные газы.
Выходило, что матушка-Сибирь опять пукнула, и каменные глыбы, нарушив высоковольтную линию, раздавили метеостанцию, где и находился эпицентр взрыва, ставшего причиной пожара. Дальше журналист со смешной фамилией «Наш кор.» задавался вечным вопросом – кто виноват? И требовал на него ответить администрацию области. Затем приводились слова упомянутого В. С. Петрова: «Потушить пожар мы не в силах. Остаётся сдерживать его распространение на лесные массивы, а так же уповать на хорошие дожди». Решением комиссии являлось постановление об эвакуации людей из детских баз, домов отдыха, санаториев и посёлков, находящихся на возможном пути распространения огня.
Молчун зевнул, достал из нагрудного кармана нераспечатанную пачку сигарет, повертел её в руке и попытался привычно произнести рекомендуемый Леви текст:
– У меня есть выбор. Я могу закурить, а могу не курить… и так далее, чёрт возьми. Хочу – курю, хочу – не курю.
Он входил в новую жизнь и стремился отбросить старые привычки. Сколько сил и времени понадобилось на то, чтобы не считать по утрам мелочь и не бриться трясущимися руками! Как он мечтал, чтобы этот таёжный пожар внезапно ворвался в город и сжёг всего-навсего одну квартиру – чёрт с ней, с квартирой! Он представлял раскрытые от ужаса глаза, когда огонь постучит в дверь и распахнет её настежь, когда медленно приблизится к кровати и заглянет в расширенные зрачки…
– Ты здесь? Я думала, ты…
Какой-то своей частью, возможно, искрящейся ладонью полоснёт Её по лицу, схватит за волосы, превращаемые в палёную вонь. Уже дымится одеяло, тошнотворная гарь забивает ноздри… А тот, кто прикидывался другом, кто долгими вечерами выслушивал пьяный бред и видел, как трезвели глаза при упоминании о Ней, этот Иуда закричит, завопит, забьёт ногами под тлеющим одеялом, но будет поздно. Кулак огня, ломая зубы, влезет в распахнутый рот и сожжёт мерзкую душонку… А потом сгорит всё: вспыхнут шторы, заискрятся внутренности телевизора, лопнет кинескоп, куском поролона изогнётся и развалится кресло, рухнет дедовский стул с высокой спинкой, рванёт дезодорант на трюмо. Гардероб, повинуясь неистовой силе, распахнётся, и целый ряд повешенных на плечики Её займётся, разбрасывая разноцветные лоскутки. Он уж ощущал запах горелой ткани, перед глазами вился дымок – пусть всё сгорит: жизнь, любовь, долг, горит, тлеет, превращается в пепел, как эта сигарета…
Молчун сплюнул от досады, выкинул до половины выкуренную сигарету и, оставив газету на скамейке, направился к дому из сказки про трёх медведей. Ветерок только и ждал этого. Он напоследок заглянул в грустные глаза дружелюбно вытянутой морды вислоухого Тузика и принялся шелестеть, перелистывая страницы. Наконец ему удалось скинуть газету и закатить её под скамейку. В небе со стороны тайги прострекотала огромная стрекоза с жёлтым брюхом и красными опознавательными полосками на борту. Вертолёты в последнее время зачастили.
Молчун и этот проводил взглядом, ступил на крыльцо, почувствовав, как разбивается досада, распахнул дверь и побрёл по мягким ковровым дорожкам. Спокойствием веяло от выкрашенных бледно-голубых стен, от полукруглых абажуров, несущих неоновый свет, от обилия экзотической зелени в кадушках. Трепет благоговения прильнул к сердцу. Как хорошо в этом оазисе тишины и покоя, где никого не интересует – кто ты, что тебя сюда привело, даже твоё имя абсолютно ничего не значит и меняется на прозвище, данное каким-нибудь краснобаем и балагуром, который, казалось, был принадлежностью любого круга людского сообщества. Дом отдыха, дом отдыха – ему как никогда нужен отдых. Молчун, не поднимаясь в свою комнату, прямиком прошествовал в столовую. Что же не так? Почему внутри организма какой-то ленивый зверёк вертится и не даёт насладиться размеренным покоем? Имя этого зверька – эвакуация. По крайней мере, так окрестил его Молчун. Он вошёл в залитую светом столовую, пропитанную головокружительными запахами жареной говядины, сметаны в борще и еле уловимым ароматом свеженарезанных томатов.
– А вот и наш молчальник! – выкрикнул Балагур. – Нехорошо опаздывать.
Молчун выдвинул лёгкий, как перышко, стул и присел за столик. Ложка сама просилась в руки.
– Как погодка нынче? К дождю дело движется? – не унимался Балагур и подмигнул компании сотрапезников, тут же вляпав подходящий к теме погоды анекдот про Ржевского.
Интеллигент хмыкнул, Спортсмен уныло ковырял вилкой мясной биточек с лапшой.
– Ладно, ладно, – Балагур поднял ладони в положении «сдаюсь». – Не растревожишь ваше тёмное царство. Когда я ем, то глух и нем, как Молчун. Помните анекдот: «Хочэт и молчит!»?
За соседним столиком хихикнули женщины – анекдот знали все и, конечно же, от Балагура. Польщённый вниманием, он окунул ложку в борщ, облизнул тяжёлую и добродушную нижнюю губу, как бы договариваясь с ней о приёме пищи. Широкий из-за лысины лоб сразу покрылся глубокими продольными морщинами, крупный мясистый нос вдохнул горячий парок, поднимающийся из тарелки, и блаженно затрепетал. Небрежно выбритые щёки, обрамлённые широкими бакенбардами, надулись, а пушистые сплошные брови поползли вверх, открывая туманно-карие глаза, созданные для впитывания, втягивания, фиксирования любой информации и, может быть поэтому, слегка усталые. Молчун ясно видел такое лицо, встречающее вас за какой-нибудь конторкой ателье «Трикотаж» или «Ремонт обуви», хотя привычка Балагура щёлкать фотоаппаратом направо и налево могла быть и профессиональной. Широкая ладонь с обручальным кольцом на пальце сгребла надломив кусок хлеба. Сейчас он, как всегда, попросит добавки…
– Сестрёнки, а добавочка будет?
– Только для тебя, Боречка, – донеслось из раздатки.
– Всё жрёт и жрёт. И так пузо наел, – фыркнул Спортсмен. – Лопнешь – кто твоих двойняшек воспитывать будет?
– А я тебе, дистрофик ты наш, опекунство передам, – нашёлся Балагур.
– Сам ты дистрофик, – нечто похожее на улыбку выдал Спортсмен. – И болтаешь много! Бери пример с Молчуна. Во человек! Слов на ветер не бросает.
– Действительно, а почему вы всегда молчите? – поднял томные глазки Интеллигент.
– Старик Гёте как-то заметил, что человеку нужны два года, чтобы научиться говорить, а вся оставшаяся жизнь – чтобы научиться молчать. Как видишь, я справляюсь досрочно.
– Наш молчальник молчит-молчит, а если слово скажет, то оно на вес золота, – заметил Балагур.
– А ты Гёте читал что ль? – скривил губы Спортсмен.
Колючий, неприязненный взгляд обшарил сотрапезника. Белёсый ёжик волос, маленькие аккуратные ушки, слегка искривлённый приплюснутый нос и верхний ряд золотых зубов придавали ему сходство не то с никому не известным статистом, постоянно игравшим негодяев, не то с настоящим негодяем. Ни тем, ни другим Спортсмен, конечно, не был. И хотя тщательно скрывал фамилию, терпеть не мог давать автографы – его лицо всем обитателям санатория было знакомо. В течение пяти последних лет они, особенно мужчины, с восхищением и должной долей уважения всматривались в это, только немного не такое скептическое, а восторженное и темпераментное лицо на телеэкранах. А при словах: «Гол забил…» прилив гордости за земляка давал особое ощущение, что это ты сам обошёл двух полузащитников, прорвался в штрафную площадку и точёным вывертом отправил мяч мимо падающего в броске вратаря точно в девятку.
– Он у нас только прессу читает, – подмигнут Балагур. – Ходил за газетой?
– Что сегодня по телеку? – подхватил Интеллигент.
– Спокойной ночи малыши, – хмыкнул Спортсмен.
Борису шутка показалась забавной, и он расхохотался, хлопнув ладонью по столу. Как оказалось, не ко времени.
Дверь распахнулась, и вошёл новенький. Оживление сразу прекратилось, врастая в напряжённую тишину. Свежий зигзагообразный шрам стянул левую щёку, тяжёлая челюсть, рука на повязке – заметно прихрамывая, он опустился за свободный столик и потребовал:
– Пожрать и водки!
– Извините, но…
В неприкрытую дверь тут же впорхнула медсестра:
– Вам ещё нельзя вставать!
Новенький сопя и с видимым усилием приподнял голову, неожиданно нежно пригласил:
– Сядь, сестрёнка. У меня всё нормально.
Медсестра покорно присела. Тишина в столовой становилась гнетущей, вызванная сочувствием и страхом. Все уже знали, как Новенький попал на территорию санатория.
– Даже не поздоровался, – тускло усмехнулся Спортсмен.
– Расскажи подробно, – попросил Интеллигент.
– Обедом накормим, но водку не подаём, – обиженно звякнуло у раздатки в ответ на застенчивый шёпот медсестры, которой Новенький уже что-то наплёл на ушко.
– Рассказывать особо не о чем, – Спортсмен осушил стакан компота, маленький кадык вздрагивал при каждом глотке. Наконец, поставив стакан на стол, продолжил: – Пошли мы с Марусей за грибами…
– Это инструктор с лыжной базы? – уточнил Интеллигент.
– Не перебивай! – отмахнулся Балагур.
– Я, конечно, поприставал для порядка, – Спортсмен сделал два коротких рывка руками, разминая мышцы спины, что никак не вязалось с рассказом, – а потом видим – этот субчик в кустах валяется. Я подумал, что кто-то из своих уквасился. Помните, как Лысый до туалета не дошёл… Короче, она канючит: «Пойдём, посмотрим. Вдруг человеку плохо?» Ему было не просто плохо, а поплохело давно и прочно. От одежды одни лоскутки остались.
– Неужели он оттуда… из пожара? – интерес загорелся в телячьих глазах Интеллигента.
– Сергей Карлович сказал, что сообщит куда надо, – пояснил Спортсмен.
– Это сколько же километров он добирался? Пешком?
– Поправится, расскажет. Это я гарантирую, – Спортсмен хитро подмигнул, вышел из-за стол а и направился к Новенькому.
Медсестра с тоской затравленного зверька наблюдала, как её пациент поглощает биточки.
– Привет, погорелец, – Спортсмен осторожно хлопнул Новенького по здоровому плечу и присел рядом.
– Ты кто? – не поднимая головы прохрипел тот.
– Вот те на! А кто тебя вчера на горбу из леса тащил? Не помнишь?
– Болею я. Рука горит. В башке туман какой-то. Водки бы.
– Вам нельзя, – попыталась протестовать медсестра, – до приезда главврача вы мой подопечный.
– Как это нельзя? – почему-то возмутился Спортсмен, словно это ему отказали. – Человек, можно сказать, с того света прибыл. Ему сейчас всё можно. Шурик! – крикнул он через весь зал. – Там у меня в тумбочке лекарство стоит. Понял?
Интеллигент кивнул и растворился в бледно-голубом коридоре.
– Как дела? Что в прессе пишут? – поинтересовался Балагур.
– Если сегодня не будет дождя, завтра нам придётся уехать, – пояснил Молчун.
– Говорила мне мама – отдыхай в Крыму, – потянулся Балагур. – Неужели всё так серьёзно?
– Пишут, что огонь сдерживается. Но, по-моему, врут, – поделился Молчун.
Новенький внезапно повернулся в его сторону:
– Говоришь – горит?
– Синим пламенем, – отозвался Балагур.
Вернулся с «лекарством» Интеллигент. Не обращая внимания на протесты медсестры, Спортсмен набулькал Новенькому с полстакана и себе четвертинку:
– Ну что, погорелец, жить будем?
Новенький залпом выпил, занюхал раскрошенным хлебом.
Столовая незаметно опустела, на кухне уже брякала посуда и журчала вода. Обед закончился. Сонный час, затем прогулка и ужин. А там и до ночи недалеко. Интеллигент во все глаза уставился на Новенького – так смотрят только мальчишки и только на космонавтов. Тонкие, восковые черты лица оттенялись густыми чёрными и длинными волосами, перетянутыми на затылке в косичку, что делало его похожим на хиппи или рок-певца. Долговязая, до конца не оформившаяся фигура напряглась в ожидании.
– Шурик, налить? – поинтересовался Спортсмен.
Интеллигент кивнул и взял стакан.
– Устроили здесь ресторан, – проворчала раздатчица, убирая грязную посуду.
– Не шуми, мать, – сверкая золотыми зубами, произнёс Спортсмен, – видишь – человек терапию применяет?
Балагур и Молчун подошли к столику, встреченные настороженным взглядом медсестры.
– Говорят, эвакуируют завтра. Надо бы Сергея Карловича найти, уточнить, – сообщил Балагур.
– К чёрту! – Новенький оттолкнул тарелку. – Мужики, дотащите до телефона…
2
А. Катков
- Эта ночь как медленная-медленная река,
- и в ней отражаются из неслыханной выси
- белые-белые, невесомые облака
- моих бессонниц и непрошеных мыслей.
Спортсмен пошарил рукой по тумбочке, нащупал часы, включил подсветку – полпервого. Окна залапала ель, рядом трепыхалась на ветру хрупкая берёза. «Я в санатории» – сказал он сам себе. Но почему бессонница? Здесь. В покое. В тишине. Почему? Бывало, только мысль пронесётся: «Ого! Вот я и в Швеции!», и голова уже примагнитилась к подушке; «Чёрт возьми, а я ведь в Аргентине!» – и «на массу». Что случилось? Ребята гуляли по ночному Бродвею, он спал. Ослепительная девица лёгким прикосновением звала в казино Лос-Анджелеса, а его тянуло в кровать и без всяких девиц. Выбрался погулять однажды, да и то – напился! Почему же сейчас сон не приходит? Может быть, если бы не досыпал тогда, то сейчас бы спал, как младенец?
Все ровно подстриженные, газоны с чёткими линиями штрафных площадок слились в одну бесконечную лужайку. Зачем всё было? «Сынок, мы всё видели по телевизору. Что случилось?» «В команде произошла замена…» И боль! Боль свернула, закружила. Как колется проклятый газон! Уже брызгают в лицо, а он знает, что руки массажиста бессильны. А потом – тяжёлые бивни гипса, костыли и скелет аппарата Елизарова. И всё! Но ещё не покидала надежда – ведь он герой! Знаменитость! Его примет родной город и будет носить на руках. Он ясно рисовал себе, как небрежно разместив на груди все шесть золотых медалей, сжимая в руках охапки кубков, сойдёт на платформу родного вокзала, и десяток медных труб встретят его радужным маршем. Дети выбегут с цветами, ему обязательно хотелось, чтобы это были тюльпаны! И она, та Танька, что так долго и упорно сердилась на его каждодневные тренировки, побежит навстречу, разметав по ветру волосы, плавно обнимет и прижмётся к груди, а девчонки в стороне будут завидовать и восхищаться.
Иллюзии! Тоже нашёлся «челюскинец»! Как быстро растаял мираж! Зачем же тогда изнурительные тренировки, когда нет времени погулять со своей девчонкой; выматывающие поездки, шум стадионов, выбитые зубы? «Сколько повторять – в отделе мест нет?!» – «Слушай ты, толстобрюхий, знаешь кто я?» – «Знаю, ну и что? У нас для специалистов мест не хватает, а тут лезут без образования. Думаете – чемпион, так в начальники спорта сразу? Хотя в двадцать первой школе как раз есть вакансия учителя физкультуры…»
Для чего? Чтобы сейчас день за днём слоняться по городу, разъезжать по санаториям, тратить деньги на всякую ерунду? Ему только двадцать семь! Ему уже двадцать семь. И всё заново! «Короче, работа такая: подходим, берём бабки, отваливаем». – «А если не отдадут?» – «Ты чё – придурок? Чему тебя учили? Ну смотри у нас». «Возьмёшь дубинку, начистишь кокарду с пряжкой. И вперёд, патрулируй».
И запыхавшись: «Танька! Привет! Сколько зим, сколько лет! Как жизнь?» – «А-а, Толик. Познакомься с моим мужем…»
Нет. Ничего заново начать нельзя. Неужели жизнь теперь позади? Спортсмен закурил и через тёмное окно всмотрелся в тайгу. Он никогда не забывал вечером подставить лестницу…
Молчун почувствовал под щекой обжигающий, въедающийся в кожу песок. В глазах ещё прыгали блики странного одноцветного фейерверка, губы внезапно стали горячими и солоноватыми. По ним стекали змейки тёмно-красных соплей, и такие же противные жгучие ручейки струились из ушей. Тишина, тихо, тише, молчание, спать, пелена закрывает веки, тихо, спать…
Он вздрогнул и проснулся. Где-то скрежетали тросы подъёмника, а в комнате зудел одинокий комар. Молчун выхватил сигарету, к чёрту Леви – я выбираю курить! Зверёк внутри, названный эвакуацией, ворочался, призывая дать ему, новое имя – беспокойство. Так и знал, что тот телефонный звонок не к добру. Буквально через час спокойствие сказочного домика было нарушено десятками различных людей, даже при мимолётной встрече с которыми хотелось вытянуться по струнке и доложить: «Разрешите обратиться? А что здесь происходит?» Молчун тускло улыбнулся – всё ты понимаешь. Телефонный звонок ускорил эвакуацию, в чём необходимости, на первый взгляд, не было. На ужин выдали подгорелую кашу и холодный чай. Будет ли завтрак – неизвестно. А значит – домой, к Ней… Как он посмотрит в наглые глаза, напоминающие о сжатых до ногтей в кожу кулаках, чтобы не вывернулась душа, когда в очередной раз заполняешь анкету и стираешь грязное бельё перед накрашенными дурами в зале суда?
Но с разводом облегчения не наступило. Она, видите ли, не желает выезжать из квартиры и суёт эти толстые, неуклюжие пачки денег. На кой ляд они сдались? Это его квартира, он там провёл детство, водил туда своих первых девчонок, хоронил отца и мать, а теперь Нина вместе с настоящим хочет украсть и прошлое. Завтра эвакуация, завтра кончается передышка между скандалами и руганью…
Нет, завтра он домой (можно ли это назвать домом?) не пойдёт. Он отправится в тайгу с чокнутым Новеньким, тем более – просили, большие люди уговаривали, даже вспомнили о медали за отвагу… Отвага – вот чего не хватало! Опять ползти, скрываться, нападать, исходить потом под тяжестью вещмешка. Эх, Лёху бы Егорова сюда! Отвага, а не серые кромешные будни с сукой, болтающей о кинотеатре и шмотках. И не чумазая слесарка с бутылкой на троих в обеденный перерыв. Может быть, уйдут головные боли, подкрадывающиеся ближе к ночи и участившиеся в последнее время? Необходима встряска мозгам и телу, нужна опасность. И конечно, он пойдёт завтра… Или не пойдёт?
Маруся завела будильник и ваткой старательно удалила тушь с ресниц. Крохотное зеркальце показало упрямый подбородок, плотно сжатые губы, чёрные точки оспинок на скулах. Влажная вата прошлась по закрытым векам, слегка коснулась тёмных бровей. Девушка отложила зеркало, поправила настырную до желтизны обесцвеченную чёлку, закралась под одеяло, заложила руки за голову и в тусклом свете ночника осмотрела свою крохотную каморку, выделенную под временное жильё директором лыжной базы. Это «жильё» временным было уже в течение полутора лет, пробежавших после окончания института, и состояло из скрипучей сетки кровати, установленной на двух ящиках из-под молочной тары. Тень скрадывала дальние углы и застилала бильярдный стол, на котором спать было просторней, но жёстче. Вдоль стены тянулись лыжи, лыжи, лыжи – им не было конца и начала. Одноконфорочная кухонная плита, установленная на ржавой поверхности «буржуйки», маячила красным огоньком «вкл».
– Блин, забыла чайник выключить! – Маруся выскользнула изпод одеяла, и тёмное окно отразило её упругую, натянутую, как гитарная струна, загорелую фигуру. Матовая кожа непривычно отскакивала от белых полосок на теле, оставленных купальником.
Она выключила плиту, накинула халат, нацедила в железную кружку заварки, плеснула кипятка, бросила два куска рафинада и, размешивая ложечкой, задумалась, глядя в узенькое, зарешечённое окно. «Муку пора на зиму закупать… Пашка обещал картошку выкопать. Вернусь – выкопаем, пока дожди не зарядили… Пашка – чёрт вообще! Всё к хачику[1] присматривается. Продай, говорит, зачем он тебе? Как зачем? Вот смоталась в город на танцы… да и вообще…» Вот видок был у тех пижонов-прилипал, когда небрежно спрятала рыжую чёлку в огненно-красный шлем, легонько отжала сцепление и рванула, заставив их кашлять пылью из-под колёс… «А может взаправду – продать «Хонду». Сколько бензина жрёт – ни в одну зарплату не уложишься!» Но как можно расстаться с единственной и неповторимой любовью, которая вернее, сильнее и надёжней обещаний всех этих волосатых обезьян, по ошибке названных мужчинами? Их любовь всегда начинается с хвалебных од и, как правило, заканчивается ничтожной ссорой по поводу вечно грязных ногтей, как будто этого нельзя было разглядеть пораньше. Куда там – другие участки тела вначале кажутся им более важными! Но как ногтям не быть грязными, если расшатался подшипник и вылетела свеча, если надо разобрать и проверить коробку передач или затянуть цепь? Нет. Техника никогда не подведёт, не упрекнёт и, самое главное, требует к себе такого же отношения.
Ложка всё так же мешала полуостывший чай, когда в окно легонько стукнули. Наконец-то! Этих денег и не хватало на кожаную куртку, что вчера предлагала Валька-раздатчица. Маруся приоткрыла дверь и увидела уже знакомые золотые коронки, короткою стрижку и приплюснутый нос.
– Марусь, водка есть?
– Деньги, – прищурившись, как будто спала, сипнула она.
– Гроши? – Спортсмен перешёл на дурашливый хохляцкий акцент. – Зараз, це ж за горилку. Держи, дывчына, – протянул хрустящую бумажку.
Она для вида зевнула, прикрыв рот ладонью с купюрой, хотя рассматривала её на самом деле поближе, вытащила из накрытого брезентом ящика бутылку «Журавлей» и просунула её в щель двери.
– Что б я без тебя делал? – сверкнул зубами Спортсмен. – Может, вместе, а?
– Спокойной ночи, – посоветовала Маруся и захлопнула дверь. Мир тесен. Когда-то она вместе со всеми в группе радовалась успеху земляка и не верила, что сможет к нему подойти когда-либо ближе, чем на стометровку. А теперь с накруткой продаёт ему водку и упорно отражает все – как бы это выразить – сентиментальные предложения. Хотя вчера засомневалась: так резко, порывисто, профессионально он действовал, оказывая тому раненому первую помощь, а потом, даже не согнувшись, проволок эдакую тушу прямо до базы. Где-то в тот момент он напомнил ей известного кумира-чемпиона, хорошо знакомого по фотографиям в газетах. Но всё равно – допускать к себе не хотела. Неприятно вновь испытать разочарование, ощутить блеф, маскарад имени, которое на телеэкране одно, а в постели – совершенно другое. Она отхлебнула чай и вновь забралась под одеяло, поёжилась, вспоминая прошлую зиму, когда приходилось спать в шубе, и даже «буржуйка» не спасала от ночного мороза. Маруся замерзала, замерзала до лейкоцитов, но всё равно с утра выходила с детьми на трассу, следя, чтобы они не переломали себе кости. Лыжи скользили плавно и надёжно, забота и рабочая запарка согревали, румянили, но потом опять ночь и холод, холод и одиночество.
Тогда она терпела и думала, что это первая и последняя зима, проводимая ей в продуваемом насквозь – пора бы сказать себе правду – сарае. А сейчас она настроилась провести здесь ещё одну зиму, потом – само собой разумеется – ещё и ещё… А так давно обещанной комнаты в общежитии не будет. И догадаться об этом не было сложным. Оставалось плакать и задыхаться от жалости к себе. Вот почему здесь не держатся инструктора! Только она, привыкшая с детства к лишениям, должна уже попасть в книгу рекордов за выносливость! Что ещё возможно в будущем? Выйти замуж за бывшую знаменитость? Продать мотоцикл и дать дёру? Не распускать нюни – вот что надо делать! Маруся решительно сжала губы, она достаточно накопила денег, чтобы снять приличною комнату, обставить её мебелью – никогда не подозревала, что отдыхающие пьют больше местных деревенских парней и любят изменять жёнам. Что же мешает жить по-человечески? Мотоцикл! Его негде будет держать, вот почему всё чаще и чаще подкрадывается мысль о продаже… друга, прошлого, частицы себя!
Но нет! Сегодня предложили выгодную работу: надо провести группу спасателей вглубь тайги, помочь разобраться с местностью – она-то уж её изучила за последние полтора года. Пашка еле успевал и всё трясся за свою двустволку, что сейчас заложил ей за два пузыря. Как-то они подстрелили незадачливого зайчишку и пару тетёрок. Устроили в лесу грандиозный пир с шашлыками. Дышал костёр, пахло мясом, а снег падал с решительностью самоубийцы; стучали о ствол продрогшие ветки, как гражданин начальник сегодня. Он предложил хорошие деньги, их хватит на аренду гаража…
– Маха, спишь что ль?!
– Кого ещё шайтан принёс?
– Павлик это, не ш-шифруйся.
В полуоткрытую дверь втиснулась покачивающаяся фигура. Невдалеке, под фонарём, расположились ещё двое. Одному пареньку, видимо, было совсем плохо – его тошнило на трансформаторную будку.
– Маха, это… у тебя всегда есть, ну…
– Деньги, – лениво откликнулась Маруся.
– Ты чего, елки-палки? Мы ж свои, сочтёмся…
– Деньги.
– Ух, стерва! – попытался замахнуться Павел.
– Но-но, только попробуй. Сей секунд схлопочешь, – узкие азиатские глаза вспыхнули кошачьим коварством. Мгновение – и двустволка уже упирается в грудь непрошеного гостя.
– Шорка паршивая! Во я тебе поеду на картошку! – Паша вложил ребро ладони правой руки в сгиб левой и потряс кулаком. – Моим же дулом – мне же… в харю…
Маруся привычно вытолкнула его за дверь.
– И хачик твой разберу! – пригрозил Паша.
– На! Захлебнись! – всунула ему бутылку Маруся и захлопнула дверь. Подумав, заперла замок.
– Маха – человек! – донеслось с улицы. – Кого уважаю, только её… Э-э, кончай рыжки, пошли!
Всё! Хватит! Сводить в тайгу спасателей, получить деньги и – в город. Она допила остывший чай и в третий раз за эту ночь забралась под одеяло.
3
Б. Беркович
- В отдельной комнате, как в маме
- Я высидел до слова «зрелость»…
Сашка волновался и не мог уснуть. Это надо же: исчез вертолёт, три человека застряли в тайге! И он может помочь им, может доказать всем, что не просто маменькин сынок, а способен на геройский поступок. С детства мечтал о чём-нибудь подобном, но жизнь не давала такого шанса, текла размеренно, меланхолично, уберегала. Конечно, больше всех постарались предки. Их сын должен был получать самое лучше – как-никак, сыну-ля удачного бизнесмена. Детские стишки на табуреточке в день рождения, новый двухколёсный велосипед, на котором так и не научился кататься – берёг, да и мог же разбить коленочки; отличные книжки детективов; аттестат с отличием. Он имел всё и как-то легко, гладко. Это раздражало. Бесили колкие взгляды одноклассников и пацанов со двора. Но терпение совсем вышло из-под контроля, когда Наташка не понравилась родичам, и их попытались разлучить: угрозы достались ей, ему – занудная дочь прокурора города.
Но к тому времени он уже жарил на гитаре, слушал Кинчева, Цоя, Наутилус, с ума сходил от Земфиры и имитировал голос Кипелова. Поэтому огорошил невесту сдобным матом и ушёл жить к Лёхе, бас-гитаристу. Конечно же, вернулся домой, но поставил определенные условия: его жизнь – это его жизнь, плевать он хотел на институт, и самая клёвая профессия – сварщик железобетонных конструкций. Батя, естественно, попыхтел, кричал, что отмазки от армии не будет. Но когда подошло время, добился отсрочки, а затем и белого билета. Но, увы, ребята из ансамбля таких предков не имели, и коллектив невольно распался. Интеллигент – противная кличка прилипла уже здесь, в санатории – славно погулял на проводах друзей. Но когда протрезвел, понял, что остался один. Натахин след давно оборвался; батина контора сворачивалась – вроде как завели дело из-за налогов; подростки дурели от всякой попсы, типа «Тату». Жизнь мстила, и после коротких сумасшедших дней растянулась в будни «бубль-гумом».
Сварщиком оказалось работать не так уж и хорошо. Знания, полученные в школе, выветрились из головы, и после оглушительного провала на приёмных экзаменах в институт Шурик вошёл в пессимистический штопор. Захотелось вернуться в то безумно бездумное время, полное развлечений и преувеличенных опасностей. Как, например, побег от озлобленных неуплатой таксистов, пререкание с мусорами по поводу пива, нестерпимое желание затащить а постель девчонку – и не просто ради похоти, а из-за возбуждающего ощущения возможной расплаты: вот-вот вернутся предки, её брат или друг постарается накостылять по шее, или внезапно она может сообщить по телефону о своей беременности. Риск – мечта! Но этот риск был каким-то мелочным, предсказуемым. А ему хотелось совершить поистине выдающееся: спасти чью-нибудь жизнь, прятаться от врагов, тащить раненого друга, как это сделал вчера Спортсмен. Пусть Новенький и не друг, но точно – раненый, спасался от пожара как-никак. Можно ли совместить серые будни и риск?
Ответ был подсказан тем же Спортсменом. А почему бы и нет? Открыть киоск, торговать шмотками, дисками с музыкой и фильмами, нумизматикой, избегать наездов и налоговой, разъезжать по стране в поисках дешёвого товара и сбывать его по своей цене. Чем не риск, не жизнь, не работа? Правда, нужен начальный капитал. Предок – жмот, да и прессанули его приставы. В чём проблема? За поход обещали хорошо заплатить. Спасти три человеческие жизни и урвать за это кучу купюр, а заодно почувствовать вкус к подвигу. Главное – доказать предкам, всем остальным, да и тому же Спортсмену, что он живёт не только для того, чтобы бегать за водкой и клянчить на сигареты. Подумать только – три человека и целое состояние…
Балагур листал семейный альбом, который обычно всегда возил с собой. На каждой странице Кэт, Катрин, Катерина, Катенька – самое милое существо на земле. А какие снимки! Этот сделан старенькой «Сменой» – фотоаппаратом юных и начинающих. Молодая, симпатичная девушка на качелях. Руки держатся за поручни – кажется, они тянутся к солнцу в жизнеутверждающей молитве. Белозубая счастливая улыбка на запрокинутом к небу лице подобна только что срезанной розе с капельками росы на лепестках. Тонкие, правильные черты, жажда жизни блестит в зрачках; река длинных каштановых волос под прямым углом стремится к земле, показывая свою тяжесть и мягкость одновременно – девушка возносится ввысь, к солнцу, небу, мечте.
А этот – временно взятым у товарища-студента автоматическим «Вили». Строгое тёмно-коричневое пальто, зонт в крупную синюю крапинку, туго перетянутая коса, небольшая усталость налегла еле заметной синью под глазами, элегантный поворот головы, протянутая к голубю рука в перчатке, тонкая усмешка прячется в уголках напомаженных губ.
Этот сделан в фотосалоне. Большой свадебный снимок. Лица будто светятся от счастья. Он ещё с пышной блондинистой шевелюрой, в строгом костюме, по моде галстуком цвета пожара в джунглях. Серёга с вечно вытянутым унылым лицом – слева. Галька чуть нежно прижалась к плечу подруги. Мама, тесть, тёща, золовка, дядя Жора из Саратова, главный редактор многотиражки и все, все, милые, родные…
Здесь они на пляже – у него тогда был, кажется, «Кенон»… Здесь, на полароидном, она на работе: волосы стали немного короче, пышно уложены, белый халат младшего научного сотрудника, огромные очки. Кэт только что подняла голову от распечаток статистического анализа, и её виноватая улыбка говорит: «Извини, я очень занята…»
Ольга и Людка. Сморщенные крохотные личики, любопытные глазёнки, выглядывающие из-под чепчиков. А вот уже сосредоточенно собирают пирамидку среди разбросанных игрушек. Обе вцепились в огромное красное кольцо, никто не хочет уступать. Кэт, подсев, уговаривает. Ольга раскрыла ротик, словно что-то возражая, Люда механически подбирает с пола пустышку, а другой рукой всё равно тянет за кольцо.
Катрин! Светлый плащ, что он купил с последней зарплаты, озорная усмешка в близоруких, подведённых тушью глазах, волосы – как он ругал её за эту стрижку! – в коротком каре. Вышагивает по аллее, впадающей в осеннее уныние. Правая рука лукаво прижимает к щеке бордовый кленовый лист. Позади – вечно ссорящиеся дочурки с белоснежными бантами на светловолосых головках, в школьных фартучках, ранцы за спиной, наперегонки стремятся наябедничать друг на друга. Балагур несколько раз вглядывался в их родные конопатые мордашки и никак не мог определить – кто же Оля, кто Люда. У Люды родинка на левом виске, у Оли – на мочке уха. Но двухмерное изображение скрадывало «знаки различия». А листья падают, и Кэт – словно берёзка с кленовым листом, девчушки – подберёзовики. Лента аллеи убегает к горизонту вдоль рощи берёз, берёз, берёз и там, на горизонте, нечёткий контур проезжающего автомобиля. Балагур перевернул страницу и печально вздохнул – это был последний снимок…
4
В. Маяковский
- Что это за безобразие!
- Сплю я, что ли?
- Ощупал себя:
- Такой же, как был,
- Лицо такое же, к какому привык.
- Тронул губу,
- А у меня из-под губы —
- Клык…
Иван Бортовский захлопнул дверь за майором Костенко и поморщился – руку саднило. Он чертовски сильно ободрал её. Упрямая кобыла не хотела лезть в воду, а когда до берега оставалось совсем немного, внезапно захрипела, а потом её круп со скоростью горного течения разбило о камни. Иван выжил благодаря затонувшему на мели плашкоуту, туго опоясанному проржавевшими тросами. Размокший рукав пиджака зацепился за разъеденную ржавчиной проволоку, и чуть было не утопил своего хозяина. Иван рванулся из-под воды, пытаясь поймать глоток воздуха и, оставив клочки ткани и мяса на ржавчине, ползком выбрался на берег.
Да, чёрт возьми, он чуть было не утонул! Чуть было не попал в пасть к хищникам! Чуть было не сгорел! И теперь, словно этого мало, сраная рука ноет так, будто у неё вырвали все зубы – если, конечно, бывают руки с зубами. Иван свалился на стандартно-гостиничную кровать, и доски слабо потрескивали под тяжестью мощного тела, пока он ворочался, пытаясь принять удобное положение. Мерзкая рука! Ему жутко захотелось разбинтовать её и посмотреть на зубы… тьфу! пальцы. Зубастая рука – что за чушь?! Но воображение уже рисовало зудящую руку, где вместо пальцев, разрывая бинт, лезут фарфорово-белые когтищи, напоминающие лезвия Крюгера из «Кошмаров…».
Позвать что ли ту слезливую сестричку и попросить вкатить ему чего-либо мощного? Иван представил, как вздрогнут её ресницы: «Нельзя, – естественно, откажет она, – без предписания врача – не имею права». Иван судорожно попытался улыбнуться и плюнул в стекло, за которым чернел кедрач. Плевок, описав незамысловатую траекторию, опустился на подоконник, так и не достигнув цели.
Где-то раскрылось окно. Бортовский нехотя поднялся, закурил и выглянул в форточку. Одинокий фонарь со стороны столовой показал ловко сложенную фигуру: она спустилась по лестнице, матюгнулась и не скрываясь удалилась, шурши гравием, в сторону фонаря. Перед тем как завернуть за угол и исчезнуть, фигура оказалась Спортсменом. «За шнапсом попёрся, засранец», – тоскливо прикинул Иван и облокотился о подоконник, думая, что следует подождать этого умника и пригласить к себе, авось от водки полегчает… Бинт слегка увлажнился, и Иван выругался, сообразив, что вляпался в собственный плевок. Почему-то это происшествие совсем вывело из себя и, вышвырнув в форточку сигарету, он вышел из отведенной ему комнаты, осторожно прикрыв дверь здоровой рукой.
Ступая по мягкому ковру, доплёлся до конца коридора, где располагался кабинет главного врача. Дверь, конечно же, была закрытой, но для Ивана это проблемы не составило, он открыл замок миниатюрной пилочкой для ногтей, которую несколько часов назад выпросил у медсестры… ТЫ ХОТЕЛ ЭТО СДЕЛАТЬ С САМОГО НАЧАЛА, ТАК ВЕДЬ?
Дверь слегка скрипнула, и Бортовский замер на пороге, ошеломлённый признанием самому себе. Да! Я ХОТЕЛ ЭТО СДЕЛАТЬ! И СДЕЛАЮ, ДОННЕРВЕТТЕР!
– ЭТО ЖЕ СМЕШНО, – возразил внутренний голос, – ТЫ ВЕДЁШЬ СЕБЯ, КАК ТОТ ЗАСРАНЕЦ, ЧТО ПОБЕЖАЛ ЗА ВОДКОЙ!
– Jede Ihre Nachteile, – вслух по-немецки прошептал Иван, прогоняя навязчивый голос и объясняя ему, что у каждого человека свои недостатки. Это помогло.
С сейфом пришлось повозиться, тем паче управляться приходилось одной рукой. Наконец, железная дверца распахнулась, обнажая чрево металлического ящика. Взломщик чиркнул зажигалкой и сразу увидел то, что искал. ЭТО было единственным стоящим предметом в сейфе, если не брать в расчёт никому не нужные бланки и круглую печать главврача, которую Иван предусмотрительно, (чтобы не упала, когда будет забирать) положил на письменный стол. А ЭТО перекочевало в карман пижамы. Сейф был закрыт, оставалось только выйти из тёмного кабинета, защёлкнуть замок и незаметно пробраться в свою комнату.
Вспыхнул свет, и в первые секунды после темноты он оказался настолько ярким, что Иван со стоном закрыл глаза… ЕГО ОБНАРУЖИЛИ! ЗАСТУКАЛИ, КАК МАЛЬЧИШКУ ТАЙКОМ ЖРАВШЕГО МАЛИНОВАОЕ ВАРЕНЬЕ ПОД ОДЕЯЛОМ! Рука непроизвольно дёрнулась подмышку и почему-то натолкнулась на туго спеленатый бинт вместо привычной кобуры.
– Вы? – зазвенел неуверенный голосок. – Что вы здесь делаете?
Иван осторожно приподнял веки, глаза постепенно привыкали к освещению, и узнал миловидную медсестру, приставленную к нему… Для чего? УЛУЧШЕННОГО ПРОТЕКАНИЯ БОЛЕЗНИ? ХА-ХА! Он, не узнав своего голоса, прохрипел:
– А вам что здесь понадобилось?
– Я вас искала. Я обязана удостовериться, что вам не стало хуже, – она как будто оправдывалась. – В комнате никого не было. Увидела приоткрытый кабинет и вроде бы какой-то тусклый свет.
ЧЁРТОВА ЗАЖИГАЛКА! ОБЯЗАНА УДОСТ… ЧТО? ПРОСЛЕДИТЬ!
– Вам плохо? – казалось, медсестра расстроилась.
– Да. Мне плохо. Я искал таблетки.
– Но есть же кнопка экстренного вызова, и… дверь была закрыта?
К ЛЕШЕМУ КНОПКУ! ЗАСУНЬ ЕЕ! Я НЕ ХОЧУ НИКАКИХ КНОПОК! МНЕ БЫЛО ПЛОХО! Я ИСКАЛ… ТАБЛЕТКИ! ПОВЕРЬ ЭТОМУ… ТВАРЬ!
– Дверь? Кажется, открытой… была…
– Что вы здесь делаете?! – голос пробивался в сознание через яркий свет, и в нём послышалась… угроза?
– Дверь была открыта, – чётко ответил Иван и шагнул в бездну её испуганных глаз, обрамлённых длинными влажными ресницами, – открыта… открыта…
Через полминуты свет погас, и кабинет погрузился во мрак, посланный ночными, беспокойными кедрами…
5
В. Маяковский
- Траур воронов, выкаймленный под окна,
- Небо, в бурю крашенное —
- Всё было так подобрано и подогнано,
- Что волей-неволей ждалось страшное…
Ночью дождя не было. Небо по-прежнему нависало тёмно-серой бесформенной массой, и даже первые проблески рассвета не смогли пробить брешь в гнетущем атмосферном навесе. Марусе казалось, что некий гигантский пресс медленно, но неотвратимо давит сверху, утрамбовывая пространство, уплотняя и сгущая воздух так, что даже жёлтая листва с берёз падала как-то вяло. Трасса была сухой, и высушенные комки грязи летели из-под колёс в разные стороны: скатывались в покрытые густым кустарником и крапивой обрывы над рекой или застревали во мху у подножия горы, что резко устремилась вверх вместе с обильной порослью берёз, пихт, кедрача, сосен, пахучей ивы, всевозможными кустиками и кустищами, через которые пробраться могут лишь белка да бурундук. С трассой повезло, хотя Маруся точно знала: стоит пойти редкому, захудалому дождю, дорога превратится в липкое месиво непролазной грязи. И тогда здесь не пробуксуют никакие колёса. Стрелка спидометра слегка подпрыгивала от тряски и не убегала с отметки 60. Розовый краешек просыпающегося солнца с завистью заглядывался на ладные ярко-красные упругие бёдра «Хонды», на вызывающе выпятившуюся грудь бензобака и яростно вращающиеся колёса, из-под которых летели ошмётки раздробленных сгустков глины. Должно быть, один из комочков прилетел солнцу прямо в глаз, потому что оно ещё больше поблёкло. Подумав об этом, Марус расхохоталась.
Было достаточно прохладно, и она надела практически все свои тёплые вещи, включая оба свитера и купленную у Вальки-раздатчицы куртку из кожзаменителя. Но самое главное – помимо болтающихся за спиной двустволки и рюкзака, лежало во внутреннем кармане куртки – толстые пачки купюр. И это только аванс! Маруся никогда не видела столько денег сразу и поэтому чувствовала себя несколько неуютно. Временами в грудь врывалось обжигающее чувство свободы. Заполняющий лёгкие ветер с удивлением ловил торжествующие порывы смеха. Но иногда накатывала безысходность – она лишь пешка в чьей-то игре. Если мир ещё не сошёл с ума, то невозможно чтобы за мизерную работу платили такие деньги! Понятно: пожар, риск, но всё же… Беспокойство щемило сознание, она отмахнулась от неприятного чувства, думая о рюкзаке, где слегка побрякивала дюжина бутылок с «огненной водой». Но рассудок стоял на своём – зачем? Зачем торговать водкой, если в кармане денег в двадцать раз больше, чем можно вытянуть с шорцев? Программа? Она просто давно собирались в посёлок, надо повидать Анчола, дядю Колю… И, в конце концов, от неё ждут, что она станет продавать водку – следовательно, так и будет! Зачем? Для маскировки! Бог с тобой, девочка, от кого ты прячешься? Для чего? Внезапно мозг буквально взорвался болью:
– ПРОВАЛИВАЙ! ГОНИ СВОЙ ДРАНДУЛЕТ КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ! У ТЕБЯ ЕСТЬ ДЕНЬГИ! У ТЕБЯ ЕСТЬ «ХОНДА»! У ТЕБЯ ЕСТЬ ТЫ! БРОСАЙ ВСЁ, ПРОВАЛИВАЙ!
Она резко сбавила скорость, «Хонда» недовольно зафыркала. Что это? Откуда?
– ПРОВАЛИВАЙ! ГОНИ СВОЮ РАЗВАЛЮХУ! УБИРАЙСЯ!
Это тайга, тайга шумит. А в ней бродят злые духи узют-каны[2]. Прогони их, Ульген![3] Это только волнение, беспокойство… А почему нет? Eй хватит денег надолго, плюс счёт в «Сбербанке». Но если… слушать узют-канов, то «Сбербанка» не видать, как собственные ушей. Её найдут, всё перевернув. Маруся знала, кто давал деньги – полковник, менты. А с мусорами… Даже родственные отношения не помогут. Да и приедут завтра люди, спасатели, и что?
– НИЧЕГО. ОНИ САМИ ДОГОВОРЯТСЯ!
И поиск отсрочится на сутки? Но там же три человека и огонь! Возможно, они ранены и нужна помощь! Да не будь этих денег, она всё равно бы, просто так…
– ОНИ СДОХЛИ! ТЫ НЕ НУЖНА ИМ! ПРОВАЛИВАЙ!
Дорога каждая минута. И отсрочка может обернуться для них гибелью. Взять на себя три человеческие жизни и кражу Маруся не могла, поэтому прибавила газ. И потом: дали только аванс, через несколько дней полковник заплатит в два раза больше, плюс реализованная водка. Она разбогатеет, купит гараж. А живы те трое или нет – неважно, договорились? Это надо просто выяснить. Надо пойти в тайгу. Это же так… привычно…
Рука сама открутила ручку газа, и мотоцикл остановился. На дороге сидела лиса. И с любопытством наблюдала за приближающимся мотоциклом. Лиса? На дороге? Беспокойство вновь сжало сердце. Маруся знала повадки местных обитателей тайги. Чтобы выследить лисицу, надо приложить определённые усилия. А тут прямо на дороге. Никакого бурелома и царапающегося кустарника… Сидит и ждёт. Чего?
– КОГДА ТЫ УБЕРЁШЬСЯ, ДУРА!
Девушка схватилась за двустволку, дрожащей рукой вставила патроны, краем глаза следя за хитроватой рыжей мордочкой с чёрными, прожигающими насквозь бусинками глаз, ожидая, что зверёк вот-вот юркнет в придорожный кустарник или растворится в воздухе, как мираж. Но лисица по-прежнему нагловато выжидала, когда её убьют или когда…
– ТЫ УБЕРЁШЬСЯ ИЗ ТАЙГИ ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ ТАРАХТЕЛКОЙ?
Марусе как-то сразу расхотелось стрелять. И зачем ей сейчас дохлая лиса? Нет времени. Но она нарочито резко вскинула ружьё, надеясь, что осторожный зверь сбежит, освободив дорогу. Но лиса не ушла.
– Уходи! – крикнула Маруся. – Убирайся к шайтану, к чёрту – всё равно! – и предупредительно потрясла ружьём.
Лиса сидела.
– Уходи! – Маруся зажмурилась и нажала курок, сдерживая плечом отдачу.
Она не отличалась особой меткостью, тренировок было недостаточно, но пуля вошла точно в одну из бусинок и, возможно, основательно поразбойничала в черепе. Лиса оскалилась, приподняв щётку усов, кровь обильно перекрасила морду в ярко-красный цвет, и рухнула. Маруся сняла каску. С ружьём наперевес направилась к убитой. На этот раз она почему-то была абсолютно уверена: зверь внезапно вскочит и бросится на неё. Слишком памятен был злобный оскал. Он и сейчас оставался таким: белоснежные клыки купались в крови. Маруся подошла совсем близко, настолько, что можно было пошевелить убитую дулом ружья. Лиса лежала, поджав хвост и запрокинув голову – мертва! Надо было как-то убрать её с дороги. Но девушка не решалась прикоснуться к животному – слишком странным было его поведение перед смертью. Жутким. Почему зверюга не ушла, почему напрашивалась на пулю? Неужели такое возможно?
– И С ТОБОЙ БУДЕТ ТАК, ЕСЛИ НЕ УБЕРЁШЬСЯ ОТСЮДА!
Даже взбалмошные утренние птицы затихли, одаривая тишиной и тревогой. Это было странным, как во сне видеть себя со стороны: свинцовое небо, притихшая тайга, плавная лента реки, высушенная засухой трасса, мёртвая лисица; девушка, судорожно сжимающая в руках каску и ружьё; красный мотоцикл, недоуменно наблюдающий за ней единственным глазом – фарой. И в гулкости тишины, куда не врывалось даже слабое перемещение воздуха, послышались едва различимые шаркающие звуки, как будто десятки крупных тараканов, что водились в Марусином сарайчике, вздумали потанцевать ни папиросной бумаге.
Девушка никак не могла уловить источник шуршания, а потом заметила как задняя лапа лисы неуверенно, но чаще и чаще, пытается скрести землю, словно животное с опозданием вспомнило о возможности побега. Маруся зачарованно смотрела на подрагивание коготков и кончика хвоста, ей вдруг ясно представилось, как лиса поднимает залитую кровью изуродованную морду, разжимает сведённые судорогой клыки и впивается в лодыжку. Палец сам нажал курок, выстрел из второго ствола положил конец шершавым звукам.
«Это ненормальная лиса, – подумала она, – какая-то бешеная лиса!» От таких мыслей всё внутри содрогнулось, спазмы подступили к горлу, девушка еле доплелась до мотоцикла и её вывернуло у придорожного куста.
Вновь защебетали птицы, где-то пропищал рябчик, им не было дела до мёртвой лисы и страданий Маруси. Выплюнув горькую слюну в лужицу того, что недавно было ранним завтраком, девушка надела каску и завела мотоцикл. Тот осторожно затарахтел, виляя объехал падаль и понёс свою хозяйку дальше по трассе. «Пожар, – догадалась Маруся, – из-за пожара зверь ломанулся к людям. Так было всегда: распри забыты, слабые тянутся к сильным в поисках защиты. Возможно, это и впрямь была больная лиса, она оглохла и ослепла…» Но тут же передёрнуло от воспоминаний о внимательном, изучающем взгляде на ехидной морде. Захотелось вернуться. Маруся оглянулась.
Лиса сидела на дороге и, оскалившись, смотрела ей вслед уцелевшим глазом.
Девушка нерешительно моргнула и потрясла головой – лисы не было. Она не сидела, не лежала – её просто не было. Или с достаточного расстояния, на которое Маруся уже отъехала, её не стало видно? Надо было следить за дорогой. Мчаться под шестьдесят кэмэ вперёд затылком – самый верный способ самоубийства, Маруся отвернулась и попыталась забыть происшествие. Но, так или иначе, настроение окончательно испортилось.
6
Е. Каменский
- Такую глушь нашёл я для души,
- что всё пройдёт. Я сам пошёл на это
- и вышел весь…
Пасмурным прохладным утром, когда Маруся удалялась прочь от убитой лисы, Пётр Степанович Смирнов, обитатель барака № 3 зоны общего режима, рецидивист по кличке Пахан, всматривался в тайгу с грязного дворика, обнесённого колючей проволокой, с будоражащим волнением ощущая внезапное напряжение во всём теле. Седьмой на его биографии «звонок» оттрындел четыре года назад. Впереди маячили ещё четыре – угораздило же того старикашку-сторожа проснуться в три часа ночи и прогуляться по магазину, чтобы узнать – откуда доносятся непонятные шорохи и сдобный мат. Четыре года старый пердун гниёт в могиле, земля ему пухом, а Пахан на лесоповале, тоже… гниёт. Пару лет назад он обнаружил в паху огромную коросту, связал её появление с бесконечными гнойниками на лице, животе и пришёл к определенному выводу, который стал причиной смерти двух симпатичных «сестрёнок». Один был случайно придавлен бревном. А другого так же случайно обнаружили болтающимся в петле. А то, что он влез туда с заточкой у брюха, необязательно было же говорить, правда?
Четыре года в изоляторе среди умирающих – перспектива почему-то не радовала и, может быть, поэтому пасмурным утром Пахан пребывал в воодушевленном настроении и даже толчок в спину не убавил энтузиазма.
Обитатель третьего барака не мог знать, что в пятнадцати километрах от его настоящего местопребывания бушует таёжный пожар, но это не имело значения. Их перевозили! Ежедневно, небольшими партиями. Вчера – шестой барак, позавчера – второй, сегодня настала их очередь. Куда – неважно. Дорога отсюда куданибудь – практически свобода. Вряд ли она будет короткой. А это значит, что кому-нибудь из охраны захочется освободить кишечник или вздремнуть. И может быть, оставшиеся из отпущенный ему Богом дней представится случай провести… не в изоляторе.
Заключённых партиями по трое провожали через распахнутые створки ворот из дворика, обнесённого высокой стеной сетки с колючкой наверху, к автофургону, у дверей которого стояли двое славных молодцов с автоматами на взводе. Конвой передавал им партию и удалялся за следующей. Те, кто стоял во дворе и ожидал своей очереди, безумными, счастливыми глазами наблюдали за церемонией. Особенно волновал их эпизод выхода за забор, автофургон же совсем не нравился. Но внешне ребята казались спокойными, делали равнодушные и отсутствующие лица, показывая, что им глубоко начхать, куда и почему их везут. В принципе, некоторым самым тёртым на самом деле было всё равно, опыт учил: если ты зэка, то не перестанешь им быть после небольшой тряски в автофургоне с решёткой внутри, отделяющей как от молодцов с автоматами, так и от выхода. Некоторые с удивлением разглядывали пустые «вышки» и тайком ощупывали потайные карманы – на месте ли табачок, но выскользнуло ли «железо»?
Единственными, кто не испытывал восторга от эвакуации, были легаши. В такое зябкое утро не доставляло радости болтаться на свежем воздухе. Те же, кому был обещан выходной, совершенно сходили с ума от ярости, беспричинно дёргались, раздавая зуботычины направо и налево и поминутно вспоминая маму. Иногда казалось, что именно эта мать-героиня произвела на свет практически всех зэка совместно с начальством зоны.
Чувствуя на себе пристальные и завистливые взгляды, Пахан нарочито артистично прошагал мимо «колючки» вслед за Кривым и Сычом и оказался в «предбаннике», почти на свободе, которая длилась двадцать четыре шага до фургона. Конвой торопливо развернулся и, чертыхаясь, распинывая грязь, пошлёпал за следующей троицей. Одна дверца фургона была распахнута, оттуда гремел одобряющий призыв:
– Сыч! Вали сюда, поехали за девочками!
– Улюлю, Кривой, смотри дверь не перепутай!
– Притырьтесь! – сплюнув сквозь зубы, оскалился Сыч, внутрь ему определённо не хотелось.
Легаш в фургоне был другого мнения:
– Молчать! А ты давай сюда, живо!
Второй – у распахнутой дверцы – толкнул Сыча прикладом меж лопаток:
– Шевелись, сучара! А вам – стоять!
Сыч нехотя и неуклюже вскарабкался в фургон в руки первого, тот толкнул его к решётке:
– Лицом к стене! – и загремел ключами.
– Товарищ-ч начальник, отлить надоть, – ухмыльнулся заискивающе Кривой.
– Приспичило, твою мать! – взвизгнул второй, вспомнив, что сегодня должен был ехать к тёще на картошку, распить с тестем баночку бражки, жена-стерва запилит…
– Пусть его, – крякнул третий, что находился у закрытой створки и полез за сигаретами, – С утра копил, верняк. Покрасоваться перед братвой – клоун!
Кривой послушно полез в штаны.
– А ты – п-шёл! – третий вытащил сигарету, поместил её в маленьких пухлых губах и чиркнул спичкой, которую тут же задул ветер. – Блин! – зажёг вторую, сжал огонёк ладошками, уберегая от сквозняка, и поднёс замок из пальцев к лицу.
Автомат бестолково повис на плече. Рядом с задней покрышкой зажурчала струйка Кривого.
– Куда льёшь?! – второй окончательно вышел из себя и пихнул Петра прикладом по пояснице. – Лезь давай, хватит – отдохнул!
Пол фургона приходился на уровне подбородка, и зэка Смирнов ясно видел, как Сыч очутился за решёткой, а легаш поворачивал ключ в замке – затем, чтобы через минуту открыть замок перед ним. Пахан спиной чувствовал издевающиеся смешки ребят во дворе. Конвой отделял следующую троицу. И ещё дюжина парней стояла вокруг со стволами наперевес. А над всем этим прогибалось от туч свинцовое небо, шумела тайга, и витал сочный дурманящий запах лесоповала.
– Ну? Чё встрял?
Приклад был готов обрушиться на позвоночник ещё раз, когда Пахан наугад откинул руку назад, якобы уже хватающуюся за поручни, поворачиваясь за ней всем телом.
– Ёшь твоёшь! – раздалось в ответ на смачный хруст свёрнутого носа. Удар левой в кадык заставил ментюху захрипеть, уронить автомат и схватиться освобождёнными руками за горло.
Удивлённые глаза появились из-за сжатых замков ладоней, спичка потухла. Пахан молниеносно метнулся в сторону так неудачно выбравшего время для перекура легаша и повалил его в грязь, предварительно опустив могучий кулак прямо на «звёздочку» горящей сигареты. Сразу же в сторону фургона помчались трассирующие пули, дюжина славных ребят с автоматами приняли исходную позицию, пытаясь на корню зарубить попытку побега.
Всё произошло за несчитанные секунды, и Кривой, старательно мочившийся на покрышку, только и успел повернуть голову в сторону выстрелов, как три пули врезались во впалый живот. Боль напомнила взрыв в левом глазу, когда по нему хлестанул ремешок со свинцом в пряжке, и Иван Иванович Чиж был убит прохладным сентябрьским утром «при попытке к бегству». Он шлёпнулся в лужу, разбавленную собственной мочой, гулко проелозив по закрытой дверце фургона. Рядом с ним корчился в агонии человек, собиравшийся провести этот день на тёщином огороде.
Охранник, замыкающий замок решётки, обернулся ещё на первый звук удара, и сразу же был притянут тремя парами рук, а четвертая сдавила горло. В самое ухо вонзился хриплый, неуверенный шёпот с кавказским акцентом:
– Ключэ, сволэчь, ключэ!
Стоящие во дворе зэки очнулись, когда увидели падающего, схватившегося за живот Кривого, сразу же сообразив, что являются зрителями блестящей импровизации, о которой можно потом будет неоднократно рассказывать новым сокамерникам, может быть…
– Лечь! Всем лечь! – короткая очередь стайкой саранчи защёлкала над головами.
…им дадут хотя бы увидеть, чем всё закончится?
Пахан, скрипя зубами и не обращая внимания на саднящую боль в ободранных и обожжённых сигаретой казанках, усердно мутузил мента. Тот не оставался в долгу. Пули их не касались – ребята боялись попасть в своего. И два сомкнутых тела постепенно откатывались за фургон. Легавый, сплёвывая табак из раздавленной во рту сигареты, сдался после повторного соприкосновения затылком с поверхностью планеты с названием Земля. Пахан сдёрнул с его плеча извозюканный в грязи автомат, прижал к животу и выпустил обойму в распахивающуюся дверцу кабины, откуда выскакивал на помощь товарищу молоденький водитель. Когда его ноги коснулись земли, душа уже беседовала с апостолами. Ненужный, с пустой обоймой, автомат шлёпнулся рядом. Пахан в два прыжка оказался в кабине, рывком включил зажигание, искорябанной рукой схватил набалдашник переключателя скоростей, рванул руль, до отказа нажимая на газ и отжимая сцепление, задницей ощущая, как квартет славных ребят дырявит стенки фургона.
Покрышка, елозя и разбрызгивая грязь, перескочила ноги паренька, чья душа только что сделала шаг по райским кущам. Оставленная открытой дверца кабины захлопнулась сама по себе секунд через тридцать, а распахнутая сзади створка – через сорок минут, и то – когда взбесившийся автофургон окончательно остановился, врезавшись в дерево, а выпрыгнувшие из него люди ворвались в дремлющую тайгу…
7
С. Николаев
- Ворон третью курил папиросу,
- Нахлобучивал шляпу на глаз,
- Чтоб не выветрил ветер вопросы,
- Словно гвозди засевшие в нас…
На завтрак выдали на удивление аппетитные фаршированные творогом блинчики, крепкий чай и банку концентрированного молока в качестве сухого пайка. Персонал санатория тщательно готовился к эвакуации, то и дело уезжали грузовики, увозя мебель и аппаратуру. Половина отдыхающих, в данный момент не занятая добровольцами при погрузке, поддалась чемоданному настроению. После завтрака у входа их ожидал автобус. Балагур, придерживаясь традиции, взял вторую порцию. Сделавший утренний кросс вокруг здания Спортсмен был бодр и пытался шутить. Шурик ел вяло, насильно запихивал в себя лёгкий завтрак. Молчун поглощал пиво из своих запасов – ничего крепче пива, когда хотелось, он решил себе не позволять.
В столовой царило осторожное оживление, поэтому, как только открылась дверь, головы повернулись в сторону вошедшего. Главврач – сухенький, высокий старичок с чеховской бородкой, окинул столовую беглым взглядом и подошёл к поварам, которые переворачивали уже ненужные огромные кастрюли вверх дном, ожидая окончания завтрака, чтобы вымыть посуду и отправиться по домам вместе с отдыхающими.
– Машу, медсестру, не видели?
– Валька, медсестру не видела? Нет.
Главврач поскоблил подбородок, покачал головой, хотел было уйти восвояси, но в дверях столкнулся с одетым в приличный костюм с галстуком Новеньким и с полковником Костенко, те попросили его задержаться.
– Господа и дамы, минуточку внимания! – попросил полковник.
Внимания было не занимать, поэтому он откинулся на услужливо пододвинутом Новеньким стуле, заложил ногу за ногу и произнёс:
– Вчера вечером я делал объявление насчёт вашей вынужденной эвакуации в связи с чрезвычайными обстоятельствами. И обращался к некоторым индивидуально. Кто слышал – знает: в тайге затерялся вертолёт с тремя пассажирами. Все спасательные службы заняты на пожаре, а требуется организовать маленькую экспедицию. То есть сформировать отряд из добровольцев. Они снабжаются необходимой амуницией и по окончанию спасательных работ получат солидную денежную премию.
– Ну уж нет, – раздалось из-за четвертого от окна столика, и все посмотрели на Лысого, – мне Чернобыля вот так хватило, – он провёл ребром ладони по горлу.
– Успокойтесь, пожалуйста, – полковник сделал небрежный жест, – никакой радиации. Зона поиска далеко от района пожара. Экспедицию возглавит опытный человек, – кивок в сторону угрюмого Ивана, – и опытный проводник из местных. Короче, – он поднялся, – всех желающих и недовольных я приму в кабинете заведующего – если, конечно, Сергей Карлович позволит?
– Пожалуйста, – пожал плечами главврач.
– У всех было время подумать, соизмерить своё личное «Я» и интересы Родины. Никаких принуждений. Боже упаси. Итак: я жду желающих. Заранее спасибо. Все остальные поедут домой.
Новенький бросил суровый взгляд в сторону Лысого и тоже удалился. Сразу же столовая наполнилась пересудами, шёпотом и шебуршанием шлёпанцев.
Первым в кабинет главврача ворвался Спортсмен. Полковник разместился за тёмным полированным столом и непринуждённо стряхивал пепел в стерильную квадратную пепельницу, за его спиной возвышался выкрашенный белой краской сейф.
– Я рад вас видеть, – улыбнулся полковник, в кабинете он был один.
Сергей Карлович, выставленный за дверь, уныло плутал по коридорам санатория, покрикивая на персонал. В голове всё прочнее и надёжнее укладывалась красноречивая мысль, что он слоняется без дела. Пытаясь её заглушить, главврач утешал себя поисками исчезнувшей медсестры…
– Не будем тянуть. Сколько даёте? – Спортсмен присел на ручку обтянутого голубой кожей кресла, разминая кисти.
Полковник назвал цифру, и тот присвистнул.
– А в случае неудачи?
– «В случае неудачи тебе деньги больше не понадобятся, кретин», – а вслух. – Что поделать? Столько же. Работа выполнена, – Костенко развёл руками.
– О’кей. Что я должен делать?
…Молчун допил пиво и, хлопнув дверью, поплёлся в направлении кабинета заведующего, встретил его самого и ответил, что нигде не видел чёртовой медсестры. Из кабинета вышел Спортсмен.
– Ну и что? – бросил Молчун.
– Пиво есть?
– Кончилось.
– Сбор в четыре, – насвистывая, Спортсмен зашагал по коридору.
– А-а, пожалуйста, проходите, – Костенко добродушно улыбнулся и затушил сигарету, пепельница приобрела не столь чистоплотный вид.
Молчун перевёл взгляд на холёные пальцы с ровными, широкими ногтями.
– Решились?
– Могу я отлучиться в город до четырёх?
– Как будет угодно! Так вы с нами?
– Ещё не знаю.
– Время пока терпит. Но мы рассчитываем. Без вас, сами понимаете… Кстати. Как узнали, что в четыре? Оперативно получаете информацию. В разведке работали?
– Если убийство можно назвать разведкой…
– Мы помним о вашей травме, очень сочувствую. Выбор за вами. Однажды вы выполнили свой долг, но Родина…
– Посмотрим. На всякий случай – не ждите, – Молчун вышел.
Костенко достал новую сигарету…
Интеллигент нервно закурил и уставился большими, с поволокой глазами на полковника. Длинные чёрные волосы улеглись на плечи:
– Почему меня не берёте?
– Видишь ли, Саша, – Костенко с сожалением рассматривал измазанную пепельницу, – тайга – сложная штука. Маршрут не из лёгких. Десятки километров пешком. Нам нужны опытные, выносливые люди.
– Как Спортсмен?
– Я не могу тебя пустить, для твоей же пользы, ты…
– Ещё молод, – добавил за него Шурик, заметно успокоившись, выпустил ровную струйку дыма, – и вообще, сопляк. Я прав?
– Я не это имел в виду.
– Именно это, – Шурик безжалостно сплюнул в пепельницу и раздавил в слюне окурок.
– Ну, Саша. Повторяю, придётся нелегко. И зачем тебе всё это?
– Хотите пари? Все, кто заходил сюда до меня, спрашивали, сколько им заплатят. Мне тоже нужны деньги. Но не это главное. Там, в тайге, люди. Они искалечены наверняка и умирают от голода. Я хочу им помочь, просто по-человечески. И, в конце концов, нужны добровольцы или нет?
– Нужны, – выдохнул Костенко. – Ты прав: вся эта акция с экспедицией лишь для того, чтобы помочь несчастным, им сейчас очень трудно и…
– Не надо, – отмахнулся Шурик, – лапшу на уши не надо. Вам совершенно наплевать на людей. Так?
– Саша, что ты несёшь?!
– Товарищ полковник, – лицо Интеллигента преобразилось, в жгучих цыганских глазах чёрным по белому было написано «никому не верю» и лишь между строк слабая искорка: «но хочу понять». – А не рано вы себя произвели? Майорские лычки шли вам больше… Будем откровенны: не хотите меня брать из-за отца? Боитесь?
– Ерунда, – нахмурился Костенко.
– Правильно, – согласился Шурик, – он уже не тот и власти у него поубавилось. Но одно знаю точно. Когда мой предок кому-либо что-нибудь обещает по максимуму, то это означает: либо он не собирается расплачиваться, либо намерен получить в десять раз больше.
– Вот ты о чём? – полковник усмехнулся. – Решил, что я слишком много обещаю за поход?
– Вот именно. Сумма-то солидная. А я не в кино, а в жизни уже привык видеть, как большие люди любят деньги и неохотно с ними расстаются, не считаясь с человеческими жизнями.
– Ох, в мерзавца ты вырос, Сашка. А помнится…
– Вы меня на коленочках нянчили, на ручках качали? И, между прочим, обсуждали с батей, сколько кому дать на лапу?
– Ладно, ладно. Сдаюсь, – пытаясь перевести разговор в шутку, – приподнял ладони Костенко. – Иди в свою экспедицию, шантажист. Но помни: ножки будут бо-бо и мозоли на пятках обеспечены.
Сашка улыбнулся:
– Вот так бы и давно, дядя Сева. А всё-таки: деньги такие – почему?
– Не поверишь. Видишь ли, ты прав, конечно. Всех интересует размер своего кармана, а на людей кладут по-крупному. Но люди, потерпевшие аварию, очень важны. Особенно – академик Пантелеев.
– Так бы и сказали. Там учёные? Почему же – добровольцы? Нельзя что ли профессионалов вызвать?
– Четыре дня прошло. С вертолётов обнаружить не удалось, а пока столица раскачается… Огонь ждать не будет.
– Понятно, – лицо Интеллигента вытянулась, в телячьих глазах надолго задержался огонёк азарта и тщеславия.
– Деньги удалось вытянуть из местной администрации, никто не хочет идти, понимаешь? Профессионалы борются с огнём, жертвуют жизнью, причём за гроши. Они держат пожар грудью, ждут, когда мы тут спохватимся и вытащим этого треклятого академика из пекла… или выясним, что вытаскивать уже нечего. А ты тут меня в коррупции обвиняешь.
– Прошу прощения, – Сашка поднялся, – значит, я принят?
– Иди, иди, – отмахнулся Костенко, он как-то сразу постарел, наигранная бодрость исчезла, и Шурик увидел пожилого человека, страдающего ревматизмом и раздавленного обстоятельствами, – только позвони своим. И… береги себя.
– И всё-таки: почему – полковник? Извините, ухожу, смываюсь, – дверь закрылась.
Костенко взял ещё одну сигарету, покрутил в чистеньких пальцах. Нет, слишком много на сегодня, сердце и так пошаливает. Перевёл взгляд на грязную пепельницу, бросил в неё сигарету, взвесил плоский, тяжёлый квадратик на ладони, поднялся, открыл форточку и выбросил его в окно. Через долю секунды пепельница звякнула внизу, раскидывая остроганные осколки по подъездной дорожке. Сидевшие в автобусе вздрогнули, но полковнику было не до них: дверь уже впускала плотного, лысого человека.
– Много навербовали? – с порога спросил тот.
Костенко окинул его хмурым, оценивающим взглядом, отошёл от окна и царственно опустился в кресло за столом, пригласив вошедшего присесть напротив.
– Благодарствую, – ответил Балагур и скромненько притылился на край голубого кресла.
– Хотите принять участие? – насмешка изогнула губы полковника, когда он покосился на выпирающий животик собеседника.
Балагур пошамкал толстыми губами, потёр гладкий, как колено, лоб, вытащил из кармана рубашки удостоверение и протянул полковнику:
– Собственный корреспондент, – представился он.
– Прямо-таки НТВ? – вскинул брови Костенко и расплылся в дружелюбной улыбке. – А что в наших краях забыли?
– Делали репортаж из жизни национальных меньшинств. Тут набрёл на прекрасный профилакторий и взял отпуск. Ну как, пропускаете прессу?
– Вам дать интервью? – полковник подобрался, на всякий случай откашлялся, прочищая горло и оттягивая время, строя в голове сконцентрированно-сжатые фразы, самой наипервейшей из которых была: «Чёрт бы его побрал!», но она в интервью явно не вписывалась.
– Не надо. Зачем? – пожал плечами Балагур. – Всё, что хотел знать о пожаре, уже почерпнул из местных источников. А большего вы ведь не скажете?
– Не скажу, – признался Костенко, – потому что не знаю.
– Ну-ну, – причмокнул журналист. – Я вообще-то хочу напроситься в спасательную экспедицию, чтобы своими глазами, так сказать, а вернее – объективом запечатлеть счастливое спасение академика Пантелеева.
«Сашка – идиот, мерзавец и болтун. Никто, кроме него…» – ещё одна недостойная прессы мысль.
– А если…. финал, скажем, будет не совсем удачным? Что тогда? Раскритикуете? Мол, не уберегли?
– Трагедия есть трагедия, – ещё раз дёрнул плечами Балагур. – Тут уж ничего не поделаешь. Но попытаться стоит. Как говорят: «Сэм перфинум респице ут бени агис».
– Это где так говорят?
– Латынь. По-нашему примерно: «Увидь цель, чтобы действовать».
– Прекрасное изречение, – улыбнулся полковник. – Что я могу сказать? Прессе у нас везде дорога. Как-никак четвёртая власть. Но!
– Так и знал! – хохотнул Балагур. – Верите? Так и думал, что не пустите!
– Почему же? – нахмурился Костенко. – Просто есть два условия. Людей мы набрали мало, будете нести такую же нагрузку, как и другие, имею в виду – физическую. Соответственно: снаряжение, продукты и остальное со всеми поровну.
– Это понятно, – согласился журналист, – помогу по мере сил. А второе условие?
– И так же вместе со всеми получите вознаграждение, идёт? – улыбнулся полковник.
– Конечно же! – рассмеялся Балагур. – «А я еду, а я еду за туманом и за запахом тайги»! Хо-хо! Договорились! Но при условии. Можно мне поставить условие?
– Я даже знаю какое, – вновь впал в уныние Костенко. – Задавайте свои вопросы. И если смогу – отвечу.
– Замечательно. Просто превосходно. Первое: в какой области работал, вернее, работает академик Пантелеев?
– Биология.
– А поточнее?
– Я не учёный. Что-то там с насекомыми или с деревьями, шут его знает, – настала очередь полковника пожать плечами. – Помню, восхищался кедрами-долгожителями. Как-то похлопал этакую громадину по коре и говорит, что ему, дереву – разумеется, лет пятьсот не меньше. Вот и задумаешься о бессмертии.
– Угу, – кивнул Балагур. – Всеволод Александрович, да-да не удивляйтесь, я знаю ваше имя. И настоящее звание, между прочим – тоже. Из всего вами сказанного делаю вывод, что вы, как говорится, Ваньку валяете. Нам обоим прекрасно известно, что к деревьям и, тем более, к насекомым академик имел самое косвенное отношение. Напомнить один нашумевший случай? С тараканами? Вопрос второй – маршрут вертолёта: куда летел?
– Если примете участие в поиске, то получите информацию сами, – полковник сразу погрубел и, видимо, подумал, что Ваньку валять умеет не только он.
– И всё-таки, это был грузовой вертолёт? Спасательный? Пожарный?
– Грузовой. Это имеет значение?
– Ещё какое, Всеволод Александрович! Вот как вы объясните, например, почему в грузовом вертолёте было три человека, когда положено два – экипаж?
Полковник молчал, и пауза затягивалась, он разглядывал добродушное, почти простецкое лицо корреспондента, их глаза сверлили друг друга подобно буровым станкам. Наконец, выдавил из себя:
– Может быть, это самый главный вопрос. Если бы мы знали, почему в вертолёте оказался академик, знали бы и причину аварии, и где их искать.
– А какие могли быть причины аварии?
Костенко спас телефонный звонок, появилось лишнее время для обдумывания ответа:
– Что? Какая Маша? Какая медсестра? Ничего не могу сказать. Она не дома? Ну и что? Ничего не могу сказать. Позвоните попозже, – он бросил трубку. – Куда могла подеваться медсестра? О чём я, то бишь?
Балагур молчал, потупившись.
– Ага, – словно вспомнил Костенко и разулыбался. – В том-то и дело, что причины аварии неизвестны. Информация поступила на метеостанцию, а она сейчас в эпицентре пожара. Подробности в четыре часа, здесь.
– Всё ясно, – журналист поднялся. – А обедом кормить будут?
– Спросите у Сергея Карловича. Впрочем, тушёнку я обещаю.
– Хоть на этом спасибо, – Балагур рассмеялся и вышел.
Костенко взглянул на часы, достал сигарету, закурил, поискал глазами пепельницу и с остервенением затушил сигарету о крашеный бок сейфа. Потом закрыл глаза, откинулся в кресле и занялся медитацией – вернее, думал, что занимается. Через пятнадцать минут в кабинете возникла громоздкая фигура Бортовского: строгий костюм, тёмная повязка на раненой руке перекинута через шею:
– Разрешите?
Поскольку он вошёл бесшумно, Костенко мог бы предположить, что медитация способствовала материализации из воздуха, но не на его месте забивать голову подобными глупостями.
– Присядь, Ваня. Как рука?
– Продержусь, – Бортовский втиснулся в кресло и уставился на сейф за спиной полковника, если быть точным, майора Костенко. – Полный порядок. Когда выступать?
– В два привезут оружие, снаряжение, провиант, рации, ноутбук с модемом – что обещал. Обмундирование…
– Кто в команде?
– Попозже. А сейчас расскажи-ка мне связно, Ваня, что там всё-таки произошло на метеостанции?
8
Б. Беркович
- Автобус мог сменить маршрут —
- Мне всё равно. Меня не ждут.
Молчун стукнулся было к Марусе, хотел попросить мотоцикл, но её дома не оказалось, поэтому он заторопился обратно к автобусу, рассчитывая не опоздать. Но автобус всё так же стоял у входа и, как потом выяснилось, простоял ещё минут двадцать. Молчун нервничал, он уже представлял, как войдёт в квартиру, увидит эту размалёванную суку, и не дай бог ей лишний раз разинуть рот – просто придушит. Что стало с той робкой, смешливой девчонкой? Молчун вдавил себя в одно из задних кресел, ибо остальные уже были заняты не в меру говорливыми пассажирами.
– Я повторяю – это второй Чернобыль! – подвизгивал Лысый.
– Когда едем-то? – вопрошала полная женщина в коричневой олимпийке.
– Как скажут, – виновато улыбаясь, мямлил водитель.
Молчун закрыл глаза, виски пульсировали. Духота предгрозовой атмосферы проникла в автобус, вызывая потовыделение у и так разгорячённых, людей. «Как сардины в банке» – промелькнуло обыденное сравнение. Появилось ощущение, что мозг смело разделили на две части широкой стальной пластиной: во лбу словно завёлся пчелиный рой, веки налились свинцом, а затылок – онемел. Молчун не в силах открыть глаза, да и не хочет… Что стало с той девушкой, которую на выпускном вечере он, пьяный от безумной радости и неопредёленности, пригласил на танец? Школьный музыкальный коллектив исполнял из старого – из фильма «Розыгрыш». Потом они плелись в прохладной ночи, оставляя за собой здание школы, детство и юность.
А тихие вечера во время зимних буранов? Мама заваривала душистый чай и пекла лёгкое, рассыпчатое печенье. Его гитара, её аккордеон, ребята, школьные друзья, «Модерн», Вилли Токарев и Юрий Лоза на кассетниках! В один из таких вечеров он подарил ей хрусталеобразный камешек, переливающийся золотыми прожилками, найденный в горах. Ждала ли она его? Так или иначе: когда семь раскалённых лет сгорели за спиной, она ещё была свободной. На танцплощадке ансамбль интерпретировал медляки «Фристайла», блеял под Шатунова, свежий запах изморози врезался в ноздри и, боже мой, как по-прежнему завораживал аккордеон! Что стало с той девушкой? Почему так душно, невозможно дышать?!
– Тела! Кучи мёртвых тел! – визжал Лысый.
Молчун приподнял одно веко и выкрикнул:
– Лысый!
Сразу зависла тишина. Молчун смахнул со лба испарину и попросил:
– Почему бы тебе не заткнуться? Развёл панику, провокатор. А вы, граждане, его не слушайте. Он дальше психушки и не заезжал никуда!
Обстановка слегка разрядилась несколькими смешками, а паникёр пытался возразить что-то с пеной у рта, но никто уже не слушал с прежним рвением. Тут к автобусу подбежал главврач, неловко пробрался в салон, окинул пассажиров растерянно-расстроенным взглядом:
– Все на месте?
– Все! – выкрикнуло несколько женских голосов.
– Чудненько, – главврач изобразил улыбку, – ничего не забыли? Извините за экстремальные условия. Человек предполагает, а бог, как говорится, не выдаст. До свидания. Надеюсь увидеть вас в следующем сезоне! – он медленно взмахнул рукой, ещё раз оглядел салон, должно быть выискивая потерявшуюся медсестру, и соскочил на дорожку.
Автобус долгожданно затарахтел, не спеша двинулся прочь от санатория. Никто не подозревал, что милейшего симпатягу Сергея Карловича, врача с чеховской бородкой, они не увидят не то что в следующем сезоне, но и вообще никогда.
За окном густой бор плавно переходил в реденький лесочек, сквозь желтеющую листву которого мелькали бесчисленные с былых времён «пионерские лагеря»: «Радость», «Дружба», «Чайка», «Солнышко». Когда-то в детстве Молчун побывал в них всех. Казалось, жизнь волокла его по порядку: из «Солнышка» – в «Чайку», из «Дружбы» – в «Радость», выволокла к санаторию, а теперь и ещё дальше – в тайгу. Он вновь смежил веки, головная боль уходила, и мир от этого становился чище и приятней. Дорога привела к автостраде, автобус вклинился в ряд спешащих машин и тихонько пополз по широкому мосту на каменных быках. Река спокойно несла свои воды вдаль. Глубоко ли здесь? Как обычно, проезжая по мосту, Молчун думал: а что если автобус внезапно потеряет управление, разорвёт железные перегородки и рухнет в воду? Как нужно будет действовать? И вообще, выберется он или утонет, когда во все щели и люки хлынет безмятежная река? Молчун читал где-то, как однажды человек не только выбрался сам, попав в подобную ситуацию, но и вытащил из затонувшего автобуса практически всех пассажиров. Даже напечатали фото этого человека: невысокий, полноватый, добродушный – словом, рядовой гражданин… Сможет ли именно он, Молчун, спасти всех? Вряд ли. Ну уж Лысого точно вытаскивать не будет…
Автобус покинул мост и, набирая скорость, помчался к городу. Как возвратиться обратно? Был бы мотоцикл – туда-сюда пара часов. Доехать на рейсовом до конечной и с пяток километров топать на своих двоих? Молчун решил, что в крайнем случае поймает такси. Такси? Машина с шашечками почему-то казалась нелепой и ненужной. Возможно, ему совсем не придётся возвращаться. Может быть, Она сразу бросится на шею, расплачется и попросит прощения? И больше ничего не надо. Молчун был готов сам повиниться, если бы чувствовал за собой вину. Виновата она – это всё усложняло.
Резким толчком вернулась головная боль, виски запульсировали – а развод? А измена? Можно ли всё простить? Так и не найдя нужного решения, Молчун вышел из притормозившего около универмага автобуса и двинулся в сторону своего дома. Он остановился у ларька и купил блок «Мальборо», а на сдачу – две пачки «Примы», которые сунул в карман, а упаковку, за неимением сумки, вертел в руках, размышляя, что если вляпался в авантюру с экспедицией, то не мешало бы прихватить с собой сигарет с запасом. Попутно подумал: не позвонить ли домой и предупредить о своём приходе? Вдруг эта парочка опять оккупировала кровать? Дважды такое зрелище перенести невозможно… Когда рядом остановилась длинная чёрная машина – Молчун не заметил. Из неё вышли двое, не спеша подхватили под локти и вежливо, но настойчиво запихнули на заднее сидение. Автомобиль резко взял с места, его проводил лишь недоуменный взгляд продавца из табачного киоска…
9
В. Маяковский
- Убьёте,
- похороните —
- выроюсь!
- Об камень отточатся зубов ножи ещё!
- Собакой забьюсь под нары казарм!
- Буду
- бешеный
- вгрызаться в ножища,
- пахнущие потом и базаром…
Ича и Савчатай присели на кочки, торчащие из осоки. Девочка расстелила косынку, Савчатай, орудуя консервным ножом, быстро расправился с «Мясом цыплёнка» и «Бычками в томате», отогнул зазубренные края. На косынке уже лежали заранее нарезанный хлеб, пара луковиц, стояла бутылка газировки. Перекусили. Выдохнув усталость, Савчатай распластался в траве, ноги гудели безжалостно, но и гордость сделанным наполняла его. Прежде всего, они дошли до заброшенной пасеки – нехоженые места. Значит грибов там! Это ещё что, а вот когда нашли трухлявое поваленное дерево, усыпанное опятами, Ича прямо визжала от восторга. Конечно, что-то щипало внутри – акка[4] называл это совестью. Но Савчатай точно знал, что подразумевалось под этим словом. Совесть – страх перед наказанием. Взрослые не разрешали ходить на старую пасеку, а особенно – за неё, в тайгу. Ребята понимали: за пасекой мог быть кто угодно – злобная росомаха, лоси, лисы, апшак[5], волки. Старики говорят, однажды волки выходили к посёлку и задрали много коров и лошадей, но это было давно – хутора Урцибашевых ещё не существовало. По каким-то причинам отец отделился от посёлка. Ичий[6] говорит, что советы и наговоры были плохие – вернее, действовали хорошо, но добра людям не несли. «Шайтан – акка твой», – сказала бабка Паштук. А какой он шайтан? Бывало, сажал на колени, сказки пел и говорил, что за пасекой совсем плохое место.
Но только за пасекой столько грибов! Кто узнает? Акка мог бы… Всех насквозь видел: кто куда ходил, кто на корову порчу навёл – да умер он года два как. Сидел у шаала[7], смотрел в огонь, шелестел совиными перьями, потом застыл и упал ниц. Высохшие перья занялись, заискрились…
Мать в посёлок с утра ушла, сказала – вечером вернётся, и будто всех людей в город увозить будут. К вечеру они домой должны успеть. Успеют ли? Вон забрели куда! И всё Ича: «Пойдём дальше, пойдём. Увезут нас в город, и тайги не увидим». Сначала он согласился дойти до пасеки, но ульи разочаровали – гнилые колоды, разъеденные жучком. Мёда не капли, хотя бабка Паштук утверждала, что берут его из ульев. Тогда они зашли в сторожку пасечника – пыль, треск прогнивших досок. Савчатай решил оставить в сторожке свой мяч, который прихватил в дорогу в надежде погонять где-нибудь на широкой поляне. Или ещё лучше – поставить Ичу на ворота и позабивать ей голы. «На обратной дороге заберём», – решил он, но теперь сомневался.
Места в руках для мяча не оставалось: все четыре хозяйственные сумки и оба рюкзака заполнились грибами. Правду старики сказали – год урожайный. И шишек много.
Ича вырыла грибным ножом неглубокую ямку, скинула туда пустые консервные банки, засыпала землёй, стряхнула и повязала косынку:
– Вставай. Идти надо. Солнце над кедрами повисло. Скоро ичий вернётся.
– Забрались шайтану в пасть, до пасеки к вечеру дойти бы, – бурча, Савчатай поднялся.
Вначале шли вдоль реки, но потом свернули в ельник, надеясь срезать угол. Причины тому были: солнце перевалило за полдень, и без того серое небо приобрело тяжёлый, мрачный оттенок – как бы дождя не было. Ича запыхалась. Кустарник цеплялся за сумки, ветки сухостоя сдирали с головы косынку и хлестали по рукам. Совершенно обнаглели прятавшиеся в тени комары, а сил и времени отмахиваться не было. Но Савчатай всё же отобрал у сестры одну из сумок – во время ходьбы грибы утрамбовались, их вроде бы поубавилось, появилось свободное пространство, куда стало возможным пересыпать. После расфасовки грибов одна сумка осталась пустой, есть теперь куда положить мяч. Свободная рука Ичи тут же сломала пушистую еловую ветку, обмахиваясь ею, как веером, отгоняла комаров. «Славная девушка будет», – Савчатай не мог налюбоваться на сестрёнку. Никто не верил, что ей только двенадцать: ноги крепкие и грудь растёт широкая, не одного ребёнка выкормит; руки сильные – весь огород на них с матерью. Возьмёт ли кто замуж дочку шамана? Ещё как возьмут! Савчатай такого ей жениха найдёт!
Забота о сестре для него – не праздное дело. Являясь единственным наследником, сан-ача, Савчатай с малых лет был уберегаем от невзгод и тяжёлой работы. Но когда не стало отца, в свои тринадцать, теперь – пятнадцать, сан-ача стал полновластным хозяином в доме. Его слушались и сестра, и мать, но… было три условия, в которых Савчатай полностью подчинялся матери: не пить водку, до свадьбы не спать с женщинами и… не ходить за пасеку.
Все условия со временем Савчатай нарушил. Первые два нарушения прошли гладко и незаметно для матери, авось и третье сойдёт с рук. По праву, когда настанет время свадьбы Ичи, та попросит согласия у него, а не у мамы. Или выйдет замуж за того, на кого укажет он. Ибо для сестры сан-ача – кудай[8]. Знала это и Ича, однако умела как-то разграничивать, понимая, когда стоит слушаться старшего брата, а когда – нет. Савчатай хитрый и поспать любит, приходилось ей его работу выполнять. И в забавах братишка покомандовать не прочь: ишь ты, стой на воротах! Ей самой, может, мяч попинать хочется. И всё же Ича безумно любила брата: идёт, ворчит, ножки-неженки, а помог, свои сумки дополнил, ей легче сделал. И конечно же, где-то здесь и находилась граница между избалованным сан-ача и действительным хозяином семьи. А когда наступит время, вручит Ича судьбу брату, вручит безоговорочно и подчинится.
Сбор грибов, когда их много – как не увлечься? И ребята действительно ушли слишком далеко, потому что когда, запыхавшиеся, остановились перевести дух, тропинки на пасеку всё ещё не было видно. Савчатай очень расстроился бы, даже испугался, догадавшись, что в своём намерении срезать угол они взяли намного правее. И чтобы дойти до пасеки, нужно было сейчас повернуть влево. Но дети этого не знали – попав в незнакомое место, неожиданно заблудились. Но пока они этого не предполагали. И даже не видели, как дважды на их пути из переплетённого кустарника возникали лукаво прищуренные изучающие глаза, кошачьи и зелёные.
Ича и Савчатай продвигались дальше, в какой-то момент древний инстинкт предков, заложенный глубоко в генах, подсказал им правильное направление. Они, безусловно, выбрали бы к пасеке, а затем и к дому до наступления темноты, если бы внезапно не вышли на прогалину, где – кто лежа, кто сидя – находились люди. После нескольких часов таёжного одиночества, их показалось бесконечно больше, чем на самом деле – семь человек. Позже Савчатай их сосчитает, запомнив морщинки на лице у каждого…
Двое из отдыхавших, видимо, приметили ребят ещё издали. Цепкие, оценивающие глазки вцепились буравчиками. Фигуры до предела напряжённые, готовые сорваться с места в любую секунду. Разглядев, что это всего лишь дети, расслабились, страх отпустил. От неожиданности Ича и Савчатай остановились…
– Карась, а обезьяны в этом лесу есть? – обратился один громко.
– Совсем офонаревши, что ли?! – второй, лежавший, перевернулся на спину.
– Где засёк? – поднялся Сыч.
– А вон две макаки!
– Тю, это же шорцы, – лениво отмахнулся лежавший и тут же вскочил, словно ужаленный, сообразив, что на поляне чужие.
Остальные мужчины тоже, как по команде, оказались на ногах. И только один, сидевший у осины, медленно повернул голову и угрюмо впился глазами в Савчатая, безошибочно определяя главного противника. От такого взгляда тела грибников покрылись гусиной кожей.
– Бежим! – хрипнул парнишка, они дёрнулись было с места, но цепкие руки уже схватили за плечи, вырывая сумки и сдирая со спин рюкзаки.
– Пустите! – взвизгнула Ича, и до ошеломлённого мальчишки донёсся шлепок пощёчины.
Теснимый двумя мужчинами, он повернул голову и увидел, как падает сестра. Кинулся к ней, но сам оказался на земле, споткнувшись о предательскую подножку.
– Одни грибы, твою маму! Жрать давай! – разрывая рюкзак, сипел тот, что назвал ребят обезьянами. У него был приплюснутый нос, противная головка гнойничка на вытянутом подбородке, скулы и щёки воспалены юношескими кратерообразными вулканчиками, покрытыми неуверенно вьющейся щетиной.
– А ты грибы жри! Горстями! Горстями! – хохотал, отталкивая его, второй из напавших, жилистый и длинный, как жердь, с реденькими кустиками волос под носом, на щеках и подбородке.
Остальные вели себя сдержанно, стояли, ощерившись, сплёвывая сквозь зубы. Но когда Савчатай попробовал подняться, меж рёбер вонзился тяжёлый носок ботинка:
– Не дёргайся, сопляк! – обладатель ботинка, широкоплечий, кругломордый, с толстыми, нависающими на глаза седыми бровями, оскалился, усмехаясь. И Савчатай почувствовал густую вонь гнилых зубов из его толстогубого рта, наполненного жёлтыми столбиками-осколками.
– Хлеб! – как-то по-мышиному взвизгнул длинный.
– А? Отдай, сволота! – прыщавый набросился на него. – Это я сумку надыбал, отдай!
Они покатились по траве, давя рассыпанные грибы.
Две огромные лапищи схватили дерущихся за шкирки и растащили в разные стороны. Савчатай вздрогнул, разглядев лицо гиганта, исполосованное мелкими белыми шрамиками, словно трещинами; один глаз покрыт белой пеленой. Он был выше и шире остальных, поэтому отобрал корку – остаток недавнего обеда ребятишек, и полностью запихал в рот.
– Ты чего, Газон?! – взмолился прыщавый.
– Вякни ещё! – прожевывая, хмыкнул гигант, толкнув возражавшего в грудь. И хотя толчок казался лёгким, чуть ли не дружеским, прыщавый не устоял на ногах, упал спиной на рюкзак Ичи.
Пятый из нападавших – почти старик: с огромными залысинами, собранным в тысячи морщин лицом, крючковатым носом, но молодыми, слегка отдающими стеклом глазами, крякнув, опустился на колени рядом с девочкой. Жёлтыми, костлявыми пальцами, как бы порхающими, обшарил её, сдёрнул косынку, сморщенная ладонь сразу же утонула в густой черноте прядей. Другой рукой рванул отворот «штормовки» так, что отлетели пуговицы. Ича закричала, в её голосе возник ужас, но кроме страха перед этими людьми, стариком, его пальцами было что-то от ненависти и презрения.
Савчатай, изогнувшись, кошкой бросился к старику, но ещё один удар ботинка перевернул его, как мяч…
МЯЧ! Мяч там, НА ПАСЕКЕ!
…и отбросил метра на два. В течение пяти минут кустобровый и маленький с крысиным, вытянутым лицом, как бы нехотя, но с наслаждением пинали вздрагивающее, подпрыгивающее тело. Сквозь туман боли мальчик почувствовал змейки крови под носом, на щеке, онемело ухо, разбитые губы одеревенели, прикушенный язык взорвался ещё одной саднящей вспышкой, грудь и ноги забыли как чувствовать. Пальцы цеплялись за траву, выдёргивали её с корнем, стремясь удержаться на земле, не улетать в липкий, огнедышащий туман. Ботинок наступил на цепляющуюся за землю ладонь, послышался противный хруст сломанных суставов, затем руку словно засунули в кипяток и тут же – в мягкий, расплавленный, обволакивающий парафин. Савчатай закричал, но как ни странно, боль вернула сознание, а крик слился с другим, девичьим.
Почему Савчатай смотрел на того человека, когда рядом отчаянно билась его сестра, он не знал. Возможно – потому, что тот был единственным, кто не заставлял их страдать и даже не поднялся со своего места у осины. Тот самый, что встретил их угрюмым, как бы предупреждающим взглядом. А сейчас он отрешённо и спокойно ковырял в зубах веточкой, словно в его поле зрения ничего особенного не происходило. Человек имел грязно-рыжую шевелюру, глубоко запавшие бесцветные глаза, тонкую ниточку старого шрама вдоль лба, кровоподтёк на скуле и какой-то неестественный нос: правая ноздря, казалось, усохла, свернувшись в огромную тёмновишнёвую коросту. Рыжая щетина обильно торчала в разные стороны, расположившись чуть ли не от самых глаз до углубления под кадыком на шее. Так же, как и этот человек, Савчатай интуитивно определил здесь главного – того, кто может прекратить их мучения.
«Не уберёг сестру, Савчатай! Позор принёс роду нашему!» – внезапным молотком боли разорвал мозг голос акка. Усилием воли мальчик оторвал взгляд от рыжего человека и повернул голову, что-то хрустнуло в шее, и на какое-то время в глазах заплясали блики…
ВСПЫХИВАЛИ СУХИЕ СОВИНЫЕ ПЕРЬЯ!
Ича уже не кричала – она напоминала брату поздний цветок шиповника, выглядывающий из пожухлой листвы, свернувшейся в серую трубочку от заморозков. Смугловатый, но под грозовым небом ослепительно-белый бутон тела на лоскутках одежды. Бутон с налипшими огромными противными мухами. Она стонала, запрокинув голову, и каждый вдох её боли тяжёлой плитой вжимал Савчатая в землю. Он не мог пошевелиться, любое движение бордовыми искорками горящих совиных перьев забрызгивало глаза. Ему оставалось только смотреть, запоминать. Когда казалось, что сил больше нет, когда голова норовила уткнуться в вырванный дёрн, Савчатай кусал онемевшие губы, кончик языка и заставлял себя смотреть. Ему надо было запомнить всё! Всех! Гримасы менялись на рожи, рожи – на морды, и Ича даже не стонала, а дёргалась, подобно тряпичной кукле в лапах палачей. Она не вспомнит – все морды сольются в одно воняющее пятно. Но Савчатай знает, кого за кем нужно будет убить: вслед за стариком был гигант, тучей заволакивающий Ичу, словно крохотную звёздочку, потом кустобровый, затем Крыса, длинный и Прыщ. Доносились голоса – бу-бу-бах-бу, – словно вьюга в трубе.
– Пахан! Присоединяйся, угощаем!
Ича не вспомнит. Она задохнулась от обиды, боли, горя и унижения. Не зная того, двое последних обладали уже мёртвым телом…
Пахан прижимался спиной к старой осине, запрокинув голову и заложив за неё руки, смотрел в небо на бесполые вязкие тучи, которым не суждено было разродиться дождём. Тучи напоминали нужник.
– Срань господня, – выдохнул он, проводя языком по набухшим дёснам. Эту фразу он как-то в молодости услышал в одном из видеофильмов и она ему отчего-то нравилась.
Именно эти слова он произнёс пару часов назад, а сейчас, должно быть, задремал, потому что близко-близко возникло лицо Витьки Зуба, его учащенное дыхание и хрип:
– Не бросай… здесь… Петя. Мы же… с тобой… не один срок… вместе. Не бросай…
И чего Зуб полез на кедр? Пахан забыл, что сам послал его – с высоты, мол, лучше видно, куда идти. Ловкий, как мартышка, Витька вскарабкался на самый верх, его крик еле доносился сквозь хвою:
– Фургон вижу! Дорога… твою мать! Река справа!.. метров семь!
– Хаты смотри! – сложив ладони рупором, орал Урюк.
– Чо?
– Хаты, дура, смотри! – вякнул Прыщ.
– Не-а-а. Тайга! Дым! Горит! Изба!
– Где?!
– Что?! – сверху посыпалась труха.
– Изба! Мать твою! Где?
– А? А-а-а-так, бли-и-и-и-на-а!
Захрустела, затрещала крона, что-то забарахталось на кедре, сухие ветки, иголки, какой-то пух, опилки столбом ухнули вниз, и порывы пронизывающего насквозь ветра подхватили их. Зэки шустро отскочили от мощного, шершавого ствола, в три обхвата шириной. Под ноги, словно куль с шишками, свалилось расцарапанное ветками тело:
– А-ш-ш-мя-к-хр-я!
Витька Зуб упал на спину, неестественно изогнувшись: руки, подобно стрелкам часов, показывающих без двадцати два, раскинулись в стороны, левая нога согнулась в колене, правая – вытянулась струной, в широко распахнутых глазах застыли удивление и страх. Пахан первым бросился к нему, надавил пальцем на шею – жилка билась.
– Зуб, ты чё? Жив, ну?
Витька зажмурился, захрипел, выплюнув сгусток крови, с зубов на подбородок засочился красный ручей.
– Говорить можешь? Где болит? – Пахан навис над ним, не понимая, что сам напуган. – Чего вытаращились?! Гады! Ветки ломайте, жерди! Ничего, Зуб, мы тебя на носилках понесём.
Ошеломлённая случившимся компания тупо разглядывала безжизненное тело. Витька чуть прикрыл глаза и пошевелил языком:
– Пе… пе… тя, – новый сгусток крови выскочил прямо Петру на лицо.
– Где болит? – не обращая внимания на кровь, повторил тот.
– С-с-спи-и…
– Спина? Двигаться можешь? Шевельни ногой, давай, пробуй!
– Н-не м-мо…, – глаза закрылись.
– Допрыгались, суки! – Пахан повернул искажённое злобой лицо с кровавым пятном на щеке, почему-то обращая гнев на товарищей, понимая всё же – они здесь ни при чём.
– Всё? – с надеждой спросил Сыч.
Одноглазый Газон молча отвернулся, Прыщ размазывал сопли по щекам, Урюк дёргал нижнюю губу, Карась брезгливо морщился, и только Саня Ферапонт, присев рядом, положил голову на грудь Витьки, прислушался:
– Дышит, – усмехнулся, – как же это он?
– Как же – так же! – нервно чесанув пятернёй волосы, завизжал Карась. – Хвостень за нами! Чего делать-то?
– Ждать! – отрезал Пахан, не сводя глаз с лица Зуба, которое бледнело всё больше.
– Чего ждать? – просипел Сыч. – Когда он встанет, отряхнётся и скажет: «Порядок, кореша. Пошутковал малость»?
– Заглохни! Я сказал – ждать! – рявкнул Пахан.
– Чёрт, а здорово он навернулся… Но нельзя же… Ноги надо делать, – голос Урюка дребезжал.
– Дело они говорят, – согласился Ферапонт. – Уходить, Петя, нужно.
Витька вдруг заговорил, кровь изо рта вновь засочилась, но не так сильно, слова стали внятными, но голос еле слышался. Пахан наклонил ухо к кровоточащим губам, пытаясь разобрать.
– Петя, не б-р-росай. И-избуш-шка там…
– Падла! Из-за него теперь!..
– Цыть! – рявкнул Пётр. – Где? Где она?
– Вд-доль реки ид-дти. Не бр-росай, Петь…
– Что за хата? – заинтересовался Ферапонт. – Деревня?
– Н-не знаю, – выдохнул Зуб. – Од-дна с-с-стоит.
– Ого! Разглядел? Неужто?
Пахан метнул взгляд в сторону Карася, вся компания приблизилась к умирающему, вслушиваясь.
– П-по реке с-смотрю. П-пет-ля-яет, на б-берегу с-стоит. П-полян-на вокр-руг. Не ос-ставляйт-те…
– Уходить надо, – Сыч затряс головой. – Тебе пожизняк, Пахан, светит, как пить дать. Уходить надо…
– Срань господня, – Пётр обхватил голову руками, но так и не смог отвести взгляда от молящего лица Зуба.
– Эге, внутрянку отбил, нога сломана, – ощупывая распростёртое тело костлявыми пальцами, определил Ферапонт.
Газон резко поднялся и зашагал прочь.
– Э, ты куда? – насторожился Прыщ.
Тот обернулся:
– Ждите. А мне шкура дороже, – и побрёл дальше.
Как-то робко за ним потянулись другие. Пусть идут. Петру нет дела до бунта, сволота! Крысы! Последним поднялся Ферапонт, чуть выждал, оставшись с глазу на глаз:
– Решать надо, Петро. Витьку ты подставил, а других задираешь. Теперь ждать хочешь, всех подставляешь… Они не любят этого – смотри…, – и устало пошёл вслед остальным.
– Не брос-сай, Петя, – испуг отразился на бледном без кровинки лице, – мы же с-с тобой не один с-срок…
– Как получилось-то?
– Хол-лодно. Ветер. Ветка гнил-лая…
– Да-а, ветер…
Наверное, выражение его лица насторожило Витьку, он попытался отпрянуть, но лишь застонал, прошептав:
– Т-тридцать ш-шесть, Петя. Хр-рис-ста ради… Хоть ч-часок дай… Ведь д-девятн-надцать по з-зонам… Подышать д-дай волей, ве-етром…
– Ну что ты? – Пахан попытался улыбнуться. – Я с тобой ещё пару ходок сделаю. Выдюжим.
Зуб с облегчением прикрыл глаза:
– Ветер это, вете…
Пахан нежно, почти любовно обхватил голову умирающего и… резко дёрнул в сторону. Шея хрустнула, Зуб вздрогнул и затих. Пётр отдёрнул от мертвеца выпачканные землей и кровью руки, вытер их о робу, поднялся и быстро зашагал за остальными…
…Сверху капнуло – неужели дождь? Пахан, вздрогнув, отогнал дремоту, тыльной стороной ладони, где подсыхали разбитые утром казанки, смахнул влагу со щеки и выругался, увидав на руке мазок птичьего помёта. Остальные ведь так и подумали, что он оставил Витьку умирать медленно и мучительно… Ещё один непростительный грех, ещё один зуб в его сторону. С девочкой развлекаются!
– …угощаем!
– Угощалка не пашет, – хмыкнул в ответ и потрогал коросту на носу, подумав: «Год, как не пашет, сука». Приступ ярости, подогреваемый с утра отчуждением, пренебрежением тварей, которых вытащил на свободу, дошёл до наивысшей точки лишь при воспоминании о том, что он и ссать теперь путём не может. Предназначенное для таких целей место превратилось в сплошной сгусток боли, покрылось шершавым, воспалённым гнойником.
– Блин, тёлка откинулась!
– Чего? Неужто?
– Падлой буду, – возмутился Прыщ.
– Так ты, паря, жмура имел? – ехидно спросил Сыч.
– Сам падаль! – Прыщ заволновался, злость душила его. Вот стерва! Окочурилась в самый такой момент! Его неудовлетворённая плоть требовала компенсации. – Она только что подмахивала, понял! – но только вызвал унижающий гогот.
Урюк, нервно теребя нижнюю губу, посмеивался вместе со всеми. Сыч усердно мочился на ствол многолетней ели. Газон хохотал, широко разинув пасть. Ферапонт визгливо щёлкал, как охрипший скворец. Карась рылся в рюкзаке мальчишки. Сам пацан, кажется, пришёл в себя.
…Савчатай верил и не верил. Откинув голову, закусив губы и зажмурившись, в куче разорванной одежды лежала Ича, молчаливая, хозяйственная сестрёнка. Его Ича. Мёртвая сестрёнка… А чудища, убившие её, смеялись!
НИКОГДА НЕ ХОДИ ЗА ПАСЕКУ! НИКОГДА… НЕТ!
…Окуная гроздь кроваво-алой калины в берестяной таз с водой, предварительно размешав в нём порошок толчёных трав, акка водит круги, читая рябь. Савчатай слышит его певучий, низкий голос:
– И будет день! Упадёт железный ворон, смрад напустит в тайгу. Отвернётся кудай и захочет плакать. Но не найдёт Ульген ему слёз. Засмердит тайга, и сожрёт её спящий дракон, которого могут убить слёзы Ульгена. Но не будет слёз! Уйдут люди, придут узют-каны. И дом мёртвых пчёл станет их домом…
– НИКОГДА НЕ ХОДИ ЗА ПАСЕКУ! ТЫ УБИЛ ИЧУ! НЕ УБЕРЁГ! НЕ БУДЕТ ПЛАКАТЬ КУДАЙ! И в мяч играть не будет! Мяч! Мяч – там, на пасеке…
…Ича не хотела стоять на воротах. Савчатай обиделся и пошёл с ней за пасеку: пусть ей хуже будет – думал.
ПУСТЬ ЁЙ… ИЧА! Прости, Ича! Ну, хочешь, я буду стоять на воротах? Пропущу все твои мячи! Смейся, Ича, танцуй! Танцуй! «Гол» – кричи! Вставай, сестрёнка! Посмотри, сколько мы собрали грибов! Узют-каны рассыпали их, раздавили тяжёлыми ботинками. Ты не гриб, Ича! Помнишь, я учил тебя срезать ножку, не выдёргивать корешок – пусть растут грибы? И мама дала нам ножи… Вот твоя сумка, Ича! Узют-каны дрались из-за хлеба и уронили её. Рассыпались грибы. Растоптали их… ВОН ТВОЙ НОЖИК, ИЧА…
– Эй, макак, очухался? – Прыщ всё ещё держал в руке своё неудовлетворенное орудие. – Поработай за подругу! Ну-ка!
Что-то кольнуло Петра. Солнечный луч ли пробрался сквозь мглу? Внезапная тишина ли, готовая взорваться гоготом одобрения? Прыщ? Этот сопляк… что у него за статья? Э, а пацанёнок-то поднимается!
Савчатай, пошатываясь, стоял на четвереньках, ладони и колени скользили в рассыпанных, скользких грибах, среди которых лежала стальная полоска с обёрнутым изолентой концом.
– Ну-ка, мартышка, отсоси… – узют-кан, подёргивая рукой в середине своего туловища, был совсем близко, ещё немного и он наступит на…
НОЖ!
Раздавленная ладонь совсем не слушается, на неё нельзя опереться…
ПОИГРАЙ В МЯЧ!
Любое движение причиняет боль, в глазах… ИСКРЯТСЯ СОВИНЫЕ ПЕРЬЯ. КРУТИТСЯ ГРОЗДЬ КАЛИНЫ В ВОДЕ…
УЙДУТ ЛЮДИ…
НЕ ХОДИ ЗА ПАСЕКУ…
– Сам ползёшь?! Ну, давай, давай, макака…
Узют-кан уже над самым лицом. Рука нащупывает изолированную, прохладную рукоятку…
– Теперь подними морду! Ну! Поднимай!
Самое страшное – подняться с четверенек на колени. Сжатый кулак, скользя и соприкасаясь с тёплым, вытянутым к нему предметом, тычется в сморщенную мошонку. Мальчик видит, чувствует, как расходится ткань, кровь брызгает на лицо. «Бу-бу-у-у», – кричит узют-кан, соскальзывает с лезвия, падает, катается по траве, зажимая руками рану, которая фонтанирует тёмно-красным. Кровь сочится по руке, в которой сжата полоска стали, предназначенная для аккуратного обращения с грибами. Но их много!
УЙДУТ ЛЮДИ, ПРИДУТ УЗЮТ-КАНЫ… ЧТОБЫ ПОИГРАТЬ В МЯЧ-Ч-И-Ч-А!
– И-ч-ча! – кричит мальчишка, поднимается с колен, встаёт во весь рост, поворачивается к Карасю и делает два шага.
– Мои яйца, о, чёрт! Он проткнул мои яйца! – орёт, корчась, Прыщ.
Сколько крови! А Карась словно оцепенел. Сачканул? Нет. Пахан, воспринимая происходящее как во сне, ощутил себя загипнотизированным. Подойди пацан сейчас к нему, он бы тоже не пошевелился…
– Мои… а-а, с-су… а-ах-ха… – Прыщ внезапно замолкает.
Мальчишка делает ещё шаг, в его глазах ненависть, в руке окровавленный нож, за спиной мёртвая девочка и притихший зэка. Газон вынимает из-за пояса руку, в которой – нет, в такой лапище невозможно рассмотреть… Грохот разрывает перепонки, с криками взлетают птицы. Пацан споткнулся. Ещё один выстрел вывел Петра из гадкого ощущения нереальности. Тишина. «Чёрт! Почему этот-то не орёт насчёт своего хозяйства?» – Пахан не заметил, как уже склонился над Прыщом. Выпученные глаза, раскрытый рот, руки больше не хватаются за рану, хотя кровь хлещет по-прежнему. Пальцы не нащупывают на шее бьющуюся жилку. О, срань господня!
Газон, всё ещё с пистолетом в руке, Сыч и Карась склонились над мальчишкой, тот тоже умер, прострелены горло и живот. Три жмурика… Пахан оглядел место побоища: распростёртая, мёртвая – совсем ещё девочка, Прыщ со спущенными, залитыми кровью штанами, пацан – и после смерти сжимающий нож в распухшей руке… «Ича» – крикнул он? Что это значит? Боевой клич? Имя? Имя… девочки?
Накопившаяся злость перешла в остервенение. Пахан подскочил к одноглазому, за ствол вырвал пистолет и нанёс пару ударов рукояткой по исчирканному шрамами лицу. Газон схватился за голову, отступил, в единственном глазу промелькнул испуг, сменился непониманием, а потом вспыхнул ненавистью.
– Это тебе за скрысенный хлеб! – проревел Пётр, размахнулся и ударил ещё, на этот раз попал в ухо. – Это тебе за «шкура дороже»!
– Пахан! – робко окликнул Ферапонт.
Сыч схватил за руку. Вырвав её и уронив пистолет, Пахан выставил вперёд два согнутых пальца, неожиданно они разогнулись, воткнувшись в больной, покрытый бельмом глаз:
– Это за то, что не упредил насчёт ствола!
Газон завизжал – не закричал, даже не заревел, а именно – завизжал от боли, схватился за глаз и упал на колени. Прицелившись, Пахан пнул его в солнечное сплетение, зная, что пресс Газона рукой не пробить:
– А это – на будущее!
– Пахан, Пахан, прости, падлой буду! – задыхаясь, но не смея согнуться и подставить шею, взмолился двухметровый детина.
– Петро!
Пётр оглянулся – все стояли с одинаковыми лицами, даже Ферапонт – страх от неожиданной экзекуции и недоверие читалось на них.
Тыльной стороной ладони левой руки Пахан провёл по щеке, словно там до сих пор оставалась запекшаяся кровь Витьки Зуба и прохрипел:
– Что, волю почуяли, шакалы?! Забыли, как параша пахнет? Забыли, кто вас вытянул? Кто шкурой рисковал, сволочьё?! Что? Молчать, падлы! Забыли? Я троих на тот свет отправил, а вы придушили хиленького мента, а ствол себе приныкали? Не слышу! Кто – закон?
Недоверие сходило с лиц, уступая место всё большему страху.
– Да. Я Зуба послал. Он мне лучший кореш был! Если бы кто из вас шмякнулся, я и ухом бы не повёл. Вот этими руками, – для убедительности Пахан потряс кулаками, – я Витьке Зубу, корешу своему, шею свернул! И ствол не нужен! Я любому кочан отверну, надо будет. А пацанов стрелять, да на перо сесть каждый может. Что здесь устроили? Беспредел! Обратно захотелось? Под пожизненку? Смотрите – три жмурика у каждого на горбу теперь. Мокрушники, мать вашу…