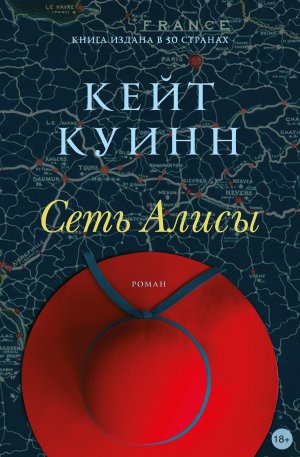
Моей матери – первому читателю, критику и поклоннику. Это – тебе
Часть первая
Глава первая
Чарли
Май 1947
Саутгемптон
В Англии первой меня встретила галлюцинация. Я привезла ее с собою на борту безмятежного океанского лайнера, который доставил меня, омертвелую от горя, из Нью-Йорка в Саутгемптон.
В отеле «Дельфин» мы с матерью сидели за плетеным столиком под сенью пальм в кадках, и я старалась не верить собственным глазам, убеждая себя, что окруженная чемоданами блондинка возле стойки портье вовсе не та, за кого я ее приняла. Это просто какая-то англичанка, которую ты никогда не видела, – говорила я себе, но мозг мой упрямо твердил: да нет же, ты не обозналась. Я отвела взгляд от девушки и сосредоточилась на трех молодых англичанах за соседним столиком, вознамерившихся сэкономить на чаевых официантке.
– Ну что, пять или десять процентов? – Парень в университетском галстуке помахал счетом, приятели его рассмеялись. – Вообще-то я даю на чай только симпатичным. А у этой ноги-спички…
Я ожгла их взглядом, мать же ничего не замечала.
– Май, но как же зябко и сыро, mon Dieu! – Она развернула салфетку. На фоне гор нашего багажа мы являли собой разительный контраст: наряд матери весь такой женственный и воздушный, благоухающий лавандой, а на мне все мятое и надето сикось-накось. – Распрями плечи, cherie. – С замужества мать жила в Нью-Йорке, но до сих пор орошала свою речь французскими словечками. – Не горбись.
– В этой штуковине не сгорбишься.
Корсет меня сковал, точно стальной обруч. Сложением я тростинка, и он мне ни к чему, но без него силуэт моей пышной юбки будет неправильным, а посему я закована в железо. Черт бы побрал этого Диора с его «Новым обликом»! Мать всегда одевалась по самой последней моде, чему способствовала ее фигура: хороший рост, узкая талия, соблазнительные изгибы. Конфетка в просторном дорожном костюме. Я же утопала в своем оборчатом наряде. 1947-й был адом для тщедушной худышки вроде меня, не вписывающейся в «Новый облик». Кроме того, он был адом для всякой девушки, которая математические задачи предпочитает журналу «Вог», а Эдит Пиаф – Арти Шоу, для девушки, у которой нет обручального кольца, но уже слегка округлился живот.
Я, Чарли Сент-Клэр, идеально соответствовала всем трем позициям. Вот еще из-за последней-то мать и заковала меня в корсет. Я была только на четвертом месяце, но матушка подстраховалась, чтобы никто не узнал, какую шлюху она произвела на свет.
Украдкой я оглядела гостиничный холл. Блондинка все еще была у стойки, а мозг мой по-прежнему увещевал, что мне не померещилось. Я сморгнула и отвернулась. К нам подошла улыбчивая официантка:
– Будете полдничать, мадам?
У нее и впрямь тощие ноги, подметила я, когда она отбыла с нашим заказом. Парни за соседним столиком все еще высчитывали размер чаевых:
– Так, с нас по пять шиллингов. Значит, хватит ей и двухпенсовика…
Вскоре прибыл наш чай – на подносе дребезжали расписные фарфоровые чашки.
– И капельку молока, пожалуйста, – лучезарно улыбнулась мать. – C’est bon!
По правде, полдник был вовсе не хорош: черствые булочки, заветрившиеся бутерброды, ни крупинки сахара. День Победы отметили уже два года назад, но в Англии по-прежнему действовало нормирование продуктов, и меню даже роскошного отеля не позволяло сделать заказ дороже пяти шиллингов на человека. Здесь еще ощущалось похмелье от войны, неведомое Нью-Йорку. По холлу слонялись мужчины в военной форме, флиртовавшие с горничными, а час назад, сходя с корабля, я отметила разбомбленные дома, придававшие улице вид милой, но щербатой улыбки. По дороге от причала до отеля у меня сложилось впечатление, что измученная войной Англия до сих пор пришиблена и не оправилась от жуткого шока. Совсем как я.
В кармане серо-лилового жакета я нащупала бумажку, которая последний месяц всегда была при мне, перекочевывая из дорожного костюма в пижаму. Я не знала, что с ней делать. А что тут сделаешь? Бумажка эта казалась тяжелее плода, который я носила в себе. Его-то я совсем не чувствовала, он не вызывал абсолютно никаких эмоций. Меня не тошнило по утрам, мне не хотелось горохового супа, заправленного арахисовым маслом, – ничего такого, что характерно для залетевшей девушки. Я просто замерла. Я не могла поверить в этого ребенка, потому что ничего не изменилось. Кроме всей моей жизни.
Парни бросили на столик несколько монет и встали. К нам поспешала официантка с молоком, и шла она так, словно каждый шаг ее отзывался болью.
– Прошу прощения! – окликнула я. Парни, собравшиеся уходить, обернулись. – По пять шиллингов с человека, значит, всего пятнадцать, и пять процентов от этой суммы дают девять пенсов. Чаевые в десять процентов составят шиллинг и шесть пенсов.
Парни опешили. Я уже привыкла к подобному отклику. Все думают, что женщины вообще не умеют складывать, даже такие простые числа, да еще в уме. Но в Беннингтонском колледже я изучала математику и хорошо разбиралась в цифрах, которые организованы, разумны и, в отличие от людей, легко постижимы: любой счет я могла подбить быстрее арифмометра.
– Девять пенсов или шиллинг и шестипенсовик, – устало повторила я. – Будьте джентльменами. Оставьте шиллинг и шесть пенсов.
С кислым видом парни ушли.
– Шарлотта, это очень невежливо, – прошипела мать.
– Почему? Я сказала «прошу прощения».
– Не все дают на чай. Тебе не стоило встревать. Назойливых девушек никто не любит.
А также девушек, изучающих математику, беременных и… Но я смолчала, ибо стычки меня чересчур утомили. Пересекая Атлантику, мы с матушкой в одной каюте провели шесть дней – дольше намеченного из-за штормившего океана, и все эти дни были наполнены буйными склоками, которые сменялись еще более противной корректностью, зиждившейся на моем пристыженном молчании и раскаленной, но безмолвной ярости матери. Вот почему мы ухватились за возможность провести хоть одну ночь вне корабля – останься мы в узилище каюты, стали бы бросаться друг на друга.
«Твоя мать всегда готова на кого-нибудь напуститься», – когда-то давно сказала моя французская кузина Роза, после того как маман минут десять распиналась из-за пластинки Эдит Пиаф: эта музыка не для девочек, она неприлична!
И вот теперь я совершила нечто гораздо непристойнее, чем увлечение французским джазом. Оставалось только заглушить в себе любые чувства и всех отшивать, вызывающе вскинув подбородок – мол, мне все равно! Это срабатывало на невежах, зажимавших чаевые, однако мать легко пробивала мою защитную скорлупу.
Сейчас она толкла воду в ступе, браня нашу поездку:
– …так и знала, нужно было отправиться другим рейсом, который доставил бы нас прямиком в Кале, без этого дурацкого захода в Англию.
Я молчала. Ночь проведем в Саутгемптоне, утром будем в Кале, а затем поездом отправимся в Швейцарию. В клинике городка Веве мать договорилась о конфиденциальной процедуре. Будь благодарна, Чарли, – в несчетный раз сказала я себе. – Она ведь могла и не ехать с тобой. В Швейцарию меня могли отправить под приглядом отцовской секретарши или какого-нибудь другого равнодушного помощника на жалованье. Матери не было нужды жертвовать своим обычным отдыхом в Палм-Бич и самой сопровождать меня к врачу. Она здесь, с тобой. Она старается. И я это ценила, даже окутанная злым и жарким маревом своего позора. Мать вправе беситься и считать меня оскандалившейся потаскухой. Так называют женщин, угодивших в подобную передрягу. Пожалуй, надо привыкать к этому ярлыку.
А мать все говорила, нарочито оживленно:
– Я думаю, можно будет съездить в Париж. После твоей Процедуры (всякий раз казалось, что она произносит это слово с прописной буквы). Приоденем тебя, ma p’tite. Соорудим тебе новую прическу.
По правде, вот что она говорила: Осенью ты вернешься на учебу в новом шикарном облике, и никто не прознает о твоей Маленькой Неурядице.
– Вообще-то, maman, уравнение не сходится.
– О чем ты, скажи на милость?
Я вздохнула.
– Если из одной второкурсницы вычесть одну маленькую помеху, результат поделить на шесть месяцев жизни, а затем умножить на десять платьев от Диора и новую прическу, мы не получим волшебного равенства с одной восстановленной репутацией.
– Жизнь – не математическая задача, Шарлотта.
Жаль, иначе я бы справлялась с ней гораздо успешнее. Я часто мечтала об умении разбираться в людях так же легко, как в цифрах: только приведи их к общему знаменателю и решай. Числа не лгали, но всегда давали ответ, верный или ошибочный. Так просто. А в жизни все непросто, и у нынешней задачи ответа нет. Сплошная неразбериха: в «дано» Чарли Сент-Клэр и ее мать, у которых нет общего знаменателя.
Матушка прихлебывала жидкий чай и радостно улыбалась, буравя меня ненавидящим взглядом.
– Пойду узнаю, готовы ли наши комнаты. Не горбись! И не спускай глаз с баула, в нем бабушкин жемчуг.
Она отплыла к длинной мраморной стойке, за которой суетились портье, а я подняла с пола свой маленький, видавший виды дорожный баул – купить красивый новый мы уже не успевали. Под шкатулкой с жемчугами (только матери могло прийти в голову взять их с собою в швейцарскую клинику) была спрятана початая пачка «Голуаза». Я охотно плюнула бы на багаж (пусть украдут эти жемчуга!) и вышла бы покурить. Кузина Роза и я впервые отведали табак в тринадцать и одиннадцать лет соответственно: у моего старшего брата мы украли пачку сигарет и, забравшись на дерево, предались взрослому пороку.
– Похожа я на Бетт Дэвис? – спросила Роза, пытаясь выдохнуть дым носом.
От смеха и кашля после единственной затяжки я чуть не свалилась с дерева. Роза показала мне язык:
– Дурочка ты, Чарли!
Только она звала меня не Шарлоттой, а Чарли, причем на французский манер, с ударением на обоих слогах – Шар-ли.
Вот Роза-то мне и привиделась в гостиничном холле. Конечно, это была не она, а неведомая англичанка, сторожившая багаж, но мозг упорно талдычил, что я вижу свою кузину, тринадцатилетнюю светловолосую красавицу. Такой я запомнила ее в наше последнее лето, когда на дереве она закурила свою первую сигарету.
Теперь она старше – ей двадцать один, а мне девятнадцать…
Если, конечно, она жива.
– Роза, – прошептала я, понимая, что нужно отвести взгляд от незнакомки. Но не отвела. – Ох, Роза.
Мне показалось, она озорно усмехнулась и кивнула на улицу – мол, иди.
– Куда? – спросила я вслух. Хотя уже поняла. В кармане я нащупала бумажку. За месяц некогда твердый листок весь измялся. На нем был адрес. Я могла бы…
Не глупи! – одернул меня внутренний голос, жгучий, как порез бумагой. – Ты никуда не пойдешь, кроме как в свой номер. Там меня ждали накрахмаленные простыни, там я буду избавлена от холодной злобы матери. Там есть балкон, где можно спокойно покурить. А завтра снова на корабль и потом – на Процедуру, как изящно выражались мои родители. Маленькую Неурядицу уладят, и тогда все будет Хорошо.
Либо надо признать, что все Плохо и уже не будет Хорошо. И прямо сейчас ступить на дорогу, начинавшуюся здесь, в Англии.
Ты же это спланировала, – шепнула Роза. – Сама знаешь. Верно. Последние недели я пребывала в безразличном горестном отупении, однако настояла на корабельном рейсе с заходом в Англию вместо прямого во Францию. Я не позволяла себе задуматься, зачем я это делаю. А затем, что в моем кармане лежал английский адрес, и теперь, когда нас не разделял океан, только отсутствие храбрости мешало по нему отправиться.
Вслед за коридорным, нагруженным чемоданами, незнакомая англичанка пошла к лестнице. Я посмотрела в пустоту, где только что была Роза. Потрогала бумажку в кармане. Сквозь онемелость проклюнулись острые обломки какого-то чувства. Страха? Надежды? Решимости?
Один накарябанный адрес плюс проблеск отваги, умноженные на десять. Реши уравнение, Чарли.
Расчлени.
Найди «икс».
Сейчас или никогда.
Я глубоко вдохнула. Достала из кармана адрес, вместе с ним выпала смятая банкнота в один фунт. Я кинула ее к скудным чаевым, оставленным реготавшими весельчаками, и, стиснув в руках баул и французские сигареты, покинула гостиничный холл. В массивных дверях я спросила швейцара:
– Извините, не подскажете, как пройти на вокзал?
Одинокая девушка в чужом городе – идея, конечно, не самая блестящая. Последнее время я пребывала в таком дурмане от бесконечного злосчастья (Маленькая Неурядица, матушкины вопли на французском, ледяное молчание отца), что была готова подчиниться любому приказу. Я бы беспрекословно шагнула с утеса и, лишь пролетев половину пути, задалась бы вопросом, почему это я падаю. Кувыркаясь, я летела в пропасть, какой стала моя жизнь. Но вот теперь ухватилась за спасательный трос.
Надо же, им стала моя давняя галлюцинация, когда в каждой встречной светловолосой девушке я видела Розу. Сперва я жутко перепугалась, но не потому, что сочла Розу призраком, – я решила, будто схожу с ума. Может, я и впрямь тронулась умом, однако призраки мне не являлись. Что бы там ни говорили родители, до конца я не верила, что Роза умерла.
Ухватившись за эту надежду, я спешила на вокзал, вышагивая в своих непрактичных туфлях на толстой пробковой подошве («Ты коротышка, ma chere, и должна ходить только на высоких каблуках, иначе всегда будешь выглядеть маленькой девочкой»). Я пробиралась сквозь людскую толчею: вальяжные докеры, нарядные продавщицы, солдаты, праздно шатающиеся по улицам. От спешки я запыхалась, а надежда в моей груди так расцвела, что у меня защипало глаза.
Вернись! – повелел резкий внутренний голос. – Еще не поздно. Обратно в гостиничный номер, обратно к матери, которая все решает сама, обратно под защиту своего ватного марева. Но я не остановилась. И вот послышались паровозные гудки, запахло гарью, вознеслись клубы пара. Вокзал Саутгемптона. Орды приехавших пассажиров: мужчины в фетровых шляпах, капризные краснолицые дети, женщины, измятыми газетами накрывшие головы в попытке спасти перманент от моросящего дождя. Когда же он начался? Под полями зеленой шляпки (выбор матери), в которой я смахивала на гнома, мои темные волосы прилипли ко лбу, но я бежала на вокзал.
Поездной кондуктор что-то выкрикнул. Лондонский поезд отправлялся через десять минут.
Я глянула на адрес, зажатый в кулаке: Хэмпсон-стрит, 10, Пимлико, Лондон. Эвелин Гардинер.
Черт его знает, что это за человек.
Наверное, мать уже разыскивает меня по всему отелю, надменно опрашивая портье. Ну и ладно. От дома № 10 по Хэмпсон-стрит меня отделяет всего семьдесят пять миль, и вот он поезд.
– Пять минут! – проорал кондуктор. Пассажиры торопливо садились в вагоны, затаскивая свой багаж.
Если не уедешь сейчас, не уедешь никогда, – сказала я себе.
Вот так я купила билет и, забравшись в вагон, скрылась в дыму.
День клонился к вечеру, в вагоне стало жутко холодно. Моими попутчиками были седая старуха и трое ее шмыгающих носами внуков; бабка неодобрительно косилась на мою руку без обручального кольца, словно вопрошая, какого сорта девица отправится в Лондон одна. Разумеется, в послевоенное время одинокие пассажирки были вовсе не редкость, но вот именно я не понравилась старухе.
– Я беременна, – сказала я, когда она в третий раз посмотрела на мой неокольцованный палец и прищелкнула языком. – Что, перейдете в другое купе?
Старуха одеревенела и на ближайшей остановке сошла, волоча за собою внуков, нывших: «Бабушка, нам еще рано…» Я вызывающе вскинула подбородок (мне все равно!), а бабка напоследок одарила меня гневным взглядом и хлопнула дверью. Я осталась одна и, съежившись на сиденье, прижала ладони к пылающим щекам, снедаемая головокружительным смятением, надеждой и виной. Едва не захлебнувшись в обилии эмоций, я затосковала по своему кокону бесчувствия. Да что ж такое со мной творится?
Сбежала в Англию, зная только имя и адрес, – сказал противный внутренний голос. – И что ты сделаешь? Такая размазня еще надеется кому-то помочь?
Я не размазня, – окрысилась я.
Размазня. Ты уже пыталась помочь, и вон чего вышло.
– А я еще раз попытаюсь, – сказала я пустому купе. Размазня или нет, я уже здесь, шаг сделан.
Уже стемнело, когда я, усталая и голодная, нетвердо ступила на лондонский перрон. Город высился мрачной закопченной громадой, вдалеке маячил собор, а за ним огромная башня с часами. Проезжавшие машины вздымали тучи брызг. Интересно, каким был Лондон в ту пору, когда туман над ним рассекали «спитфайеры» и «мессершмитты»? Я стряхнула задумчивость и сосредоточилась на том, что понятия не имею, где находится дом № 10 по Хэмпсон-стрит. В портмоне моем осталось всего несколько монет, и я взяла такси, молясь, чтоб денег хватило. Мне вовсе не хотелось выковыривать жемчужину из бабушкиного ожерелья, дабы расплатиться с шофером. Может, не стоило оставлять целый фунт той официантке… Но я не сожалела.
«Приехали», – объявил таксист и высадил меня возле ряда высоких домов. Дождь уже принялся всерьез. Я поискала взглядом свою галлюцинацию, но светловолосая голова нигде не мелькнула. Только темная улица, проливной дождь и ступени дома № 10, ведущие к обшарпанной двери. Я подхватила баул и, взойдя на крыльцо, стукнула дверным молотком, пока отвага меня не покинула.
Никакого ответа. Я снова постучала. Дождь полил еще сильнее, в груди моей волной вздымалось отчаяние. До боли в руке я колотила по двери и тут вдруг заметила, как шевельнулась штора в прихожей.
– Откройте! – Я дергала дверную ручку, смаргивая капли дождя. – Я знаю, в доме кто-то есть!
Внезапно дверь подалась, я ввалилась внутрь и, не устояв на своих непрактичных туфлях, грохнулась на четвереньки, разодрав шелковые чулки. Дверь захлопнулась, следом щелкнул взведенный курок пистолета.
– Ты кто такая и какого хрена тебе здесь надо? – невнятно проскрежетал низкий грубый голос.
Сквозь шторы в темную прихожую проникал скудный свет уличных фонарей. Я различила высокую костлявую фигуру со спутанными волосами, огонек тлеющей сигареты и мерцание пистолетного ствола, наставленного прямо на меня.
Наверное, оружие и хамское обращение должны были повергнуть меня в ужас, однако ярость смела последние крохи моего бесчувствия. Кое-как я встала на ноги, потирая ободранные коленки.
– Я ищу Эвелин Гардинер.
– Плевать мне, кого ты ищешь. Я хочу знать, с какой стати чертова америкашка вламывается в мой дом. Пусть я старая и пьяная, но этот девятимиллиметровый «люгер» в отличном состоянии. Пьяная или трезвая, уж с такого-то расстояния я разнесу тебе башку.
– Меня зовут Чарли Сент-Клэр. – Я отбросила мокрые волосы с лица. – В войну пропала моя французская кузина Роза Фурнье. Возможно, вы знаете, как ее найти.
В прихожей вдруг вспыхнуло бра. Я сощурилась от яркого света. Передо мной стояла рослая худая женщина в линялом ситцевом платье: растрепанные седые волосы, побитое жизнью лицо. Ей можно было дать и пятьдесят, и семьдесят лет. В одной руке она держала пистолет, нацеленный мне в лоб, в другой зажженную сигарету. Женщина поднесла сигарету к губам и глубоко затянулась. Меня замутило, когда я увидела ее руки. Боже мой, что с ними случилось?
– Я и есть Эва Гардинер, – процедила она. – Но я ничего не знаю о твоей кузине.
– Может, все-таки знаете, – сказала я в отчаянии. – Пожалуйста, давайте поговорим.
– Вот, значит, как, америкашка? – Взгляд хищных свинцово-серых глаз под набрякшими веками полнился презрением. – С бухты-барахты и, могу спорить, без гроша в кармане ты среди ночи вламываешься в мой дом только потому, что вдруг мне что-то известно о твоей п-пропавшей подруге?
– Верно. – Даже под дулом пистолета и ее жалящей насмешкой я не сумела б объяснить, почему шанс отыскать Розу затмил все прочее в моей порушенной жизни, что за странное дикое отчаяние привело меня сюда. Оставалось лишь подтвердить: – Я не могла иначе.
– Ладно. – Эва Гардинер опустила пистолет. – Ты, н-наверное, чаю хочешь?
– Да, это было бы…
– Чаю нет. – Она двинулась по темному коридору, шагая широко и беспечно. Босые ноги ее смахивали на орлиные лапы. Ее слегка покачивало, рука с «люгером» висела вдоль тела, однако палец по-прежнему лежал на спусковом крючке. Чокнутая, – подумала я. – Старая свихнувшаяся корова.
А вот руки ее с нелепо вздувшимися изуродованными костяшками больше походили на клешни омара.
– Не отставай, – через плечо бросила Эва, и я поспешила следом.
Она открыла дверь, щелкнула выключателем, и глазам моим предстала холодная гостиная, где царил беспорядок: незажженный камин, задрапированные окна, не пропускавшие ни крохи света с улицы, повсюду старые газеты и кружки с недопитым чаем.
– Миссис Гардинер…
– Мисс. – Хозяйка плюхнулась в потрепанное кресло, развернутое к захламленной гостиной, и бросила пистолет на журнальный столик. Я сморщилась, однако «люгер» не выстрелил. – Можешь называть меня Эвой. Твое в-вторжение в мой дом перевело нас на такой уровень близости, из-за которого ты мне уже неприятна. Повтори, кого ты ищешь?
– Я не хотела вторгаться…
– Да нет, хотела. Тебе кое-что нужно, и нужно до зарезу. Что же это?
Я скинула мокрый плащ и села на пуфик, не зная, с чего начать. Целиком сосредоточившись на том, как добраться сюда, я не продумала свой рассказ. Одиннадцать летних встреч двух девочек, разделенных одним океаном и одной войной…
– Д-давай, начинай. – Эва, похоже, слегка заикалась, только я не поняла, что было тому причиной – выпивка или нечто другое. Потянувшись изуродованной рукой к хрустальному графину на столике, она неловко его откупорила; я учуяла запах виски. – Мой трезвый лимит истекает, так что не теряй времени.
Я вздохнула. Не просто чокнутая старая баба, но еще и пьяница. Под именем Эвелин Гардинер мне представлялась дама, у которой дом обнесен живой изгородью из бирючины, а на столе – плюшки, но не графин с виски и заряженный пистолет.
– Ничего, если я закурю?
Эва дернула костлявым плечом и пошарила на столике в поисках стакана. Там его не оказалась, и тогда она плеснула добрую порцию янтарной жидкости в чашку с цветочным узором. Ничего себе, – ошеломленно подумала я, закуривая. – Кто же ты?
– Невежливо так пялиться, – сказала Эва, хотя сама разглядывала меня в упор. – Господи, сколько на тебе всяких рюшек – это что ж, нынче мода такая?
– А вы на улицу-то выходите? – не сдержавшись, спросила я.
– Не часто.
– Это «Новый облик». Прямо из Парижа.
– На вид ч-чертовски неудобно.
– Так оно и есть. – Я мрачно затянулась. – Ну ладно. Я Чарли Сент-Клэр, вернее, Шарлотта, только что приехала из Нью-Йорка… – Интересно, как там сейчас мать? Наверное, в бешенстве и готова меня оскальпировать. Ну да бог-то с ней. – Отец мой – американец, а мать – француженка. До войны каждое лето мы проводили во Франции у наших родственников. Они жили в Париже, но еще владели летним домом в окрестностях Руана.
– Гляди-ка, не детство, а пикник с картины Ренуара. – Эва прихлебнула виски. – Рассказывай интереснее, а то я быстро напьюсь.
Это и впрямь напоминало живопись Ренуара. Я закрывала глаза, и перед внутренним взором возникала размытая картинка одного долгого лета: узкие извилистые улочки, огромный несуразный дом, старые номера «Фигаро» на истертых диванах, забитый хламом чердак, пылинки в солнечном луче, пробившемся сквозь мутное стекло оранжереи.
– Кузина Роза Фурнье… – я почувствовала закипавшие слезы – …была мне как родная сестра. Хоть на два года старше, она не чуралась меня. Мы всем делились, все друг другу рассказывали.
Две девочки в зазелененных травою платьях играют в пятнашки, лазают по деревьям, дерутся с кузенами. Вот они постарше: у Розы намечается грудь, я – все та же нескладеха с ободранными коленками, мы обе подпеваем джазовым пластинкам и обе смешно влюблены в Эррола Флинна. Розины проказы одна чуднее другой, но она, как львица, защищает меня, свою преданную тень, когда в результате ее затей я попадаю в неприятности. Вот и сейчас я слышу ее голос, как будто она здесь, в этой гостиной: «Спрячься в моей комнате, Чарли, я зашью твое платье, прежде чем мать обнаружит дырку. Зря я потащила тебя на эти скалы…»
– Не реви, пожалуйста, – сказала Эва Гардинер. – Терпеть не могу плакс.
– Я тоже. – За все это время я, омертвевшая, не проронила ни слезинки, но сейчас глаза пекло. – Последний раз я видела Розу летом тридцать девятого. Тогда все всполошились из-за Германии – все, кроме нас. Каждый день тайком удирать в кино для нас было гораздо важнее каких-то германских событий. Потом я вернулась в Штаты, и тут захватили Польшу. Мои родители хотели, чтобы Розина семья перебралась в Америку, но они всё мешкали… (Мать ее говорила, что слишком слаба для такого путешествия.) Пока собирались, Франция пала.
Эва снова отхлебнула виски, глаза ее под нависшими веками смотрели немигающе. Я глубоко затянулась сигаретой.
– Приходили письма. У Розиного отца, видного промышленника, были связи, поэтому иногда удавалось перекинуться весточкой. Роза ничуть не унывала, все говорила о том, когда мы снова увидимся. Но мы-то знали, что там творится: свастики над Парижем, людей увозят в грузовиках, и никто их больше не видит. В письмах я спрашивала, вправду ли с ней все хорошо, и она отвечала, да, полный порядок, однако…
Весной сорок третьего мы обменялись фотографиями – ведь столько не виделись. Семнадцатилетняя Роза, такая красивая, стояла в зазывной позе и ухмылялась в объектив. Эту фотографию, потрескавшуюся, с измятыми уголками, я носила в своем портмоне.
– В последнем письме Роза поведала, что втихомолку встречается с парнем. Это ужасно здорово, написала она. – Я судорожно вздохнула. – Письмо пришло в начале сорок третьего, и потом уже не было никаких вестей ни о Розе, ни о ее семье.
Эва меня разглядывала, ее истрепанное жизнью лицо казалось маской, не выражавшей ни сочувствия, ни презрения, ни даже безразличия.
Сигарета моя почти догорела. Напоследок затянувшись, я загасила ее в блюдце, полном окурков.
– Я понимала, что отсутствие писем ни о чем не говорит. В военное время почта работает скверно. Нужно дождаться конца войны, и переписка возобновится. Но война закончилась и… ничего.
Молчание. Вот уж не думала, что будет так тяжело об этом говорить.
– Мы навели справки. Через целую вечность пришел ответ. Дядя погиб в сорок четвертом – его застрелили, когда на черном рынке он пытался достать лекарство для больной жены. Два Розиных брата погибли под бомбежкой в конце сорок третьего. Тетушка уцелела, мать звала ее жить с нами, но она отказалась и заточила себя в руанском доме. А Роза…
Я сглотнула. Вот она пробирается сквозь зеленое марево листвы. Бранится по-французски, расчесывает щеткой непослушные кудри. Вот она в прованском кафе в тот самый счастливый день моей жизни…
– Роза исчезла. В сорок третьем она ушла от родных. Почему, я так и не знаю. С тех пор о ней ни слуху ни духу. Мой отец делал запросы, но – ничего. Тупик.
– В войну это не редкость, – сказала Эва. Я так долго говорила одна, что уже подзабыла, какой у нее скрипучий голос. – Куча народу сгинула. Неужели ты думаешь, она жива? Уж два года, как закончилась с-сволочная война.
Я стиснула зубы. Мои родители давно решили, что военное лихолетье вычеркнуло Розу из числа живых, и, скорее всего, были правы, но…
– Мы не знаем наверняка.
Эва закатила глаза:
– Только не говори, что ты бы почувствовала, если б ее не было в живых.
– Можете не верить. Просто помогите.
– Чем? Я-то здесь каким б-боком?
– Последний запрос отец направил в Лондон – вдруг Роза перебралась сюда? Тут был отдел, занимавшийся поиском беженцев. – Я глубоко вдохнула. – Вы в нем работали.
– В сорок пятом и сорок шестом. – Эва плеснула виски в чашку. – В прошлое Рождество меня оттуда поперли.
– За что?
– Наверное, за то, что на работу приходила поддатая. Или за то, что начальницу обозвала «злобной старой мандой».
Я невольно поежилась, поскольку не привыкла к грязной брани, тем более из уст женщины.
– Вот так… – Эва погоняла виски в чашке. – Думаешь, папка с делом твоей кузины попала ко мне? Не п-помню. Говорю, на работе я часто была косая.
Пьющая женщина мне тоже была внове. Мать пила только херес, не больше двух рюмочек. У Эвы, глушившей виски как воду, уже заплетался язык. Наверное, причиной заикания была все-таки выпивка.
– У меня есть копия справки по Розе. – Я заторопилась, испугавшись, что безразличие, помноженное на виски, лишит меня внимания собеседницы окончательно. – Там стоит ваша подпись. Так я узнала ваше имя. Я позвонила в отдел, назвавшись вашей американской племянницей. Мне дали ваш адрес. Я хотела вам написать, но… (Как раз тогда в моем животе поселилась Маленькая Неурядица.) Может, вы вспомните еще какие-нибудь данные о Розе?
– Слушай, девочка, я не смогу тебе помочь.
– Хоть что-то! В сорок третьем она уехала из Парижа, следующей весной перебралась в Лимож. Вот что мы узнали от ее матери…
– Сказано же, я не сумею помочь.
– Вы обязаны! – Не помню, когда я вскочила на ноги. Отчаяние, сгустившееся в твердый комок, было гораздо ощутимее невесомой тени моего ребенка. – Должны помочь! Просто так я не уйду! – В жизни своей я ни на кого не кричала, но сейчас буквально орала: – Роза Фурнье, семнадцати лет, из Лиможа…
Эва тоже встала и, высясь каланчой, изуродованным пальцем ткнула меня в грудь.
– Не ори на меня в моем доме. – Голос ее был устрашающе тих.
– …сейчас ей двадцать один, она блондинка, красивая, веселая…
– Плевать я хотела, будь она самой Жанной д’Арк! Мне дела нет до вас обеих!
– …работала в ресторане «Лета», которым владел мсье Рене, и других сведений…
И вот тут с лицом Эвы что-то произошло. Ни одна жилка в нем не дрогнула, но что-то изменилось. Как будто на дне глубокого озера шевельнулось нечто, чуть-чуть взбаламутившее поверхность. Даже рябь не появилась, но ты знаешь – под водой что-то есть. В глазах Эвы вспыхнул огонек.
– Что? – Грудь моя вздымалась, словно я пробежала целую милю, щеки пылали, ребра изнемогали в тисках корсета.
– «Лета», – тихо проговорила Эва. – Знакомое название. Кто, г-говоришь, хозяин?
Я раскрыла баул и, откинув смену белья, передала ей два сложенных листка, которые достала из бокового кармашка.
Эва глянула на реквизиты в верхнем углу и свою подпись внизу листа.
– Тут ничего не сказано о ресторане.
– Я узнала о нем позже – посмотрите вторую страницу, там мои заметки. Я позвонила в отдел, надеясь поговорить с вами, но вас там уже не было. Я уговорила сотрудницу отыскать в картотеке оригинал документа, на основе которого составлялась справка. Вот тогда и появились название ресторана и имя хозяина, но без фамилии. Документ был в плачевном состоянии, оттого-то, наверное, не все его сведения вошли в справку. Но я подумала: раз вы ее подписали, значит, видели оригинал.
– Не видела. Иначе не подписала бы. – Эва рассматривала вторую страницу. – «Лета»… Я знаю этот ресторан.
Надежда резанула больнее злости.
– Откуда?
Эва налила себе виски, выпила залпом и, вновь наполнив чашку, уставилась в пустоту.
– Пошла вон.
– Но…
– Ладно, можешь переночевать, если тебе н-н-некуда идти. Но чтоб утром, америкашка, тебя здесь не было.
– Но вы что-то знаете…
Эва взяла со столика пистолет и шагнула к двери. Я ухватила ее за костлявую руку:
– Прошу вас!
Движение ее изувеченной лапы было молниеносным, и второй раз за вечер на меня уставился зрачок пистолетного дула. Я отпрянула, но Эва, сделав полшага, уперла ствол мне в переносицу. Твердый кружок холодил кожу.
– Чокнутая старая корова, – шепнула я.
– Верно, – проскрипела Эва. – И я тебя шлепну, если застану здесь утром.
Пошатываясь, она зашагала по голым половицам коридора.
Глава вторая
Эва
Май 1915
Лондон
Шанс, появившийся в жизни Эвы Гардинер, был облачен в твидовый костюм.
В тот день Эва опоздала на работу, но хозяин не заметил, что она проскользнула в дверь юридической конторы уже четверть десятого. Сэр Фрэнсис Голборо, вечно поглощенный газетным отчетом о скачках, вообще редко что замечал.
– Вот ваши папки, дорогуша, – сказал он, когда Эва вошла в его кабинет.
Рослая шатенка, обладательница нежной кожи, обманчиво наивных глаз и красивых изящных рук, Эва приняла стопку скоросшивателей.
– Хорошо, с-с-сэр. – Одолеть трудный звук лишь с двумя осечками было удачей.
– Да еще нужно перевести на французский и отпечатать письмо для капитана Кэмерона. – Сэр Фрэнсис обратился к долговязому военному, сидевшему напротив него: – Слышали бы вы, как она стрекочет по-лягушачьи! Мисс Гардинер – наша драгоценность. Наполовину француженка. Сам-то я ни слова не проквакаю.
– Я тоже. – Капитан улыбнулся, вертя в руках трубку. – Это выше моего разумения. Спасибо, что одолжили свою работницу, Фрэнсис.
– Пустяки, пустяки.
Разумеется, Эву никто не спросил, пустяки ли это. А зачем? Конторские девушки – вроде мебели: одушевленнее папоротников в кадках, но такие же бессловесные.
Тебе повезло, что у тебя есть работа, – напомнила себе Эва. Если б не война, должность в адвокатской конторе досталась бы какому-нибудь лощеному молодчику с отличными рекомендациями. Тебе повезло. И, надо сказать, крупно. Работа не бей лежачего: надписывай адреса на конвертах, сортируй бумаги, иногда отпечатай письмо на французском. В общем, жизнь удалась. Что касаемо поднадоевшей нехватки сахара, сливок и свежих фруктов, это, пожалуй, справедливая плата за безопасность в военное время. Ведь могла бы застрять в северной Франции, оккупированной немцами, и голодать. Да, Лондон живет в страхе, прохожие шарят глазами по небу, выглядывая вражеские дирижабли, но вот в родной Лотарингии, как сообщают газеты, море крови и горы трупов. Она же, слава богу, жива и здорова.
Повезло, что и говорить.
Эва молча взяла письмо капитана Кэмерона, в последнее время зачастившего в контору. Мятый твидовый костюм он предпочитал форме хаки, но выправка и чеканный шаг выдавали в нем офицера лучше всяких знаков различия. Лет тридцати пяти, сухопарый, с проседью на висках, капитан Кэмерон говорил с легким шотландским акцентом, но во всем прочем был квинтэссенцией английского джентльмена из романов Конан Дойла. Хотелось его спросить: «Вам непременно нужно курить трубку? И ходить в твиде? Этакое клише вас не смущает?»
– Я подожду, пока вы закончите с письмом, мисс Гардинер. – Капитан откинулся в кресле.
– Хорошо, с-сэр, – пробормотала Эва и, попятившись, вышла из кабинета.
– Вы опоздали, – вместо приветствия бросила мисс Грегсон. Старше других сотрудниц, она строила из себя начальницу, и Эва не замедлила изобразить простодушное непонимание. Собственная внешность ей не нравилась (из зеркала смотрела миловидная пухлая мордашка, в которой не было ничего запоминающегося, кроме общего впечатления юности, благодаря чему многие принимали Эву за шестнадцатилетнего подростка), но в трудных ситуациях она всегда выручала. Стоило применить свое давнее умение широко распахнуть глаза и невинно захлопать ресницами, как неприятности улетучивались. Вот и сейчас мисс Грегсон раздраженно вздохнула, но отстала. Позже Эва услышала, как она перешептывается с кем-то из девушек:
– Порой мне кажется, что эта полуфранцуженка слегка глуповата.
– Да уж. – Пожатие плечами. – Стоит лишь услышать, как она изъясняется.
На секунду Эва крепко свела ладони, не давая пальцам сжаться в кулаки, а потом занялась переводом письма капитана Кэмерона на безупречный французский. Благодаря свободному владению английским и французским ее и взяли на работу. Две родины и ни одного дома.
День этот выдался на редкость занудным, таким, по крайней мере, он запомнился. Эва печатала, разбирала бумаги, в полдень пообедала принесенным с собою сэндвичем. На закате побрела домой, проехавший через лужу извозчик забрызгал ей юбку. Пансион в Пимлико пропах карболкой и жареной печенкой. За ужином она дежурно улыбалась соседке, молоденькой медсестре, недавно обручившейся с лейтенантом и теперь хваставшейся кольцом с крохотным бриллиантом.
– Устраивайся к нам в больницу, Эва. В вашей конторе мужа не найдешь, а уж там – наверняка.
– Да я не особо с-стремлюсь замуж.
Хозяйка и две других пансионерки одарили ее озадаченными взглядами. Чего уж так удивляться? – подумала Эва. – Я не хочу мужа и детей, не хочу ковер в гостиную и обручальное кольцо. Я хочу…
– Вы часом не из суфражисток, нет? – спросила хозяйка, не донеся ложку до рта.
– Нет.
Она не хотела права голоса. Шла война, и она хотела сражаться. Доказать, что заика Эва Гардинер может послужить своей стране не хуже краснобаев, всю жизнь державших ее за идиотку. Сколько ни бей кирпичами окна, как делали суфражистки, это не поможет попасть на фронт. Ей отказали даже во второстепенных ролях санитарки или водителя «скорой помощи» – мол, заикание будет помехой. Эва отодвинула тарелку и, извинившись, поднялась в свою опрятную комнатку с хромоногим комодом и узкой кроватью.
Она стала распускать волосы, но тут за дверью раздалось «мяу». Улыбнувшись, Эва впустила хозяйского кота.
– Приберегла для тебя п-печеночки, – сказала она, разворачивая салфетку с долей своего ужина.
Кот урчал, выгибаясь дугой. Существуя в доме исключительно на правах мышелова, он пробавлялся собственной добычей и объедками с кухни, но разглядел в Эве добрую душу и теперь на ее подношениях даже слегка растолстел.
– Вот была б я кошкой. – Эва усадила полосатого зверя к себе на колени. – Ведь вы раз-г-говариваете только в сказках. Или, на худой конец, была б я мужчиной. И уж тогда не улыбалась бы покорно и вежливо, а врезала бы всякому, кто вякнет о моем заикании. – Она погладила мурлыкавшего кота. – М-да, м-м-мечтать не вредно.
Спустя час в дверь постучали. Поджатые губы хозяйки превратились в нитку.
– К вам гость, – сказала она осуждающе. – Мужчина.
Эва спихнула недовольно мяукнувшего кота.
– Так поздно?
– Не делайте невинные глазки, мисс. У меня правило: никаких кавалеров по вечерам. Особенно из военных. Я так и сказала этому джентльмену, однако он уверяет, что дело срочное. Я проводила его в гостиную, можете предложить ему чаю. Надеюсь, вы оставите дверь приоткрытой.
– Военный? – переспросила Эва. Изумление ее нарастало.
– Некий капитан Кэмерон. Я нахожу чрезвычайно неподобающим его визит в столь поздний час!
Эва согласно кивнула. Она сколола каштановые волосы в пучок, оправила блузку с глухим воротничком и надела жакет, словно опять собралась на службу. Определенного сорта мужчины смотрели на всякую работающую женщину, продавщицу или конторщицу, как на легкодоступную. Если Кэмерон начнет приставать, получит пощечину. Даже если потом наябедничает сэру Фрэнсису и Эву уволят.
– Добрый вечер, – сказала она, распахнув дверь гостиной, и подчеркнуто официально продолжила: – Я весьма удивлена вашим визитом, к-к-к… – Сжав пальцы в кулак, Эва одолела трудный звук: –…капитан. Чем могу быть п-п-полезна? – Она вскинула голову, стараясь согнать румянец смущения.
Совершенно неожиданно капитан Кэмерон ответил по-французски:
– Может, сменим язык? Я слышал, как в конторе вы говорили на французском, – ваше заикание было почти незаметно.
Эва уставилась на этого стопроцентного англичанина. Развалившись на жестком стуле, капитан скрестил вытянутые ноги, на губах его под ухоженными усиками играла легкая улыбка. Но ведь нынче утром он сказал, что не знает французского.
– Хорошо, давайте перейдем на французский, – ответила Эва на втором родном языке.
– Ваша хозяйка подслушивает за дверью и просто рехнется, – сказал Кэмерон.
Эва села, оправила юбку из синей саржи и, подавшись вперед, взяла расписной чайник.
– Как вы пьете чай?
– С молоком и двумя кусочками сахара. Скажите, мисс Гардинер, насколько хорошо вы владеете немецким?
Эва вскинула взгляд. Из перечня навыков в своем резюме она опустила владение немецким – в 1915-м не стоило признаваться, что знаешь язык врага.
– Я не г-говорю по-немецки. – Она передала чашку капитану.
– Хм. – Кэмерон прихлебнул чай, не спуская глаз с Эвы. Та сложила руки на коленях и ответила взглядом, полным милого простодушия.
– Надо же, какое у вас лицо, – сказал капитан. – Вас невозможно прочесть. А ведь я хороший физиономист, мисс Гардинер. Обычно людей выдают сокращения мелких глазных мышц. Но вы себя полностью контролируете.
Эва округлила глаза и смущенно захлопала ресницами:
– Боюсь, я не понимаю, о чем вы говорите.
– Позвольте несколько вопросов, мисс Гардинер? Не беспокойтесь, всё в рамках приличий.
По крайней мере, он к ней не лез и не пытался лапать за коленку.
– Извольте, к-к-капитан.
Кэмерон откинулся на стуле.
– Со слов сэра Фрэнсиса я знаю, что вы сирота, но не расскажете ли о своих родителях?
– Отец англичанин. Для работы во французском банке он приехал в Лотарингию, где и встретил мою мать.
– Она француженка? Теперь ясно, почему у вас чистейший французский выговор.
– Да. (Откуда тебе знать, что он чистейший?)
– Я бы решил, что девушка из Лотарингии знает и немецкий. До германской границы там недалеко.
Эва опустила ресницы.
– Немецкий я не учила.
– Вы прекрасно блефуете, мисс Гардинер. С вами я бы не сел за карты.
– Леди не играют в карты. – Каждый нерв взывал к осторожности, но Эва была расслаблена. Она всегда расслаблялась, почуяв опасность. Когда на утиной охоте она стояла в камышах – палец на спусковом крючке, дичь замерла, дробь готова вылететь из ствола, – сердце ее билось абсолютно ровно. Вот и сейчас оно замедлило свой ритм. – Вы спросили о родителях? Мы жили в Нанси, отец работал, мать занималась домашним хозяйством.
– А вы?
– Училась в школе, на полдник приходила домой. Мать учила меня французскому и вышиванию, отец – английскому и утиной охоте.
– Какая культурная семья.
Эва ответила милой улыбкой, вспоминая вопли, площадную брань и злобные стычки, происходившие за тюлевыми занавесками. Она обучилась притворной светскости, хотя жизнь в ее доме была весьма далека от аристократической: нескончаемые крики, битье посуды, отец обзывает мать транжирой, а та визжит, что его опять видели с какой-то официанткой. В этом доме девочка быстро приучилась по стеночке выбираться на улицу, заслышав первые раскаты грома на семейном горизонте, и исчезать, точно призрак в ночи. Она умела все видеть, все взвешивать, оставаясь незамеченной.
– Да, детство мое было весьма познавательным.
– Извините за вопрос: вы всегда заикались?
– В детские годы этот изъян был еще з-з-заметнее.
Язык ее вечно спотыкался о звуки. Но все остальное в ней было без сучка и задоринки.
– Странно, что хорошие учителя не помогли вам его одолеть.
Учителя? Видя, как она, едва не плача, натужно мучается со словами, наставники просто переадресовывали вопрос другому ученику. Многие считали ее косноязычной дурочкой и даже не останавливали сорванцов, дразнивших ее: «Давай, скажи свою фамилию! Г-г-г-г-г-гардинер…» Некоторые смеялись вместе с классом.
Нет. Эва приструнила заикание диким усилием воли: в своей комнате часами читала стихи вслух, заставляя трудные согласные выскакивать без запинки. Помнится, она минут десять сражалась со вступлением к «Цветам зла» Бодлера – на французском ей говорилось легче. Бодлер признавался, что в написании «Цветов зла» его вели гнев и терпение. Эва прекрасно его понимала.
– Что стало с вашими родителями? – спросил капитан Кэмерон.
– В девятьсот двенадцатом отец умер от остановки сердца. (Остановил его мясницкий нож в руке обманутого мужа.) Мать, встревоженная ситуацией в Германии, решила перевезти меня в Лондон. (Матушка бежала от скандала, не от бошей.) В прошлом году она скончалась от инфлюэнцы, упокой Господь ее душу. (Злобной, вульгарной, безудержной матерщинницы, швырявшей чашками в дочь.)
– Мир ее праху, – сочувственно поддакнул капитан, но Эва ни на секунду не поверила в его искренность. – Теперь о вас. Сирота Эвелин Гардинер, свободно владеющая английским и французским (может, все-таки еще и немецким?), работает в конторе моего друга сэра Фрэнсиса Голборо, убивая, видимо, время до замужества. Девушка симпатичная, но старается не обращать на себя внимания. Что это, застенчивость?
Вопросительно мяукнув, в гостиную ступил кот. Эва позвала его к себе на колени и стала почесывать ему горлышко.
– Вы пытаетесь меня обольстить, мистер Кэмерон? – Улыбка превратила ее в шестнадцатилетнюю девушку.
Вопрос обескуражил капитана. Весь красный от смущения, он выпрямился на стуле:
– Мисс… и в мыслях не было…
– Тогда зачем вы здесь? – в лоб спросила Эва.
– Чтоб оценить вас. – Восстановив самообладание, Кэмерон вновь скрестил вытянутые ноги. – Я уже давно за вами наблюдаю – с тех пор, как впервые переступил порог вашей конторы, притворившись, будто не знаю французского. Позвольте говорить откровенно?
– А как мы говорили раньше?
– Не верится, что вы бываете откровенны вообще, мисс Гардинер. Слышал я ваши отговорки от нудной работы. А нынче вы беззастенчиво солгали, объясняя свое опоздание. Что-то насчет приставучего кэбмена. Вы никогда не тушуетесь и сохраняете ледяное спокойствие, однако великолепно изображаете смущение. Опоздали-то вы вовсе не из-за любвеобильного извозчика. Перед входом в контору вы четверть часа разглядывали плакат о наборе в армию. Я засек время, наблюдая за вами из окна.
Настала очередь Эвы напрячься и покраснеть. Она и впрямь разглядывала плакат, на котором в строю пехотинцев, один к одному крепких и бравых, зиял пробел. «Тут еще есть место для ТЕБЯ», гласила надпись. «ВСТАНЕШЬ В СТРОЙ?» Нет, – горько и безмолвно ответила Эва. Ибо в том свободном пространстве мелким шрифтом было написано: «Место зарезервировано для годного к службе мужчины». Так что она не могла встать в строй, хотя в свои двадцать два года была вполне годна к военной службе.
Кот мяукнул обиженно, когда ласка стала чересчур уж крепкой.
– Ну что, мисс Гардинер, смогу я получить честный ответ, если задам вам вопрос?
И не мечтай, – подумала Эва. Лгала и изворачивалась она так же естественно, как дышала, и занималась этим всю свою жизнь. Лгала, лгала, лгала, сохраняя невинное личико. Уже и не припомнить, когда последний раз она была с кем-то абсолютно искренна. Ложь гораздо легче суровой беспощадной правды.
– Мне тридцать два, – сказал капитан. Лицо в глубоких морщинах делало его старше. – По возрасту для фронта я не гожусь. Но у меня другая работа. В нашем небе немецкие дирижабли, в нашем море немецкие подлодки. Нас атакуют ежедневно, мисс Гардинер.
Эва яростно кивнула. Две недели назад потопили «Лузитанию» – соседки-пансионерки проплакали все глаза. Эва не проронила ни слезинки и, вне себя от гнева, только жадно читала газетные репортажи.
– Для предотвращения возможных атак нужны кадры, – продолжил капитан Кэмерон. – Моя задача – подыскать людей с определенными навыками. Например, владеющих французским и немецким. Умеющих лгать. С виду простодушных. Храбрых сердцем. Отыскать и пустить их в дело – разузнать, что против нас замышляют боши. По-моему, в вас есть потенциал, мисс Гардинер. И потому я спрашиваю: вы желаете постоять за Англию?
Вопрос ударил, точно молот. Эва судорожно выдохнула, спихнула кота и ответила не раздумывая:
– Да.
Что бы ни означало «постоять за Англию», ответ будет утвердительный.
– Почему?
Эва уж было изготовилась к расхожим словам о злобных фрицах и необходимости хоть чем-то поддержать парней в окопах, но медленно изгнала ложь.
– Чтоб доказать – я кое-что могу. Доказать всем, кто считает меня глупой и слабой лишь потому, что речь моя спотыклива. Я хочу с-с-с… хочу с-с-с….
Она крепко забуксовала на слове, щеки ее пылали, но капитан, в отличие от других, не спешил закончить фразу вместо нее, что всегда ее дико бесило. Он лишь спокойно ждал. Наконец Эва стукнула себя кулаком по обтянутому юбкой колену, и слово вылетело. Сквозь стиснутые зубы она процедила его с такой яростью, что перепуганный кот опрометью выскочил из комнаты.
– Я хочу сражаться.
– Вот как?
– Да.
Три честных ответа подряд – это рекорд. Под задумчивым взглядом капитана Эва вздрогнула, боясь расплакаться.
– Тогда я спрошу в четвертый раз, но пятого не будет. Вы говорите по-немецки?
– Wie ein Einheimischer. Как на родном.
– Чудесно. – Капитан Сесил Эйлмер Кэмерон встал. – Эвелин Гардинер, не угодно ли вам поступить в королевскую службу разведки?
Глава третья
Чарли
Май 1947
Меня мучили странные кошмары: стаканы под виски, вдребезги разнесенные выстрелами… какие-то блондинки, скрывшиеся за вагонами поезда… чей-то шепот «Лета»… А потом мужской голос спросил:
– Девушка, вы кто?
Я застонала и с трудом разлепила глаза. Уснула я в гостиной на старом скрипучем диване, не отважившись отправиться на поиски кровати в доме, по которому бесконтрольно рыскает сумасшедшая с пистолетом. Я скинула свой оборчатый дорожный костюм и, оставшись в сорочке, свернулась калачиком под видавшим виды шерстяным пледом. Видимо, уже наступило утро. Сквозь щелку в тяжелых шторах проникал солнечный луч, а в дверях, привалившись к косяку, стоял и разглядывал меня темноволосый мужчина в поношенной куртке.
– Кто вы? – Я еще не вполне очнулась от сонного дурмана.
– Я первый спросил. – Голос низкий, чуть заметен шотландский выговор. – Вот уж не думал, что у Гардинер бывают гости.
– Она еще не встала, нет? – Я бросила испуганный взгляд в коридор. – А то обещала пристрелить, если застанет меня здесь утром…
– Это на нее похоже, – сказал шотландец.
Я хотела одеться, но не могла в сорочке встать перед незнакомым мужчиной.
– Мне надо поскорее отсюда убраться…
А куда? – шепнула Роза, и голова моя загудела. Я не знала, куда идти; бумажка с адресом Эвы – все, что у меня было. И что теперь? Защипало глаза.
– Не спешите удирать, – сказал шотландец. – Если вчера Гардинер хорошо нарезалась, утром она ничего не вспомнит. – Он сбросил куртку. – Я сделаю чай.
– Кто вы? – спросила я, но дверь за ним уже захлопнулась.
Секунду помешкав, я откинула плед и встала, сразу озябнув. Глянув на свой дорожный костюм, лежавший кучей, я сморщилась. В бауле был еще один наряд, но такой же оборчатый, тесный и неудобный. Поэтому я надела старый джемпер и ненавистные матери поношенные брюки, а затем босиком пошлепала искать кухню. Я уже сутки не ела, и урчанье в моем животе пересилило даже страх перед Эвиным пистолетом.
Кухня оказалась на удивление чистой и светлой. Накрытый к завтраку стол, чайник на плите. Свою старую куртку шотландец бросил на стул, оставшись в не менее старой рубашке.
– Кто вы? – Я не могла совладать с любопытством.
– Финн Килгор. – Он взял сковородку. – Работник за всё у Гардинер. Выпейте чаю.
Интересно, что он называл Эву просто «Гардинер», как мужчину.
– Работник за всё? – удивилась я, взяв со столешницы щербатую кружку. Похоже, в этом доме следили только за кухней.
Пошарив в холодильнике, Килгор достал яйца, бекон, грибы и половину батона.
– Вы хорошо разглядели ее руки? – спросил он.
– Да…
Чай был крепкий, как я любила.
– И что, по-вашему, она может делать такими руками?
Я отрывисто хохотнула.
– Вчера я убедилась, что она вполне способна взвести курок и откупорить виски.
– Лишь с этим и справляется. А для прочего нанимает меня. Я исполняю ее поручения. Забираю почту. На машине вывожу в город. Немножко стряпаю. Но прибираться она позволяет только в кухне. – Килгор выложил ломтики бекона в сковородку. На вид ему было лет двадцать девять-тридцать. Высокий, поджарый, он двигался с небрежной грацией. Густая щетина его требовала бритвы, а темные космы, прикрывавшие воротничок рубашки, буквально молили о парикмахере. – Что вы здесь делаете, мисс?
Я помешкала с ответом. Мать сказала бы, что работнику за всё не пристало задавать вопросы гостье. Однако гостья-то я сомнительная, а у него гораздо больше прав быть в этой кухне.
– Чарли Сент-Клэр, – назвалась я и, прихлебывая чай, представила отредактированную версию того, как очутилась на пороге (а затем и на диване) Эвы. Ор и угрозы меня пристрелить я опустила. Уже не в первый раз я задумалась о том, как всего за двадцать четыре часа моя жизнь умудрилась перевернуться вверх тормашками.
Потому что от самого Саутгемптона ты гонишься за призраком, – шепнула Роза. – Потому что ты маленько чокнутая.
И вовсе не чокнутая, – огрызнулась я. – Я хочу тебя спасти. Это не делает меня чокнутой.
Ты всех хочешь спасти, дорогуша. Меня, Джеймса и всякую бродячую собаку, что в детстве нам встречалась на улице…
Джеймс. Я вздрогнула, а мерзкий внутренний голос прошелестел: Не очень-то удалось его спасти, а?
Я шугнула эту мысль, не давая неизбежному чувству вины затопить меня, и приготовилась к дальнейшим расспросам Килгора, ибо история моя, честно говоря, выглядела довольно странно. Однако он молча хлопотал над сковородой – добавил грибы и консервированную фасоль. Прежде я никогда не видела мужчину за готовкой. Отец не умел даже намазать тост маслом. Это отводилось матери и мне. А вот шотландец ловко помешивал в сковородке, не обращая внимания на шипящие брызги жира.
– Давно вы работаете на Эву?
– Четыре месяца. – Килгор принялся нарезать хлеб.
– А до того?
Нож замер.
– Королевская артиллерия. Шестьдесят третий противотанковый полк.
– А потом стали домашним работником – резкая, однако, перемена.
Отчего он смолк? – подумала я. – Наверное, стыдится, что ветеран-фронтовик пошел в услужение к сумасшедшей, размахивающей пистолетом.
– И как же… – Я запнулась, сама не зная в точности, о чем хочу спросить. Как у нее работается? Как она стала такой? Но потом все-таки нашлась: – И как же это случилось с ее руками?
– Она не рассказывала. – Килгор поочередно разбил яйца в сковородку. Живот мой заурчал оглушительно. – Но я догадываюсь.
– И что это, по-вашему?
– У нее раздроблены фаланги всех пальцев.
Я поежилась.
– Что же это за несчастный случай?
Впервые за все время Финн Килгор посмотрел мне в глаза. Взгляд его карих глаз под темными бровями был одновременно внимательным и отстраненным.
– Кто говорит, что это был несчастный случай?
Я обхватила кружку своими целенькими, не переломанными пальцами. Вдруг показалось, что чай остыл.
– Английский завтрак. – Килгор снял горячую сковородку с плиты и поставил рядом с нарезанным хлебом. – Угощайтесь, а мне надо глянуть подтекающую трубу. Только оставьте для Гардинер побольше. Она заявится с дикой головной болью, и английский завтрак – лучшее средство от похмелья. Если съедите все, вот тогда вас пристрелят наверняка.
Больше не взглянув на меня, Килгор вышел. Я взяла тарелку и нацелилась на скворчащее яство, исходя слюной. Однако при виде восхитительной смеси яиц, бекона, фасоли и грибов желудок мой вдруг взбунтовался. Я зажала рукой рот и отвернулась, дабы не изгадить лучшее на Британских островах средство от похмелья.
Я поняла, в чем дело, хотя прежде такого со мной не случалось. Есть хотелось ужасно, однако в желудке шла такая катавасия, что я не проглотила бы и кусочка даже под «люгером», приставленным к моей голове. Утренняя тошнота. Впервые Маленькая Неурядица дала о себе знать.
Паршивое самочувствие не ограничилось выкрутасами желудка. Возникла одышка, взмокли ладони. Маленькой Неурядице было три месяца, но до сих пор она казалась фантомом: я ее не чувствовала, не представляла, не видела никаких ее признаков. Она просто въехала в мою жизнь, точно поезд. После того как к проблеме подключились родители, все это стало неприятным уравнением, которое необходимо решить. Одна Маленькая Неурядица плюс одна поездка в Швейцарию равно круглому нолю. Легко и просто.
Но вот теперь Неурядица уже вовсе не казалась маленькой.
– Что со мной будет? – тихо проговорила я. Вопрос этот возник впервые за долгое время. Не что будет с Розой, с родителями, с возвращением в колледж, но что будет со мной?
Не знаю, сколько я так простояла, прежде чем скрипучий голос вывел меня из оцепенения:
– Гляжу, американская захватчица все еще здесь?
Я обернулась. В дверном проеме стояла Эва: вчерашнее ситцевое платье, неприбранные седые волосы, налитые кровью глаза. Я изготовилась к неприятностям, но она, похоже, и впрямь забыла о своих угрозах. Эва терла себе виски, и я, похоже, ее ничуть не интересовала.
– В голове во весь опор скачут четыре всадника Апокалипсиса, – поделилась она, – а во рту погано, как в общественном нужнике. Скажи, что чертов шотландец уже сварганил з-завтрак.
Превозмогая дурноту, я показала на столешницу:
– Вот оно английское чудо.
– Слава богу! – Эва достала из ящика вилку и начала есть прямо со сковородки. – Ты, значит, познакомилась с Финном. Хорош, а? Будь я помоложе и не страшна как смертный грех, я б взгромоздилась на эту вершину.
Я отпрянула от плиты.
– Зря я сюда пришла. Извините, что так ворвалась к вам. Пойду я…
Куда? Приползти обратно к матери, стерпеть ее бешенство и затем отправиться на Процедуру? А что еще ей оставалось делать? Меня вновь окутывало глухим безразличием. Хотелось уткнуться в Розино плечо и закрыть глаза или обнять унитаз и вывернуться наизнанку. Как же мне плохо.
Мякишем подтерев желток, Эва хрипло приказала:
– Ну-ка с-сядь, америкашка.
Пусть заика, но во властности ей не откажешь. Я села.
Эва отерла руки о посудное полотенце и выудила из кармана сигарету. Прикурив, неспешно сделала глубокую затяжку.
– Первая за день всегда самая сладкая. – Она выдохнула дым. – Почти снимает сволочное похмелье. Как, говоришь, з-з-звали твою кузину?
– Роза. – Сердце мое засбоило. – Роза Фурнье. Она…
– Ты мне вот что скажи, – перебила Эва. – У таких, как ты, родители непременно богатенькие. Почему же они не расшибутся, чтобы отыскать вашу заблудшую овечку?
– Они пытались. Делали запросы. – Я была зла на родителей, но отдавала должное их стараниям. – За два года никаких результатов, и отец сказал, что Роза, видимо, погибла.
– Похоже, он умный мужик.
Умный. Отец, юрист по международному праву, располагал каналами и обходными путями для наведения справок за рубежом. Он сделал все что мог, но когда никто не получил от Розы ни единой весточки (даже я, кого она любила больше всех в нашей семье), отец пришел к логичному выводу: кузина моя мертва. Я старалась свыкнуться с этой мыслью. По крайней мере, до того, что случилось шесть месяцев назад.
– В сражении под Таравой мой старший брат лишился ноги. Отняли по колено. А полгода назад он застрелился. – Голос мой дрогнул.
В детстве мы с Джеймсом были не особо близки – он видел во мне просто мелюзгу, которую можно задирать. Когда брат вырос и стадия дерганья за косички миновала, он дразнился уже мягче – грозил навалять всякому парню, который пригласит меня на свидание. А я потешалась над его кошмарной стрижкой, когда он записался в морфлот. Он был мой брат, я любила его, а родители вообще в нем души не чаяли. И вот после его смерти Роза начала переселяться из моей памяти в мои видения. В каждой встречной девочке я видела маленькую Розу, каждая блондинка на университетской лужайке превращалась в мою повзрослевшую кузину, высокую, с аппетитными формами… По десять раз на дню сердце мое замирало и обрывалось от безжалостных шуток памяти.
– Я знаю, это, наверное, безнадежно. – Я посмотрела Эве в глаза, заклиная понять меня. – Скорее всего, моя кузина… Шансов почти нет. Уж я-то могу их высчитать до десятой доли процента. Но я должна попытаться. До конца пройти по ее следам, пусть даже чуть приметным. Если существует хоть ничтожная вероятность, что она еще… – Я поперхнулась и не смогла закончить фразу. Война отняла у меня брата. Если есть хоть малейший шанс вернуть Розу из небытия, я должна им воспользоваться. – Помогите мне, – сказала я. – Пожалуйста. Кроме меня, никто не будет ее искать.
Эва медленно выдохнула дым.
– Значит, она работала в ресторане «Лета»… где, говоришь?
– В Лиможе.
– Хм. А хозяина звали…
– Мсье Рене какой-то. По телефону выяснить его фамилию не удалось.
Эва прикусила губу и уставилась перед собой, изуродованные пальцы ее сжимались и разжимались. Наконец она повернулась ко мне, взгляд ее был непроницаем, как матовое стекло.
– Наверное, я все-таки сумею тебе помочь.
Похоже, телефонный разговор не задался. Я слышала только реплики Эвы, которые она орала в трубку, взад-вперед вышагивая по пустой прихожей и размахивая тлеющей сигаретой, словно разъяренная кошка хвостом, но и этого было достаточно, чтоб ухватить суть.
– Плевать мне, сколько стоит звонок во Францию, корова ты тупая, давай соединяй!
– С кем вы пытаетесь связаться? – в третий раз спросила я, но Эва опять меня игнорировала и продолжила истязать телефонистку:
– Хватит мэмкать, а то еще подавишься этим словом, просто соедини меня с майором…
Я выскользнула из дома, но и с улицы слышала ее голос за дверью. Вчерашняя мрачная сырость исчезла, Лондон приоделся в голубые небеса с бегущими облаками и ярким солнцем. Из-под козырька руки я поискала взглядом то, что накануне мельком видела из окна такси. Ага, вот она – ярко-красная телефонная будка, типично английская и чуть-чуть нелепая. Я направилась к ней, чувствуя, что опять сводит живот. Когда Эва начала дозваниваться до таинственного майора, я впихнула в себя сухой тост, унявший гадкие позывы Маленькой Неурядицы, и сейчас меня подташнивало по иной причине. Мне тоже предстояло сделать телефонный звонок, который вряд ли окажется проще Эвиного.
Прения с телефонисткой, потом долгие объяснения портье саутгемптонского отеля «Дельфин», кто я такая. И вот:
– Шарлотта? Алло? Алло?
Я отвела трубку от уха и посмотрела на нее, наливаясь злостью. Мать всегда отвечала «алло», если кто-нибудь слышал ее разговор по телефону. Подумать только, беременная дочь сбежала, а ее волнует, какое впечатление она произведет на портье.
В трубке кудахтало, и я опять приложила ее к уху.
– Здравствуй, мама, – перебила я. – Меня не похитили и не убили. Я в Лондоне, со мной все хорошо.
– Ты сошла с ума, ma petite? Взяла и исчезла, перепугав меня до смерти! – Тихое шмыганье и шепотом «мерси» – видимо, портье подал ей платок, чтоб промокнула глаза. Однако я сильно сомневалась, что у матери потекла тушь. Злобствовать, конечно, нехорошо, но я не сдержалась. – Скажи, где ты находишься. Сию секунду.
– Нет. – Во мне что-то шелохнулось, помимо тошноты. – Прости, но я не скажу.
– Не глупи, Шарлотта. Ты должна вернуться.
– Я вернусь. Когда раз и навсегда выясню, что произошло с Розой.
– С Розой? Господи боже мой…
– Я очень скоро позвоню, обещаю, – сказала я и повесила трубку.
Потом вернулась в дом. На кухне Финн Килгор самозабвенно драил сковородку.
– Не подадите полотенце, мисс? – попросил он.
Это ж надо. А вот отец мой считал, что грязная посуда чудодейственно моется сама.
– Опять звонит. – Принимая полотенце, Килгор глянул в прихожую. – Пыталась связаться с одним английским офицером во Франции, но тот в отпуске. Теперь ругается с какой-то неведомой женщиной.
– Мистер Килгор… – Я замялась. – Вы говорили, что исполняете обязанности шофера. Не могли бы вы отвезти меня в одно место? Пешком я боюсь заблудиться, а на такси нет денег.
Я полагала, он откажет американке, которую знать не знает, но Килгор пожал плечами и вытер руки о штаны:
– Сейчас подгоню машину.
Я себя оглядела.
– Только мне надо переодеться.
Вскоре я была готова. Килгор стоял возле открытой входной двери и, притоптывая, глазел на улицу. Заслышав стук моих каблуков, он обернулся, и темные брови его взлетели, но я не истолковала это как знак восхищения. У меня осталась только одна смена чистой одежды, и в ней я выглядела фарфоровой пастушкой: многослойная оборчатая юбка с кринолином, розовая шляпка с вуалеткой, без единого пятнышка перчатки, тесный розовый жакет, предназначенный подчеркнуть все женственные изгибы, каковых у меня не имелось. Я вскинула подбородок, а дурацкую вуалетку опустила на глаза.
– Это международный банк. – Я вручила Килгору бумажку с адресом. – Спасибо.
– Обычно девушки в таких пышных юбках не удосуживаются поблагодарить шофера. – Финн придержал дверь, позволяя мне выйти. Даже на каблуках под его вытянутой рукой я прошла, не пригибаясь.
Из коридора донесся голос Эвы:
– Не вздумай бросить трубку, корова ты очкастая…
Я замешкалась на пороге, охваченная желанием спросить, почему она мне помогает. Вчера-то отказалась наотрез. Пока что я не допытывалась, хотя ужасно хотелось схватить ее за костлявые плечи и вытрясти из нее всю известную ей информацию. Но я боялась разозлить или отпугнуть человека, который что-то знает. Определенно знает.
Так что я оставила ее в покое и последовала за Финном. Машина меня удивила: темно-синий кабриолет с поднятым верхом, старый, но до блеска отполированный.
– Симпатичное авто. Эвино?
– Мое.
Машина не сочеталась с его неряшливой щетиной и курткой, залатанной на локтях.
– Это «бентли»? – У отца моего был «форд», но он любил английские автомобили и в наших европейских вояжах всегда их отмечал.
– «Лагонда LG6». – Финн открыл дверцу. – Запрыгивайте, мисс.
Я усмехнулась, когда он, сев за руль, потянулся к рукоятке скоростей, погребенной под моими пышными юбками. Приятно быть среди незнакомцев, не ведающих о моей подмоченной репутации. Приятно читать в чужих глазах, что ты достойна уважительного обращения «мисс». Последнее время в глазах моих родителей я читала только «шлюха, разочарование, неудачница».
Ты и есть неудачница, шепнул мерзкий внутренний голос, но я его шугнула.
Лондон представал неясной серой громадой: булыжные мостовые, кое-где руины, проломленные крыши, зияющие дырами стены. Следы войны, хотя уже шел 1947-й. Помню, отец радостно выдохнул, читая победный выпуск газеты: «Чудесно, теперь все будет как прежде». Словно на другой день после подписания акта о капитуляции разбомбленные дома сами собой станут целыми.
Улица в ужасных выбоинах, по которой рулил Финн, напоминала кусок швейцарского сыра, и мне пришла занятная мысль:
– А зачем вообще Эве машина? Не проще ли ездить трамваем, учитывая нехватку бензина?
– Она не в ладах с трамваями.
– Почему?
– Не знаю. Трамвай, где замкнутое пространство и толпа, выводит ее из себя. Последний раз чуть не взорвалась, как граната. Орала и пихала домохозяек с их покупками.
Я озадаченно покачала головой, но тут машина остановилась перед внушительным зданием в мраморной облицовке. Приехали. Видимо, на лице моем отразилось беспокойство, ибо Финн мягко спросил:
– Вас сопроводить, мисс?
Я бы охотно взяла провожатого, но затрапезного вида небритый шотландец вряд ли добавит мне респектабельности, а посему я, выбираясь из машины, помотала головой:
– Нет, спасибо.
Шагая по сверкающему мраморному полу, я старалась придать себе хоть немного той величавости, какую без всяких усилий излучала моя мать. Я назвала свое имя и цель визита, после чего меня препроводили к престарелому типу в клетчатом костюме. Он оторвался от ведомости, в которой корябал цифры:
– Я могу быть вам полезен, юная леди?
– Очень надеюсь, сэр. – Я улыбнулась и, кивнув на бумагу с колонками цифр, пустилась в светскую беседу: – Над чем трудитесь?
– Проценты, числа. Весьма скучная материя. – Привстав, он показал на стул. – Прошу садиться.
– Благодарю. – Я села и глубоко вздохнула, всколыхнув вуалетку. – Я бы хотела снять немного денег.
Умирая, моя американская бабушка учредила трастовый фонд на мое имя. Не огромный, но все-таки приличный, и я добросовестно пополняла счет с тех пор, как в четырнадцать лет получила свою первую летнюю работу в конторе отца. К этим деньгам я не притрагивалась, мне хватало того, что на мою студенческую жизнь выделяли родители. Обычно сберегательную книжку я хранила в комодном ящике с нижним бельем, но, пакуя вещи для нынешней поездки, в последнюю минуту бросила ее в баул. Точно так же я захватила адрес Эвы и справку о последнем местонахождении Розы. Никаких планов я не строила, только прислушалась к голоску, шепнувшему: Возможно, все это понадобится, если тебе хватит духу исполнить свое заветное желание…
Теперь я была рада, что послушалась голоса, ибо деньги закончились подчистую. Кто его знает, почему Эва взялась помочь мне, только, уж конечно, не по доброте душевной. Если что, я была готова позолотить ручку ей и всякому, кто приведет меня к Розе, но для этого необходимо золотишко. Очаровательно улыбаясь, я передала клерку сберкнижку и удостоверение личности.
Через десять минут я удерживала свою улыбку только огромным усилием воли.
– Не понимаю, – повторила я уже в четвертый, наверное, раз. – Вы получили подтверждение моего имени и возраста, денег на счете вполне хватает. Так почему…
– Снятие столь большой суммы, юная леди, не в порядке вещей. Подобные счета открывают для обеспечения вашего будущего.
– Однако там не только обеспечение моего будущего, но и мои собственные сбережения…
– Нельзя ли нам переговорить с вашим отцом?
– Он в Нью-Йорке. И потом, речь не о такой уж большой сумме…
Клерк опять меня перебил:
– Телефонный звонок в контору вашего отца нас вполне устроит. Если мы заручимся его согласием…
Теперь я перебила клерка:
– В этом нет никакой необходимости. Счет на мое имя. Имелось условие, что я получу к нему доступ по достижении восемнадцати лет, но мне уже девятнадцать. – Я вновь подтолкнула свои бумаги к клерку. – Вам требуется только мое согласие.
Клерк поерзал в кожаном кресле, выражение отеческой заботы не покидало его лицо.
– Заверяю вас, все уладится, как только мы переговорим с вашим отцом.
Я так стиснула зубы, что они едва не спаялись.
– Я хочу снять…
– Весьма сожалею, юная леди.
Я разглядывала цепочку его карманных часов, его пухлые руки и жидкие волосы, сквозь которые просвечивала плешь. А он уже не смотрел на меня, но, взявшись за ведомость, опять принялся вписывать и вычеркивать цифры.
Конечно, я поступила по-детски, когда, перегнувшись через стол, выхватила у него листок и пробежала по нему взглядом. Прежде чем клерк успел возмутиться, я взяла со стола огрызок карандаша, перечеркнула неверные подсчеты и вписала правильные.
– Вы потеряли четверть процента. – Я оттолкнула от себя бумагу. – Потому-то баланс не сходился. Можете проверить на арифмометре. Поскольку в денежных делах мне веры нет.
Улыбка клерка угасла. Я встала, вскинула подбородок максимально высоко и вихрем вылетела на улицу. Мои кровные деньги. Не только доставшиеся по наследству, но и честно заработанные. Однако без чужого позволения я не могу получить ни гроша. От такой несправедливости я скрежетала зубами, но не сказать, что сильно удивилась.
На всякий случай у меня был запасной план.
Финн покосился на меня, когда я плюхнулась на сиденье и хлопнула дверцей, защемив половину своей юбки.
– Вы меня извините, но вид у вас слегка непрезентабельный, – сказала я, вновь открыв дверцу и подобрав подол. – Вы вправду неряха, мистер Килгор, или просто не любите бриться?
Он закрыл потрепанную книжку, которую читал.
– Понемногу того и другого.
– Ладно. Мне нужен ломбард. Такой, где девушку не станут изводить вопросами об ее закладе.
Секунду подумав, Килгор отъехал от тротуара.
Моя американская бабушка оставила мне деньги на счете. У моей французской бабушки было великолепное жемчужное ожерелье в две нитки, которые перед смертью она разделила. «Одно колье малышке Шарлотте, а другое красавице Розе! Я хотела поделить ожерелье между дочерьми, но обе ваши маменьки сделали губы куриной жопкой, – сказала она со своей обычной прямотой, и мы смущенно захихикали. – Так что, душеньки, наденете этот жемчуг на свои свадьбы и вспомните меня».
Я вспоминала ее, ощупывая в сумочке роскошную жемчужную нитку. Слава богу, французская бабушка умерла задолго до того, как над ее любимым Парижем взвилась свастика. Прости меня, бабуля, – мысленно сказала я. – Выбора нет. Распорядиться своими сбережениями не получилось, но я могу распорядиться своим жемчугом. Мать всерьез собиралась после Процедуры потащить меня в Париж, накупить мне новых нарядов и нанести визиты старым знакомым, дабы всем стало ясно: мы не бежим от скандала, но совершаем вояж по Европе. Отсюда и жемчуг.
Финн подъехал к ломбарду. Напоследок взглянув на крупные матовые бусины и квадратик изумруда, служивший застежкой, я вошла внутрь и, шлепнув жемчуг на прилавок, спросила:
– Сколько предложите?
– Вам придется подождать, мисс, – равнодушно сказал хозяин, хотя глаза его блеснули. – Я должен закончить важное дело.
– Обычный трюк, – шепнул Финн, который на сей раз почему-то последовал за мной. – Вас изводят ожиданием, чтобы вы согласились на любое предложение. Вы тут надолго.
Я вздернула подбородок:
– Буду сидеть хоть до ночи.
– Тогда я пока проведаю Гардинер, тут недалеко. Вы не сбежите, мисс?
– Не обязательно называть меня «мисс». – Вообще-то обращение мне нравилось, но официоз уже выглядел глупо. – Мы же с вами не в Букингемском дворце.
Финн пожал плечами и, шагнув к выходу, на пороге сказал:
– Хорошо, мисс.
Я покачала головой и уселась в неудобное кресло, намотав жемчужную нитку вокруг ладони. Прошло добрых полчаса, прежде чем ломбардщик с лупой во лбу обратил на нас внимание.
– Боюсь, вас облапошили, девушка. – Он вздохнул. – Стекляшка. Хорошего качества, но стекляшка. Пожалуй, я дам вам пару фунтов…
– Взгляните еще разок. – Я прекрасно знала стоимость ожерелья. Мысленно перевела доллары в фунты, прибавила десять процентов и назвала свою сумму.
– А у вас есть какой-нибудь документ на изделие? Скажем, кассовый чек? – Блеснув лупой, ломбардщик взялся за изумрудную застежку. Я потянула ожерелье к себе. Следующие полчаса мы хмуро препирались, хозяин не уступал, и я начала терять терпение.
– Хорошо, я пойду в другое место, – наконец рявкнула я, но ломбардщик только ухмыльнулся:
– Без документа больше вам никто не даст. Вот будь с вами ваш отец или муж – любой, кто подтвердил бы ваше право на заклад вещицы…
Опять двадцать пять. Нас с отцом разделяла Атлантика, но он все равно держал меня на поводке. Скрывая злость, я отвернулась к окну и неожиданно увидела светловолосую голову Розы, мелькнувшую в толпе прохожих. Через секунду я поняла, что это просто какая-то школьница. Ох, Рози, – печально думала я, провожая девочку взглядом, – ты бросила родных и уехала в Лимож. Как тебе это удалось? Похоже, девушкам вообще все запрещено. Тратить свои деньги, продавать свои вещи и распоряжаться собственной жизнью.
Я собралась с силами для продолжения безнадежного препирательства, но тут вдруг входная дверь распахнулась и женский голос пропел:
– Шарлотта, голубушка, я же просила меня подождать. Ведь знаешь, что мое старое больное сердце не выдержит расставания с п-побрякушками. Я надеялась, ты меня пощадишь.
Я уставилась на Эву Гардинер, лучившуюся улыбкой, словно я была светом ее очей. Она так и осталась в мятом заношенном платье, однако надела чулки и приличные туфли-лодочки, изуродованные руки спрятала в заштопанные лайковые перчатки, а нечесаные волосы укрыла под огромной, некогда модной шляпой с половинкой птичьего пера. К моему несказанному удивлению, выглядела она как леди. Пусть эксцентричная, но леди.
Финн скромно встал в дверях и, скрестив руки на груди, послал мне чуть заметную улыбку.
– Так жалко с ним расставаться, – вздохнула Эва и, погладив мое ожерелье, точно собаку, сдержано улыбнулась ломбардщику: – Знаете, этот тихоокеанский жемчуг мне преподнес мой д-д-дорогой покойный супруг. – Платком она промокнула глаза, и у меня едва не отвисла челюсть. – А изумруд индийский, из Канпура! Эта семейная реликвия досталась мне от любимого дедушки, служившего к-королеве Виктории. Уж он задал жару сипаям, и поделом им, этим черномазым бестиям. – Тон ее стал изысканно аристократическим: – Ну же, сэр, вновь направьте ваш окуляр на эту прелесть, и, я уверена, вы отринете всякие нелепые измышления о стеклянной подделке. Назовите подлинную цену, милейший.
Надменный взгляд, тщательно заштопанные перчатки, покачивающийся огрызок пера – облик английской леди, переживающей трудные времена и вынужденной заложить свои драгоценности.
– Нет ли, мадам, какой-нибудь квитанции, подтверждающей…
– Да-да, она у меня здесь. – Стеклянная витрина задребезжала, когда Эва шваркнула на нее громадную дамскую сумку. – Вот… нет, не то. Подай очки, Шарлотта…
– Они в твоей сумке, бабушка, – подыграла я, немного оправившись от изумления.
– По-моему, они у тебя. Проверь свою сумочку. Нет, постой. Вот она, квитанция. Нет, это чек за китайскую шаль… Где-то она была…
Водопад бумажек затопил витрину. Точно сорока, Эва хватала каждую и, мучительно щурясь, подносила к свету, а потом вновь принималась искать несуществующие очки, демонстрируя безупречный аристократический выговор, который не посрамил бы ее и на чаепитии у королевы:
– Шарлотта, посмотри у себя, я уверена, очки в твоей сумочке…
В лавку вошли другие посетители. Эва и ухом не повела.
– Мадам… – кашлянул ломбардщик.
– Не поторапливайте меня, милостивый государь, – рявкнула Эва, точно вдовица из романа Джейн Остин. – Это не то… да где же она… – Перо на ее шляпе опасно качнулось, выпустив дождь пушинок и вонь нафталина. Ломбардщик попытался отойти к новым клиентам, но Эва забарабанила по витрине:
– Не покидайте меня, любезный, мы еще не закончили. Шарлотта, милая, прочти-ка это, а то мои старые глаза…
Новые клиенты подождали, затем вышли из лавки. Все это смахивало на сцену из фильма, в котором мне доверили эпизодическую роль.
– Бог с ней, с этой квитанцией. – Ломбардщик нетерпеливо сморщился. – Я все-таки джентльмен, и уж истинной леди поверю на слово.
– Чудесно, – сказала Эва. – Хотелось бы услышать вашу цену.
Возник недолгий торг, но я знала, кто в нем победит. Через минуту посрамленный ростовщик отсчитал изрядную стопку хрустящих банкнот, и ожерелье мое исчезло под прилавком. Финн распахнул входную дверь.
– Прошу вас, миледи. – Он был абсолютно серьезен, только в глазах его прыгали смешинки.
Покачивая эгреткой, Эва выплыла из лавки, точно престарелая герцогиня.
– А чё, мне понравилось, – на улице сказала она, мгновенно утратив аристократический изыск речи.
Сейчас она совершенно не походила на вчерашнюю пьяницу, хлеставшую виски из чайной чашки и размахивавшую «люгером». Мало того, в ней было не узнать и утреннюю похмельную каргу. Она выглядела абсолютно трезвой и бодрой, а в серых глазах ее плескалось безудержное веселье, словно вместе с обликом обедневшей аристократки она еще сбросила с костлявых плеч и возраст, точно ненужную шаль.
– Как вы это делаете? – спросила я, все еще сжимая в кулаке пачку банкнот.
Эва стянула перчатку, обнажив свои чудовищные пальцы, и полезла в сумку за сигаретами.
– Люди глупы. Сунь им под нос любую бумажку, п-попотчуй более или менее достоверной байкой, держись уверенно – и своего добьешься. – Она как будто кого-то цитировала.
– Всегда? – усомнилась я.
– Нет. – Веселые искры в ее глазах погасли. – Не всегда. Но тут и риска-то особ-бого не было. Этот напыщенный хрыч смекнул свою в-выгоду. Я только заставила его поскорее вытурить меня из лавки.
Удивительно, ее заикание то появлялось, то исчезало. На представлении в ломбарде она говорила без малейшей запинки. Однако зачем она вообще устроила этот спектакль? Я проследила, как Эва сует сигарету в рот, а Финн подносит ей спичку, и потом сказала:
– Я вам не нравлюсь.
– Не нравишься. – Взгляд ее из-под нависших век вновь уподобился взгляду хищной птицы, высунувшейся из гнезда. В нем была насмешка, но ни капли теплоты и приязни.
Ну и ладно. Пусть я ей не нравлюсь, но говорила она со мной как с ровней, а не как с ребенком или шлюхой.
– Почему вы пришли мне на помощь? – Я решила не уступать ей в прямоте. – Зачем вам это?
– А мой гонорар? – Глянув на деньги в моем кулаке, она назвала сумму, от которой у меня перехватило дыхание. – Я могу с-с-свести тебя с тем, кто, наверное, кое-что з-з-знает о твоей кузине, но услуга моя не бесплатна.
Я сощурилась, чувствуя себя весьма неуютно между дылдой-шотландцем и здоровенной англичанкой.
– Вы не получите ни пенса, пока не скажете, кому звонили утром.
– Одному английскому офицеру, ныне обитающему в Бордо, – не замешкавшись, ответила Эва. – Мы с ним знакомы тридцать лет, однако сейчас он в отпуске. Тогда я позвонила еще одной старой знакомой, обладающей кое-какими сведениями. После вопроса о ресторане «Лета» и его владельце она бросила трубку. – Эва фыркнула. – Эта сука что-то знает. При личной в-встрече я, конечно, из нее вытрясу все, что мне надо. А если нет, наверняка узнаю от английского офицера, когда он вернется с утиной охоты. Ну что, стоит оно пары фунтов?
Запросила-то она гораздо больше, но я смолчала и задала новый вопрос:
– Почему вы заинтересовались, когда я упомянула мсье Рене? Ведь даже фамилия его не известна. Или вас зацепило название ресторана?
– Иди-ка ты на хер, америкашка, – ласково сказала Эва, улыбаясь сквозь клуб дыма.
Причем даже не заикнулась. От женщины такого я никогда не слыхала. Финн невозмутимо смотрел на небо.
– Ладно. – Я отсчитала купюры и передала их Эве.
– Здесь только половина.
– Остальное получите, когда мы поговорим с вашими знакомцами, – так же ласково сказала я. – А то еще запьете, и я останусь на бобах.
– Не исключено, – согласилась Эва.
Однако я видела – тут дело не только в деньгах. Но в чем?
– И где искать эту вашу старую знакомую? – спросила я, когда мы втроем втиснулись в кабриолет: Финн сел за руль, Эва устроилась посередке и небрежно закинула руку ему на плечо, а я прижалась к дверце, укладывая остаток денег в портмоне. – Куда мы едем?
– В Фолкстон. – Эва хотела загасить сигарету о приборную доску, но Финн перехватил ее руку и, сердито зыркнув, выбросил окурок в окно. – Оттуда – во Францию.
Глава четвертая
Эва
Май 1915
Франция. Вот где она станет шпионить. Шпионка. Эва мысленно пробовала слово, точно малыш, языком трогающий дырку от выпавшего зуба. От волнения и восторга сводило живот. Я буду шпионкой во Франции.
Но сперва – Фолкстон.
– Неужели вы думали, что я выдерну вас из вашей конторы и прямиком заброшу на вражескую территорию? – сказал капитан Кэмерон, в вагоне укладывая саквояж Эвы на багажную полку.
Это происходило назавтра после того, как за чаепитием в пансионе он завербовал новую разведчицу. Эва, забыв о приличиях, в чем была ушла бы с ним тем же вечером, но капитан заявил, что все должно быть чин чином, а посему явился на следующий день и под ручку доставил ее на вокзал, словно они собрались в отпуск. Провожал Эву только полосатый кот; она чмокнула его в нос и шепнула: «Наведывайся к миссис Фиц, моей соседке. Она обещала тебя подкармливать, пока меня нет».
– Если кто спросит, я – ваш дядюшка, везу любимую племянницу погреться на солнышке в Фолкстоне, – сказал капитан Кэмерон, когда они устроились в пустом купе.
Он плотно притворил двери, предварительно удостоверившись, что в коридоре никто не подслушивает.
Эва окинула скептическим взглядом его худое лицо и мятый костюм.
– Не слишком ли вы молоды для моего дядюшки?
– Вам двадцать два, а по виду шестнадцать; мне тридцать два, но выгляжу я на сорок пять. Я – ваш дядя Эдвард. Это наша легенда, сейчас и в будущем.
Эва уже знала его настоящее имя – Сесил Эйлмер Кэмерон. После того как она приняла его предложение, капитан скрупулезно ознакомил ее со своей официальной биографией: частные школы, Королевская военная академия, служба в Эдинбурге, одарившая шотландским налетом его чистый английский выговор. Личные сведения он сообщит только при необходимости вроде нынешней. И вот первая информация – агентурная кличка «дядя Эдвард». У Эвы опять затрепетало в животе.
– А какая будет моя кличка? – спросила она. В книгах Киплинга, Молли Чайлдерс, Конан Дойла и даже в пустышке вроде «Алого первоцвета» Эммы Орци все шпионы имели клички.
– Узнаете позже.
– Куда я от-п-п-правлюсь во Франции? – Эва уже не смущалась своего заикания.
– Потерпите. Сперва обучение. – Кэмерон улыбнулся, от глаз его побежали морщинки. – Спокойнее, мисс Гардинер. Ваша взбудораженность слишком заметна.
Эва придала лицу невинность фарфоровой статуэтки.
– Уже лучше.
Фолкстон. До войны – сонный прибрежный городок. Ныне – оживленный порт, куда ежедневно прибывали набитые беженцами паромы, где французский и фламандский услышишь чаще английского. Кэмерон надолго смолк и вновь негромко заговорил, уже шагая по дощатому тротуару:
– Фолкстон – первая остановка на пути из голландского Флиссингена. – Он позаботился, чтобы его не слышали прохожие. – Я контролирую собеседования с беженцами перед допуском их на британскую территорию.
– Выискиваете таких, как я?
– А еще тех, кто служит на стороне противника.
– И м-много нашли?
– По полдюжины тех и других.
– А женщины есть? – полюбопытствовала Эва. – Среди… новобранцев. – Как их назвать-то? Шпионы-стажеры? Шпионы-ученики? Нет, как-то глупо. В голове не укладывалось, что все это происходит с ней. – Вот уж не думала, что женщины подходят на этакую роль, – призналась она.
Капитан Кэмерон (дядя Эдвард) каким-то хитрым способом выуживает правду, – подумала Эва. – Наверное, большой спец в допросах. Вытягивает информацию нежно, и объект даже не замечает, как она слетает с его уст.
– Напротив, я люблю вербовать женщин, – сказал капитан. – Часто они умеют быть неприметными там, где мужчину непременно заподозрят и остановят. В начале года я завербовал одну француженку… – Кэмерон вдруг улыбнулся, как от чрезвычайно приятного воспоминания. – Без видимых усилий она создала сеть, покрывающую сотни миль. Ее донесения об артиллерийских позициях приходят вовремя и столь точны, что уже через день-другой вражеские орудия уничтожены. Отменная работа. Она лучшая среди агентов обоего пола.
В Эве шевельнулся ревнивый задор: лучшей буду я.
Кэмерон нанял извозчика:
– Морской бульвар, дом восемь.
Небольшое ветхое строение не сильно отличалось от Эвиного пансиона. Видимо, в глазах любопытных соседей оно и должно было выглядеть пансионом. Однако, ступив на истертый ковер гостиной, Эва увидела не пожилую горничную с поджатыми губами, облаченную в накрахмаленный фартук, но рослого майора в военной форме.
Покручивая навощенные кончики впечатляющих усов, он оглядел Эву с головы до ног и неодобрительно бросил:
– Слишком молода.
– Дайте ей шанс, – мягко сказал капитан Кэмерон. – Мисс Гардинер, познакомьтесь с майором Джорджем Аллентоном. Передаю вас в его руки.
Проводив взглядом капитана, на секунду Эва испугалась, но тотчас приструнила себя: бояться нельзя. Иначе опозоришься.
Вид майора не выражал оптимизма. Аллентон явно не разделял вкусов капитана, предпочитавшего новобранцев женского пола.
– Первая по коридору комната на третьем этаже – ваша. Через пятнадцать минут быть здесь.
Вот так вот просто открылся тайный мир.
Учебный курс был рассчитан на две недели. Занятия проходили в душных классах с низкими потолками и задраенными окнами, не впускавшими майское тепло. Курсанты, ничуть не похожие на шпионов, перенимали удивительные зловещие знания от наставников, ничуть не похожих на военных.
Вопреки вербовочным предпочтениям капитана Кэмерона, Эва оказалась единственной женщиной на курсе. Инструкторы относились к ней свысока и всегда вызывали отвечать последней, но она не роптала, ибо получала возможность оценить своих однокашников. Их было четверо, абсолютно разных. Именно это больше всего удивляло. На агитационных плакатах, призывавших в действующую армию, красовались крепкие, ладные пехотинцы, одинаково безликие. Это был идеал солдата: строй, батальон или полк крепких, абсолютно идентичных мужчин. А вот плакаты, приглашающие в разведку, поняла Эва, изображали бы совершенно разных людей, ничуть не похожих на шпионов.
Однокурсниками ее были дюжий бельгиец в седоватой бороде, два француза (один с лионским выговором, другой хромой) и худенький англичанин, пылавший нескрываемой ненавистью к гансам. Толку из него не выйдет, – рассудила Эва, – никакого самоконтроля. Не обнадеживал и хромой француз, при малейшей неудаче бешено сжимавший кулаки. А наука в том и состояла, чтоб с безграничным терпением освоить канительную работу с отмычками и шифрами. И еще обучиться тому, как изготовить невидимые чернила и прочесть ими написанное сообщение. Как рисовать карты, как прятать донесения – список был бесконечен. Бельгиец шепотом матерился, пытаясь пальцами-сардельками записать шифровку на клочке рисовой бумаги. А вот Эва быстро справилась с крохотными буковками, каждая не больше запятой, оттиснутой пишущей машинкой. Инструктор, сухопарый кокни, до этого ее почти не замечавший, усмехнулся и стал к ней внимательнее.
Можно ли всего за две недели стать другим человеком? – думала Эва. – Или вовсе не другим, а просто самим собой? Ее как будто опаляли на огне, слой за слоем отшелушивая все наносное, весь ненужный балласт, тянувший к земле. По утрам она, отбросив одеяло, вскакивала с постели, полная неуемной жажды к тому, что готовил новый день. И потом старательно выводила буковки на бумажных клочках, сноровисто ковыряла отмычкой в замке; когда впервые тот открылся, она испытала наслаждение несравнимо сильнее, чем от поцелуя с мужчиной.
Я создана для этой работы, – думала Эва. – Это мое.
Капитан Кэмерон навестил ее в конце первой недели.
– Как тут наша курсантка? – спросил он, без стука войдя в душную комнату, приспособленную под учебный класс.
– Очень хорошо, дядя Эдвард, – с наигранной скромностью сказала Эва.
Глаза капитана смеялись.
– Что отрабатываете?
– Сокрытие посланий. (Как вспороть манжетный шов, спрятать в нем скатанное в трубочку донесение, а потом мгновенно его достать. Тут требовались быстрота и ловкость рук, но Эве их было не занимать.)
Капитан присел на край стола. Эва впервые видела его в военной форме, которая ему очень шла.
– Где еще можно спрятать послание?
– Манжеты, подол, пальцы перчаток, – отчеканила Эва. – Разумеется, в прическе. Под обручальным кольцом, в каблуке ботинка…
– О последнем варианте лучше забыть. Говорят, фрицы разгадали трюк с каблуком.
Эва кивнула – мол, каблук отправляем в архив – и ловко сунула бумажную скатку под рубчик носового платка.
– Ваши однокурсники на стрельбище, – сказал капитан. – А почему вы здесь?
– Майор Аллентон счел это излишним для меня.
Не представляю женщину с пистолетом, – сказал он. Посему Эва осталась в классе, а однокашники ее, вооруженные револьверами «уэбли», побрели на стрельбище. Теперь их было трое – худенького англичанина отчислили, и он уехал, утирая слезы и сыпля проклятиями. Хочешь воевать – запишись в пехотинцы, – мысленно посочувствовала ему Эва.
– Я полагаю, вы должны научиться стрелять, мисс Гардинер.
– Вопреки распоряжению майора? – С первого дня Эва поняла, что Кэмерон и Аллентон друг друга недолюбливают.
– Идемте, – коротко ответил капитан.
Он повел ее не на стрельбище, а к песчаной косе вдали от суетного порта. При каждом шаге в вещмешке его что-то звякало. Ноги Эвы вязли в песке, ветер трепал ее тщательно уложенные волосы, но она не отставала. День выдался жаркий, хотелось скинуть жакет, однако уединенность с мужчиной, который вовсе не был ей дядей, уже выходила за рамки приличий. Мисс Грегсон и все конторские девушки единодушно меня осудили бы, – подумала Эва, но потом отогнала эту мысль, сняла жакет и осталась в блузке, решив, что если слишком уж заботиться о пристойности, мало чего добьешься на шпионском поприще.
На прибитой к берегу коряге капитан выстроил пустые бутылки, которые достал из вещмешка.
– Сгодится. Отсчитайте десять шагов.
– Может, больше? – Эва бросила жакет на поросший осокой пятачок.
– В реальной обстановке живая мишень вряд ли будет дальше. – Кэмерон сам отмерил дистанцию и достал пистолет из кобуры. – Это девятимиллиметровый «люгер P08»…
– Немецкое оружие? – скривилась Эва.
– Не воротите нос, мисс Гардинер, у этого пистолета отменная точность боя, он гораздо надежнее английских аналогов. У нас на вооружении «уэбли Mk IV», из него сейчас палят ваши одноклассники. Но это абсолютно без толку – чтобы освоить револьвер «уэбли», у которого при стрельбе уводит ствол, нужны недели тренировок. А вот из «люгера» вы научитесь поражать мишень уже через пару часов.
Капитан проворно разобрал пистолет и, ознакомив с названиями его частей, приказал Эве разбирать и собирать оружие, пока движения ее не приобретут автоматизм. Через некоторое время Эва, разобравшись что к чему, быстро и ловко справилась с заданием, и тогда ее переполнил тот всеохватный восторг, всегда затоплявший при удаче в чтении карты или дешифровке сообщения. Хочу уметь больше, – думала она. – Научите меня.
Затем Кэмерон приказал раз за разом снаряжать и разряжать обойму. Он как будто ждал, что ученица попросит закончить с упражнениями и приступить к стрельбе. Проверяет мое терпение. Заправив выбившуюся прядь за ухо, Эва беспрекословно выполнила задание. Да хоть целый день так, капитан.
– Вот цель. – Кэмерон показал на крайнюю в ряду бутылку. – У вас семь патронов. Мушка под обрез мишени. Этот пистолет не прыгает, как «уэбли», но отдача все же есть.
Он поправил Эве стойку, коснувшись ее плеча, подбородка и кисти, но в том не было никаких поползновений. Вспомнилось, как на утиной охоте в Нанси французские парни говорили: «Ты неправильно целишься, давай покажу» – и начинали ее лапать.
Капитан кивнул и на шаг отступил. Резкий соленый ветерок ерошил его короткие волосы и свинцово-серую гладь Ла-Манша за его спиной.
– Огонь!
Семь выстрелов, на пустом берегу отозвавшихся гулким эхом. Все мимо. Остро кольнуло огорчение, но Эва предпочла его не выказывать. Просто вновь снарядила обойму.
– Зачем вам это, мисс Гардинер? – Кивком капитан дал разрешение открыть огонь.
– Хочу исполнить свой долг, – ответила Эва, не заикаясь. – Что тут странного? Когда прошлым летом началась война, всякий молодой англичанин горел желанием вступить в бой и как-нибудь проявить себя. Но его никто не спрашивал – зачем.
Эва вскинула «люгер» и сделала семь выстрелов, перемежая их паузами. На сей раз у бутылки отлетело горлышко, но сама она устояла. Вновь укол огорчения. Когда-нибудь я стану лучшей, – поклялась себе Эва. – Превзойду даже эту хваленую шпионку в Лилле, кем бы она ни была.
– Вы ненавидите немцев? – спросил Кэмерон.
– Я выросла в Нанси, откуда до германской границы недалеко. – Эва снаряжала обойму. – Тогда ненависти к немцам не было. Но потом они захватили Францию, разорвали ее в клочья и все себе заг-г-грабастали. – Она вставила последний патрон. – По какому праву?
– Без всякого права. – Кэмерон ее разглядывал. – Но мне кажется, в вас говорит не столько патриотизм, сколько желание самоутвердиться.
– Верно, – охотно призналась Эва.
Этого она хотела больше всего. Просто до одури.
– Чуть-чуть расслабьте кисть. Собачку следует нажимать плавно, а вы ее дергаете, и ствол заваливается вправо.
Второй выстрел разнес бутылку вдребезги. Эва ухмыльнулась.
– Не считайте это игрой. – Капитан смотрел строго. – Я повидал немало парней, воспылавших желанием отделать немецких свиней. Для рядового солдата это еще ничего, неделя в окопах лишит его иллюзий, пострадает только его наивность. Но разведчику нельзя пылать. Кто считает это игрой, погибает сам и губит своих товарищей. Что бы там ни говорили о тупых бошах, немцы умны и беспощадны. Как только вы ступите на французскую землю, вас твердо вознамерятся поймать. Возможно, женщину не поставят к стенке, как девятнадцатилетнего юношу, которого в прошлом месяце я направил в Рубе. Но вас кинут гнить в немецкой тюрьме, где среди крыс вы умрете медленной голодной смертью, и никто, даже я, вам не поможет. Вы меня понимаете, Эвелин Гардинер?
Очередная проверка, – подумала Эва, чувствуя, как колотится сердце. – Провалишь ее, и не видать тебе Франции. Валяй обратно в пансион и контору. Ну уж нет.
Но какой ответ правильный?
Капитан Кэмерон ждал, не сводя с нее глаз.
– Для меня это вовсе не игра, – наконец проговорила она. – Игры меня не занимают. Они для малышей, а я не ребенок, хоть и выгляжу на шестнадцать. – Эва вновь занялась обоймой. – Не могу обещать, что избегу провала, но если это случится, то вовсе не потому, что я считаю свою работу забавой.
Она взглянула на капитана в упор, сердце ее все никак не успокаивалось. Ну что, ответ правильный? Бог его знает, но другого у нее нет.
– Вы отправитесь в оккупированный немцами Лилль, – после долгого молчания сказал капитан, и от облегчения у Эвы едва не подкосились ноги. – Но сначала поедете в Гавр, где встретитесь со связным. Ваш псевдоним – Маргарита Ле Франсуа. Приучитесь на него откликаться, как на собственное имя.
Маргарита Ле Франсуа. В переводе на английский – «французская маргаритка». Эва улыбнулась. Идеальное имя для простушки, которую никто не принимает всерьез. Безвредный милый цветочек, укрывшийся в траве.
– Я решил, вам подойдет это имя. – Капитан тоже улыбнулся и показал на ряд оставшихся бутылок. Эва подметила обручальное кольцо на его левой руке. – Продолжайте.
– Конечно, дядя Эдвард, – сказала Эва по-французски.
К концу дня все бутылки были расстреляны. Через пару тренировок под руководством капитана Эва сбивала семь бутылок семью выстрелами.
– Этот Кэмерон уделяет вам кучу времени, – сказал майор Аллентон, когда после очередной стрельбы Эва вернулась в класс. С их первой встречи он ее как будто не замечал, но сейчас смотрел испытующе. – Вы поосторожнее, дорогуша.
– Не понимаю, о чем вы. – Эва села за стол, готовясь к занятию по дешифровке сообщений. – Капитан – истинный джентльмен.
– Возможно, не такой уж истинный. Он был замешан в одном грязном деле, из-за чего три года провел в тюрьме.
Эва чуть не свалилась со стула. Кэмерон, с его безупречно культурной речью, слегка окрашенной шотландским выговором, с его мягким взглядом и грациозной пластикой рослого человека, сидел в тюрьме?
Майор подкручивал навощенные усы, явно ожидая, что Эва начнет выспрашивать пикантные подробности. Но та молчала и лишь оглаживала юбку.
– Мошенничество, раз уж вам так интересно, – наконец сказал Аллентон, наслаждаясь возможностью позлословить о подчиненном. – Жена его заявила о краже жемчужного ожерелья и хотела получить страховку, то бишь провернуть аферу. Кэмерон взял вину на себя, но кто знает, как там все было на самом деле? – Похоже, растерянность Эвы доставляла майору несказанное удовольствие. – Я полагаю, он умолчал о тюремном сроке? – Аллентон подмигнул. – И о жене тоже?
– Ни то ни другое меня не касается, – холодно сказала Эва. – Но поскольку ему вновь доверили ответственную должность в армии Его величества, я не вп-праве с-сомневаться в полномочиях капитана.
– Я бы не говорил о доверии, дорогуша. На войне не привередничаешь – когда нехватка рук, в ход идут даже замаранные. Пусть Кэмерона простили и реабилитировали, но я бы не советовал своей курсантке разгуливать с ним по пустынному берегу. Раз уж человек побывал за решеткой…
Эва вспомнила длинные пальцы Кэмерона, снаряжавшие обойму. Невозможно представить, что это – руки вора.
– У в-вас все, сэр?
Конечно, ужасно хотелось знать больше, но она скорее умрет, чем задаст хоть один вопрос этому злорадному хмырю с нелепыми моржовыми усами. Явно раздосадованный, майор ушел.
Весь следующий день Эва исподтишка наблюдала за Кэмероном, но ни о чем его не спрашивала. В Фолкстоне у всех свои секреты.
Обучение закончилось. К тщательно собранным вещам в саквояже Эвы капитан добавил «люгер», свой прощальный подарок.
– Утром вы отбываете во Францию, – сказал он.
Часть вторая
Глава пятая
Чарли
Май 1947
Не знаю, сколько длился переезд через Ла-Манш. Когда блюешь, время тянется бесконечно.
– Не закрывайте глаза. – За моей спиной послышался шотландский выговор Финна Килгора. Я стояла на палубе, мертвой хваткой вцепившись в леер. – Мутит еще сильнее, если не видишь, с какой стороны набегают волны.
Я зажмурилась крепче.
– Не произносите это слово.
– Какое?
– Волны.
– Просто смотрите на горизонт…
– Слишком поздно, – простонала я, перегибаясь через леер.
В желудке уже ничего не осталось, но все равно он вывернулся наизнанку. Краем глаза я видела, как два француза в щегольских костюмах гадливо сморщились и отошли подальше. Порыв ветра сорвал мою зеленую шляпу с дурацкой вуалеткой, Финн попытался ее поймать, но она улетела за борт.
– Пускай… – выдохнула я, сдерживая рвотные позывы. – Терпеть ее не могла…
Килгор усмехнулся и отвел с моего лица разметавшиеся пряди, когда я вновь перегнулась через леер. Сначала я жутко конфузилась извергаться при нем, но теперь стесняться уже не осталось сил.
– Для американки у вас слишком нежный желудок, – заметил Финн. – Я-то думал, хот-доги и черный кофе закаляют американцев.
Я распрямилась. Полагаю, выглядела я как просроченный зеленый горошек в банке.
– Пожалуйста, не поминайте хот-доги.
– Как вам угодно. – Финн выпустил мои пряди.
Эва сочла мою хворь невероятно забавной, и я, боясь ее убить, ушла на корму. Потом ко мне присоединился Килгор. Видимо, ему надоели ее брань и табачный дым, хотя вряд ли это было противнее моей бесконечной рвоты.
Опершись локтями о леер, он разглядывал приземистую палубную надстройку.
– Мисс, куда мы направимся по прибытии в Гавр?
– Эва сказала, ее знакомая обитает в Рубе. Наверное, перед Лиможем туда и заглянем. Хотя мне кажется… – Я осеклась.
– Кажется – что?
– Может, сначала в Руан?
Я себя одернула, ибо получился вопрос. Однако мне не требовалось ничье разрешение, поскольку это был мой поход. Пожалуй, слово «поход» слишком выспренное, но как еще выразиться – моя миссия? Одержимость? В любом случае, все осуществлялось на мои деньги, так что главной была я. Похоже, Эва и Финн приняли это как должное, что мне весьма нравилось, ибо последнее время я себя ощущала говешкой в проруби.
– Поедем в Руан, – твердо сказала я. – После войны там обосновалась моя тетушка. Розина мать. В письмах она не особо откровенничала, но, конечно, поговорит со мной, если я объявлюсь на ее пороге.
Вспомнилась теткина сумка, битком набитая пилюлями от всевозможных смертельных болезней. Нет уж, я схвачу тетку за тощие плечи и буду трясти, пока она не отхаркнет ответы на мучившие меня вопросы. Почему в сорок третьем Роза ушла из дома? Что случилось с твоей дочерью?
И тут вдруг я увидела восьмилетнюю Розу – конопатая худышка скакала по палубе вдоль леерного ограждения. Девчушка мне улыбнулась, и я поняла, что это вовсе не Роза. Она даже не светленькая, а шатенка. Потом малышка побежала к матери на носу парома, а воображение все убеждало меня, что я вижу Розины белобрысые косички, подпрыгивающие на худенькой спине.
– В Руан, – повторила я. – Переночуем в Гавре, а утром двинемся в путь. Хотя могли быть там уже сегодня вечером, если б поехали поездом…
Эва наотрез отказалась передвигаться на чем-нибудь, кроме машины, и мне пришлось выложить кругленькую сумму за портовый кран, погрузивший «лагонду» на паром. Мы выглядели британскими аристократами, собравшимися на автомобильную прогулку по континенту, где будут пикники с шампанским. На деньги за перевозку машины (из-за которой пришлось сесть на медленный паром до Гавра, а не быстрый до Булони) я бы смогла переправить шесть человек во Францию и обратно.
– Неужели эта карга не могла встряхнуться и вытерпеть поезд? – проворчала я.
– Вот уж чего не знаю, – ответил Финн.
Я посмотрела на свою непредсказуемую союзницу на другом конце палубы. Всю дорогу она молчала либо ругалась, а в Фолкстоне отказалась выходить из машины, и мы вдвоем с Финном отправились за билетами на паром. Вернувшись, мы обнаружили, что Эва исчезла, и потом, поколесив по улицам, нашли ее на Морском бульваре, где она хмуро разглядывала ветхое здание под номером восемь.
– Все думаю, что стало с тем худеньким англичанином, которого отчислили с курсов, – ни к селу ни к городу проговорила Эва. – Попал в окопы, где его разорвало на куски? Повезло дураку.
– С каких еще курсов? – спросила я раздраженно, но она только хрипло рассмеялась:
– На паром-то не опоздаем?
А вот теперь она, простоволосая, в потрепанном пальто, сидела в углу, одну за другой смоля сигареты, и почему-то выглядела очень уязвимой.
– Мой брат тоже всегда садился в угол, – сказала я. – По крайней мере, после возвращения с фронта. Однажды, пьяный, он сказал, что теперь ему беспокойно, если он не видит все возможные линии огня. – К горлу подступил комок, когда я вспомнила широкоскулое лицо брата, некогда красивое, а позже отечное от пьянства, с застывшей улыбкой и пустыми глазами.
– Это характерно для многих фронтовиков, – безучастно сказал Финн.
– Знаю. – Я сглотнула комок в горле. – Подмечала это не только за братом, но и за солдатами, приходившими в кофейню, где я работала. – Я поймала удивленный взгляд Финна. – Что, думали, богатенькая американка в жизни не ударила палец о палец?
Ясное дело, именно так он и думал.
– Отец считал, что его дети должны знать цену деньгам. С четырнадцати лет я работала в его конторе. – В юридической фирме, специализировавшейся по международному праву, телефонные разговоры на французском и немецком велись не реже, чем на английском. Сначала я поливала цветы и варила кофе, но вскоре уже разбирала бумаги, сортировала отцовские записи и даже вела бухгалтерию, когда выяснилось, что я это делаю быстрее и аккуратнее его секретарши. – А потом поступила в Беннингтон, где не было матери с ее запретами, – улыбаясь, продолжила я, – и устроилась на работу в кофейню. Там-то я и встречала солдат.
Финн как будто удивился:
– Зачем работать, если в том нет нужды?
– Мне нравится быть полезной. И не слыть белоручкой-неженкой. А в кафе видишь разных людей и сочиняешь им истории. Вон тот – немецкий шпион, а вон та – актриса, готовится к прослушиванию на Бродвее. Кроме того, я дружу с числами – в уме подсчитаю сдачу, могу работать за кассой. В колледже математика – мой главный предмет.
Мать нахмурилась, узнав, что буду изучать алгебру и дифференциальное исчисление: «Я знаю, тебе это по душе, ma chere, – не представляю, как я разберусь со своей чековой книжкой, когда ты уедешь в Вермонт! – только не вздумай щеголять математическими способностями на свиданиях. А то еще начнешь наперегонки с официантом складывать в уме все цены в меню. Парни этого не любят».
Наверное, оттого-то по прибытии в Беннингтон я тотчас устроилась на работу в кофейню. Мой маленький бунт против наставлений, которыми всю жизнь меня потчевали: что пристойно, что уместно, что нравится парням. Мать отправила меня в колледж за мужем, но я хотела чего-то другого. Пойти не избранным для меня путем, а другим – путешествовать, работать и всякое такое. Я сама еще не до конца разобралась в своих желаниях, но тут случилась Маленькая Неурядица, напрочь разрушившая все планы матери и мои собственные.
– Подсчитывать сдачу за чашку кофе – милый способ пережить войну, – криво усмехнулся Финн.
– Не моя вина, что по возрасту я не могла стать сестрой милосердия. – Живот еще крутило, но разговор помогал отвлечься, и я, помешкав, задала вопрос: – А какой была ваша война?
У всех она была разной. Для меня война состояла из домашних заданий по алгебре, случайных свиданий и ежедневного ожидания писем от Розы и Джеймса. Для моих родителей это «Сады Победы» и сбор металлолома, а для матери еще и расстройство, что шелковых чулок не достать, а потому приходится рисовать стрелки на голых ногах. Для моего несчастного брата… Он не рассказал о своей войне, заставившей его сунуть ствол дробовика в рот.
– Какой была ваша война? – повторила я, отгоняя образ Джеймса, чтоб не перехватило горло. – Вы сказали, что служили в противотанковом полку.
– Меня даже не ранило. Прекрасно провел время, лучше не бывает.
Финн явно насмешничал, однако я не приняла это на свой счет. Хотелось его расспросить, но лицо его стало замкнутым, и я не решилась наседать. Ведь мы едва знакомы с этим работником за всё, верзилой шотландцем, приготовившим завтрак. Я не понимала, нравлюсь я ему или он просто соблюдает вежливость.
А я хотела ему понравиться. Не только ему, но и Эве, хоть она меня ставила в тупик и раздражала. В их обществе я все начинала с чистого листа. Для них я была Чарли Сент-Клэр, сколотившей невиданную поисковую партию, а не законченной распутницей, покрывшей себя несмываемым позором.
Потом Финн ушел, и у меня опять скрутило живот. Весь остаток пути я пялилась на горизонт, через силу сглатывая. Когда раздался возглас «Гавр!», я, волоча свой маленький баул, первой подбежала к сходням и была так рада вновь очутиться на твердой земле, что едва не расцеловала причал. Немного придя в себя, я огляделась.
В Гавре следы войны были заметнее, чем в Лондоне. Порт разбомбили начисто – его накрыло шквалом огня и железа, сообщали газеты. Повсюду руины, многие здания разрушены до основания. Но самое главное, вокруг царила атмосфера уныния и усталости. Вот лондонцы, я заметила, держались с этаким мрачным юмором, вид их говорил: «Что ж, нет сливок к завтраку, зато нас никто не оккупировал, верно?»
А Франция, несмотря на победную эйфорию (те же газеты писали о ликующих толпах и триумфальном шествии генерала де Голля по парижским бульварам), выглядела изможденной.
Вскоре ко мне присоединились Эва и Финн, и я, отбросив внезапную меланхолию, пересчитала франки, которые обменяла в Фолкстоне («Милочка, а ваш отец знает, что вы меняете такую большую сумму?»). Доставив Эву и ее обшарпанный чемодан, Финн побежал проследить, чтоб при разгрузке не помяли его драгоценную «лагонду». Я вторично пересчитала франки, борясь с непрошеной волной усталости.
– Нужно найти отель, – рассеянно сказала я. – Не знаете, какой тут подешевле?
– В приморском городе дешевки хватает. – Эва смотрела насмешливо. – Поселишься с Финном? Два номера – дешевле, чем три.
– Нет, спасибо, – холодно ответила я.
– Какие вы, американки, скромницы! – усмехнулась Эва.
Мы замолчали. Наконец из-за угла показалась синяя «лагонда».
– Интересно, как он заполучил такую машину? – сказала я, вспомнив заношенную рубашку Финна.
– Наверное, украл, – беспечно ответила Эва.
Я захлопала глазами.
– Вы шутите?
– Ничуть. Думаешь, от хорошей жизни он работает на зловредную стерву вроде меня? Просто больше никто его не возьмет. Да и я не взяла бы, если б не моя слабость к красивым мужикам с шотландским выговором и тюремным сроком.
Я чуть не грохнулась наземь.
– Что?!
– А ты еще не поняла, что ли? – Эва вскинула бровь. – Финн – бывший уголовник.
Глава шестая
Эва
Июнь 1915
В Гавре шел дождь. Маргарита Ле Франсуа, приличная девушка в перчатках и шляпке, вошла в кафе, села за угловой столик и робко заказала официанту стакан лимонада, явив выговор уроженки Северной Франции. Если б кто-нибудь заглянул в ее сумочку, он бы увидел, что все ее документы в полном порядке: семнадцати лет, родом из Рубе, служащая. Пока что Эва и сама не знала, какая она, ее Маргарита, – образ был расплывчат и еще не оброс деталями, которые придали бы ему реальность. В Фолкстоне капитан Кэмерон, он же дядя Эдвард, посадил Эву на паром и сообщил ей место назначения, перед тем снабдив ее только безукоризненным набором фальшивых документов, не новым, но вполне пристойным дорожным платьем и хорошо послужившим чемоданом, в котором лежала столь же не новая приличная одежда.
– В Гавре вы встретитесь со связным, – сказал он. – От нее узнаете все, что вам нужно для дальнейшей работы.
– Та самая звезда? – не сдержавшись, спросила Эва. – Ваш лучший агент?
– Да. – Кэмерон улыбнулся, от глаз его разбежались морщинки. Нынче военную форму он опять сменил на твидовый костюм. – Пожалуй, лучше нее вас никто не подготовит.
– Я тоже стану звездой. – Эва посмотрела ему прямо в глаза. – Вы будете мною г-гордиться.
– Я уже горжусь всеми вами, – сказал Кэмерон. – Как только новый агент получает задание, меня переполняет гордость за него. Потому что работа наша не просто опасная, но еще грязная и противная. Не очень-то приятно подслушивать под дверью и вскрывать чужую почту, хоть и вражескую. Это считается неблаговидным даже на войне. И уж тем более для дамы.
– Чушь собачья, – отрубила Эва.
Кэмерон рассмеялся:
– Не то слово. Однако работа наша не вызывает уважения даже у тех, кто пользуется нашими донесениями. За нее ни почестей, ни славы, ни наград. Только риск. – Капитан чуть поправил блеклую шляпку на тщательно причесанной голове Эвы. – Так что насчет моего уважения не беспокойтесь, мисс Гардинер.
– Мадмуазель Ле Франсуа, – уточнила Эва.
– Верно. – Кэмерон уже не улыбался. – Будьте осторожны.
– Конечно. А как зовут ту женщину? Вашу звезду, которую я собираюсь превзойти.
– Алиса. Алиса Дюбуа. Разумеется, это псевдоним. И если вам удастся ее превзойти… – Капитан хмыкнул – …война закончится уже через полгода.
Он еще долго стоял на причале и смотрел на паром, уходивший в пролив, взрыхленный барашками волн. Эва тоже не сводила глаз с фигуры в твидовом костюме, пока та не растаяла вдали. Кольнула грусть от расставания с единственным человеком, который в нее безоговорочно поверил, и всей прежней жизнью. Однако вскоре взбудораженность победила чувство одинокости. Англию покинула Эва Гардинер, а в Гавр прибыла Маргарита Ле Франсуа. И вот теперь она, потягивая лимонад, ждала встречи с таинственной Алисой, вызывавшей в ней любопытство поистине жадное.
В кафе было людно. Сновали хмурые официанты с грязными тарелками и винными бутылками в руках, на входе новые посетители стряхивали мокрые зонтики. Эва внимательно рассматривала каждую женщину, попадавшую в поле зрения. Дородная, но подвижная дама с абсолютно незапоминающимся лицом выглядела вполне способной создать шпионскую сеть… Или вон та худая молодая женщина. Свой велосипед она оставила на улице и теперь на пороге протирала очки, за которыми, наверное, скрывался ястребиный взгляд, уже пробежавший по целой уйме немецких секретных планов…
– Маргарита, дорогая моя! – вскричал женский голос, и Эва, приучившая себя откликаться на это имя, точно щенок на кличку, зашарила взглядом по залу.
На миг ей показалось, что на нее надвигается шляпа, и не какая-то обычная, а размером с тележное колесо и украшенная прозрачной розовой тканью и шелковыми розанчиками; в следующую секунду обладательница шляпы заключила ее в объятия и, утопив в аромате ландыша, звучно расцеловала в щеки.
– Вот так встреча, cherie! Как поживает дядюшка Эдуард?
Это был пароль, но Эва будто онемела. Вот эта вот – руководитель шпионской сети?
Хрупкая пигалица лет тридцати пяти едва доходила Эве до подбородка. Вдобавок к огромной розовой шляпе на ней был броский костюм ядовито-лилового цвета. Кинув пакеты с покупками на пол, она уселась за столик и принялась щебетать, перескакивая с беглого французского на столь же беглый английский, который здесь никого не удивлял благодаря солдатам и медсестрам, прибывавшим с передовой на побывку.
– Mon Dieu, ну и дождь! Моя шляпа, наверное, погибла. Может, оно и к лучшему. Я никак не могла решить: она бесповоротно ужасна или бесповоротно прекрасна? И тогда ничего другого не осталось, как ее купить. – Пигалица выдернула перламутровые заколки и бросила шляпу на свободный стул, показав светлые волосы в прическе «помпадур». – Когда бываю здесь, я непременно покупаю какую-нибудь сомнительную шляпу. Домой, конечно, ее не беру. Стоит показаться в симпатичной шляпе, как патрульный немец тотчас ее конфискует для своей новой любовницы. По приезде в Лилль я расстаюсь со всем модным, хожу в старой сарже и унылом канотье, и потому все мои приобретения успевают устареть. Думаю, свои сомнительные шляпы я оставила во всех уголках Франции. Бренди, – сказала она возникшему официанту и, заметив его удивление, послала ему чарующую улыбку: – У меня был жуткий день, мсье, поэтому принесите двойную порцию и не делайте козью морду. – Затем вновь повернулась к Эве, до сих пор не проронившей ни слова, и, смерив ее взглядом, вдруг посерьезнела: – Черт! Что это вдруг дядя Эдвард вздумал присылать младенцев, только-только из колыбели?
– Мне двадцать два. – В голосе Эвы проскользнул холодок. Никакая взбалмошная парижанка, сочетающая розовое с лиловым, не заставит ее почувствовать себя несмышленышем. – Мадмуазель Дюбуа…
– Молчите.
Эва замерла и оглядела шумное кафе.
– Нас кто-то слышит?
– Нет, с этим все в порядке. Мы сидим в углу, да и шум здесь такой, что даже если кто-нибудь понимает английский, в чем я сомневаюсь, он ни слова не разберет. Я прошу не называть меня этим кошмарным именем. – Женщина наигранно содрогнулась. – Алиса Дюбуа! За какие грехи меня наградили этаким имечком? Надо будет спросить своего исповедника. Сразу возникает образ костлявой училки с лицом лопатой. Зовите меня Лили. И это не настоящее мое имя, но в нем хоть что-то живое. Я изводила дядю Эдварда, пока он не стал меня так называть. Кажется, ему понравилось, теперь всем своим «племянницам» он дает цветочные имена. Например, Виолетта, то есть фиалка – скоро вы с ней познакомитесь, и она вас возненавидит, ибо ненавидит всех и каждого. Теперь вот вы – Маргарита-маргаритка. Мы – цветник, и дядюшка над нами хлопочет, точно старый садовник с лейкой. – Алиса-Лили говорила, близко склонившись к Эве, но тотчас отстранилась, когда появился официант с бренди. – Мерси! – Она лучезарно улыбнулась, игнорируя его осуждающий взгляд.
По опыту Эвы, благовоспитанные женщины принимали спиртное исключительно в медицинских целях, однако она промолчала и лишь покрутила свой стакан с лимонадом. Капитан Кэмерон предупреждал, что их работу нельзя считать игрой, но вот для хваленой шпионки все это, похоже, сплошная забава. Или нет? За ее беспечной болтовней маячила звериная осторожность: стоило кому-нибудь приблизиться к их столику, как Лили тотчас смолкала, хотя и без того говорила довольно тихо, и Эве приходилось склоняться к ней, чтоб ее расслышать. Со стороны, наверное, казалось, что две подруги делятся своими женскими секретами. Так оно, впрочем, и было.
Пристальное внимание собеседницы ничуть не мешало Лили. Она и сама откровенно изучала Эву, глубоко посаженные глаза ее бегали, точно ртуть.
– Говорите, двадцать два года? – спросила Лили. – Вам столько не дашь.
– Оттого-то по документам мне семнадцать. – Эва наивно распахнула глаза, в милом смущении затрепетав ресницами. Лили от души рассмеялась и хлопнула в ладоши:
– Пожалуй, наш дядюшка все-таки гений. Этакий лакомый кусочек – вчерашняя школьница, в ком ума, как в маргаритке. Полный восторг!
Эва стыдливо потупилась:
– В-вы очень любезны.
– Дядя Эдвард уведомил о вашем заикании, – без обиняков сказала Лили. – Наверное, в обычной жизни это черт-те какое неудобство, но теперь ваш изъян сослужит вам добрую службу. Мужчины и так не придержат язык, когда рядом женщина или девушка, а уж в присутствии недалекой девицы станут безудержными трепачами. Советую вам изображать дурочку. Давайте закажем багет! В Лилле хорошей булки не сыщешь. Вся пшеничная мука уходит бошам, и в каждый свой приезд сюда я набрасываюсь на вкусный хлеб и модные шляпы. Обожаю этот город!
Эва заулыбалась, глядя, как Лили допивает бренди и заказывает багет с джемом. Но сама она больше изголодалась по информации, нежели по булкам.
– Дядя Эдвард сказал, вы посвятите меня в детали работы.
– Вы из тех, кто берет быка за рога? – Лили отломила кусочек булки и склевала его, точно птичка. – В Лилле наведаетесь в один весьма фешенебельный ресторан. Там не подадут двойной бренди даме в сомнительной шляпе. – Она повертела пустой бокал. – Повторить, что ли? Конечно, повторить. Если грядущая ночь сулит роскошь спокойного сна, следует накачаться бренди. – Она вскинула руку с пустым бокалом, подзывая официанта, хлопотавшего в другом конце зала. Официант насупился. – Ресторан называется «Лета», – понизив голос, продолжила Лили. – Немецкий комендант там обедает дважды в неделю как минимум, а кроме него еще половина офицеров гарнизона, поскольку тамошние повара забирают почти всю провизию местного черного рынка. В ресторане служил один официант, толковый парень, снабжавший меня информацией. Боже мой, чего только не услышишь от офицеров, перебравших шнапса! Потом официант попался, потребовалась замена, и вуаля: дядя Эдвард извещает, что отыскал для меня идеальную маргаритку.
– Попался? – переспросила Эва.
– На краже продуктов. – Лили покачала головой. – Парень обладал хорошим слухом, но не мозгами. Нужно быть полным идиотом, чтобы воровать цыплят, сахар и муку у тех, за кем шпионишь. Разумеется, его довели до ближайшей стенки и расстреляли.
У Эвы свело живот, она отложила булку. Расстреляли. В маленьком кафе с запотевшими окнами подобный исход вдруг стал гораздо реальнее, чем казался на солнечном берегу Фолкстона.
Лили криво усмехнулась:
– Понимаю, вам нехорошо. Это вполне естественно. Тогда я доем ваш багет? Кстати, перед собеседованием вам надо слегка похудеть. Для девушки из Рубе у вас слишком цветущий вид. На севере все выглядят доходягами. Возьмите меня: мешок с костями, обтянутый пепельной кожей.
Эва уже заметила темные круги под глазами Лили, а теперь разглядела и серый оттенок улыбчивого, но осунувшегося лица. Неужели и я буду так выглядеть? – подумала она, перекладывая свою булку на тарелку Лили.
– Что за собеседование? – спросила Эва.
– Перед устройством на работу в «Лете». Хозяин объявил, что, возможно, наймет официанток. Прежде он бы скорее сдох, чем допустил в свое заведение работницу, однако официанты – единственное, чего не достанешь на черном рынке. В военное время мужчины дефицитнее пшеничной муки даже для такого пройдохи, как Рене Борделон. Имейте в виду, это распоследняя тварь. Ради выгоды он бы родную мать сдал немцам, да только ее не имеется. Наверное, сам дьявол счел его дерьмом, после того как всю ночь он пьянствовал с Иудой. – Лили пальцем собрала хлебные крошки. – Вы должны убедить мсье Борделона взять вас на работу. Он умен, и это будет непросто.
Эва кивнула. Облик Маргариты Ле Франсуа стал четче. Молоденькая провинциалка, наивная, не слишком умная и образованная, но достаточно проворная, чтобы, не привлекая внимания, подать тушенное в вине мясо или устрицы на шампурах.
– Как получите место, вернее, если получите, станете передавать мне все, что услышите. – Лили пошарила в сумочке и достала серебряный портсигар. – А я позабочусь, чтобы информация попала к дяде Эдварду.
– Каким образом? – Эва отвела взгляд, когда ее собеседница чиркнула спичкой. Курят только проститутки, утверждала Эвина мать, но Лили никак не подходила под эту характеристику, невзирая на ярко-розовую шляпу и двойную порцию бренди.
– Послужу курьером, – уклончиво ответила Лили. – Это моя работа. Я могу появляться где угодно и в каком угодно облике, а вот вас заикание сразу выдаст. Так что вам задание по вашим силам.
Эва и не думала обижаться. Все верно. Она улыбнулась, представив, как Лили в образе балаболки минует пропускные пункты с вооруженными часовыми.
– Я думаю, ваша работа г-г-гораздо опаснее моей.
– Ничего, справляюсь. Сунь им под нос любую бумажку, держись уверенно – и своего добьешься. Особенно, если ты женщина. Бывает, я появляюсь, нагруженная узлами и свертками, которые поочередно роняю, пока шарю в поисках паспорта, да еще неумолчно трещу, и от меня уже не чают избавиться. – Лили выдохнула струю дыма. – По правде, многое в этой особой работе ужасно занудно. Наверное, потому-то женщины с ней хорошо справляются. Сама наша жизнь занудна. И мы хватаемся за предложение дяди Эдварда, ибо уже нет сил корпеть в архиве или обучать грамоте целый кагал сопливых ребятишек. Потом мы понимаем, что и эта работа так же скучна, однако взбадривает мысль, что в любой момент нам могут приставить «люгер» к затылку. А это все же лучше, чем застрелиться самой, что непременно произошло бы, если б нам пришлось отпечатать еще одну бумагу или вдолбить еще один латинский глагол в чугунную башку ученика.
Наверное, до войны она была учительницей, подумала Эва. Интересно, как Кэмерон ее завербовал? Никто, конечно, этого не скажет. Подлинные имена и биографии сообщают только в случае крайней необходимости.
– Дядя Эдвард считает вас лучшей, – сказала Эва.
Лили рассмеялась:
– Он еще тот романтик! Святой Георгий в твидовом костюме. Я его обожаю. Он слишком благороден для нашего дела.
Эва мысленно с ней согласилась. Порой она вспоминала таинственную историю с жульничеством и тюрьмой. Но, в общем-то, это не имело значения. Что бы там ни было, она безоговорочно доверяла Кэмерону.
– Ну что ж, идемте. – Лили загасила окурок. – Вам предстоит знакомство с Виолеттой Ламерон. Она себя считает лейтенантом и моим заместителем. Но будь у нас воинские звания, я бы могла сама ее распекать взамен регулярных выволочек от нее. Видимо, сказывается, что в прошлом она медсестра. Вам это полезно знать – на случай, если вдруг придется вас залатать. Вероятно, она решила, что лучше уж расстрел, чем скатывать бинты для Красного Креста, но все еще помнит, как управиться с переломами и фонтанирующим кровотечением. Если что, она вас выходит, но процесс лечения вам вряд ли понравится. – Лили покачала головой и ласково добавила: – Вот уж кто умеет зудеть! Поверьте, чем бы медсестра ни занималась, она не сможет обойтись без пилежки.
Лили нахлобучила огромную розовую шляпу, собрала свои пакеты и впереди Эвы зашагала к выходу. Дождь еще не кончился, но было тепло; розовощекие матери загоняли детей домой, извозчики катили по лужам, поднимая тучи брызг. Здешний народ отнюдь не выглядит изможденным, – отметила Эва. Видимо, Лили подумала о том же, ибо с яростным щелчком раскрыла зонтик и проговорила:
– Ненавижу этот город.
– Вы сказали, что обожаете его.
– Люблю и ненавижу. Этот Гавр, этот Париж. Я в восторге от булок и шляп, но люди тут понятия не имеют о том, что творится на севере. Ни малейшего. – На мгновение подвижное лицо ее застыло. – Лилль наводнен подонками, а здесь фыркают, если после жуткого дня ты хочешь выпить и покурить.
– Скажите, вам бывает страшно? – вдруг спросила Эва.
Лили повернулась к ней. Дождевые струи, стекавшие с зонтика, разделяли их, точно серебристый занавес.
– Да, как всякому человеку. Но только после исполнения опасного дела. Бояться заранее – слабость. – Она взяла Эву под руку. – Добро пожаловать в сеть Алисы.
Глава седьмая
Чарли
Май 1947
Лето тридцать седьмого. Мне девять, Розе одиннадцать; вместе с родителями мы отправились на автомобильную прогулку по Провансу, и нас забыли в придорожном кафе, где мы провели почти шесть часов.
Случайность, конечно. Две машины: в одной взрослые, в другой, идущей сзади, дети с нянькой. Остановка возле кафе, обращенного к цветущему винограднику; родители спешат в туалет, покупают открытки, мы с Розой суем носы в кухню, привлеченные ароматом свежеиспеченного хлеба, братья затевают возню… Потом все опять усаживаются в машины, но нянька почему-то решает, что мы сели к родителям, а те думают, что мы с нянькой, и в результате уезжают без нас.
Это был единственный раз, когда я видела Розу испуганной, только не понимала, чего она боится. Никакая опасность нам не грозила, а добрая толстуха кухарка, узнав, что произошло, страшно всполошилась:
– Не волнуйтесь, мадмуазели! И двадцати минут не пройдет, как ваши мамочки вернутся.
Вскоре мы сидели за отдельным столиком под полосатой маркизой и, любуясь виноградником, угощались холодным лимонадом и толстыми бутербродами с козьим сыром и копченой ветчиной.
– Сейчас прикатят обратно, – проговорила я с набитым ртом.
По мне, этак гораздо лучше, чем на заднем сиденье душного «рено» выслушивать нянькины наставления и терпеть щипки братьев.
Однако Роза хмуро смотрела на дорогу.
– Может, и не вернутся, – сказала она. – Мать меня не любит.
– Не выдумывай.
– Особенно сейчас, когда я, того, взрослею. – Роза скосила глаза на свои выпуклости – уже в одиннадцать лет у нее наметилась грудь. – Маман это не нравится. Она себя чувствует старой.
– Потому что ты вырастешь и обгонишь ее в красоте. Мне-то мою не догнать. – Я вздохнула, но грусть длилась недолго. День выдался чудесный, а улыбчивая кухарка поставила перед нами тарелку с горячими мадленками.
– Почему женщина непременно должна быть красивой? – воскликнула Роза, не замечая потрясающих видов неба и виноградника.
– А ты не хочешь, что ли? Я так не прочь.
– Да нет, хочу, конечно. Но вот с братьями никто не говорит о внешности, их только спрашивают: «Как дела в школе? В футбол играете?» А нам таких вопросов не задают.
– Девочки не играют в футбол.
– Ты поняла, о чем я. – Роза, похоже, вспылила. – Родители никогда не забыли бы наших братьев. Мальчишки везде первые.
– И что теперь?
Так уж заведено, и с этим ничего не поделаешь. Родители только снисходительно посмеивались, когда Джеймс дергал меня за косички, сталкивал в ручей и вообще доводил до слез. Мальчишкам все дозволяется, а девочки должны быть красивыми и сидеть сиднем. Я красотой не отличалась, но родители уже строили грандиозные планы: белые перчатки, привилегированная школа и со временем статус Прелестной Новобрачной. Если повезет, сказала мать, ты пойдешь по моим стопам и уже в двадцать лет обручишься.
– Я не хочу просто вырасти в красавицу. – Роза теребила кончик светлой косы. – Я желаю чего-нибудь иного. Написать книгу. Переплыть Ла-Манш. Отправиться на сафари и подстрелить льва…
– Либо остаться здесь навеки.
Ветерок, пропитанный ароматами лаванды и розмарина, ласковое солнышко, веселый французский говор посетителей кафе, козий сыр на восхитительно хрустящей булке – в моем понимании это был рай.
– Мы здесь не останемся! – встревожилась Роза. – Не пугай меня!
– Да я пошутила. Или, по-твоему, нас бросили?
– Не думаю. – Роза, одиннадцатилетняя девочка намного мудрее меня, старалась быть разумной, но, не сдержавшись, прошептала: – А вдруг бросили?
Наверное, тогда-то я и поняла, почему она дружит со мной. На два года старше, она могла бы меня отшить, но почему-то не возражала, что такая малявка таскается за ней хвостом. И вот в том райском кафе мне открылось: у братьев ее своя компания, мать отдалилась, отец вечно на работе – она была одинока, и только я становилась ее верной тенью, когда летом приезжала погостить.
Мне было всего девять. Тогда я еще не могла все это выразить в словах и даже толком осознать, но смутно чувствовала, как Роза борется со своим страхом оказаться брошенной.
– Даже если они не вернутся, я-то здесь. – Я взяла ее за руку. – И я тебя не брошу.
– Мисс?
Я сморгнула. Воспоминания так меня поглотили, что я вздрогнула, когда вместо светлой косы и небесной голубизны глаз одиннадцатилетней Розы передо мной вдруг возникли темные глаза и нечесаные волосы Финна.
– Приехали, – сказал он. – По адресу, который вы дали.
Я встряхнулась. Машина стояла. Я перевела взгляд на гравийную дорожку к несуразному зданию, в котором проводила каждое лето, пока немцы не вторглись во Францию. Дом тетки и дяди в окрестностях Руана. Однако перед внутренним взором еще маячила картинка с прованским кафе, где две маленькие девочки провели почти шесть часов, прежде чем их родители, через три часа сделавшие очередную остановку, осознали свою оплошность и помчались обратно. Шесть волшебных часов: мы объедались козьим сыром и мадленками, в винограднике играли в салочки, облачались в фартуки и помогали доброй кухарке мыть посуду и чувствовали себя невероятно взрослыми, когда она угостила нас стаканчиками разведенного водой розового вина. Осовелые, склонившись друг к другу головами, мы смотрели, как солнце садится за виноградник. И даже слегка расстроились, когда обезумевшие от беспокойства родители принялись нас тискать в объятиях и просить прощения. Наш с Розой самый счастливый день. Лучший день в моей жизни, который можно выразить простейшим уравнением: Роза плюс я равняется счастью.
Я тебя не брошу, – обещала я. Однако нарушила обещание, и она пропала.
– Как вы? – спросил Финн. От его карих глаз мало что ускользало.
– Хорошо. – Я выбралась из машины. – Вы тут покараульте хозяйку.
Эва похрапывала на заднем сиденье, временами заглушая стрекот цикад. В Гавре мы переночевали в дешевой гостинице и утром отправились в долгий путь. Из-за Эвиного похмелья выехали, разумеется, поздно, а потом еще, трясясь по разбитым дорогам, каждый час останавливались, потому что меня тошнило. Я притворялась, будто меня укачивает, но дело было в Маленькой Неурядице. Да еще, наверное, в том, что мне предстояло. Я снова взглянула на дом – окна за ставнями напоминали закрытые глаза покойника.
– Ладно, ступайте. – Из-под сиденья Финн достал потрепанный номер «Автомобиля» и, опершись локтем о край дверцы, изготовился читать. – Как вернетесь, поедем в Руан, устроимся в гостиницу.
– Спасибо. – Я отвернулась от сверкавшей синевой «лагонды» и пошла к дому.
На стук никто не ответил. Я опять постучала. Томительная тишина. Я уж хотела заглянуть в щелку ставен, но тут послышались шаркающие шаги и дверь, заскрипев, отворилась.
– Тетя Жанна… – начала я, и слова застряли в горле.
Тетушка помнилась стройной надушенной блондинкой, этакой хрупкой страдалицей в духе Греты Гарбо, изящно покашливающей под кружевными покрывалами. А сейчас передо мной стояла страшно исхудавшая седая старуха в засаленном свитере и неряшливой юбке. Встреть я ее на улице – не узнала бы, да и она, судя по пустому взгляду, меня не признала.
Я сглотнула.
– Тетя, я – Шарлотта, ваша племянница. Приехала расспросить вас о Розе.
Даже не предложив чаю, она плюхнулась на старый диван и тупо на меня уставилась. Я примостилась на краешек ветхого кресла. Она всего лишилась, – думала я, глядя на преждевременно состарившуюся тетку. – Вдова… оба сына погибли… дочь пропала… Удивительно, что она еще держится. Я знала, что, вопреки Розиным детским страхам, тетушка ее любила.
– Я вам очень сочувствую, тетя, – сказала я. – Всей душой.
Тетка провела пальцем по журнальному столику, оставив след. В этой сумрачной комнате толстый слой пыли лежал на всем точно мантия.
– Война.
Сколько утрат вместили два коротких безнадежных слога. У меня защипало глаза, я крепко переплела пальцы в перчатках.
– Дядю, Жюля и Пьера уже не вернешь… А вот Розу… Я понимаю, шанс призрачный, но вдруг она…
Жива. Эва меня высмеяла, но я не могла отбросить надежду. Пусть во многом я неудачница, а вот надеяться умела хорошо.
– Думаешь, я что-нибудь знаю? Последний раз она дала о себе знать из Лиможа, в середине, кажется, сорок четвертого. – Тетка словно подвела черту. – С тех пор за три года ни строчки.
– Почему она ушла из дома? – Я пыталась разглядеть хоть искорку в теткиных глазах.
– Потому что баламутка без всякого понятия о морали, – злобно прошелестела она. – Без малейшего.
В животе моем возникла бездонная дыра.
– Что-что? – Тетка пожала плечами. – Нет уж. – Я качнула головой. – Нельзя такое сказать, а потом просто пожать плечами.
– Девчонка взбесилась. Париж кишит фашистами, так сиди тише воды, ниже травы. Нет, она тайком бегала на какие-то митинги, где всякие дураки толкали речи, призывая к насилию, и домой возвращалась за полночь. Орала на отца, когда немцы приказали составить список социалистов и евреев в его конторе. А что ему было делать – отказаться? Роза такого ему наговорила…
В ушах моих гудела кровь, я смотрела на тетку, а она монотонно бубнила:
– Сперва клеила листовки на машины, потом била витрины. Если б не ее парень, додумалась бы, наверное, что-нибудь взорвать, и ее бы пристрелили.
Я вспомнила последнее Розино письмо, в котором она с восторгом говорила о свиданиях втихомолку…
– Что за парень?
– Этьен… фамилию не помню. Девятнадцати лет, продавец в какой-то книжной лавке. Однажды она привела его знакомиться с нами. Друг на друга оба смотрели с таким вожделением, что было ясно, в каких они отношениях… – Тетка осуждающе засопела. – Ну и новый скандал.
Я вся оцепенела.
– Почему вы не сказали об этом, когда мой отец наводил справки?
– Сказала. Видимо, он счел, что это не для твоих ушей.
Я сглотнула.
– Что было потом?
– Парня взяли за связь с Сопротивлением и отправили неведомо куда. За одну ночь сгинуло пол-Парижа. Розу ждала та же участь – ее и так уж чуть не арестовали за драку с немцем на Рю де Риволи, но мы успели отправить ее в Руан. Да только…
– Что? – вскрикнула я. – Что?
– А как ты думаешь? – Тетка скривилась, словно куснула лимон. – Она была беременная.
Не помню, как я очутилась возле бука, росшего перед домом. Только ощутила жесткость коры, в которую уткнулась лбом, и услышала свое прерывистое дыхание. Я не смела поднять голову, боясь, что на ветке увижу двух девочек. Это дерево было нашим убежищем от хулиганистых братьев в те дни, когда Джеймс еще не помягчел, повзрослев. Вот и сейчас мы с Розой, болтая ногами, сидели рядышком, совсем как в том прованском кафе. Одиночества не существовало, пока мы были друг у друга.
Роза. Ох, Роза…
«Я желаю чего-нибудь иного». Да, это в ее духе – шастать по ночному Парижу, бить витрины и затевать драки с немцами. Кто бы сомневался, что Роза примкнет к Сопротивлению. Однако и она угодила в самую старую западню. И уже не напишет книгу, не переплывет Ла-Манш, не совершит ничего иного. Раз уж ты забеременела, тебе конец.
Я хотела спасти свою кузину, но от этого спасения нет. Я сама застряла в том же капкане. Безнадежно.
Из груди моей вырвалось рыдание, столь хриплое и громкое, что я даже испугалась. В тот вечер, когда родители ее обо всем узнали, она одна забралась на нашу ветку? После того, как мать посоветовала выпить крепкого джину и залезть в горячую ванну – вдруг оно и выскочит. После того, как отец весь изорался – мол, она покрыла семью несмываемым позором. Все это я узнала от тети Жанны. Я слушала ее, уставившись в одну точку.
Мой отец не орал, когда я его оповестила. Орала мать, а он просто сидел, глядя перед собой. И потом вслед мне недоуменно обронил одно только слово: «Шлюха».
Я и забыла об этом.
Интересно, Розу тоже назвали шлюхой?
Я жахнула кулаками по дереву, силясь заплакать и мечтая вернуться в свой бесчувственный кокон. Но слезы спеклись в гадкий твердый комок, а неимоверные ярость и боль отрезали путь к бесчувствию. И я лишь колотила по стволу, даже через перчатки сдирая кожу с костяшек.
Наконец я остановилась, глаза мои пекло. Тетка, тщедушная, сгорбленная, наблюдала за мной с крыльца черного хода.
– Выкладывайте остальное, – сказала я, и она бесцветным голосом поведала, что дядя мой отправил Розу в поселок под Лиможем, дабы она родила втайне от всех знакомых.
О рождении ребенка Роза не сообщила и не поминала его вообще, а они и не спрашивали. Через четыре месяца Роза прислала коротенькое письмо: она устроилась на работу в Лиможе и вернет родителям деньги, потраченные на ее укрытие. Деньги пришли. Потом обменялись еще парой писем: в первом тетка известила Розу о гибели ее отца, во втором – братьев, и та откликнулась неуклюжими соболезнованиями в разводах от слез. Адрес Розы тетка не помнила, конверты не сохранились. С середины сорок четвертого – ничего.
– Я даже не ведаю, в Лиможе она или нет. – Тетка помолчала. – Знаешь, я просила ее вернуться. Отец ее, когда был жив, и слышать о том не хотел, но после его… в общем, я попросила. Она не ответила.
Я не стала узнавать, распространялось ли приглашение и на ребенка. Меня жутко трясло.
– Ты заночуешь? – скорбно спросила тетя Жанна. – Порой здесь очень одиноко.
А кто виноват-то? – едва не выпалила я. – Сама же вышвырнула дочь, словно мусор. Лучше бы ты оставила ее в том прованском кафе. Слова, обжигая губы, рвались на волю, но я их проглотила. Всю жизнь тетка жаловалась на слабое здоровье, а сейчас и впрямь так выглядела, что дунь – и упадет. У нее погибли муж и два сына. Она всего лишилась.
Будь милосердной.
Я не желала быть милосердной, но по крайней мере сумела не высказать того, что думала.
– Нет, тетя, остаться не могу, – сухо ответила я. – Мне надо в Рубе.
Тетка вздохнула:
– Ну что ж…
Я не смогла себя заставить обняться с ней. Никак. Только холодно простилась и через заросшую сорняками лужайку побрела к синему маяку «лагонды».
Финн оторвал взгляд от замусоленных страниц журнала. Не знаю, каким было мое лицо, но он выскочил из машины.
– Мисс?
– За что вы сидели в тюрьме? – неожиданно для себя спросила я.
– Украл медвежью шапку у гвардейца на часах перед Букингемским дворцом, – спокойно сказал Финн. – С вами все в порядке?
– Врете вы про шапку.
– Вру. Садитесь в машину.
Я шагнула к кабриолету и, споткнувшись о гравий, едва не упала, но Финн меня подхватил и помог забраться на сиденье.
Эва уже проснулась и зорко глянула на меня из-под нависших век.
– Ну что?
Я приложила прохладные ладони к пылающим щекам. Финн сел за руль.
– Я выяснила, почему Роза ушла из дома. Она… она была беременная.
Пала оглушительная тишина.
– М-да, – наконец проронила Эва, уставившись на мой живот. – Если чутье меня не подводит, ты и сама в положении.
Глава восьмая
Эва
Июнь 1915
Эва встала как вкопанная, сраженная не тяготами, описанными Лили (хотя их тоже хватало), но плакатом, под ветром трепетавшим на церковной стене. Текст на французском и немецком гласил:
ДЕЙСТВИЯ ВСЯКОГО ГРАЖДАНСКОГО ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРСОНАЛА ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ, В ПОМОЩЬ ВРАГАМ ГЕРМАНИИ ЛИБО ВО ВРЕД ЕЙ И ЕЕ СОЮЗНИКАМ КАРАЮТСЯ СМЕРТЬЮ.
– Эти плакаты появились в конце прошлого года, – равнодушно сказала Лили. – Поначалу их никто не воспринял всерьез. Но в январе расстреляли женщину, укрывавшую двух французских солдат, и тогда народ сразу все уразумел.
Эва вспомнила мобилизационный плакат на входе в ее лондонскую контору, который она разглядывала, не ведая, что за ней наблюдает капитан Кэмерон. Пробел в строю бравых пехотинцев и надпись: «Тут еще есть место для ТЕБЯ! ВСТАНЕШЬ В СТРОЙ?»
Ну вот, она встала в строй. И теперь читала плакат, суливший смерть, если ее поймают. Это было вполне реально. Гораздо реальнее слов капитана Кэмерона на ветреном берегу Фолкстона: мол, женщин боши не расстреливают.
Эва посмотрела на Лили, вновь отметив запавшие глаза на ее подвижном улыбчивом лице.
– Мы в самой п-п-пасти зверя? – спросила она.
– Да. – Лили взяла ее под руку и отвела от полощущегося на ветру плаката. Сейчас она выглядела совсем иначе, нежели в Гавре: ни тебе вызывающей шляпы, ни прически «помпадур», но простенькое саржевое платье, штопаные-перештопаные перчатки, сумочка на локте. По иным фальшивым документам она значилась белошвейкой, и потому в сумочке лежали катушки ниток и набор иголок. А за подкладкой – карты с целями для обстрела. К счастью, об этом Эва узнала уже после того, как они миновали контрольный пункт на въезде в Лилль. Она едва не лишилась чувств, а Лили только ухмыльнулась:
– Вот уж была бы радость бошам! Там отмечены все новые артиллерийские позиции.
– Вы к-кокетничали с солдатами, проверявшими ваши документы, а в сумочке у вас было это?
– Да, – безмятежно ответила Лили, и Эва задохнулась от восхищения, смешанного с ужасом.
Теперь она поняла, что похвальба превзойти лучшего агента капитана Кэмерона обречена на провал, ибо Лили просто нет равных в хладнокровии. Наверное, она немного сумасшедшая, – с еще большим восхищением подумала Эва.
Явно того же мнения была и Виолетта Ламерон, встретившая их в убогой съемной комнатушке неподалеку от центральной площади города. Крепышка в круглых очках на хмуром лице и с аккуратным узлом волос на затылке, Виолетта обняла Лили и, облегченно выдохнув, тотчас стала пенять:
– Надо было послать меня встретить новенькую. Ты так часто всюду мелькаешь, что вскоре привлечешь внимание!
– Уймись, трусиха! – сказала Лили по-французски, а затем перешла на английский. Она уже уведомила Эву, что между собой они говорят только по-английски. Если кто-нибудь их подслушает, гораздо проще состряпать оправдание английской болтовне, нежели объяснить, с какой стати по-французски обсуждаются секретные донесения и британские шифры. Лили говорила на безупречном английском, пересыпанном французскими ругательствами. – Скоро нам с тобой предстоит переправить добытые сведения через границу, а пока надо ввести Маргариту в курс дела. – Лили улыбнулась. – Образ глупышки превосходен, однако над нашей новой подругой еще надо поработать.
В учебном центре Фолкстона все было как положено: инструкторы в военной форме, ряд парт, флаги. Сейчас обучение проходило совсем в иных условиях: сырая комнатка с узкой кроватью и рукомойником, зигзагообразная трещина в потолке, неистребимый запах плесени, преподнесенный нескончаемым колючим дождем. В выборе комнаты главным были не удобства, а ее защищенность от подслушивания: за одной стенкой глухой торец церкви, за другой – старая нежилая квартира, над потолком пустой чердак. И вот три женщины, прихлебывая отвратительное питье, сваренное из листьев грецкого ореха с лакрицей (немцы конфисковали весь запас кофе), буднично говорили о чем-то совершенно невероятном.
– Вы идете по улице, навстречу вам немецкий офицер, – начала Виолетта, предварительно плотно затворив дверь и окно. В отличие от жизнерадостной начальницы она излучала серьезность, которой с лихвой хватило бы им обеим. – Ваши действия?
– Не поднимая глаз, уступлю дорогу.
– Неверно. Поклон. Иначе вам грозят штраф в двадцать марок и трехдневный арест. – Виолетта взглянула на Лили: – Чему их там учат в Фолкстоне?
Эва ощетинилась:
– Многому.
– Ничего, поднатаскаем, – успокоила Лили своего заместителя. – Немец потребовал ваши документы и начинает вас лапать. Что вы сделаете?
– Ничего? – предположила Эва.
– Нет. Вы улыбнетесь в знак, что ничуть не против, иначе вас наградят пощечиной, да еще обыщут. Немец спрашивает, почему у вас руки в карманах. Как вы поступите?
– Т-тотчас их выну…
– Нет. Вы никогда не держите руки в карманах, ибо гансы могут решить, что вы прячете нож, и проткнут вас штыком.
– Да не может такого быть… – натянуто улыбнулась Эва.
Щеку ее ожгла звонкая пощечина от Виолетты.
– По-вашему, мы сочиняем? На прошлой неделе вот так закололи четырнадцатилетнего парнишку!
Эва схватилась за щеку и посмотрела на Лили, невозмутимо гревшую руки о кружку.
– Что такое? – спросила Лили. – Решили, что вы на посиделках с подружками? Мы должны вас обучить, маргаритка.
Эву захлестнули гнев и обида на предательницу, которая в Гавре была такой мягкой и ласковой, а теперь показала свое истинное лицо.
– Меня уже обучили!
Виолетта закатила глаза.
– Отправляй ее обратно. Толку не будет.
Эва изготовилась грубо рявкнуть в ответ, но Лили приложила палец к губам, а затем спокойно сказала:
– Маргарита, ни вы, ни дядя Эдвард понятия не имеете о том, что здесь происходит. Вас подготовили к заброске сюда, а наша задача – обучить вас, как уцелеть и быть полезной. На это у нас всего пара дней. Не освоите новые знания, станете просто обузой.
Взгляд ее был тверд и неумолим. Она походила на фабричного бригадира, наскоро инструктирующего нового рабочего. Теперь щеки Эвы пылали от смятения. Она медленно выдохнула, разжала стиснутые зубы и заставила себя кивнуть:
– Кланяться офицерам. Не противиться лапанью. Не держать руки в к-карманах. Что еще?
Муштра казалась нескончаемой. Упражнения на встречу с немцем: как поступить, если… Упражнения на смекалку: чем отвлечь внимание, если не успела спрятать донесение? Наставления о правилах жизни в оккупированном Лилле.
– Не верьте ничему в газетах и сводках, – поучала Лили. – Все напечатанное – ложь.
– Всегда носите с собой паспорт, пистолет прячьте, – говорила Виолетта, небрежно поигрывая своим «люгером». – Гражданским запрещено иметь оружие.
– Держитесь подальше от офицеров. Они считают, что могут поиметь любую женщину, и неважно, согласна она или нет…
– …но после этого многие назовут вас немецкой подстилкой, которая раздвинула ноги ради льгот.
– Жить будете в этой комнате. Прежде мы использовали ее для разовых ночевок, но теперь это ваш дом. Перед дверью повесьте табличку со своим именем и возрастом – на случай проверки жителей квартала…
– …запрещено собираться группами больше десяти человек…
– И как люди здесь ж-живут? – изумилась Эва, на второй день учебы заслужив хмурое разрешение иногда задавать вопросы.
– Жизнь тут паршивая, – сказала Лили. – И будет такой, пока не вышвырнем немцев.
– Как я передам вам сведения? Если что-ниб-будь узнаю?
– Мы с Виолеттой станем к вам наведываться. – Лили усмехнулась, глянув на своего заместителя. – В случае надобности тут и заночуем. Но мы постоянно в разъездах, так что по большей части вы будете здесь одна.
Виолетта окинула Эву скептическим взглядом:
– Надеюсь, хоть с этим справитесь.
– Язва! – Лили дернула напарницу за собранные в тугой пучок волосы. – Не будь такой стервой!
Вскоре кошмар оккупации Эва увидела воочию. Наверное, до войны Лилль был чудесным городом, где кипела жизнь: устремленные в небо церковные шпили, воркование голубей на центральной площади, уличные фонари, в сумерках отбрасывающие круги теплого желтоватого света. Сейчас здесь царили уныние и разруха, кругом удрученные лица, помеченные голодом. Линия фронта проходила недалеко, и в городе слышался гул орудий, похожий на раскатистый гром, а в небе время от времени кружили бипланы, точно зловредные осы. Немцы, занявшие Лилль прошлой осенью, устроились основательно: появились таблички с новыми немецкими названиями улиц, по мостовым уверенно грохотали германские сапоги, во всех общественных местах слышалась громкая гортанная речь. Сытые морды розовощеких немцев резко контрастировали с изможденными лицами горожан, и уже одного этого хватило, чтобы Эвина неприязнь к безликому врагу переросла в жгучую ненависть.
– Взгляд ваш должен быть тусклым, – наставляла Лили, помогая выбрать одежду для собеседования: опрятную серую юбку и такую же блузку. Кроме того, смесью сажи с мелом она решительно затушевала здоровый румянец на щеках Эвы. – Немцы хотят вас видеть подавленной и покорной. Огонь в глазах привлечет ненужное внимание.
– Подавленной, – хмуро повторила Эва. – Ладно.
Сверкая круглыми очками, Виолетта осмотрела ее с ног до головы.
– У нее волосы блестят.
Слегка их засалили. Эва натянула штопаные перчатки и встала.
– Я провинциалка, недавно приехала из Рубе, – отчеканила она. – Ищу работу, не очень грамотная. Аккуратная, расторопная, немного г-глуповата.
– На вид так просто дура, – бросила Виолетта.
Эва ожгла ее взглядом. Виолетта ей не нравилась, но, спору нет, со своей задачей она справилась отменно: Эвелин Гардинер сгинула, в единственном мутном зеркале теперь отражалась подурневшая с голодухи Маргарита Ле Франсуа.
Эва себя осмотрела и вдруг заволновалась, точно актриса перед выходом на сцену.
– А если я п-провалюсь? Если хозяин «Леты» мне откажет?
– Тогда поедете домой, – прямо, но беззлобно сказала Лили. – Поскольку иного применения вам, маргаритка, нет. Так что разбейтесь в лепешку, но получите место и постарайтесь, чтоб вас не укокошили.
Даже если Рене Борделон распоследняя тварь, логово его весьма и весьма впечатляет, – думала Эва, ожидая собеседования.
В зале, обшитом темными панелям, за покрытыми скатертями столами сидели шесть девушек. Вначале их было восемь, но двум метрдотель сразу дал от ворот поворот, узнав, что они владеют немецким.
– Никто из сотрудников не должен понимать язык наших клиентов, желающих свободно говорить о самом личном.
Если оккупация затянется, жители поневоле его выучат, – подумала Эва, но, не моргнув глазом, солгала: по-немецки она не знает ни слова, кроме «да» и «нет». Ей велели ждать.
В унылом разоренном Лилле ресторан был оазисом изящества: приглушенный свет хрустальных люстр, толстый темно-красный ковер, поглощающий любой топот, белоснежные скатерти на столах, расставленных на удалении друг от друга. Большое арочное окно в золоченом переплете смотрело на реку Дёль. Понятно, что немцы предпочитали трапезничать в этом цивилизованном месте, позволявшем отдохнуть от дневных трудов по попранию завоеванной черни.
Однако сейчас в воздухе витало свирепое напряжение – шесть девушек друг друга ели глазами, гадая, кто из них окажется в числе двух счастливиц, а кто отправится домой. То есть кого ждет сытая жизнь, а кого – голод, вот и вся разница. В Лилле Эва провела всего пару дней, но уже хорошо поняла эту грань, острую, точно лезвие бритвы. Через месяц здешней жизни лицо ее приобретет пепельный оттенок, как у Виолетты. Через два – резко обозначатся скулы, как у Лили.
Вот и хорошо, – думала Эва. – Голод поможет всегда быть начеку.
Девушек вызывали поочередно. Вцепившись в сумочку, Эва ждала, когда позовут ее. Она умышленно не скрывала волнения, но не позволяла себе думать об исходе собеседования. Ее должны взять, вот и весь разговор. Нельзя неудачницей отправиться обратно, не получив даже шанса себя проявить.
– Мадмуазель Ле Франсуа, хозяин ждет вас.
По лестнице в ковровой дорожке Эву препроводили к массивной двери из полированного дуба. Видимо, Рене Борделон занимал просторные апартаменты над рестораном. Дверь отворилась, явив чужую жизнь, которую иначе как неприличной не назовешь.
Вернее, неприлично красивой: золотые часы на каминной полке черного дерева, ковер с цветочным орнаментом, кресла, обтянутые коричневой кожей. На стеллаже атласного дерева книги в кожаных переплетах, декоративные вазы от Тиффани и маленький мраморный бюст человека со склоненной головой. Стены, обитые темно-зеленым шелком, свидетельствовали о деньгах, хорошем вкусе, привычке к роскоши и потворству собственным прихотям. На фоне порабощенного Лилля, видневшегося за неплотно задернутыми муслиновыми шторами, вся эта пышность выглядела неприлично.
Еще не было сказано ни слова, а Эва уже возненавидела и комнату, и ее хозяина.
– Прошу садиться, мадмуазель, – произнес Рене Борделон, указав на глубокое кресло напротив себя.
Сам он раскинулся в таком же кресле, вытянув ноги в брюках с безупречной стрелкой. Идеальной белизны сорочку дополнял жилет, явно от парижского портного. Лет сорока, высокий, стройный; седеющие на висках волосы зачесаны назад; узкое лицо, непроницаемый взгляд. Если капитан Кэмерон выглядел стопроцентным англичанином, то Рене Борделон, бесспорно, смотрелся стопроцентным французом.
Но каждый вечер выступал перед немцами в роли радушного хозяина.
– Вы кажетесь очень юной. – Борделон оглядел Эву, присевшую на краешек кресла. – Родом вы из Рубе?
– Да, мсье, – ответила Эва.
В этом городке родилась и выросла Виолетта, которая подробно о нем рассказала.
– Почему вы не остались дома? Зачем сироте… – Борделон заглянул в ее резюме – …семнадцати лет уезжать в большой город?
– Дома нет работы. Я надеялась н-найти ее в Лилле. – Эва сжала колени и крепче ухватила сумочку, стараясь выглядеть совершенно ошеломленной окружающей роскошью. Маргарита Ле Франсуа, никогда не видевшая золотых часов и десятитомники сочинений Руссо и Дидро в кожаных переплетах, должна быть сражена напрочь.
– Возможно, вы думаете, что работа в ресторане проста – разложи столовое серебро, унеси тарелки. Но это не так. – Борделон говорил монотонно, однако голос его был подобен холодному металлу. – Я требую совершенства во всем, мадмуазель: в блюдах с моей кухни, в подаче их на стол и в общей атмосфере моего заведения. Я дарую отдохновение от войны. Дабы все ненадолго о ней забыли. Отсюда и название – «Лета».
Эва потерянно распахнула глаза:
– Я не знаю, что это, мсье.
Она ждала покровительственной или досадливой усмешки, но Борделон просто ее разглядывал.
– Я уже раб-ботала в кафе, мсье, – заторопилась Эва, изображая волнение. – Я расторопная и быстро учусь. Я старательная. И очень хочу п-п-п-п…
Она забуксовала. В последнее время Эва даже подзабыла о своем заикании, потому что в основном разговаривала с капитаном Кэмероном и Лили, как будто не замечавшими ее изъяна. А сейчас вот слово застряло накрепко, но Рене Борделон только безмолвно наблюдал за ее мучениями. Подобно Кэмерону, он не пытался договорить за нее. Но в отличие от капитана вовсе не из деликатности.
Эва Гардинер шандарахнула бы себя кулаком по коленке, заставив выскочить проклятое слово. Но Маргарита Ле Франсуа только мучительно краснела, готовая провалиться сквозь пол, застеленный роскошным ковром.
– Вы заикаетесь, однако не похожи на недоумка, – сказал Борделон. – Ущербная речь вовсе не признак ущербных мозгов.
Жизнь ее была бы гораздо легче, если б все другие разделяли это мнение, но не дай бог, чтобы Борделон в нем утвердился. Надо, чтобы он счел меня полной дурой, – занервничала Эва. Она изготовилась щедрыми мазками живописать образ недалекой девицы. Коль заикание не возымело эффект, попробуем другую краску. Эва приспустила ресницы, закутавшись в смущение, точно в одеяло.
– Я не понимаю, мсье.
– Посмотрите на меня.
Эва сглотнула и подняла взгляд. Глаза ее собеседника были неопределимого цвета и как будто вообще не моргали.
– Вы считаете меня предателем, который наживается на общей беде?
Да.
– Идет война, мсье. Каждый делает, что должен.
– Верно. И вы станете делать, что должно? Будете обслуживать немцев? Наших захватчиков?
Эва замерла, почуяв ловушку. Если хозяин заметит в ее глазах огонь, о котором говорила Лили, все пропало. Он не наймет девушку, которая может плюнуть в тарелку, подавая немцу «бёф бургиньон». Но как ответить безошибочно?
– Не лгите мне, – сказал Борделон. – Я вмиг распознаю ложь, мадмуазель. Вам будет тяжко с улыбкой обслуживать моих немецких клиентов?
«Нет» – ответ совершенно нелепый. «Да» – честный, но абсолютно невозможный.
– М-мне тяжко г-голодать, – сказала Эва, намеренно заикаясь. – О прочих тяготах думать некогда, мсье, только об этой. Если вы мне откажете, я не найду другую работу. Никто не возьмет заику. – Эва вспомнила, с каким трудом устроилась в свою лондонскую контору. Работа, где не требуется гладкая речь, большая редкость. Воспоминание наполнило горечью, которую Эва не замедлила проявить: – Мой изъян не позволит мне отвечать на телефонные звонки или обслуживать покупателей в магазине. Но подавать блюда и раскладывать столовое серебро можно м-молча, а уж этим я владею в совершенстве.
Эва постаралась, чтобы в телячьих глазах ее отразилось отчаяние голодной девушки, загнанной в тупик. Борделон ее разглядывал, сложив домиком удивительно длинные пальцы. Эва отметила, что у него нет обручального кольца.
– Ах, какая оплошность с моей стороны, – наконец проговорил Борделон. – Раз вы голодны, я вас покормлю.
Сказано это было небрежно, словно речь шла о блюдце молока для приблудной кошки. Неужели он угощал и других соискательниц? Плохо, если он меня выделил, – подумала Эва, а Борделон уже позвонил в колокольчик и что-то шепнул официанту, явившемуся на зов. Через минуту официант вновь появился с тарелкой, на которой лежал горячий гренок из пшеничной муки (в Лилле давно ставшей невидалью) под расточительно толстым слоем сливочного масла. Эва еще не так оголодала, чтобы вид гренка ее заворожил, а вот Маргарита дошла до края, и оттого пальцы ее, поднесшие хлебный треугольник к губам, дрожали. Однако она не заглотнула его в один присест, а лишь культурно откусила уголок. Пусть Маргарита провинциалка, но не дубина стоеросовая. Рене Борделон вряд ли наймет неотесанную девицу. Эва проглотила тщательно разжеванную порцию и снова откусила. Клубничный джем на чистом сахаре напомнил о вареной свекле, служившей Лили сахарином.
– Мои работники пользуются массой привилегий, – сказал Борделон. – Каждый вечер персонал делит меж собой остатки продуктов с кухни. Все имеют пропуска для передвижения по городу после наступления комендантского часа. Сейчас я вынужден, вопреки своим правилам, брать на работу женщин, но, будьте уверены, никто не потребует от вас оказывать клиентам услуги… иного рода. Подобные вещи снижают статус заведения. – Он гадливо сморщился. – Я цивилизованный человек, мадмуазель, и все, кто посещает мой ресторан, должны себя вести цивилизованно.
– Понимаю, – пробормотала Эва.
– Но если вы попадетесь на воровстве продуктов, столового серебра или чего угодно, даже если просто отхлебнете вина из бутылки, – невозмутимо продолжил Борделон, – я передам вас оккупационным властям, и вы убедитесь, что немцы далеко не всегда цивилизованная нация.
– Я усвоила, мсье.
– Хорошо. Приступайте завтра. В восемь утра мой помощник введет вас в круг ваших обязанностей.
Вопрос жалованья не возник. Борделон отлично знал, что все согласятся на любую предложенную им плату. Эва торопливо, но деликатно сунула в рот последний кусочек гренка (никто из обитателей Лилля не оставил бы на тарелке недоеденный хлеб с маслом) и, сделав книксен, поспешно покинула апартаменты.
– Ну как? – спросила Виолетта, оторвавшись от клочка рисовой бумаги, на котором писала донесение.
Когда Эва вошла в пропахшую плесенью комнату, она была готова победно заулюлюкать, но побоялась выглядеть ошалевшей от радости девчонкой, а потому лишь пожала плечами и буднично сказала:
– Меня взяли. Где Лили?
– На вокзале встречается со своим информатором. Потом перейдет границу. – Виолетта покачала головой. – Диву даюсь, как ее не подстрелят. Там такие прожектора, что мышь не проскочит, однако она вот умудряется.
Все до поры до времени, – подумала Эва, расстегивая боты, но тотчас себя одернула: – следуй правилу Лили – бойся после исполнения дела. Бояться заранее – слабость.
И вот теперь, когда перед ней не было ухоженных рук и немигающих глаз Рене Борделона, ее овеял мертвящий ветерок страха. Эва шумно выдохнула.
– Что, потряхивает? – Виолетта подняла голову, сверкнув очками. Полезная штука, эти очки, – подумала Эва. – Чуть поверни голову, и за бликами стекол глаз не разглядеть. – То ли еще будет, когда на пропускном пункте попадется въедливый охранник.
– Что вы знаете о Рене Борделоне? – Эва улеглась на жесткую койку и закинула руки за голову.
– Он поганый предатель. – Виолетта склонилась над шифровкой. – Что еще нужно знать?
Не лгите мне, – шепнул металлический голос. – Я вмиг распознаю ложь, мадмуазель.
– Боюсь, шпионить у него под носом будет очень непросто, – проговорила Эва, и пульсирующий страх в ее груди слегка зачастил.
Глава девятая
Чарли
Май 1947
– Нет, – отрезала Эва. – Я ненавижу Лилль и даже на ночь в нем не останусь.
– Выбирать не приходится, – спокойно сказал Финн, выглянув из-под капота. – Когда малышка снова заурчит, пора будет искать ночлег.
– Только не в сволочном Лилле. Хоть в темноте, но доедем до Рубе.
За последние сутки Эва меня уже достала.
– Ночуем в Лилле, – сказала я.
– Что, опять зашевелился твой пирожок в печке? – Эва буравила меня взглядом.
– Нет, просто за гостиницу плачу я.
Эва покрыла меня непечатными словами, еще крепче ее обычной ругани, и туда-сюда забегала по обочине. Ну и денек, – думала я, глядя, как Финн копается в нутре «лагонды». Почти бессонная ночь в дешевой руанской гостинице, тревожные сны, полные смутных кошмаров: бесконечные коридоры, в которых исчезает Роза, сопровождаемая злобным шипением матери: «Шлюха»… Потом долгая изнурительная поездка, язвительные замечания Эвы всякий раз, как из-за тошноты я просила остановиться, и, что еще хуже, каменное молчание Финна.
Шлюха, – шипела тетка в моих кошмарах, и я невольно вздрагивала. Я так радовалась началу новой жизни, упиваясь тем, что никому не ведомо, кто я такая и чем себя замарала. Но жизнь с чистого листа оказалась иллюзией. Теперь всем известно, что Чарли Сент-Клэр – шлюха, и все это благодаря бестактной старой кошелке, у которой рот что варежка.
На подъезде к Лиллю из-под капота «лагонды» повалил пар, и Финн, съехав на обочину, достал из багажника ящик с инструментами.
– Оживет она? – спросила я, когда он объявил, что дело, видимо, в клапанах, забрызганных маслом, потекшем радиаторе или шестеренках коробки передач. – До Лилля-то дотянем?
Финн обтер руки ветошью.
– Если только потихоньку, – сказал он под аккомпанемент Эвиной брани.
Я кивнула, не глядя на него. С тех пор как моя Маленькая Неурядица перестала быть тайной, я не могла смотреть ему в глаза. С Эвой было проще – спрячься в скорлупу цинизма и на хамство ответь хамством хлестче. Но Финна переиграть в молчанке невозможно. Мне оставалось лишь изображать полное безразличие.
Наконец мы сели в машину и поехали со скоростью улитки. Лилль показался весьма симпатичным городом. Дома из обожженного кирпича на фундаментах из белого известняка, окружавшие просторную главную площадь, напоминали о близости Бельгии. Город пережил оккупацию, но не был превращен в руины. Жизнь здесь казалась веселее, чем в Гавре: народ спешил за покупками, выгуливал собачек. Однако Эва с каждой минутой все больше мрачнела.
– Действия всякого гражданского лица, в том числе персонала городской управы, в помощь врагам Германии либо во вред ей и ее союзникам караются смертью, – неожиданно произнесла она, явно что-то цитируя.
Я покачала головой:
– Фашисты…
– Они тут ни при чем. – С каменным лицом Эва смотрела в окно.
Проезжая по набережной Дёли, мы миновали ресторанчик со столиками под полосатой маркизой, и мне вспомнилось прованское кафе, где я и Роза провели чудесный день. Больше нигде я не была так счастлива. Сейчас я позавидовала веснушчатой официантке в красном переднике – девушке моих примерно лет, которая несла поднос с багетом и кувшином вина. Она вдыхала аромат свежеиспеченного хлеба и знать не знала ни о какой Маленькой Неурядице.
Мысли мои нарушил голос Эвы, злой и холодный:
– Это здание надо было сжечь дотла, а пепелище присыпать солью, как делали в Средние века. И направить сюда воды подлинной Леты, чтобы даже памяти о нем не осталось.
Она смотрела на милый ресторанчик с арочным окном в золоченом переплете.
– Что с вами? – Финн глянул на нее через плечо.
Голос Эвы полнился яростью, но вся она как-то обмякла, съежилась и переплела изуродованные пальцы, точно стараясь унять их дрожь. Мы с Финном переглянулись, от удивления я даже забыла, что избегаю его взгляда.
– Надо найти отель, – тихо сказал он. – Поскорее.
Мы остановились у первой попавшейся гостиницы и сняли три номера. Портье неверно подбил сумму, я указала ему на ошибку, но он вдруг перестал понимать мой французский с американским акцентом. И тогда Эва, перегнувшись через стойку, выпустила очередь на чистейшем французском с северным выговором, от чего опешивший портье мгновенно переправил счет.
– Я не знала, что вы так хорошо говорите по-французски, – удивилась я.
– Уж получше тебя, америкашка. – Эва сунула нам ключи от комнат. – Спокойной ночи.
Я посмотрела на улицу за окном. Еще только смеркалось, а мы весь день не ели.
– Поужинать не хотите?
– У меня свой жидкий ужин. – Эва хлопнула по сумке, в которой звякнула бутылка. – Я собираюсь напиться в умат, но, если утром ты будешь ждать, пока я просплюсь, тебе кранты. Выезжаем на рассвете, я хочу поскорее убраться из этого гадюшника и, если что, уйду пешком.
Она скрылась в своем номере, и я поспешила в свой. Не было ни малейшего желания оставаться наедине с Финном.
Усевшись на узкую кровать, я поужинала скверными бутербродами. Потом в маленькой раковине простирнула белье и блузку. Видимо, скоро придется подкупить себе одежды. Затем, собравшись с духом, спустилась в холл, где был телефон. Я не собиралась посвящать мать в свои планы (а то еще заявится с полицией – ведь пока что я несовершеннолетняя), но просто известить, что я жива-здорова. Однако портье «Дельфина» сказал, что мать выехала из отеля. На всякий случай я оставила ей сообщение и, с тяжелым сердцем повесив трубку, пошла обратно в свой номер. Вдруг накатила страшная усталость. Весь день я просто сидела в машине, но чувствовала себя обессиленной напрочь. Последнее время это случалось часто, и я узнавала еще один признак Маленькой Неурядицы.
Отгоняя мысли о ней, я вошла в свою комнату. Завтра – в Рубе. По правде, ехать туда совсем не хотелось. Эва уверяла, что нужно переговорить с ее знакомой, которая может что-нибудь знать, но ведь я уже все выяснила у своей тетки. Розу отправили рожать в какой-то южный поселок, потом она перебралась в Лимож, где искала работу. Вот туда-то я и хотела поехать, а Рубе и сомнительная знакомая Эвы меня ничуть не интересовали.
Я присела на край кровати. В груди моей теплилась надежда, которой одарил жуткий час в обществе тети Жанны. Да, всеми силами я старалась себя убедить, что Роза могла уцелеть, и все равно противная мыслишка не давала покоя: твои родители правы – ее нет в живых. Иначе она, кого я любила как родную сестру, она, так боявшаяся одиночества, уже давно нашла бы способ дать знать о себе.
Но ведь все родные от нее отвернулись и, сплавив рожать ублюдка, умыли руки… А я знала Розин характер, гордый и вспыльчивый. Она бы никогда не вернулась в родительский дом, из которого ее вышвырнули.
И вполне понятно, почему она не поделилась своими бедами со мной. С какой стати? В нашу последнюю встречу я еще была девчонкой, которую нужно опекать, а не посвящать в свои неприятности. И потом, к позору постепенно привыкаешь. Не уверена, что я бы решилась написать Розе о своей Маленькой Неурядице, даже если б у меня был адрес. Встреться мы лицом к лицу, я бы, наверное, поплакала у нее на плече, но доверять такое бумаге – все равно что черным по белому расписаться в своем бесчестье.
Если Роза жива, она, может быть, и сейчас в Лиможе. Со своим ребенком. Мальчик у нее или девочка? – подумала я и тихонько рассмеялась. У Розы – ребенок! Я посмотрела на свой относительно плоский безобидный живот, одарявший меня попеременно тошнотой и усталостью, и глаза мои заволокло слезами.
– Ох, Роза, – прошептала я. – Как же мы так напортачили?
Да нет, напортачила я одна. Роза нашла свою любовь в облике продавца книжного магазина, участника Сопротивления. Наверное, такой парень мог ей понравиться. Интересно, этот Этьен блондин или шатен? Какой цвет волос достался ребенку? Что стало с Этьеном после ареста, жив ли он? Видимо, нет. Столько народу сгинуло, мы только начинаем понимать ужасающий размах потерь. Скорее всего, парень погиб, и Роза, если жива, осталась одна. Брошена, как в том прованском кафе.
Ненадолго, Роза. Я приду к тебе, клянусь. Я не сумела спасти своего брата, но еще был шанс спасти ее.
– И тогда я, возможно, пойму, что делать с тобой, – сказала я своему животу.
Я не хотела этого ребенка, я не знала, как мне быть. Но в последние дни тошнота внесла полную ясность: больше не выйдет просто игнорировать ситуацию.
За окном уже спустилась тихая и теплая французская ночь. Я забралась в постель, глаза мои слипались. Не скажу, успела ли я провалиться в сон до того, как дикий вопль распорол ночную тишину.
Он буквально сбросил меня с кровати. Сердце мое колотилось, во рту пересохло, а вопль все не стихал. Кричала женщина, и крик ее был полон ужаса и муки.
Я пулей вылетела в коридор, где увидела Финна, босого, в майке. Открывались двери других номеров.
– Что происходит? – выдохнула я.
Не ответив, Финн шагнул к двери между нашими номерами – единственной, из-под которой виднелась полоска желтоватого света. Вопль рвался из этой комнаты.
– Гардинер! – Финн задергал дверную ручку, и крик мгновенно осекся, словно кому-то полоснули ножом по взбухшему горлу. А я отчетливо услышала щелчок взведенного курка. – Гардинер, я вхожу! – Финн со всей силы саданул плечом в дверь.
Противно взвизгнули сорванные гвозди, хлипкая задвижка отлетела, свет из номера пролился в коридор. Эва высилась башней, седые космы ее растрепались, глаза напоминали бездонные ямы. Увидев Финна, из-за спины которого выглядывала я, она вскинула «люгер» и нажала собачку.
Я заорала и, повалившись на пол, свернулась клубком. Однако боек ударил в пустой патронник. Финн вырвал у Эвы пистолет, после чего она отхаркнула грязное ругательство и попыталась выцарапать ему глаза, но шотландец отбросил «люгер» на кровать и схватил ее за костлявые запястья. Финн обернулся ко мне, я с изумлением увидела, что он абсолютно спокоен.
– Пока кто-нибудь не вызвал полицию, разыщите ночного портье и уверьте его, что все в порядке, – сказал он, не выпуская Эву, матерившуюся на французском и немецком. – Нам ни к чему среди ночи искать другую гостиницу.
– Но как же… – Я не могла отвести глаз от пистолета, валявшегося на кровати.
Она стреляла в нас. Только сейчас я заметила, что руки мои крепко обхватили Маленькую Неурядицу.
– Скажите, ей привиделся кошмар.
Финн посмотрел на Эву. Ругаться она перестала и лишь хрипло, прерывисто дышала. Глаза ее невидяще уставились в стенку. Она явно пребывала неведомо где.
Услышав возмущенное брюзжание, я обернулась и увидела заспанного хозяина гостиницы.
– Ради бога, простите, – сказала я по-французски и поспешно прикрыла дверь, скрывая странную живую картину. – Бабушке моей приснился кошмар…
Медоточивые речи на корявом французском я, заскочив в свой номер, подкрепила горстью франков. Наконец хозяин отбыл, и я осмелилась заглянуть в соседнюю комнату.
Финн усадил Эву в углу, откуда хорошо просматривались дверь и окно. Он накинул одеяло ей на плечи, а стул развернул так, чтобы она могла привалиться затылком к стене. Присев на корточки, он тихонько с ней разговаривал; потом медленно положил фляжку с виски ей на колени.
Эва что-то пробормотала. Мне послышалось имя «Рене», и я вся покрылась мурашками.
– Его здесь нет, – успокоил Финн.
– Эта тварь во мне, – прошелестела Эва.
– Я понимаю. – Рукояткой вперед Финн подал ей «люгер».
– Вы с ума сошли? – просипела я, но он остерегающе вскинул руку.
Эва молчала, мутный взгляд ее перебегал с двери на окно. Изуродованные пальцы вцепились в пистолет.
Я попятилась в коридор, когда Финн встал и, шлепая босыми ногами, пошел к выходу. Потом он тихо притворил дверь и сильно выдохнул.
– Зачем вы отдали ей пистолет? – прошептала я. – Окажись он заряжен, кто-то из нас уже был бы трупом!
– А кто, по-вашему, вынул патроны? – Финн смерил меня взглядом. – Я делаю это каждый вечер. Она меня костерит, но возразить не может, поскольку в мой первый рабочий день чуть не отстрелила мне ухо.
– Ничего себе!
Финн глянул на дверь.
– Теперь все будет нормально до самого утра.
– И часто с ней такое?
– Время от времени. Что-то на нее находит. То запаникует в толпе, то примет за взрыв грохот рухнувших лесов. Предсказать невозможно.
Я отметила, что руки мои все еще прижаты к животу. Маленькую Неурядицу я всегда считала не чем иным, как досадной помехой, однако, увидев пистолет, первым делом прикрыла ее. Я опустила руки, меня всю трясло. Уже давно я не чувствовала себя такой живой, когда ощущаешь каждую свою жилку, каждый волосок, каждую клеточку.
– Мне надо выпить, – сказала я.
– Мне тоже.
Мы прошли в номер Финна, что не вполне соответствовало приличиям, поскольку я была лишь в нейлоновой комбинации, которую использовала как ночную сорочку. Но я велела заткнуться противному голоску в моей голове. Финн зажег свет и достал из сумки фляжку, несравнимо меньше той, что положил на колени Эвы.
– Стаканов, извините, нет.
Он не прибавил «мисс», а я пожала плечами – мол, другого не ожидала, – уже прекрасно зная, какое вырисовывается уравнение.
– Обойдусь без стакана. – Я сделала добрый глоток, смакуя обжигающий виски. – Так что ж получается? Рене. Выходит, Эва его знает. Если он тот самый Рене, у которого работала Роза…
– Без понятия. Знаю только, что в таком состоянии она часто выкрикивает это имя.
– Почему вы мне об этом не сказали?
– Потому что я служу у нее. – Финн хлебнул из фляжки. – Не у вас.
– Ну вы и парочка! – Я фыркнула. – Сплошь секреты, не подступись.
– И на то есть веские причины.
Вспомнился сдавленный голос Эвы, процитировавшей угрозу смерти врагам Германии. Что-то в ней выдавало фронтовичку. Мой встревоженный любящий взгляд ловил перемены в брате, вернувшемся с войны, встречала я и других ветеранов, с которыми танцевала и разговаривала на вечеринках, надеясь распознать в них то, что подскажет, как помочь Джеймсу. Ничего не вышло. Никакие мои усилия брату не помогли, из-за чего до сих пор я казнилась. Но я знала, как выглядит фронтовик, и Эва полностью соответствовала этому облику.
– Думаете, завтра с ней все будет в порядке? – спросила я. Наутро после подобного приступа Джеймс не выходил из своей комнаты.
– Надеюсь. – Перегнувшись через подоконник, Финн посмотрел на ряд фонарей и задумчиво прихлебнул виски. – Обычно утром она держится так, будто накануне ничего не произошло.
Хотелось еще что-нибудь вызнать, но от всех этих тайн и Эвиных закидонов разболелась голова. На время забудем о них, решила я и подсела к Финну на подоконник. Что там было в исходном уравнении? Парень плюс девушка, помноженное на спиртное. Теперь добавим тесное соседство.
– Значит, завтра будем в Рубе, если машина не подведет. – Мое плечо коснулось плеча Финна.
– У меня не забалует. – Он передал мне фляжку.
– Вы так ловко орудуете инструментами. Где научились? – Меня снедало любопытство – в тюрьме, что ли?
– Я автомеханик с младых ногтей. В колыбели играл гаечными ключами.
Я приложилась к фляжке.
– Можно завтра я сяду за руль? Или вы никого не подпускаете к своей «лагонде?»
– Вы водите машину? – Финн удивился, как в тот раз, когда узнал о моей работе. – Я думал, ваша семья держит шофера.
– Мы не Вандербильты. Да, я вожу. Брат научил.
Сладкое воспоминание, проникнутое болью: на «паккарде» Джеймса мы удрали с семейного пикника, и он дал мне урок вождения. Наверное, ему просто хотелось избавиться от шумных родичей. Но он оказался хорошим учителем.
Брат взъерошил мне волосы и сказал: Обратно поведешь сама, теперь ты мастер. Когда я гордо подрулила к дому, мы еще посидели в машине, оттягивая возвращение в семейный гвалт. Я попросила Джеймса быть моим кавалером на все последующие танцы: мы сядем в сторонке и будем потешаться над девицами из женского клуба. Брат ухмыльнулся: Отличная идея, сестрица. Я тешу себя мыслью, что хоть раз помогла ему справиться с его состоянием.
А через три недели он застрелился.
Я сморгнула, отгоняя тягостное воспоминание.
– Возможно, когда-нибудь я пущу вас за руль. – Финн посмотрел на меня, в темных волосах его играли блики света. – Только будьте терпеливы с Гардинер. Она непростая дама. Слегка чокнутая, к ней нужен особый подход. Однако она всегда выкарабкивается.
– Избавьте меня от ваших шотландских иносказаний. – Я сделала еще глоток и отдала ему фляжку, соприкоснувшись с ним пальцами. – Сейчас два часа ночи.
Финн усмехнулся и опять посмотрел на фонари. Я ждала, что он придвинется ко мне, но шотландец опорожнил фляжку и пересел на приступку под окном.
Внутренний голос вновь принялся нашептывать мне всякие пакости. Не дав ему разговориться, я закончила уравнение: парень плюс девушка, помноженное на спиртное и тесное соседство, равняется… Я забрала фляжку из руки Финна, верхом села к нему на колени и поцеловала, ощутив мягкость его губ со вкусом виски и шершавость его небритого подбородка. Через секунду-другую он отстранился.
– Что вы делаете?
– А как ты думаешь? – Я обвила руками его шею. – Предлагаю со мною переспать.
Финн медленно обвел меня взглядом. Я чуть шевельнулась, и бретелька комбинации как бы невзначай упала с моего плеча. Руки Финна скользнули по моим голым бедрам, оседлавшим его, добрались до края комбинации, но продолжили свой путь не под нее, а поверху и крепко взяли меня за талию, удерживая от очередного поцелуя.
– Похоже, сегодня ночь сюрпризов, – сказал Килгор.
– Да? – Сквозь тонкую ткань комбинации я чувствовала тепло его крупных рук. – Я думала об этом весь день. (Если точнее, с того момента, как он закатал рукава рубашки и стал копаться в моторе. Его мощные бицепсы не шли ни в какое сравнение с квелыми лапами моих рыхлых однокурсников.)
– С какой стати приличной девушке прыгать в койку к бывшему уголовнику? – Голос его чуть осип, но звучал ровно.
– Я вовсе не приличная девушка. Эва это прояснила. И потом, никто не требует ухаживаний и знакомства с родителями, – сказала я и добавила в лоб: – Перепихнемся, и все.
Брови Финна взлетели.
– Хотя мне очень интересно, за что ты сидел, – призналась я, водя пальцем по его шее.
– Я украл лебедя из королевских ботанических садов. – Он по-прежнему держал меня на отлете.
– Врешь.
– Умыкнул бриллиантовую диадему из сокровищницы лондонского Тауэра.
– Опять врешь.
В тусклом свете глаза его казались черными и бездонными.
– Тогда зачем спрашивать?
– Мне нравится, как ты врешь. – Я вновь обняла его за шею и запустила пальцы в его мягкие волосы. – Чего мы тянем-то?
Обычно парни распускали руки, стоило выключить свет. А Финн – другой, что ли? С тех пор как Эва разъяснила, кто я такая, я все ждала, что он отбросит политес и попытается затащить меня в койку. К такому я привыкла. Я могла отшить его либо согласиться, и я уже выбрала второй вариант. А вот к прелюдиям я не привыкла. Пусть не красавица, но я доступна, и обычно этого хватало, чтобы мужские руки раздели меня без моей помощи.
Однако Финн ничего не предпринимал, только взгляд его переместился на мой живот.
– У вас есть жених?
– Ты видишь кольцо?
– Тогда кто это сделал?
– Гарри Эс Трумэн.
– И кто из нас врун?
Теплый воздух словно загустел. Я шевельнула бедрами и почувствовала отклик Финна. Ясно, чего он хочет. Так почему же не берет?
– Какая тебе разница, кто меня обрюхатил? – прошептала я и снова чуть поерзала. – Главное, чехол тебе уже не понадобится.
– Это гадко, – тихо сказал Финн.
– Зато честно.
Он притянул меня к себе, лицо его было невыносимо близко. Меня охватил нестерпимый зуд.
– Зачем вы это затеяли? – спросил Финн.
«Шлюха!» – гулко прозвучал в моей голове голос то ли матери, то ли тетки. Я вздрогнула, но притворилась, будто пожимаю плечами.
– Я же потаскуха, – сказала я беспечно. – Потаскухи, как известно, дают всем. А тут такой красавчик. Зачем упускать возможность?
Финн улыбнулся. Не усмехнулся краем рта, как обычно, а широко улыбнулся.
– Придумайте что-нибудь получше, Чарли, голубушка, – сказал он, и я успела подумать, как приятно мне слышать свое имя, произнесенное этим голосом с мягким шотландским выговором.
Финн поднял меня, точно куклу, поставил на пол, встал и распахнул дверь номера. Я почувствовала, что краснею до корней волос.
– Спокойной ночи, мисс. Хороших снов.
Глава десятая
Эва
Июнь 1915
Через два дня Эва дебютировала в роли шпионки и работницы «Леты». Вторая ипостась оказалась изнурительнее: Рене Борделон требовал полного совершенства, а за два дня подготовки его не достигнешь. Но Эва достигла. Неуспешный вариант ею даже не рассматривался. Эва назубок затвердила все правила, которые металлический голос хозяина вдалбливал двум новым официанткам, прежде чем они заступили в свою первую смену.
Темное платье, аккуратная прическа.
– Вы должны быть незаметны, вы – тень.
Легкая поступь, семенящий шаг.
– Плавность во всех движениях. Нельзя прерывать беседу гостей.
Все делать молча, никаких обращений к клиентам, даже шепотом.
– От вас не требуется запоминать карту вин и принимать заказы. Ваше дело – подать блюда и потом унести тарелки.
Вино разливать, изящно согнув руку.
– В «Лете» изящно все, даже то, что остается незамеченным.
И последнее, самое главное:
– Нарушение правил повлечет за собой увольнение. В Лилле полно голодных девушек, жаждущих занять ваше место.
В городе, который с заходом солнца погружался во тьму, ресторан, оживавший вечером, представлял собою удивительный пятачок света, тепла и музыки. Эве, когда она, облаченная в темное платье, стояла в указанном ей углу, вспоминалась легенда о вампирах. Дабы не тратить на освещение дефицитные керосин и уголь, горожане ложились спать еще до наступления комендантского часа. Вечерами по улицам разгуливали только немцы, словно упыри, торжествующие свое неоспоримое господство. Громогласные и расфуфыренные, они приходили в «Лету», где их приветствовала радушная улыбка Рене Борделона, в отменно сшитом смокинге встречавшего гостей. Он точно Ренфилд из романа Брэма Стокера: ничтожный трус в услужении у сомнамбул, – подумала Эва, но тотчас себя одернула: – Не фантазируй. Навостри уши и отключи мозги.
Весь вечер она двигалась, как грациозный автомат: бесшумно уносила тарелки, смахивала крошки со скатерти, наполняла опустевшие бокалы. Казалось, нет никакой войны: негасимые свечи, белый хлеб с маслом, вино рекой. Немцы любили хорошо поесть, и потому половина продуктов черного рынка оседала здесь.
– Такая мука смотреть на еду! – прошептала вторая новенькая официантка, широкобедрая молодая вдова, оставшаяся с двумя малышами на руках.
Сглатывая слюну, она уносила в кухню недоеденные блюда, и это в городе, где жители буквально вылизывали тарелки. А тут куски телятины в соусе бешамель… У Эвы тоже урчало в животе, но она остерегла напарницу, глянув на мсье Борделона, кружившего по залу, точно элегантная акула:
– Не вздумай! Ты же з-знаешь, ни крохи до конца смены.
После работы все остатки соберут и поделят между персоналом. Здесь все были голодны, и потому любой сотрудник охотно настучит хозяину, что коллега украл кусок, не дождавшись честной дележки. Циничная система Борделона просто восхищала: он учредил награду, которая удерживала от воровства и поощряла шпионить друг за другом.
Но клиенты были еще хуже натянутых, недружелюбных коллег. Ничего не стоило возненавидеть немцев, увидев вблизи, что они из себя представляют. В первую неделю Эвиной работы комендант Хоффман и генерал фон Хайнрих, окруженные адъютантами, трижды приходили в ресторан, дабы шампанским и перепелами отметить очередную германскую победу. Гоготавшая компания всякий раз приглашала Борделона на стаканчик послеобеденного бренди, когда, развалившись на стульях, угощала друг друга сигарами из серебряных портсигаров с монограммой. Эва надеялась что-нибудь услышать, но не могла, не привлекая внимания, слишком долго менять графины с водой, да и потом эти высокие чины говорили вовсе не о планах сражений или размещении орудий, но дотошно обсуждали достоинства своих любовниц, споря, натуральная ли блондинка очередная наложница генерала.
А вот на четвертый вечер, когда Эва неслышно прибыла с заказанным Хоффманом коньяком, она уловила конец его фразы, сказанной, естественно, по-немецки:
– …разбомбили, однако через четыре дня прибудет новая артиллерийская батарея. Ее разместят…
От неописуемой радости сердце Эвы замедлило свой ритм. Очень и очень неспешно наполняя бокал коменданта, она запоминала дислокацию орудий. Руки ее, надо заметить, ничуть не дрожали. Обслужив Хоффмана, Эва мысленно взмолилась о поводе задержаться у стола. Видимо, бог услышал ее молитвы, потому что один адъютант щелкнул пальцами, требуя коньяку, и спросил о калибре и дальнобойности новых пушек. Эва перешла к нему и тут поймала на себе взгляд мсье Борделона, за соседним столиком дружески беседовавшего с гауптманом и двумя лейтенантами. В панике Эва крепко сжала бокал – вдруг по ее лицу ясно, что она понимает, о чем говорят за столом? Если хозяин заподозрил, что Маргарита Ле Франсуа владеет немецким…
Нет, никто ничего не заметил, – сказала себе Эва. Она придала лицу полную бесстрастность и, наливая коньяк в бокал, не забыла изящно согнуть локоть, удостоившись одобрительного кивка Борделона. Взмахом руки комендант ее отпустил, и она невозмутимо заскользила к своей нише, унося с собой бесценные сведения о новом расположении немецких орудий вокруг Лилля.
До конца смены Эва лихорадочно повторяла про себя номера частей, фамилии командиров и характеристики орудий, боясь что-нибудь забыть. Примчавшись домой, она все записала, как учили в Фолкстоне, на клочке рисовой бумаги, потом обернула им шпильку, воткнула ее в узел волос и лишь тогда облегченно выдохнула. Когда следующим вечером появилась Лили, Эва, церемонно склонив голову, точно победитель, увенчанный лаврами, выдернула шпильку из прически и вручила ее своей начальнице.
Прочитав донесение, Лили радостно вскрикнула, обняла и расцеловала Эву в обе щеки.
– Боже мой! Я знала, что из тебя выйдет толк!
Если б здесь была Виолетта с ее вечно неодобрительным взглядом за круглыми очками, Эва попыталась бы скрыть свое ликование, но перед Лили она зашлась счастливым смехом, который сдерживала в себе с прошлого вечера.
– Вот только я себе глаза сломаю, пока перенесу это в общее донесение! – Лили сощурилась на крохотный бумажный клочок. – В следующий раз просто запиши шифром.
– Я п-потратила четыре часа, – огорчилась Эва.
– Новички всегда прилагают массу лишних усилий. – Лили рассмеялась и потрепала ее по щеке. – Не куксись, работа отличная! Я передам сведения дяде Эдварду, и уже в следующий четверг батарею разнесут к чертовой матери.
– Так б-быстро? Прямо через восемь дней?
– Конечно. У меня самая резвая сеть во Франции. – Лили вновь обернула шпильку бумажным клочком и воткнула ее в свою прическу. – Скоро тебе не будет цены, маргаритка. Я это чую.
Подвижное лицо ее сияло неприкрытой радостью, отчего казалось, будто унылую комнатку осветил пограничный прожектор, и Эва сама невольно заулыбалась. Она это сделала – применила полученные навыки, исполнила свой долг. Она стала шпионкой.
Похоже, Лили догадалась, какие чувства обуревают ее соратницу, потому что опять засмеялась и плюхнулась на стул, единственный в комнате.
– Невероятный кайф, правда? – сказала она, словно делясь пикантным секретом. – Наверное, нехорошо так говорить, ибо помощь прекрасной Франции в борьбе с врагом – дело весьма серьезное, но уж больно оно заводит. Никакое другое занятие не даст такого удовлетворения, как шпионство. Мамаши скажут, ничто не сравнится с рождением и воспитанием детей, но что они понимают, дуры, отупевшие от нескончаемой рутины. По мне, уж лучше риск схлопотать пулю, чем ежедневная возня с обгаженными пеленками.
– Знаешь, меня заводит тот момент, – поделилась Эва, – когда я отхожу от столика, а увешанные побрякушками хмыри потягивают коньяк и дымят сигарами, ни сном ни духом не ведая… – От захлестнувшей ее радости она совсем не заикалась и позже, вспоминая этот разговор, сама тому удивилась.
– Да пошла она, эта немчура! – Лили положила на стол обрывок старой нижней юбки. – Давай-ка я покажу тебе свой способ зарисовки карт. Наносишь сетку координат, это очень удобно для обозначения коммуникаций…
Захудалая комнатушка казалась светлее «Леты», озаренной сотнями свечей. Покончив с картографированием, еще долго не ложились. Лили прихлебывала где-то раздобытый коньяк и рассказывала истории из своей практики:
– Однажды сволочной охранник всю меня обыскал, а украденные депеши были спрятаны на дне коробки с тортом. Видела бы ты лицо дяди Эдварда, когда он получил секретные документы, обляпанные глазурью!
– Скажи ему обо мне, когда передашь мое донесение, – попросила Эва. – Я хочу, чтобы он мною гордился.
Склонив голову набок, Лили окинула ее озорным взглядом:
– Никак ты влюбилась, маргаритка?
– Чуть-чуть, – призналась Эва. – У него такой красивый голос…
А еще он разглядел в ней способность быть здесь и делать это. Хоть чуть-чуть не влюбиться в капитана Кэмерона было очень трудно.
– Ах ты, черт! – рассмеялась Лили. – Я сама-то в него едва не втюрилась. Не бойся, подам тебя во всей красе. Не исключено, что как-нибудь вы встретитесь – время от времени он с каким-то страшно секретным заданием выезжает на оккупированную территорию. Если увидитесь, обещай, что приложишь все силы, дабы сорвать с него этот твидовый панцирь.
– Лили! – Эва покатилась со смеху. Уже и не вспомнить, когда последний раз она так смеялась. – Он женат!
– И что, разве это мешает? Та стерва ни разу не проведала его в тюрьме.
Выходит, Лили знала о тюремном сроке капитана.
– Я думала, биографии рассекречивают лишь в крайней необходимости…
– Этот факт его биография известен всем, о нем писали в газетах, тут никакой тайны. Он сел вместо жены, а она, насколько я знаю, его вообще не навещала.
Эва возмущенно фыркнула, и Лили усмехнулась:
– Так что, завлекай его. А если ты боишься мук совести из-за такой ерунды, как адюльтер, потом потратишь десять минут на исповедь и разок-другой прочтешь «Отче наш».
– Знаешь, мы, протестанты, верим в искреннее раскаяние, а не в откуп рутинными молитвами.
– Вот это вот чувство вины и мешает англичанам быть хорошими любовниками, – заявила Лили. – Но война все спишет, и сейчас даже англичане имеют оправдание для шалостей. Когда в любой момент немецкий штык может оборвать твою жизнь, нельзя, чтоб мещанская мораль воспрепятствовала славному кувырканию в кровати с твидовым женатиком, отсидевшим в тюрьме.
– Я этого не слышала, – хихикнула Эва, зажав руками уши.
И так до поздней ночи они веселились, отмечая победу Эвы. Улыбка не сходила с ее лица и утром, когда, проснувшись, она увидела, что Лили уже ушла, оставив на столе записку: «Работай, только не заносись. Через пять дней загляну».
За пять дней, – думала Эва, в темном платье шагая к ресторану, – я добуду новую информацию. В этом она ничуть не сомневалась. Вышло раз, выйдет и другой.
Наверное, похвала Лили и мысли об улыбчивых глазах англичанина в твиде все-таки придали ей слегка заносчивый вид, когда через служебный вход она вошла в зал ресторана. Там ее встретил развалившийся в кресле Рене Борделон, который бесцветно произнес:
– Скажите правду, мадмуазель Ле Франсуа, откуда вы родом?
Эва обомлела. Внешне это никак не проявилось: она сдернула шляпку и, руками в перчатках прижав ее к груди, изобразила искреннее недоумение – реакцию простушки, хорошо ею освоенную. Но внутри всего за один сердечный такт она рухнула с сияющих высот в ледяную бездну.
– Простите, мсье?
Борделон встал и направился к лестнице, что вела в его апартаменты.
– Ступайте за мной.
Вновь неприличие комнаты, где плотно задернутые шторы не впускали мрачность военного времени, где керосиновые лампы, расточительно зажженные днем, были пощечиной всем, затянувшим пояса. Эва встала возле мягкого кожаного кресла, в котором неделю назад успешно прошла собеседование, и затаилась, точно зверек, в кустах пережидающий проход охотника. Что ему известно? Что смог разузнать?
Да ничего он не знает. Как и сама Маргарита Ле Франсуа.
Борделон опустился в кресло и, сложив длинные пальцы домиком, уставил немигающий взгляд на Эву, сохранявшую недоуменное выражение.
– Я д-допустила ошибку в работе, м-мсье? – наконец спросила она, когда стало ясно, что хозяин не нарушит молчание первым.
– Напротив, вы справляетесь отлично. Все понимаете с первого раза, обладаете природной грацией. А вот вторая девушка – увалень. Я решил ее заменить.
Тогда почему он вызвал меня? – подумала Эва, огорчившись за широкозадую Амели с двумя детьми.
– Вы устраиваете меня всем, кроме одного. – Борделон еще ни разу не мигнул. – По-моему, вы солгали о месте своего рождения.
Нет, он не мог прознать, что я наполовину англичанка, – подумала Эва. – Мой французский безупречен.
– Так откуда вы родом?
Он знает.
Ни черта он не знает.
– Из Рубе. Это записано в моем паспорте. – Эва полезла в сумочку, обрадовавшись возможности пошевелиться и отвести взгляд.
– Я знаю, что там записано: Маргарита Дюваль Ле Франсуа, уроженка Рубе. – Борделон даже не взглянул на паспорт. – Но ведь это не так.
– Так, мсье. – Она контролировала свое лицо.
– Ложь.
Эву качнуло. Уже давно никто не ловил ее на лжи. Видимо, Борделон подметил ее скрытое изумление; он холодно улыбнулся:
– Я же говорил, что вмиг распознаю ложь. Вам интересно, как я догадался? У вас выговор жителя иной области – Лотарингии, если не ошибаюсь. Я частенько бывал в тех краях – закупал вина для своих подвалов – и тамошний диалект знаю не хуже местных сортов винограда. Так почему в документах сказано, что вы из Рубе, когда ваши гласные говорят о Томблене?
Ну и слух у него! Томблен стоял на противоположном берегу от Нанси, в котором выросла Эва. Она замешкалась, а в голове у нее прозвучал тихий, спокойный голос с шотландским налетом: Если приходится врать, лучше всего сдобрить ложь максимально возможной правдой. Однажды это сказал капитан Кэмерон, когда на безлюдной косе они стреляли по бутылкам.
Рене Борделон ждал правды.
– Нанси, вот г-г-г-г…
– Где вы родились?
– Да, м-м-м-м…
Борделон прервал ее нетерпеливым жестом:
– А зачем солгали?
Эва надеялась, что полуправда будет убедительной, ибо ничего другого не придумалось.
– Нанси неподалеку от Г-г-германии, – поспешно сказала она, изображая растерянность. – Во Франции нас считают предателями, стакнувшимися с немцами. Я понимала, что в Лилле все меня возненавидят, работы я не н-найду и буду голодать. Потому и с-с-солгала.
– Где вы достали фальшивые документы?
– Они не фальшивые. Я заплатила п-п-паспортисту, и он вписал другой город. Пожалел меня.
Хозяин откинулся в кресле, подушечками пальцев постукивая друг о друга.
– Расскажите о Нанси.
Эва порадовалась, что не стала выдумывать другой город. Нанси она знала прекрасно и могла рассказать о нем несравнимо больше того, что заучила о Рубе. Эва начала перечислять улицы, церкви, достопримечательности, знакомые с детства. Щеки ее горели, она ужасно заикалась, но тихим голосом вела рассказ, наивно распахнув глаза.
Видимо, получилось достоверно, ибо ее оборвали на полуслове:
– Ясно, что город вы знаете хорошо.
Не успела Эва перевести дух, как Борделон, склонив набок приплюснутую голову, продолжил допрос:
– Близость города к германской границе способствует большому числу смешанных браков. Скажите, мадмуазель, вы владеете немецким? Солжете опять, и я вас вышвырну немедленно.
И вновь Эва заледенела до самых пят. Борделон даже слышать не хотел об официантке, владеющей немецким. Образ «Леты» как оазиса конфиденциальности гарантировал ему высокие доходы от немецких клиентов. Сейчас взгляд его, острый, точно скальпель, ловил малейшие изменения в лице собеседницы.
Соври, – приказала себе Эва. – Выдай лучшую в своей жизни ложь.
Она ответила Борделону прямым бесхитростным взглядом и, ни разу не заикнувшись, проговорила:
– Нет, мсье. Отец ненавидел немцев. Он не желал, чтобы их язык звучал в его доме.
Повисла долгая пауза. Тиканье золотых часов едва не прикончило Эву, но она не отвела взгляд.
– А вы их ненавидите? – наконец спросил Борделон.
Эва не рискнула солгать второй раз кряду. Взамен она переступила с ноги на ногу и, потупившись, позволила губам задрожать.
– Когда они оставляют недоеденной половину порции мяса под корочкой, – тихо вымолвила Эва, – трудно удержаться от ненависти к ним. Только для безудержной ненависти у меня нет сил. Я д-должна как-то приладиться, иначе не д-доживу до конца войны.
Борделон негромко рассмеялся:
– Нечасто встретишь такой взгляд на жизнь. Во многом я его разделяю, мадмуазель, но с той лишь разницей, что приладиться мне мало. – Он обвел рукой свой роскошный кабинет. – Я хочу процветать.
Эва ничуть не сомневалась, что в этом он преуспеет. Поставь выгоду превыше всего прочего – родины, семьи, Бога – и своего добьешься.
– Скажите, Маргарита Ле Франсуа, – Борделон говорил почти игриво, но Эва ни на миг не расслаблялась, – а вам не хотелось бы не просто выживать, но благоденствовать?
– Я п-простая девушка, мсье. У меня очень скромные запросы. – В распахнутых глазах Эвы плескалось отчаяние. – Умоляю никому не говорить, что я из Н-нанси. Если станет известно, что я из тех краев…
– Могу себе представить. – Борделон понимающе сощурился. – Здешний народ – страстный патриот. И может быть суровым. Ваш секрет останется при мне.
Он из тех, кто любит секреты, – подумала Эва. – Когда они хранятся у него.
– Б-благодарю вас, мсье. – Она схватила его за руки, неуклюже их пожала и, склонив голову, так прикусила себе щеку, что из глаз ее брызнули слезы. – Спасибо вам.
Хозяин не успел возмутиться беспардонностью работницы, хватающей его за руки, – Эва выпрямилась и оправила платье.
– Вы изящны, даже когда испуганы, – вдруг сказал Борделон по-немецки.
Он вновь впился взглядом в ее лицо, ища хоть малейший признак того, что фразу его поняли, но Эва лишь тупо заморгала:
– Простите, мсье?
– Нет, ничего. – Борделон улыбнулся, а у Эвы возникло ощущение, будто он снял палец со спускового крючка. – Можете идти.
Ногти ее оставили глубокие следы в ладонях, но она вовремя разжала кулаки, чтобы, не дай бог, не капнула кровь. Рене Борделон это заметил бы. Уж он бы не проглядел.
Ты увернулась от пули, – думала Эва, ожидая, что теперь, после миновавшей опасности, накатит дурнота. Но внутри все будто заледенело. Ибо опасность вовсе не миновала. Пока она работает и шпионит под зорким хозяйским взглядом, опасность не минует. Эва всегда была хорошей лгуньей, но сейчас впервые в жизни засомневалась, достанет ли ей умелости.
Бояться некогда, – сказала она себе. – Это слабость. Навостри уши и отключи мозги.
И приступила к работе.
Глава одиннадцатая
Чарли
Май 1947
– Вон как! – Эва вскинула брови, когда я забралась на заднее сиденье. – Вдруг расхотела дышать одним воздухом с уголовником?
– Не хочу иметь за спиной вас, – парировала я. – Вчера вы пытались меня пристрелить.
Эва сощурила глаза, с утра, как всегда, налитые кровью.
– И явно промазала. Всё, валим отсюда к чертовой матери, едем в треклятый Рубе.
Финн не ошибся в своем предсказании: Эва, мрачная и опухшая, залезла в машину, кряхтя, точно древняя старуха, однако ни словом не обмолвилась о вчерашней сцене с «люгером». Шотландец покопался в моторе, тихо и ласково приговаривая: «Будет тебе артачиться, старая железяка», и затем, пощелкав тумблерами, запустил двигатель.
– Ну, двинули потихоньку, – сказал он, включая заскрежетавшую передачу.
Да уж, «двинули потихоньку» – вовсе не в стиле Чарли Сент-Клэр. Ее стиль – накатить виски, залезть к тридцатилетнему мужику на колени и предложить перепихнуться.
Плевать, что он обо мне думает, – говорила я себе, однако от униженности перехватывало горло.
Я вздрогнула, когда гадкий внутренний голос опять обозвал меня шлюхой. Наверное, вскоре можно будет распрощаться с моими попутчиками. Нынче Эва переговорит со своей знакомой, которая, возможно, что-нибудь знает о Розе и ее работе в лиможском ресторане, после чего ей уже будет незачем торчать возле меня. Тем более что я ей не нравлюсь. Я с ней расплачусь, и пусть себе катит домой вместе со своим «люгером» и бывшим уголовником, а я, как цивилизованный человек, поездом доберусь до Лиможа. Вычтем из уравнения шотландца и вооруженную англичанку, и тогда сумасшедшая американка сможет вести свои сумасшедшие поиски, не обременяя себя обществом компаньонов, еще более ненормальных.
– Мы должны попасть в Рубе сегодня, – сказала я, и Финн посмотрел на меня через зеркало заднего вида.
Чем скорее все закончится, тем лучше.
Как нарочно, день, когда и машина, и попутчики уже встали поперек горла, выдался исключительно приятным для поездки: яркое майское солнце, бегущие по небу облака. Финн опустил верх машины, что ни у кого не вызвало возражений, даже у Маленькой Неурядицы, в кои-то веки решившей просто покататься и не мучить меня тошнотой. Подперев рукой подбородок, я смотрела на проплывавшие поля, и пейзаж почему-то казался знакомым. Тут в голове у меня щелкнуло. Через несколько лет после той поездки, когда нас с Розой забыли в прованском кафе, мы, опять двумя семьями, отправились в новое путешествие и колесили по окрестностям Лилля. Весь день нудно осматривали церкви и памятники, а потом в гостиничном номере Роза скатала ковер и стала учить меня танцу линди-хоп.
– Ну же, Чарли, свободнее, отпусти себя…
Она так быстро вертелась, что кудряшки ее подпрыгивали. Высокая и довольно грудастая для тринадцати лет кузина поведала, что уже целовалась.
– С сыном садовника Жоржа. Ужас! Всю меня обмусолил!
Видимо, я улыбнулась воспоминанию, потому что Эва сказала:
– Приятно, что хоть к-к-кому-то здесь нравится.
– А вам – нет? – Я подставила лицо солнышку. – Уж лучше быть здесь, чем любоваться руинами Лондона или Гавра.
– И сам я воронов на тризну пригласил, чтоб остов смрадный им предать на растерзанье[1], – произнесла Эва и, заметив мою растерянность, пояснила: – Это строка из Бодлера, невежественная америкашка. Стихотворение называется «Le M-mort Joyeux».
– «Веселый мертвец»? – перевела я и сморщила нос: – Фу!
– Жутковато, – согласился Финн.
– Весьма, – поддакнула Эва. – Его любимые стихи.
– Чьи? – поинтересовалась я, но она, конечно, не ответила.
Либо матерится, либо говорит загадками – третьего не дано. Разговаривать с ней – все одно что общаться с сильно пьющим сфинксом. Я закатила глаза и, поймав в зеркале улыбку Финна, вновь уставилась на пейзаж.
Впереди замаячил Рубе. Пыльный городок, гораздо тише Лилля. Миновали симпатичную ратушу и готического вида церковь со шпилями. Эва передала Финну бумажку с накорябанным адресом, и мы, заехав в узкую мощеную улочку, остановились перед чем-то вроде антикварной лавки.
– Здесь та женщина, с кем вы хотите поговорить? – удивилась я. – Кто она?
Эва вылезла из машины и лихо отщелкнула окурок в сточную канаву.
– Просто человек, который меня ненавидит.
– Вас ненавидят все, – не сдержалась я.
– Этот – больше других. Пошли со мной или останься, как хочешь.
Не оглядываясь, Эва зашагала к антикварной лавке. Я выбралась из машины, а Финн, опершись локтем о дверцу, опять принялся листать старый журнал.
Сердце мое сильно стучало, когда следом за Эвой я вошла в сумеречную прохладу тесного, но уютного магазинчика. В дальнем конце его виднелся прилавок, вдоль стен выстроились высокие шкафы красного дерева, заставленные мерцающим фарфором: мейсенские вазы, чайные сервизы от Споуда, севрские пастушки и бог знает что еще. За прилавком хозяйка во всем черном огрызком карандаша что-то записывала в журнал; услышав звякнувший колокольчик, она подняла голову.
На носу этой крепко сбитой женщины, с виду ровесницы Эвы, сидели идеально круглые очки, темные волосы ее были собраны в аккуратный пучок. Лицо, изборожденное глубокими морщинами, говорило о нелегко прожитой жизни.
– Чем могу служить, дамы?
– Кое-чем, – ответила Эва. – Хорошо выглядишь, Виолетта Ламерон.
Прежде это имя мне нигде не встречалось. Лицо хозяйки сохраняло полную невозмутимость. Она слегка наклонила голову набок, отчего сверкнули стекла ее круглых очков.
– Твой старый трюк, чтоб скрыть глаза. – Эва коротко хохотнула, словно гавкнула. – Я уж и забыла о нем.
– Меня давно не называли этим именем, – абсолютно спокойно сказала Виолетта или уж как ее там. – Кто вы?
– Старая развалина, которую время не пощадило, но ты все же напрягись и вспомни… – Круговым движением Эва обвела свое лицо… – малышку с телячьими глазами. Я тебе не нравилась, хотя тебе вообще никто не нравился, кроме нее.
– Кроме кого? – шепнула я.
Удивление мое возрастало с каждой минутой, но я заметила, что теперь по лицу хозяйки как будто пробежала рябь. Перегнувшись через прилавок, женщина пристально смотрела на Эву, словно стараясь что-то разглядеть за маской времени. И тут кровь отхлынула от ее лица, на фоне черного стоячего воротничка оно стало белым, как мел.
– Пошла вон, – сказала женщина. – Убирайся из моей лавки.
Господи, – подумала я, – во что еще мы вляпались?
– Коллекционируешь чашки, Виолетта? – Эва оглядела полки с фарфором. – Для тебя мелковато. Тебе подошло бы коллекционировать головы твоих врагов… но тогда ты бы явилась за моей.
– Раз ты здесь, значит, хочешь, чтоб я тебя прикончила. – Губы Виолетты почти не двигались. – Сука ты малодушная.
Я съежилась, как от пощечины. Но эти два бойца, разделенные прилавком, были спокойны, словно говорили о фарфоровых ложках. Они очень отличались: одна – рослая, костлявая, искалеченная, другая – коренастая, опрятная, респектабельная. Но точно гранитные колонны, обе стояли друг против друга, исторгая черные клубы ядовитой клокочущей ненависти, от которой у меня буквально пересохло во рту.
Кто же вы такие? – подумала я.
– Один вопрос. – Из голоса Эвы исчезла насмешка, такой серьезной я ее еще не видела. – Один вопрос, и я уйду. Я бы спросила по телефону, но ты бросила трубку.
– От меня ты ничего не узнаешь. – Женщина выплюнула эти слова, как острые осколки. – Я – не ты, не трусливая девка, распустившая язык.
Я думала, Эва на нее бросится. Она же наставила на меня пистолет только за то, что я назвала ее чокнутой старой коровой. Но Эва, сжав зубы, проглотила оскорбление, уподобившись мишени, принимающей в себя пули.
– Один вопрос.
Виолетта харкнула ей в лицо.
Я ахнула и качнулась к Эве, но обе женщины так себя вели, словно меня здесь не было вообще. Секунду-другую Эва не шевелилась, плевок медленно стекал по ее щеке, потом сдернула перчатку и демонстративно утерлась. Виолетта выжидала, только очки ее сверкали. Я еще чуть приблизилась к Эве. В студенческом общежитии я видела женские склоки, когда из-за сплетни противницы расцарапывают друг другу физиономии. Но сейчас наблюдала вражду, которая приводит к дуэли на рассвете.
Почему же все так непросто? – в страхе подумала я.
Эва выронила перчатку и звучно шлепнула ладонью по прилавку. В глазах Виолетты что-то мелькнуло, когда она взглянула на изуродованные пальцы.
– В девятьсот семнадцатом Рене Борделон погиб? – тихо спросила Эва. – Скажи «да» или «нет», и я уйду.
У меня вздыбились волоски на загривке. То и дело возникало это имя: в справке по Розе, в Эвином кошмаре. И вот сейчас. Кто же он, кто?
Виолетта не сводила глаз с искалеченной руки.
– Я уж и забыла о твоих пальцах.
– Тогда ты сказала, что я это заслужила.
– Ты заикаешься меньше. – Виолетта презрительно скривилась. – Что, помогает виски? От тебя несет, как из бочки.
– Виски со злостью – прекрасное средство от заикания, а я по ноздри полна и тем и другим, – рявкнула Эва. – Отвечай на вопрос, манда ты вонючая! Что стало с Рене Борделоном?
Виолетта пожала плечами:
– Откуда я знаю? Из Лилля я уехала одновременно с тобой. Тогда Борделон был в полном порядке и все еще владел «Летой».
«Лета» – так назывался ресторан, в котором работала Роза. Но только в Лиможе, не в Лилле, – в замешательстве подумала я. И потом, я же искала информацию о событиях сорок четвертого года, а не Первой мировой. Я уж хотела о том сказать, но раздумала. Лучше не встревать в эту перестрелку глазами.
Хищный взгляд Эвы впился в собеседницу намертво.
– После войны ты ненадолго приезжала в Лилль. Об этом я узнала от Кэмерона…
Теперь какой-то Кэмерон. Сколько еще новых персонажей этой пьесы выпихнут на сцену? Хотелось заорать, но я стерпела и только уставилась на Эву, словно пытаясь выудить ответ. Хватит уже вопросов, черт бы вас побрал, гоните ответы!
– … и он же сказал, что в семнадцатом Борделон погиб – горожане пристрелили его как поганого предателя.
– Он и был поганым предателем, – процедила Виолетта. – Только никто его не убивал, иначе я бы о том знала. Получи он по заслугам, весь город плясал бы на улицах. Нет, по моим сведениям, этот гад сбежал сразу после отступления немцев. Он же понимал: пуля в спину – лучшее, на что ему можно рассчитывать. В Лилле его больше не видели, это уж точно. По крайней мере, в восемнадцатом он еще был жив. Всегда выходил сухим из воды. – Виолетта криво усмехнулась. – Если Кэмерон сказал иное, он, значит, солгал. А ведь ты вечно гордилась своей способностью учуять ложь.
Я совсем ничего не понимала, только заметила, как Эва ссутулилась и ухватилась за прилавок. Я машинально поддержала ее, боясь, что она упадет. Вопреки ожиданиям, она не отшила меня едким замечанием, но зажмурилась и прошептала:
– Лжец. – Эва тряхнула седыми прядями. – Бесчувственный, сволочной лжец.
– А теперь… – Виолетта сдернула с носа очки и принялась их протирать – …можешь валить из моей лавки.
– Дайте ей минутку, – потребовала я.
Пусть иногда Эва доводила меня до белого каления, но я не позволю какой-то подслеповатой лавочнице порвать ее в клочья, когда она в таком состоянии.
– И тридцати секунд не дам. – Впервые за все время Виолетта посмотрела на меня и, пошарив под прилавком, достала «люгер», точно такой же, как Эвин. – Пользоваться им я умею, девчонка. Убирай отсюда эту суку, даже если придется волочить ее за ноги.
– Вы обе совсем охренели со своими пистолетами! – выкрикнула я.
Эва выпрямилась, лицо ее напоминало страшную гипсовую маску.
– Мы закончили, – тихо сказала она и пошла к выходу.
Подобрав с пола ее перчатку, я последовала за ней, сердце мое колотилось, как бешеное.
Нас догнал голос Виолетты:
– Сны видишь, Эва?
Натянутая, как струна, Эва встала, но не обернулась.
– Каждую ночь.
– Надеюсь, она тебя придушит. Каждую ночь мне снится, что она стискивает пальцы на твоем горле намертво.
Казалось, сейчас душат саму Виолетту – она говорила сквозь сдавленное рыдание. Дверь за нами закрылась, прежде чем я успела спросить, о ком идет речь.
– Извини, – отчужденно сказала Эва.
От удивления я чуть не опрокинула свой кофе. Мертвенно бледная, Эва обхватила кружку изуродованными руками. Когда мы вышли из лавки, она села в машину и уставилась перед собой.
– Найдите гостиницу, – тихо сказала я Финну.
Он высадил нас перед отелем напротив уютной ратуши, а сам отъехал на парковку. Мы с Эвой сели за столик в холле гостиницы. На превосходном французском Эва заказала кофе и опростала в него свою серебряную фляжку, игнорируя осуждающий взгляд официанта.
Теперь она подняла голову, и от ее невидящих глаз я едва не поперхнулась.
– Напрасно я тебя сюда притащила. Только деньги зря п-потратила. Я искала не твою кузину, а кое-кого другого.
– Ту женщину?
– Нет. – Эва отхлебнула сдобренный виски кофе. – Мужчину, которого тридцать лет я считала мертвым… Наверное, Кэмерон сказал о его гибели, чтоб я успокоилась. – Она покачала головой. – Такому благородному джентльмену не понять злобную стерву вроде меня. А я бы утешилась, если б увидела голову Рене, насаженную на кол.
Последнюю фразу она процедила, слепо уставившись на суету портье и коридорных в холле, украшенном папоротниками в кадках.
– В лавке вы назвали его Рене Борделоном.
Теперь у нас была фамилия загадочного мсье Рене.
– Он был хозяином «Леты». Той, что в Лилле.
– Откуда вы его знаете?
– В Первую мировую я у него работала.
Я помешкала. Последняя война напрочь затмила предыдущую, о первом нашествии немцев я почти ничего не знала.
– Жуткое было время, Эва?
– Ну как тебе сказать? Германский сапог на горле голодающих, расстрелы прямо на улицах. Скверное.
Значит, вот что питало ее ночные кошмары. Я поежилась, глянув на изувеченные руки собеседницы.
– Получается, было два ресторана с одинаковым названием?
– Выходит, так. Раз твоя кузина работала в лиможском.
От такого совпадения пробрал мороз по коже.
– И снова хозяин по имени Рене? Или Борделон мог владеть обоими ресторанами?
– Нет. – Эва шлепнула ладонью по столу. – Не мог.
– Вы сами понимаете, слишком много совпадений. Лавочница сказала, что Борделон спасся бегством из Лилля. Он вполне мог дожить до сорок четвертого, когда Роза появилась в Лиможе. Может, он и сейчас жив. – Я снова покрылась мурашками, но уже от волнения. Пусть хозяин ресторана мерзавец, однако он знал Розу и теперь у него было имя, по которому его можно разыскать.
Эва упрямо качала головой.
– Сейчас ему было бы за семьдесят. – Голова ее моталась, точно заведенная. – Возможно, он пережил ту войну. Но такому человеку не прожить еще тридцать лет. Наверняка кто-нибудь всадил пулю в его паскудные мозги.
Я уставилась на свой остывший кофе, не желая терять надежду.
– Как бы то ни было, ресторан в Лиможе, вероятно, еще существует. Вот туда я и отправлюсь.
– Удачи тебе, америкашка. – Голос Эвы был тверд. – Здесь наши пути расходятся.
Я удивленно заморгала.
– Минуту назад вы сказали, что мечтали бы увидеть его голову насаженной на кол. Неужто не горите желанием отыскать своего старого врага?
– Тебе-то какое д-дело? Поди, не терпится со мной распрощаться?
Верно, только это было еще до того, как я поняла, что и для нее этот поиск много значит. Она тоже хотела кого-то найти. Нельзя отсекать человека от чего-то очень важного для него. Да, я прикидывала, как буду действовать в одиночку, полагая, что ей бы поскорее все закончить. И нате вам – она сама отказывается?
– Поступай, как знаешь. Я больше не стану гоняться за призраками. – Голос Эвы был холоден, взгляд пуст. – Рене нет в живых. Как и твоей кузины.
Теперь я стукнула кулаком по столу.
– Не смейте так говорить! Если угодно, прячьте голову в песок, а я пойду навстречу своим демонам.
– Какая голова, какой песок? Война закончилась два года назад, а ты все веришь в сказку, что кузина твоя жива.
– Да, шансы невелики, – отрубила я. – Но если есть хоть кроха надежды, я не поддамся отчаянию.
– Нет у тебя этой крохи. – Эва пригнулась к столу, серые глаза ее сверкнули. – Хорошие всегда погибают. В канавах, под дулами расстрельного взвода, на грязных тюремных нарах. Умирают за грехи, которых не совершали. Всегда. А плохие живут себе поживают.
Я вскинула подбородок.
– Тогда почему вы так уверены, что ваш Рене Борделон мертв? С какой стати, если плохим ничего не делается?
– Будь он жив, я бы это почувствовала, – тихо сказала Эва. – Вот как ты почувствовала бы смерть свой кузины. Наверное, мы обе чокнутые, но в любом случае теперь распрощаемся.
Я смерила ее взглядом и старательно выговорила:
– Слабачка.
Я думала, Эва взорвется. Но она только сжалась, как будто ожидая удара, а в глазах ее промелькнул страх. Она не хотела, чтобы ее давний враг оказался жив. Поэтому он был мертв. Вот так просто.
– Ну ладно. Мне-то что. – Я взяла сумочку и отсчитала остаток Эвиного гонорара, удержав стоимость последнего гостиничного номера. – Мы в расчете. Постарайтесь не пропить всё сразу.
Эва сгребла банкноты. Даже не попрощавшись, встала, взяла ключ от номера и пошла к лестнице.
Сама не знаю, чего я ожидала. Наверное, что она больше расскажет о Лилле, о Великой войне и о том, как это случилось с ее руками… Не знаю. И вот теперь я, как беспомощная дура, осталась совсем одна и жалела, что в лавке подхватила Эву, не позволив ей грохнуться на пол. Однако в глубине души я хотела снискать ее уважение, даже после того как она разглядела и бестактно обнародовала мою Маленькую Неурядицу. Подобных людей я еще не встречала – она так говорила со мной, будто я взрослая женщина. А теперь вот отшвырнула меня, как окурок. Мне-то что, – сказала я. Хотя очень даже что.
Она тебе не нужна, – ругнула я себя. – Тебе никто не нужен.
К столику подошел Финн с моим баулом на плече.
– Где Гардинер?
Я встала.
– Сказала, с делом покончено.
Улыбка его угасла.
– Значит, уезжаете?
– Я уже оплатила номера, так что вы с Эвой можете здесь переночевать. Не удивлюсь, если она захочет рвануть в Лондон с утра пораньше.
– А вы куда?
– В Лимож. Там, может, найду свою кузину. Или кого-нибудь, кто ее знал. – Избегая его взгляда, я изобразила беспечную улыбку.
– Прямо сейчас?
– Нет, завтра.
Из меня будто выжали все соки, да и номер мой тоже оплачен.
– Ну раз так… – Финн мотнул головой и отдал мне баул.
Интересно, он жалеет или радуется, что мы расстаемся? Наверное, радуется. Извините, – хотелось мне сказать, – что я вела себя как девка. Жаль, что мы не переспали. Выходит, я и вправду девка. Уж простите. Но вместо этого я выпалила первое, что пришло на ум безотносительно моих назойливых поцелуев на коленях малознакомого мужчины:
– Как вы оказались в тюрьме?
– Спер «Мону Лизу» из Британского музея, – бесстрастно сказал Финн.
– Эта картина вовсе не в Британском музее, – возразила я.
– Теперь уже нет.
Не сдержавшись, я засмеялась и даже сумела на долю секунды взглянуть ему в глаза.
– Удачи вам, мистер Килгор.
– Взаимно, мисс.
Сердце мое чуть екнуло, когда я услышала это обращение.
Потом Финн ушел, а у меня не было сил подняться в свой номер. Накатила очередная волна жуткой усталости, да и уж лучше было сидеть в людном холле, чем одной мыкаться в гостиничной комнате. Я заказала еще кофе и сидела, уставившись в чашку.
Так в сто раз легче, – убеждала я себя. – Никакой тебе старой карги с ее пистолетом. Никаких насмешек, никаких проволочек из-за чьего-то похмелья и заявлений о возможности поездки исключительно в раздолбанном драндулете. Никаких тебе шотландцев-уголовников, с которыми ведешь себя как последняя оторва. Никто не обзовет тебя «америкашкой». Ты сама по себе, свободна как ветер, езжай, ищи Розу.
Сама по себе. В том ничего нового, к одиночеству я привыкла. По правде, я была одна с тех пор, как перед войной рассталась с Розой. Одна в суетливой семье, не замечающей меня, одна среди хихикающих соседок по общаге, которым до меня вообще нет дела.
Встряхнись! – приказала я себе, глянув на прошмыгнувшего коридорного. – Не кисни! Прекрати себя жалеть, Чарли Сент-Клэр, потому что это хрень собачья.
Сказалось общение с Эвой. Теперь я тоже беспрестанно сквернословила. Хоть и мысленно.
Ты подаешь мне плохой пример, – сказала Маленькая Неурядица.
Молчи, – велела я животу. – Тебя нет. Я ничего не слышу.
Кто бы говорил.
Чудесно. Маленькая Неурядица еще и разговаривает. Сперва галлюцинации, теперь голоса.
И тут за моей спиной раздался возглас, полный чарующих переливов:
– Шарлотта! О, ma p’tite, ну как ты могла?..
На лбу моем выступила холодная испарина, когда, обернувшись, я увидела отыскавшую меня мать.
Глава двенадцатая
Эва
Июль 1915
Аккуратный грабеж проходил среди бела дня. Немецкого офицера сопровождали двое рядовых. Бесцеремонный, властный стук в дверь, следом окрик: «Проверка наличия меди!» Это был предлог. В комнатке не имелось цветных металлов для нужд германской промышленности.
Эва, хорошо натасканная Лили и Виолеттой, знала, как себя вести. Показав документы, она встала к стене, а патруль обшаривал комнату, в которой было нечем поживиться. Конечно, интерес могли представлять «люгер», спрятанный в стареньком саквояже с двойным дном, и последнее донесение о переброске аэропланов для охраны воздушного пространства Лилля и дате прибытия пилотов. Эти сведения Эва подслушала у двух гауптманов, за крем-брюле и вишневым тортом говоривших о делах. Шпилька, обернутая клочком рисовой бумаги, покоилась в ее волосах.
Вот уж была бы радость офицеру и его подручным, найди они этакое.
Эва смотрела в пол, изображая мучительное смущением тем, что чужие руки обшаривают ее одежду и тюфяк. Сердце чуть захолонуло, когда немец поднял и встряхнул саквояж, но пистолет, тщательно обернутый тряпкой, способствовал благополучному завершению осмотра.
Второй солдат сорвал оконный карниз.
– Дрянь, – сказал он, оглядев и отбросив палку, однако штору затолкал в мешок с награбленным, да еще покосился на хозяйку – что, какие-то возражения?
Эва, конечно, промолчала, только сглотнула и медленно выдохнула через нос. Из-за подобных мелочей она могла легко взорваться. Угроза расстрела на месте бесила гораздо меньше беспардонного вторжения в ее жилище и воровства шторы.
– Что-нибудь прячешь? – Солдат положил руку Эве на загривок. – Овощи, мясо?
Он поглаживал ей шею, пальцы его проходили в дюйме от шпильки с донесением. Эва ответила простодушным взглядом.
– Нет, мсье.
Черт с ним, пусть всю меня ощупает, только не трогал бы волосы, – думала она.
Перед уходом офицер сделал запись в блокноте и выдал талон за реквизированную штору. Эва поблагодарила, не забыв присесть в книксене. Талоны эти ничего не стоили, но порядок есть порядок. Захватчики приучили французов к соблюдению формальностей.
Вот уже месяц Эва подвизалась в двух своих ипостасях. По утрам, выскользнув из-под одеяла, она преображалась в Маргариту Ле Франсуа так легко, что порой забывала о своей подлинной личности. Маргарита была домоседкой, старавшейся не привлекать к себе внимания. Она сдержанно здоровалась с соседями из дома напротив (изможденной женщиной с выводком тощих ребятишек) и застенчиво улыбалась булочнику, всякий раз извинявшемуся за черствый хлеб. Замкнутость не выделяла ее среди горожан, в большинстве своем тоже впавших в апатию, порожденную голодом, усталостью и каждодневным страхом.
Так протекали дни, унылая монотонность которых окупалась вечерами в «Лете». Хотя бы раз за шестидневную рабочую неделю удавалось раздобыть ценные сведения.
– Ужасно хочется знать, есть ли какая польза от наших донесений, – одной долгой июльской ночью поделилась Эва с Лили. Скоротечные визиты руководительницы шпионской сети были подобны бокалу шампанского в надоевшей череде чашек с жиденьким чаем и позволяли, сбросив личину Маргариты, ненадолго стать самой собой. – Вдруг все это з-зря?
– Кто его знает. – Лили спрятала последнее донесение Эвы в шов своей сумки. – Мы сообщаем о том, что считаем важным, а уж там как бог даст.
– А бывало, что переданные тобою сведения что-то меняли и ты о том узнавала? – не отставала Эва.
– Несколько раз было. Непередаваемое ощущение! – Лили поцеловала кончики пальцев. – Да не терзайся ты! Дядя Эдвард просил передать, что твою работу считает первоклассной. Что за манера у вас, англичан, все делить на классы? Такое впечатление, что вы никак не окончите школу. – Лили озорно улыбнулась. – О, я вогнала тебя в краску!
Первоклассная работа. Засыпая, Эва смаковала эти слова. Невзирая на тонкий жесткий тюфяк, ночную духоту, отдаленную канонаду и ежеминутную опасность, теперь она спала как младенец. Даже с добавкой ресторанных остатков Эва недоедала, работала на износ и бок о бок со страхом, похудела, утратила румянец и порой была готова убить за чашку хорошего кофе, но всегда засыпала с улыбкой, а пробуждалась с одной-единственной мыслью, помогавшей на весь день превратиться в Маргариту.
Это мое призвание.
И в том она была не одинока.
– Вот же еще зараза-то! – однажды вздохнула Лили, перебирая кипу паспортов и раздумывая, кем ей стать завтра – белошвейкой Мари или прачкой Розалией. – Как я выдержу, когда после войны придется вновь быть собою? Ведь сдохнешь со скуки!
– Ты не скучная, – улыбнулась Эва. На тощем тюфяке она лежала навзничь и смотрела в потолок. – А вот я… Разбирала бумаги и жила в пансионе, делясь ужином с котом.
Сейчас даже не верилось, что она вела такую жизнь.
– Это вовсе не значит, что ты, малышка, скучная. Нет, просто затюканная. Как и большинство женщин, потому как сама женская доля скучна. Мы и замуж-то выходим лишь для того, чтобы чем-то заняться, но, родив детей, понимаем, что с ними еще скучнее, чем с подругами.
– Значит, будем подыхать с тоски, когда все закончится и нужда в нас отпадет, – сказала Эва беспечно, ибо война казалась нескончаемой.
В прошлом августе все уверяли, что мир наступит к Рождеству, но линия фронта на подступах к городу, гул орудий и часы, переведенные на берлинское время, говорили об ином.
– После войны займемся чем-нибудь другим. – Лили сложила паспорта веером. – Хочется чего-то красивого, правда? Чего-то необычного.
Ты и сейчас необычная, не то, что я, – без всякой зависти подумала Эва. Каждая из них хорошо справлялась со своей задачей. Делом Лили было хитро менять облики, превращаясь то в портниху, то в прачку, то в торговку сыром, а Эве надлежало всегда оставаться неприметной серой мышкой.
Однако со временем возникло беспокойство. Ибо кое-кто ее приметил.
В тот вечер, когда последний гость покинул ресторан, Рене Борделон остался в зале. Иногда он любил в одиночестве выкурить сигару, пока персонал бесшумно убирал со столов. Перед немцами Борделон изображал из себя бонвивана и радушного хозяина, но, проводив зрителей, становился похож на одинокую акулу. Порой он оставлял ресторан на попечение метрдотеля, а сам отправлялся на спектакль или концерт либо, облачившись в безукоризненное кашемировое пальто и прихватив трость с серебряным набалдашником, совершал моцион по улицам. Интересно, о чем он думал, когда вот так одиноко сидел в зале, улыбаясь темноте за окнами? Возможно, просто подсчитывал прибыль. С тех пор как Борделон по выговору определил, откуда она родом, Эва старалась держаться от него подальше.
Однако получалось это не всегда.
– Снимите пластинку, – приказал Борделон Эве, собиравшей грязную посуду. Граммофон в углу зала создавал музыкальный фон для немецких клиентов, грустивших по родине. Сейчас на его диске шуршала закончившаяся пластинка. – Шуберт слегка утомил.
Эва подошла к граммофону. Уже перевалило за полночь. С бокалом коньяка Борделон сидел за угловым столиком, на котором еще горели свечи. Все другие столики были пусты, девственную белизну их скатертей нарушили винные пятна, хлебные крошки, осколки разбитых фужеров. С кухни доносилось тихое звяканье – повара прибирали утварь.
– Поставить другую пластинку, мсье? – негромко спросила Эва.
Ей хотелось поскорее закончить смену, прийти домой и записать график движения эшелонов с ранеными, который она подслушала нынче вечером…
Борделон отставил бокал.
– Почему бы мне самому не помузицировать?
– Простите, мсье?
В другом углу зала стоял кабинетный рояль под покрывалом с вычурной вышивкой и канделябром на крышке. Предполагалось, что это создает домашний уют благородного жилища. Борделон неспешно подошел к инструменту, сел на табурет и, длинными пальцами пробежав по клавиатуре, стал тихонько наигрывать мелодию, напоминавшую шорох дождя.
– Сати, – сказал он. – Одна из трех гимнопедий. Вы знаете это произведение?
Эва знала. Маргарита не могла знать.
– Нет, мсье, – ответила она, собирая использованные салфетки и столовые приборы на поднос. – Я не разб-бираюсь в музыке.
– Давайте-ка я вас просвещу. – Мелодия все лилась, тихая и нежная. – Сати – импрессионист, но не столь безоглядный, как, скажем, Дебюсси. На мой взгляд, он обладает чисто французской ясностью и изяществом. Он пробуждает грусть, ничем ее не приукрашивая. Его музыка подобна красивой женщине в простом платье, понимающей ненужность всяких шарфиков и косынок. – Борделон скользнул взглядом по Эве. – Я полагаю, у вас никогда не было элегантного платья.
– Нет, мсье. – Эва поставила бокалы на поднос – один пустой, другой с недопитым золотистым вином. Она не поднимала глаз, чтобы не встречаться взглядом с хозяином. В любом другом ресторане повара тотчас оприходовали бы недопитое вино, только не в этом. Все остатки сольют обратно в бутылки. Спиртное берегли даже при изобилии плодов черного рынка. В отличие от еды остатки вина не делили среди персонала. Все, от угрюмого шеф-повара до официанта-наглеца, прекрасно знали, что за украденный глоток их тотчас вышибут со службы.
Продолжая играть, Борделон вновь заговорил:
– Если образ элегантного платья вам ни о чем не говорит, тогда попробуем сравнить музыку Сати с превосходным сухим «Вувре», изящным, но скромным. – Он кивнул на бокал. – Отведайте и скажите, согласны ли вы со мной.
На губах его играла легкая улыбка. Эва очень надеялась, что хозяин просто чудит. Не дай бог, если это что-то другое. В любом случае отказаться нельзя, и она неуверенно глотнула из бокала. Не поперхнуться ли? Нет, это уже перебор. Эва нервно улыбнулась и отставила пустой бокал.
– Спасибо, мсье.
Слава богу, Борделон только молча кивнул, отпуская ее. Не замечай меня! – мысленно взмолилась Эва, украдкой глянув на одинокую фигуру за роялем. Я никто. Но хозяин, видимо, считал иначе. Разоблачив легенду о родине Маргариты Ле Франсуа, он, похоже, за ней присматривал: а вдруг откроются и другие секреты?
Прошло два дня. В конце вечера Борделон поднялся к себе. По приказу метрдотеля Эва принесла ему сведения о нынешней выручке. В шикарной комнате ее опять встретила легкая улыбка хозяина.
– Сегодняшний доход, мадмуазель? – Борделон отложил том, закладкой отметив страницу.
Эва кивнула и подала ему бухгалтерскую книгу. Он ее пролистал, подчеркивая кляксы и помечая неясности, а потом вдруг сказал:
– Бодлер.
– Простите, мсье?
– Мраморный бюст, на который вы смотрите. Это копия бюста Шарля Бодлера.
Эве было все равно, на что смотреть, лишь бы не на хозяина комнаты, потому она и отвернулась к стеллажу.
– Понятно, мсье.
– Вы знаете Бодлера?
Он уже убедился, что Маргарита вовсе не тупица, и не поверит, если она окажется полной невеждой, – подумала Эва.
– Я о нем слышала.
– «Цветы зла» – величайшее творение всех времен и народов. – Борделон поставил галочку в гроссбухе. – Поэзия подобна страсти, она должна не умилять, но быть всепоглощающей и сногсшибательной. Бодлер это понимал. Он сочетает сладость с непристойностью, но делает это изящно. – Улыбка. – Это очень по-французски – придать изящность непристойности. Немцы вот тужатся, но у них выходит вульгарность.
Похоже, его одержимость всем изящным не уступает его любви ко всему французскому, – подумала Эва.
– Понятно, мсье.
– А вы озадачились, мадмуазель, – усмехнулся Борделон.
– Разве?
– Как так – я прислуживаю немцам, но считаю их вульгарными. – Он пожал плечами. – Они и впрямь вульгарны. Настолько, что с них нечего взять, кроме денег. Если б все это понимали. Но большинство моих соотечественников практичности и достатку предпочитают вражду и голод. Служить немцам для них немыслимо, их девиз, говоря словами Бодлера, И сам я воронов на тризну пригласил, чтоб остов смрадный им предать на растерзанье. Однако гордыня никого не превращает в победителя на поле брани. – Борделон погладил корешок гроссбуха. – Но лишь в труп, которым отобедают вороны.
Эва кивнула. А что еще оставалось? В ушах ее гудела кровь.
– Поймите меня правильно, французы умеют быть практичными. История свидетельствует, у нас все хорошо, когда практичность побеждает гордыню. Практичность обезглавила нашего короля. Гордыня одарила нас Наполеоном. И что в итоге оказалось лучше? – Борделон задумчиво посмотрел на Эву. – Вот вы, по-моему, практичная девушка. Ради возможной выгоды рискнули подделать паспорт – это и есть практичность, замешанная на отваге.
Вовсе ни к чему, чтоб он оценил мою умелость во лжи, – решила Эва, увильнув от ответа.
– Бухгалтерскую книгу можно забрать, мсье?
Борделон как будто не слышал ее.
– Ваше второе имя, кажется, Дюваль? У Бодлера была своя мадмуазель Дюваль, только не Маргарита, а Жанна. Креолка, которую он вытащил из грязи и превратил в красавицу. Называл ее своей Черной Венерой, она-то и вдохновила его на непристойность и страсть, нашедшие отражение на этих страницах. – Борделон огладил том, который читал до прихода Эвы. – Гораздо интереснее красоту вытесать, нежели получить уже готовую. Вдали от лота и лопат, В холодном сумраке забвенья Сокровищ чудных груды спят…[2] – Опять прямой немигающий взгляд. – Любопытно, какие сокровища скрыты в вас.
Он знает. На миг Эва закоченела от страха.
Ничего он не знает.
Эва выдохнула. Приспустила ресницы.
– Мсье Бодлер п-п-пишет очень интересно. Попробую что-нибудь почитать. Я могу идти, м-м-м…
– Идите. – Борделон отдал ей гроссбух.
Закрыв за собой дверь, Эва обмякла. Ее прошиб пот, впервые за все время охватила паника. Хотелось бежать, куда угодно и как можно дальше.
Вернувшись домой, в квартире она застала Виолетту, которая тотчас заметила ее бледность и, пряча свой «люгер» в саквояж с двойным дном, довольно миролюбиво сказала:
– Нервишки?
Как всегда, они проверили, не подслушивает ли кто за дверью и окном (со всех сторон квартиру окружали глухие стены и бесхозные здания, но береженого бог бережет), и тогда Эва поделилась:
– Дело не в н-н-нервах. Хозяин что-то подозревает.
– Что, лезет с вопросами? – вскинулась Виолетта.
– Нет, он заводит разговор. Со мной, кто ему в-вовсе не ровня. Он чует, что-то н-не так.
– Возьми себя в руки. Он не умеет читать мысли.
Похоже, умеет. Эва понимала, это нелепо, но не могла ничего с собой поделать.
– Не трусь, твоя информация очень полезна. – Виолетта постелила себе на полу и, сняв очки, улеглась.
Эва едва не попросила о переводе в любое другое место, где не будет немигающих глаз Рене Борделона, но прикусила язык. Тогда она подведет Лили и даст повод для презрительной усмешки Виолетты. Капитану Кэмерону и Лили она нужна в «Лете».
Первоклассная работа.
Соберись, – одернула себя Эва. – А как же твои слова о призвании? Один раз ты уже обманула Борделона, ну и продолжай в том же духе.
– Может, он ничего не подозревает. – Из темноты донесся голос Виолетты, пробивавшийся сквозь зевоту. – А просто хочет тебя.
– Нет! – Эва засмеялась и стала расстегивать ботинки. – Я недостаточно изящна. Провинциалка Маргарита для него слишком неотесанна.
Виолетта скептически фыркнула, но Эва была абсолютно уверена, что так оно и есть.
Глава тринадцатая
Чарли
Май 1947
Нате вам. Мать собственной персоной, как всегда красивая и благоухающая лавандой… вот только глаза, скрытые вуалью модной синей шляпки, набухли слезами. Я просто онемела, а она заключила меня в объятия.
– Ну как ты могла, ma chere! Сбежать в чужую страну! – выговаривала мне мать, прижимая к себе и рукой в перчатке оглаживая по спине, точно маленькую. Потом отстранилась и встряхнула меня. – Без всякого повода заставить так волноваться!
– Повод был, – успела я сказать, прежде чем она опять привлекла меня к себе.
Два объятия за две минуты – такого не припомнить с того момента, как возникла Маленькая Неурядица. И даже раньше. Я этого не ожидала, но руки мои невольно обвились вокруг матушкиной осиной талии.
– Ох, cherie… – Промокая глаза, мать снова отпрянула, и я смогла спросить:
– Как ты меня нашла?
– Когда ты позвонила из Лондона, ты сказала, что хочешь отыскать Розу. Стало ясно, ты помчишься к тете Жанне, куда же еще? Я села на паром и телефонировала ей, прибыв в Кале. Она известила, что ты уже побывала у нее и отправилась в Рубе.
– Откуда она знала…
Господи, да я же сама ей сказала. Нет, тетя, остаться не могу. Мне надо в Рубе. Я думала только о том, чтобы не наорать на нее за то, как она обошлась с Розой, и ненароком выдала свои планы.
– Городок-то небольшой. Это всего лишь четвертый отель, – мать обвела рукой холл, – в котором я навела справки.
Надо же, как не везет, – подумала я, но внутренний голос возразил: Она тебя обняла.
– Выпьем чаю, – решительно сказала мать, как почти неделю назад говорила в отеле «Дельфин».
Невероятно, что в столь короткий временной отрезок вместились Эва, Финн и новости о Розе.
Мать заказала чай и, оглядев меня, встревожено покачала головой:
– Ты выглядишь ужасно! Бедняжка, жила, наверное, впроголодь?
– Нет, деньги есть. Я… заложила бабушкин жемчуг. – Вдруг ожег стыд, что ради погони за призраком я рассталась с единственной вещью маминой мамы. – Но я его выкуплю, обещаю. Квитанцию я сохранила. Заплачу из своих сбережений.
– Какое счастье, что ты не ночевала в канаве. – Мать как будто не услышала про бабушкин жемчуг. Удивительно. Она всегда заявляла, что ожерелье должно было достаться ей. – Ты переправилась через Ла-Манш одна! Ведь это опасно, милая!
Не одна, чуть было не сказала я, но вовремя сообразила, что компания из бывшего уголовника и вооруженной алкоголички вряд ли успокоит мать. Слава тебе господи, Эва и Финн уже поднялись в свои номера.
– Прости, что заставила тебя волноваться, я этого не хотела…
– Ну что за растрепа! – заквохтала мать, заправляя мне выбившуюся прядь за ухо.
Я вдруг опять почувствовала себя маленькой и беспомощной. Как же я сумела незвано вломиться к Эве, выстоять под дулом ее пистолета и пересечь Ла-Манш?..
Я выпрямилась, подбирая аргументы. Надо говорить как взрослая, иначе мать меня не услышит.
– Дело не в том, что я неблагодарная упрямица, а в том…
– Я знаю. – Мать пригубила чай. – Мы с твоим отцом слишком уж надавили на тебя…
– Да нет же, причина в Розе.
– …с этой Процедурой. (Опять с заглавной буквы.) Вот в Саутгемптоне ты и запаниковала.
Я пожала плечами. Отчасти так оно и было, но…
– Мы с отцом желаем тебе только добра. – Мать погладила меня по руке. – Как все родители – своим детям. Оттого и поспешили отправить тебя в Швейцарию.
– Я все испортила? – выдавила я, посмотрев матери в глаза. – Теперь уже поздно?..
Я не знала, до какого срока процедура считалась возможной. Вообще ничего не знала.
– Нам назначат новую дату, милая. Еще вовсе не поздно.
Огорчение и облегчение пронзили меня вместе. А Маленькая Неурядица как будто затрепетала, хотя живот мой даже не шелохнулся.
Теплая и мягкая ладонь матери накрыла мою руку.
– Я понимаю, тебе страшно. Но в таких ситуациях – чем раньше, тем лучше. Потом мы вернемся домой, ты отдохнешь, все обдумаешь…
– Не хочу я отдыхать. – Я подняла взгляд. Сквозь все мое смятение пробилась знакомая струя злости. – И домой не хочу. Я должна отыскать Розу, если она еще жива. Послушай меня.
Мать вздохнула.
– Неужели ты все еще цепляешься за надежду?
– Да, – заявила я. – Пока не буду знать, что Роза умерла. После того, что случилось с Джеймсом, я не могу просто списать ее, не попытавшись сделать все возможное. – Мать комкала салфетку, лицо ее напряглось, как всегда бывало при упоминании моего брата. – Надежда еще есть. – Я старалась пробиться к матери. – Джеймсу уже не поможешь, но вдруг мы сумеем спасти Розу? Тетя Жанна рассказала, почему она ушла из дома.
Мать чуть вздрогнула. Получается, знала. Вновь вскипела злость, что матушка не сочла нужным оповестить меня, но я погасила эту волну.
– После того, как с ней обошлись, Роза не вернулась бы в семью. Есть шанс, что она по-прежнему в Лиможе. Если так, надо ее разыскать.
– А что будет с тобой? – Мать взглянула на меня. – Нельзя, чтобы твоя дальнейшая жизнь зависела от нее. Шарлотта Сент-Клэр ничуть не хуже Розы Фурнье. И Роза первая это сказала бы.
Я окинула взглядом холл, надеясь увидеть светловолосую голову или хотя бы знакомый силуэт. Нет, ничего.
– Нужно пройти через Процедуру, – мягко сказала мать. – Позволь отвезти тебя в клинику, милая.
– А если я не хочу Процедуры? – Слова эти, выскочившие сами собой, удивили меня не меньше, чем мать.
Она помолчала и снова вздохнула.
– Будь ты с обручальным кольцом, все сложилось бы иначе. Мы бы ускорили свадьбу, ты стала бы прекрасной невестой, а через шесть месяцев – прелестной матерью. Такое случается.
Бесспорно. Любая женщина решит эту задачку: обручальное кольцо плюс ребенок вскоре после свадьбы чудодейственно равняются приличию.
– Но сейчас другая ситуация, Шарлотта. Без жениха…
Мать не договорила, а я сморщилась. Я знала, что бывает с девушками, родившими без мужа. О них не говорили, но все всё знали. Никто не женится на испорченных девушках, не дает им работу, родные их стыдятся, друзья от них отворачиваются. Жизни их загублены.
– Другого варианта просто нет, – наседала мать. – Пустячная операция вернет тебя к жизни.
Не могу сказать, что мне не хотелось, чтоб все стало как прежде. Я водила пальцем по ободку чашки.
– Прошу тебя, милая. – Забыв об остывающем чае, мать потянулась через стол и взяла меня за обе руки. – Потом мы займемся поиском Розы, если тебе и впрямь это нужно. Но сначала поступи правильно ради своего будущего.
– Хорошо, я поеду в клинику, – сказала я, одолев ком в горле. – А затем мы будем искать Розу. Обещай, мама. Пожалуйста.
Мать стиснула мои руки.
– Даю слово.
Я не могла уснуть.
Маленькая Неурядица расплющила меня очередной волной усталости, и я надеялась, что буду спать как убитая. Мать переселила меня в хороший номер рядом со своим, на ужин были не сухие бутерброды, но вкусная еда, поданная на серебряном подносе. Я наконец-то сменила свою много раз стиранную комбинацию на ночную сорочку, одолженную у матери. Больше не надо было беспокоиться о ночных воплях полоумной англичанки или о том, что делать, когда кончатся деньги. Теперь обо всем позаботится мать.
Она поцеловала меня в лоб и, пожелав спокойной ночи, ушла к себе, а я еще долго ворочалась на свежих гостиничных простынях. В конце концов я встала, натянула купальный халат и тапочки, взяла сигареты и вышла продышаться.
Я хотела покурить на балконе, но французское окно в конце коридора было заперто. Пришлось спуститься в полутемный холл и выйти на улицу, не обращая внимания на раздражающе удивленный взгляд ночного портье.
Ущербная луна и редкие фонари не особо справлялись с темнотой. Проходя через холл, я заметила, что часы показывали третий час ночи. Городок Рубе спал мертвецким сном. Я открыла пачку «Голуаза» и похлопала себя по карману в поисках спичек. Взгляд мой упал на нечто возле тротуарной бровки, отливавшее синим глянцем.
– Привет, колымага. – Я подошла к «лагонде» и погладила ее по крылу. – Знаешь, я буду по тебе скучать.
– Ей это приятно, – донеслось с заднего сиденья, голос низкий, с шотландским выговором, я чуть не выпрыгнула из себя.
– Что вы здесь делаете?
Я очень надеялась, что темнота скроет мой неприбранный вид. Ну почему я не уговорила мать переехать в другой отель? Ужасно неловко – Эва и Финн могли подумать, что я еще чего-то жду от них. Мы смахивали на актеров, которые растерянно мнутся, спутав финальные реплики сцены. Жаль, жизнь не пьеса, где четко прописаны явления и уходы.
Из окошка высунулась лохматая темноволосая голова с тлеющим огоньком сигареты в губах.
– Да вот не спится.
Зажав незажженную сигарету в кулаке, я сунула руки в карманы, чтобы не начать приглаживать волосы. Есть ли на свете что-нибудь непривлекательнее женщины в купальном халате и тапочках?
– И вы всегда забираетесь в машину, если у вас бессонница? – Мне удалось окрасить вопрос ехидством.
Финн оперся локтем о дверцу с опущенным стеклом.
– Она успокаивает. Хорошее снадобье от дурных снов.
– По-моему, это Эву мучат кошмары.
– Я обзавелся своими страшилками.
Интересно, что ему снится. Я не спросила, только опять погладила крыло. Странно, что утром я не сяду в эту машину. Завтра поезд отвезет нас в Веве, а потом… Чем там в Швейцарии доставляют девушек на Процедуру? Каретами, снабженными часами с кукушкой и кучерами в деревянных сабо? Ночь стояла теплая, но меня пробрала дрожь.
Финн открыл заднюю дверцу и отодвинулся вглубь машины.
– Залезайте, если озябли.
Я не озябла, но забралась на сиденье.
– Огонька не найдется?
Финн чиркнул спичкой. На миг пламя выхватило его лицо, а затем я как будто ослепла, вновь окутанная темнотой. Я глубоко затянулась и медленно выдохнула дым.
– Как вы заполучили эту машину? – спросила я, чтоб только не молчать. Если на заднем сиденье вы оказались не ради поцелуев и тисканья, лучше поддержать вежливую беседу.
– Дядя оставил в наследство кое-какие деньжата, – сказал Финн. Я удивилась, поскольку он редко отвечал на прямой вопрос, чего-то не сочинив. – Он хотел, чтоб я на кого-нибудь выучился. Но стоит парню, у которого под ногтями солидол, чуть-чуть разбогатеть, как ему приходят иные мысли.
– То есть, он все спускает на машину своей мечты.
Я почувствовала, что Финн улыбается.
– Ага. «Бентли» я не потянул, но вот нашел эту малышку, которую какой-то придурок разбил вдребезги. Купил ее, починил, и она меня полюбила. – Финн ласково похлопал по сиденью. – На фронте многие хранят при себе фотографии своих девушек. Или матерей, если только-только из школы. У меня девушки не было, я носил с собой фотку своей машины.
Я представила Финна в военной форме и каске – на палубе транспортного корабля он разглядывает снимок «лагонды». Забавно.
Финн отщелкнул окурок и прикурил новую сигарету, на секунду разогнав темноту.
– Значит, завтра уезжаете?
– Да, – кивнула я. – Мать меня отыскала. Утром отбываем в Веве.
– А Лимож? Мне казалось, вы готовы перевернуть город вверх дном, но отыскать свою кузину.
– Лимож потом. Мать говорит, с этим… – я показала на живот, хотя в темноте, наверное, этого не было видно – …больше тянуть нельзя. Я в этом не разбираюсь, знаю только, что попала в беду.
– Из-за этого и едете в Веве?
– Вы не слыхали о Швейцарских каникулах? – Я выдавила улыбку. – Именно так отдыхают девушки, угодившие в беду.
– А я думал, в подвенечном платье они идут к алтарю.
– Только если подцепили на крючок парня.
– Вы определенно кого-то подцепили, либо это непорочное зачатие, – мрачно пошутил Финн.
– В моем улове половина курса. – Я хрипло хохотнула. – За всех замуж не выйти.
Я ждала, что он возмущенно фыркнет. Или отпрянет. Но он просто смотрел на меня с другого конца сиденья в мягкой обивке.
– Что случилось? – спросил Финн.
При дневном свете я бы не смогла об этом говорить. Все было так пошло и глупо. Но в щадящей темноте я просто чуть отвернулась, чтобы читался только мой профиль с огоньком сигареты во рту, и заговорила, бесцветно и буднично:
– Всякая девушка разделена на три четкие зоны. (Амурные отношения я воспринимала как слагаемые, и даже последняя дура в общаге прекрасно знала, как найти их сумму.) В первую зону парням доступ открыт сразу, во вторую они могут проникнуть после помолвки или хотя бы сговора, в третью – только после женитьбы. Правила всем известны. Но парни, на то они и парни, стараются их нарушить. Они предпринимают попытки, девушки отказывают. Такой вот танец.
Я вздохнула и стряхнула пепел в окно. Воздух посвежел – похоже, намечался дождь. Финн молчал.
– Мой брат был из тех фронтовиков, кто не сумел приладиться к мирной жизни. И в конце концов сунул дробовик себе в рот. (Все вокруг забрызгано кровью и мозгами, – опрометчиво сказал сосед, не ведая, что я слышу эти жуткие подробности, от которых родители меня оберегали. Я вбежала в дом, меня вырвало, страшная картина так и стояла перед глазами.) Родители мои… Не закончив семестр, я приехала домой, чтобы заботиться о них. (Приносила цветы матери, завязывала галстук отцу, подавала к воскресному обеду подгоревший мясной рулет собственного приготовления, хотя было ясно, что никому не полезет кусок в горло. Всеми силами я старалась склеить осколки нашей разбитой жизни.) После зимних каникул я вернулась на учебу. И вот когда отпала нужда о ком-нибудь заботиться, я остановилась, точно сломавшиеся часы. Вообще ничего не чувствовала. Внутри я была мертвая. Утром не могла встать с постели. Целый день лежала и думала о Джеймсе, Розе, родителях – и так по кругу. И плакала, плакала. (Примерно тогда я и начала видеть Розу повсюду. Девчонки с болтающимися косичками превращались в маленькую Розу, высокие студентки, неспешно шагавшие на лекции, казались повзрослевшей Розой, она проглядывала в лицах совершенно незнакомых людей. Неотвязный образ ее привел к мысли, что я схожу с ума… либо Роза, возможно, жива.) Я потеряла брата, – прошептала я. – И я подвела его. Поддержи я его в тот момент, когда он разваливался на части, он бы, может, не умер так страшно. Я не хотела потерять еще и кузину, если оставался хоть крохотный шанс, что она уцелела. Я прогуливала занятия, у меня не было сил для алгебры, но для Розы они нашлись. Я писала запросы, звонила разным людям, обращалась в отделы по беженцам. Пригодился большой опыт работы в юридической конторе отца – я знала, как сделать международный звонок, какие спросить документы. Я узнала все, что было можно узнать. Утомленная английская чиновница сообщила, что последнюю справку по Розе Фурнье составляла Эвелин Гардинер, проживающая в доме № 10 по Хэмпсон-стрит, и отыскала оригинал документа, в котором упоминалась «Лета».
Финн будто онемел. Сигарета моя почти догорела. Напоследок затянувшись, я выбросила окурок в окно.
– Никто не удосужился известить моих родителей, что дочь их забросила учебу. Все знают, что девушки вроде меня в университет поступают не ради отличных оценок, они подыскивают себе мужа из выпускников «Лиги плюща». Но я почти ни с кем не встречалась, только изредка ходила на свидания двое на двое, когда однокурснице и ее парню требовалось сбагрить соседа по комнате. А тут взяла и согласилась на свидание вслепую. Вроде Карл его звали. Ужин и кино под открытым небом. Едва начался фильм, парень полез мне под джемпер. Ритуал был известен: поцелуи допускаются, но кавалер получает по рукам, если заходит слишком далеко. Однако в тот раз я подумала: какая разница? У меня, омертвелой, не было сил на все эти трали-вали. И что будет, если я… позволю? Карл этот мне совсем не нравился, но я надеялась… хоть что-нибудь почувствовать. (Что-нибудь, кроме вины и боли. Ни черта не вышло. Только еще больше бесчувственной пустоты.) Карл обалдел напрочь. Не мог понять, почему я его не остановила. Порядочные девушки так себя не ведут, а ведь я была порядочная девушка.
Финн не издал ни звука. От омерзения, что ли?
– Через неделю он опять меня позвал. Я согласилась. Первая проба меня особо не впечатлила, но всем известно, что первый раз – это кошмар. Я надеялась, вторая попытка выйдет лучше. (Нет, все та же пустота.) Видимо, Карл поделился с товарищами, потому что на меня вдруг посыпались приглашения от парней. Я их принимала и со всеми трахалась. Никакого удовольствия не получала, однако шла на это, потому что… – Я запнулась, но проглотила застрявший в горле ком стыда и заставила себя продолжить – …мне было одиноко. (Дыши, Чарли, дыши.) Я устала от своего омертвелого одиночества, мне было легче перенести возню на заднем сиденье с каким-нибудь Томом-Диком-Гарри, чем торчать в своей комнате, рыдать и бесконечно повторять себе, что я могла бы удержать брата от самоубийства. – Я опять судорожно вздохнула. – Вскоре этих Томов-Диков-Гарри набралось изрядно. И разнеслась молва, что Чарли Сент-Клэр даст любому. Даже не надо тратиться на молочный коктейль и билет в кино. Просто усади ее в машину.
Меня душили рыдания. Боясь взглянуть на Финна, я выставила руку в окошко и подставила ладонь ночному ветерку.
– Так и текла моя жизнь: целыми днями я валялась в постели и названивала в отделы по беженцам либо отправлялась на случку с парнями, которые вообще-то мне были гадки. Весной я приехала домой и сообщила родителям, что без мужа брюхата и что меня, скорее всего, отчислят из колледжа. Мать, еще не дослушав, принялась орать, отец задал всего один вопрос: кто отец ребенка? Пришлось сказать, что кандидатов на отцовство шесть или семь. С тех пор отец со мной почти не разговаривал. (Однако ему не уйти от общения, когда я буду без Маленькой Неурядицы. Правда же?)
Финн тихонько прокашлялся. Сжавшись, я ждала осуждения или фразы типа «Спасибо, господи, что уберег от нее», но он спросил:
– Вы сами хотите ехать в клинику? Или этого хотят ваши родители?
Я так удивилась, что впервые за весь разговор посмотрела ему в глаза.
– Разве я похожа на женщину, готовую стать матерью?
– Не мне судить. Я только интересуюсь, чья это инициатива.
Я не знаю, чего я хочу. Да меня никто и не спрашивал. Я несовершеннолетняя, родители все решили за меня и считали само собой разумеющимся, что я должна подчиниться. Противный голосок в моей голове твердил, что я неудачница, не сумевшая помочь Джеймсу, Розе, а теперь и себе, и я даже не задумывалась о другом варианте. Да и какая разница, чего я хочу, если все мои попытки кончаются неудачей? Я хотела вернуть Розу и свое будущее, хотела спасти любимых людей от горя, войны и смерти, но не знала, как это сделать.
Я вдруг растерялась и даже слегка озлилась, потому что спокойный вопрос Финна пробил мою защитную скорлупу. От нее отскакивали все оскорбления, я принимала клеймо «девки-шлюхи-потаскухи», раз кому-то от этого легче. Я притворялась, будто мне все равно, иначе душа моя не выдержала бы.
– Почему вы такой добрый, Финн? Не считаете, что я готовлюсь совершить убийство?
– Я сидел в тюрьме, – тихо ответил он. – И не вправе навешивать ярлыки другим.
– Вы очень странный, – сказала я, чуть не плача.
Он притянул меня к себе, и я, уткнувшись в его плечо, всхлипнула. До появления Маленькой Неурядицы я только и делала, что плакала, но с тех пор как известила о ней родителей, не проронила ни слезинки. Не дай бог расплакаться сейчас, тогда уж я не остановлюсь. От Финна пахло табаком, солидолом и свежим ветром. Я прижалась щекой к его рубашке и несколько раз глубоко вздохнула. Финн докурил сигарету до самого фильтра.
Вдали пробили часы. Три удара. Финн отбросил окурок, я выпрямилась, прижав ладони к глазам. Слезы были близко, но еще не на краю.
Финн убрал руку с моего плеча, я потянулась к дверце.
– Чарли, голубушка… – проговорил Финн, и я застыла, завороженная его низким мягким голосом. Потом повернулась к нему. Наверное, я обвыклась с темнотой, ибо четко видела его глаза. – Поступайте, как считаете нужным. Это ваша жизнь и ваше чадо. Пусть вы несовершеннолетняя, но жизнь-то ваша. А не ваших родителей.
– Они желают мне добра. Я это понимаю, даже когда на них злюсь.
С чего вдруг я разоткровенничалась? Еще ни с кем я так не говорила о Маленькой Неурядице.
– Финн… – Я хотела попрощаться, но ведь в гостиничном холле мы уже простились. А вся эта ночная интерлюдия ничего не значит.
Финн ждал.
– Спасибо вам, – наконец выговорила я, вдруг осипнув. Потом выбралась из машины и пошла к отелю. Финн больше ничего не сказал. Но голос его звучал в моих ушах.
Поступайте, как считаете нужным.
Глава четырнадцатая
Эва
Июль 1915
Эва раздобыла информацию сродни алмазному самородку. Забирая остатки шоколадного мусса со столика коменданта Хоффмана и генерала фон Хайнриха, она услышала конец встревоженной генеральской фразы:
– …с личной инспекцией фронта. Через две недели кайзер заедет в Лилль.
Не моргнув глазом, Эва складывала десертные тарелки на поднос.
– Визит секретный, но мы должны организовать достойный прием, – сказал комендант. – Не дай бог проявить невнимание. Поезд встретит небольшая депутация… На какой путь он прибудет?
Ну же! – мысленно взмолилась Эва. – Путь и время!
Суетливо пролистав блокнот, генерал назвал то и другое. Эва возблагодарила Господа за немецкую педантичность. Больше задерживаться у столика было нельзя. Эва шла в кухню, не чуя под собою ног. Она знает, когда кайзер (сам кайзер!) прибудет на фронт. Вот уж Лили завопит как резаная: «Мать честная! Ай да маргаритка! К чертям собачьим разбомбим эту сволочь, и война закончится!»
– Что это нас так обрадовало? – прошептала официантка Кристин, глупая соломенная блондинка, сменившая неповоротливую Амели. – Чему ты улыбаешься?
– Так, ничему.
Эва стерла улыбку с лица, но сердце ее стучало, словно она в кого-то влюбилась с первого взгляда. Войне конец. Больше не будет траншей, где в липкой грязи умирают солдаты, не будет голода и унижений в несчастном поруганном Лилле, не будет стрекота аэропланов и приглушенной канонады за горизонтом. Эва представила, как срывает и топчет табличку с немецким названием улицы, услыхала победный перезвон колоколов.
Никогда еще время не тянулось так медленно.
– Кристин, отнеси бухгалтерскую книгу хозяину, ладно? – попросила Эва, закончив убирать со столов. – Я спешу домой.
Официантка поежилась.
– Я его боюсь.
– Не отрывай глаз от пола, говори только «да» и «нет», вот и все.
– Не, страшно.
Эва сдержалась, чтоб не закатить глаза. И что теперь, ничего не делать, раз страшно? Ну почему большинство женщин такие трусливые размазни? Вспомнились безудержная храбрость Лили и несгибаемая стойкость Виолетты. Вот это женщины!
Эва сбагрила гроссбух метрдотелю и вышла на улицу. Уже перевалило за полночь. Яркая, почти полная луна висела высоко, что было скверно для тайного перехода границы, а нынче должна вернуться Лили…
– Фройляйн! – рявкнул голос по-немецки, затопали сапоги. – Комендантский час наступил давно!
– У меня пропуск. – Эва полезла в сумку, где лежали паспорт и всякие справки. – Я работаю в «Лете», моя смена только что закончилась.
Немец был молод, властен и прыщав.
– Позвольте взглянуть на ваш пропуск, фройляйн.
Безмолвно выругавшись, Эва зашарила в сумке. Пропуска не было. Накануне вечером она все выложила из сумки, чтобы подпороть подкладку для тайника с шифровками. Видимо, пропуск так и остался на кровати.
– Извините, не могу найти. Ресторан в двух шагах, там п-подтвердят, что я…
– Вам известно наказание за нарушение комендантского часа? – пролаял немец, довольный возможностью кого-то прищучить, но его остановил ровный металлический голос, донесшийся из темноты:
– Я подтверждаю, что девушка работает у меня. Документы ее в порядке.
Рене Борделон встал рядом с Эвой и, опершись на трость с серебряным набалдашником, сверкавшим в лунным свете, в безупречно изящном приветствии коснулся полей своей шляпы.
Немец его узнал.
– Герр Борделон…
Рене одарил патрульного презрительно-вежливой улыбкой и взял Эву под руку.
– Доложите об инциденте коменданту Хоффману, если угодно. Доброй ночи.
Шагая по улице, Эва облегченно выдохнула.
– С-спасибо, мсье.
– Не за что. Я не прочь обслуживать цивилизованных немцев, но грубиянов люблю поставить на место.
Эва высвободила руку.
– Не смею вас з-задерживать, мсье.
– Пустяки. – Борделон вновь взял ее под руку. – Вы без пропуска, я провожу вас до дома.
Изображает из себя рыцаря, – подумала Эва. – Однако он вовсе не рыцарь, так чего ему надо? С их последнего разговора, так ее напугавшего, минуло два дня. И сейчас пульс ее зачастил, но она понимала: как бы ни хотелось избавиться от хозяина, отказаться нельзя. Приноравливаясь к его шагу, Эва призвала на помощь свое заикание. Если Борделон затеял очередную проверку, его ждет самый тягучий разговор на свете.
– Весь вечер у вас сияли глаза, – сказал Борделон. – Может, вы влюбились, мадмуазель Ле Франсуа?
– Нет, м-м-м-мсье. На это нет в-в-времени.
Надо прикончить кайзера.
– Однако что-то зажгло ваш взгляд.
Замысел цареубийства. Нет, не думай об этом.
– Б-б-благодарность за все, что имею, мсье.
Они свернули с набережной. Еще пара кварталов и…
– Вы очень неразговорчивы. Для женщины это редкость. Интересно, о чем вы думаете? Весьма любопытно. Как правило, меня не заботит, что творится в женской голове, обычно там ничего, кроме банальностей. Вы банальны, мадмуазель?
– Я простая девушка, м-м-мсье.
– Так ли?
Не сомневайся. Пожалуй, надо щебетать, по примеру безмозглой Кристин. Замучить его глупостями.
– П-почему вы так н-назвали свой ресторан, мсье? – Эва спросила первое, что пришло в голову.
– Опять Бодлер. Подавленные жалобы мои Твоя постель, как бездна, заглушает, В твоих устах забвенье обитает, В объятиях – летейские струи[3].
Затевая этот разговор, Эва не предполагала услышать такую чувственность в ответе.
– М-мило, – пробормотала она, ускоряя шаг.
Еще квартал и…
– Мило? Нет, мощно. – Борделон придержал Эву, его длинные пальцы почти сомкнулись на ее руке. – В загробном мире Лета – река забвения, мощнее которого ничего нет. Именно забвение предлагает мой ресторан – оазис цивилизации, где на час-другой можно забыть об ужасах войны. Уж поверьте, всякий кошмар поддается забвению, если правильно одурманить чувства. Еда – одно средство. Алкоголь – другое. Притягательная сердцевина меж женских бедер – третье.
Он произнес это небрежно и как всегда бесцветно. Эва залилась румянцем. Правильно, – подумала она, – Маргарита и должна покраснеть. Милый боженька, доставь меня домой!
– Вы вспыхнули? – Борделон склонил голову набок, разглядывая Эву. В лунном свете седые виски его отливали серебром. – Я ждал, покраснеете ли вы. В глазах-то ваших ничего не прочтешь. Окна души? Про ваши так не скажешь. Твои глубокие и темные глаза, Как ночь бездонные, порой как ночь пылают; Они зовут Любовь, и верят и желают; В них искрится то страсть, то чистая слеза![4] – не сводя с Эвы немигающего взгляда, процитировал Борделон, от чего она смешалась окончательно. – Чего в вас больше, мадмуазель Ле Франсуа, страсти или чистой слезы? – Борделон коснулся ее пылающей щеки. – Судя по румянцу, наверное, последнего.
– Дамы о таком не говорят, – выдавила Эва.
– Не будьте мещанкой. Вам не идет.
Слава богу, они добрались до ее квартиры. Эва нашарила в сумочке ключ и шагнула под массивный козырек над крыльцом, чувствуя, как струйка пота сбегает по спине.
– С-спокойной ночи, мсье, – попрощалась Эва, но Борделон ступил в тень навеса и неторопливо прижал ее к двери.
Эва не видела его лица, только чувствовала запах дорогого одеколона и масла для волос. Он склонился к ней и, минуя ее губы, лизнул впадинку меж ключиц, оставив влажный прохладный след. Легкое прикосновение его языка Эву парализовало напрочь.
– Хотелось узнать, какая вы на вкус, – отстраняясь, сказал Борделон. – Сладкая, но отдаете дешевым мылом. Вам подошел бы аромат ландыша. Что-нибудь этакое легкое, душистое, юное.
Ни курсы в Фолкстоне, ни натаска Лили, ни прежняя жизнь в Лондоне и Нанси не смогли подсказать, что на это ответить. Эва просто замерла, точно зверек, попавший в луч прожектора. Он уйдет. Сейчас он уйдет, и ты усядешься за донесение. В Лилль приезжает кайзер. Но великолепие бесценного сведения слегка померкло. Его пригасил острый, как бритва, взгляд хозяина «Леты».
В учтивом прощании Борделон перехватил трость и приподнял шляпу.
– Я вас хочу, – сказал он буднично. – Что странно, поскольку обычно меня не привлекают неотесанные девственницы, пахнущие дешевым мылом. Но в вас есть этакое неухоженное изящество. Поразмышляйте над этим.
О господи! – подумала Эва, не шелохнувшись. Борделон поправил шляпу и зашагал прочь.
Видимо, кто-то из соседей еще не спал – в соседнем доме скрипнула ставня. Какое счастье, что массивный козырек не позволял увидеть сцену, в которой собутыльник коменданта приложился к девичьей шее. К горлу подкатила тошнота, Эва яростно отерла влажный след меж ключиц.
– Предатель! – вслед удалявшейся фигуре крикнул сосед, надежно скрытый темнотой. И смачно плюнул.
Рене Борделон остановился и, приподняв шляпу, отвесил легкий поклон невидимому обидчику.
– Доброй ночи, – сказал он, усмехнувшись.
– Мать честная! Ай да маргаритка! – Выслушав доклад, Лили расплылась в улыбке. – Удачная бомбежка, и через две недели войне конец!
В ответ Эва тоже улыбнулась, хоть ликование ее угасло.
– Приближенные кайзера, фабриканты и все прочие, кто наживается на бойне, захотят ее продолжить. – Она понимала, что громоздкую военную машину враз не остановить.
– Смерть подонка станет началом ее конца. Утром я отбуду, как только пройдет комендантский час. – Лили спрятала донесение за подкладку сумки с шитьем (нынче по документам, реквизиту и манерам она была белошвейкой Мари) и стала расстегивать крючки на ботинках. – Курьеру такое не доверю, сама отвезу в Фолкстон. Может, куплю себе сомнительную шляпу, раз уж буду в стране, где ее можно надеть. Хотя вряд ли у вас, англичан, есть что-нибудь сомнительное, даже шляпы…
– Ты сможешь п-попасть в Англию? – изумилась Эва.
Она удивлялась уже тому, как легко и быстро Лили перебиралась из оккупированной Франции в Бельгию и обратно. Пусть расстояния здесь небольшие, но ведь опасностей полно, однако она проходила сквозь них, точно призрак. И что, таким же призраком теперь пересечет Ла-Манш?
– Конечно. – Голос Лили прозвучал глухо из-под просторной ночной сорочки, в которую она переодевалась. – В этом году я там уже побывала три-четыре раза.
Эва постаралась унять внезапную грусть по Фолкстону с его песчаными отмелями и дощатыми причалами, по ласковым глазам капитана Кэмерона в его таком английском твиде… Она мотнула головой, отгоняя жгучую ревность, что Лили так часто видится с ее наставником.
– Раз уж тебе предстоит путешествие в Англию, спи на кровати, – сказала Эва.
Согласно апробированной версии, Лили была ее подружкой, которая заглянула на огонек и осталась ночевать, дабы не нарушать комендантский час. Они уже трижды сыграли этот спектакль перед немецким патрулем, совершавшим ночные проверки, и Эву просто завораживало мгновенное перевоплощение Лили в белошвейку Мари – девицу еще глупее, чем соломенная блондинка Кристин.
– Спорить не буду. – Лили свалила в кучу снятую одежду и, плюхнувшись на кровать, стала рассказывать, как нынче добиралась в Лилль. – Донесение от источника в Лансе я спрятала между журнальных страниц, и – представляешь? – оно выпало, когда я выходила из поезда. – Лили озорно рассмеялась и тряхнула светлыми волосами. – Спасибо немецкому солдату, который его поднял и отдал мне.
Сооружая себе постель на полу, Эва улыбнулась, только улыбка ее казалась вымученной. Лили уж было продолжила рассказ, но подметила ее состояние.
– Так, что случилось?
Эва взглянула на свою начальницу. В ночной рубашке Лили выглядела моложе своих тридцати пяти, а растрепавшиеся волосы вообще придавали ей вид девчонки, которая весь день играла до упаду. Впечатление это разрушали умные, много повидавшие глаза и острые скулы, обтянутые бледной кожей. У Эвы сжалось сердце. Не обременяй ее лишним грузом, – сказала она себе, теперь уже понимая, отчего угрюмая Виолетта так пеклась о подруге. Лили бодрилась, но тяжелая ноша выжимала из нее все соки.
– Ну? Выкладывай! – досадливо повторила она.
– Да ерунда…
– Я сама решу, ерунда или нет. Еще не хватало, чтоб ты сломалась.
Эва улеглась на самодельное ложе и скрестила руки на груди.
– Рене Борделон пытается меня соблазнить.
Слова эти бухнули, как гири. Лили недоверчиво склонила голову:
– Точно? Извини, конечно, однако ты не смотришься предметом мужского вожделения.
– Он лизнул мне шею. И сказал, что хочет меня. Куда уж точнее?
– Вот тварь! – Из маленького серебряного портсигара Лили достала и прикурила две папироски. – Обычно сволочных мужиков обсуждают за бутылкой крепкой выпивки, но сейчас сойдет и курево. Держи. Табак прочищает мозги, от него даже есть хочется меньше.
Подражая Лили, Эва держала папиросу двумя пальцами, но мешкала затянуться, вспомнив наставление матери:
– Курение – п-порок чисто мужской, не дамский.
– Да брось ты! Мы не дамы, а солдаты в юбках, и нам чертовски надо покурить.
Эва поднесла папиросу к губам, вдохнула дым и закашлялась. Однако вкус табака ей сразу понравился. Горький, но горечь во рту не исчезала с той минуты, как Борделон прижал ее к двери.
– Итак, он тебя хочет, – деловито сказала Лили. – Вопрос: что будет, когда он усилит натиск? Как он тебе навредит, получив отказ? Сдаст немцам?
Она явно прикидывала, какое применение найти сотруднику в изменившейся ситуации. Эва снова затянулась, закашлявшись уже не так сильно. У нее свело живот, но больше от мыслей о Борделоне, чем от дыма.
– Вряд ли он обеспокоит немцев личной мелочью. Нет, он прибережет их расположение для чего-нибудь серьезнее. Наверное, просто уволит меня. Он не п-привык, чтоб ему отказывали.
– Подыщем тебе другое место, – сказала Лили, но Эва покачала головой:
– Такого, как «Лета», больше не найти. Где еще дважды в неделю добудешь ценную информацию? Где еще я бы узнала, на к-к-к… – Она заколотила себя кулаком по коленке, чтоб слово выскочило, – …к-какой путь прибудет поезд кайзера? – Эва глубоко затянулась и так закашлялась, что потекли слезы. – Тебе нужен свой человек в «Лете».
– Верно, – согласилась Лили. – Думаешь, за отказ он уволит?
– Полагаю, да.
– Тогда есть только один вариант. – Лили запрокинула голову и выпустила дымное колечко. – Ты переспишь с Борделоном?
Эва разглядывала огонек папиросы.
– Если потребуется.
Даже полегчало, когда она это произнесла. Слова эти вертелись у нее в голове, пока она со всех сторон обдумывала ситуацию. Подобный вариант вызывал отвращение и пугал. И что теперь, ничего не делать, раз страшно?
– Когда мужчина его возраста домогается семнадцатилетнюю, как он думает, девушку, то рассчитывает полакомиться целкой, – буднично сказала Лили. – Ты отвечаешь этим запросам?
Эва почувствовала, что непринужденный ответ ей не дастся, поэтому просто кивнула, уставив взгляд в пол.
– Твою же мать! – Лили загасила окурок. – Если ты и впрямь на это пойдешь, придется так ублажить мужика, чтоб он захотел продолжения. Иначе выйдет, что ты лишь втридорога купишь отсрочку от увольнения.
Эва понятия не имела, что значит «ублажить мужика», – воображение иссякало, едва она представляла, как Борделон расстегивает ее ладно скроенную блузку. Наверное, она побледнела, потому что Лили спросила:
– Ты вправду на это готова?
Эва снова кивнула.
– Я с-с-с-с… – Слово застряло намертво, не помогли и удары кулаком по полу. Оставив попытки, Эва громко выругалась: – Вот же, бля! – Казалось, первое в жизни ругательство вслух распустило тугие узлы в ее горле.
Теперь кивнула Лили.
– Давай закурим по второй и поговорим о технических моментах. Мужчина, который берет в любовницы целку, либо захочет превратить ее в многоопытную тигрицу, либо потребует, чтоб она всегда оставалась невинной скромницей, безропотно позволяющей себя растлить. Внимательно за ним наблюдай и подчиняйся его желаниям. Но есть и такое, что понравится любому мужчине… – Лили перечислила специфические любовные приемы, Эва, красная как рак, их запоминала.
Неужели придется делать это? И это?
Да, чтобы сохранить работу в «Лете». И она все это сделает.
Эва гадливо сморщилась.
– Просто подмечай, что ему нравится, и делай это, только и всего. – Лили похлопала ее по руке. – Теперь вот что: ты хоть знаешь, как предохраниться от залета?
– Да.
Эва хорошо помнила, как однажды ночью она, двенадцатилетняя, зашла в ванную и застала мать за странным делом: расставив ноги, та орошала себя из резиновой груши с трубкой. «Я больше не хочу рожать от этой сволочи», – рявкнула мать, кивнув на стенку, из-за которой доносился храп отца. Видимо, спринцеванье сработало – Эва была единственным ребенком в семье.
– Ничто не даст стопроцентной гарантии. – Лили как будто прочла ее мысли. – Будь осторожна – беременная шпионка никому не нужна. Придется срочно переправлять тебя в Англию, потому что женщине, которая понесла от предателя, здесь жизни не будет.
Перспектива невеселая. Эва отогнала мрачные мысли и задала конкретный вопрос:
– А у тебя вот так бывало – против воли?
– Раз-другой я сидела на корточках перед немецким постовым, чтоб пропустил через границу.
Еще десять минут назад Эва ничего не поняла бы, но теперь благодаря откровенному курсу Лили уразумела, о чем речь. Хотя ей было трудно представить, что руководительница шпионской сети приседает перед незнакомым мужчиной, расстегивает ему ширинку и…
– И как… оно?
– Солоно, – усмехнулась Лили, но улыбка ее быстро угасла. – Ладно, проехали.
Шпионки обменялись мрачными взглядами. Эва запрокинула голову и глубоко затянулась папироской. Пожалуй, ей нравится курить. Если жизнь опять сведет с хозяйкой пансиона, ярой противницей табака, пусть эта дура идет к чертовой матери.
– Но почему на курсах в Фолкстоне никто даже не н-намекнул, что можно столкнуться с чем-нибудь подобным?
– Там этого не знают. И ты, если хватит мозгов, никому ничего не расскажешь. – Взгляд Лили стал очень серьезен. – Делай свое дело, только не докладывай капитану Кэмерону, майору Аллентону и прочим о деталях его исполнения.
Эву аж передернуло, когда она представила этакий доклад Кэмерону: ради информации я легла в постель к предателю.
– Умру, но не скажу!
– Правильно. Иначе сразу выйдешь из доверия.
Из всего услышанного за вечер это, пожалуй, было самым удивительным.
– П-почему?
– Мужчины, они странные. – Лили невесело улыбнулась. – Если женщина отдается врагу, значит, в ней, на их взгляд, мало патриотизма. Им не понять, что женщина умеет не влюбляться в каждого, с кем спит. Шпионаж и без того занятие малопочтенное, а уж через постель – и подавно. Ни в коем случае нельзя запятнать репутацию страны, мы должны шпионить как леди.
– Чушь собачья! – возмутилась Эва.
– Кто бы спорил, маргаритка, – усмехнулась Лили. – Но ты же не хочешь, чтобы тебя отозвали из Лилля? А это случится, если начальство решит, что симпатичный предатель вскружил тебе голову.
Эва стряхнула пепел, у нее опять свело живот.
– Неужели капитан Кэмерон так обо мне подумает?
– Он-то, может, и нет. Он порядочный малый, как говорят англичане. Но я знаю, что о нас говорят другие английские офицеры.
– Бля! – воскликнула Эва.
Брань наряду с курением уже давались легче. Лили смотрела на нее с улыбкой, которую Эва не вполне понимала. Что в ней – трезвый расчет, печаль, гордость?
– Вот так вот, – грустно сказала Лили. – Сучья работа, верно?
Да, мысленно согласилась Эва. Однако она любила эту работу, оживлявшую тебя, как никакая другая. Скрывая свои страхи, Эва небрежно пожала плечами:
– Кто-то должен это делать. Так почему не мы, если у нас получается хорошо?
Свесившись с кровати, Лили поцеловала ее в лоб. Эва села и положила голову ей на колени.
– Только не кидайся сходу в койку этого выжиги, – тихо сказала Лили, поглаживая ее по волосам. – А то я тебя знаю: стиснешь зубы – и вперед! Маленько его помаринуй, если удастся. Возможно, через две недели от кайзера мокрого места не останется, и тогда наступит совсем другая жизнь. А ты вернешься восвояси, не лицезрев Борделона без штанов.
Дай-то бог! – про себя взмолилась Эва. Лили ласково гладила ее по голове, чего она никогда не могла дождаться от матери. Эва стала молиться еще горячее. Сейчас она храбрилась, но стоило закрыть глаза и вспомнить прикосновение языка Борделона, как волной накатывала тошнота.
Глава пятнадцатая
Чарли
Май 1947
Мать вела себя осторожно, точно я была ощетинившейся кошкой, готовой задать стрекача. То и дело она касалась моей ладони или плеча, словно проверяя, что я никуда не делась. Наскоро расправившись с завтраком, заказанным в номер (кофе и сухие тосты), она, неумолчно щебеча, принялась паковать мои вещи.
– После Процедуры поедем в Париж и купим тебе что-нибудь новенькое. Этот розовый костюм уже никуда не годится…
Я раздраженно клевала свой тост. После бессонной ночи я была неразговорчива и, кроме того, уже отвыкла от светской болтовни за завтраком. Похмельная Эва до полудня лишь мрачно зыркала, из Финна не вытянешь слова в любое время суток. Разве что в три часа ночи.
Чарли, голубушка…
– Не горбись, милая.
Я выпрямилась. Рассеянно улыбаясь, мать подкрашивала губы. Вчера, когда она чуть не плакала и порывисто меня обнимала, я ее просто не узнавала. А сегодня она успокоилась и с каждым мазком помады как будто возвращалась к своему обычному гламурному «я». Наконец она завинтила тюбик, и я коснулась ее руки:
– Давай еще немного посидим и закажем какой-нибудь еды.
В кои-то веки Маленькая Неурядица изголодалась и не мучила тошнотой. К черту сухие тосты, я хотела английский завтрак Финна: бекон, хлеб, яйца всмятку…
– А кто будет следить за фигурой? – Мать усмехнулась и огладила свою талию. – Хочешь не хочешь, красота требует жертв.
– На кой мне сдалась твоя красота? Я хочу сожрать рогалик.
Мать опешила:
– Где ты набралась таких выражений?
От одной сумасшедшей карги, чуть не пристрелившей меня. Странно, я скучала по Эве.
– Перекусим в поезде. – Мать захлопнула чемодан. – А то еще опоздаем.
В дверях уже маячил коридорный. Я доела тост, мать смахнула крошку, прилипшую к моей губе, и поправила мне воротничок. Ну почему с ней я всегда чувствовала себя ребенком?
Ты и есть дите, – шепнул противный голосок в моей голове. – А потому не готова стать матерью. Ты ничего не знаешь.
Кто бы говорил, – возразила Маленькая Неурядица.
Перестань со мной разговаривать, – приказала я животу. – Мне надоело себя чувствовать виноватой. Ничем не могу тебе помочь. Я не гожусь в матери. Все так говорят.
А сама-то что думаешь? – спросила Маленькая Неожиданность.
Я промолчала, ощутив здоровенный ком в горле.
– Шарлотта!
– Иду. – Вслед за матерью я прошла к лифту и с трудом выговорила: – Может, перед отъездом позвоним папе? – Мать пожала плечами. – Он же, наверное, беспокоится, – сказала я и подумала, станет ли отец вообще со мной разговаривать. Может, и после Процедуры он будет считать меня шлюхой? Ком в горле разбух еще больше.
– Между прочим, я ему не сказала, что ты как ненормальная сорвалась в Лондон. – Мать посмотрела мне в глаза. – Зачем его волновать?
– Но теперь-то скажешь? – Следом за ней я вошла в лифт. – Мы уже на неделю выбились из графика и к намеченному сроку домой не вернемся.
Коридорный внес наш багаж, мать изготовилась нажать кнопку.
– Просто меньше побудем в Париже. Домой приедем вовремя, не дав никаких поводов для беспокойства.
– Сразу домой? Ты обещала, что после Веве мы займемся Розой. Съездим в Лимож…
– Об этом поговорим дома. – Мать улыбнулась, лифт поехал вниз. – Выберем удобное время.
– Удобное? – Я уставилась на мать. – А чем неудобно сейчас? Мы уже здесь.
– Милая… – Мать глазами показала на коридорного, заинтересованно слушавшего непонятную английскую речь.
Мне это было безразлично.
– Нельзя просто вернуться домой, когда я уже кое-что выяснила.
– Это не наша забота. Всем займется твой отец.
– Почему? Я провела большую работу не хуже, чем…
– Это неудобно, – рявкнула мать. – Нам некогда гоняться за призраком. Обо всем позаботится отец. Я его попрошу. Позже. Когда вернемся домой.
Позже. Вечно «позже». Во мне закипала злость.
– Ты же обещала.
– Да, знаю…
– Пойми, для меня это важно. – Я пыталась пробиться к матери. – Не сдаваться, пока…
– Никто не сдается, милая.
– Что-то не похоже. Ты обо всем забудешь, едва мы окажемся по другую сторону Атлантики. – Я повысила голос. – Когда не надо будет так легко дать и тотчас нарушить обещание.
Лифт прозвонил, двери разъехались. Мать ожгла взглядом коридорного, который подхватил наш багаж и устремился к стойке портье.
– Так что? – наседала я.
– Здесь не место для дискуссий. Прошу тебя, хватит этой мельтешни, ступай за мной.
– Мельтешни? – Я двинулась следом. – Ты считаешь это мельтешней?
Мать резко обернулась, одарив меня натянутой улыбкой.
– Послушай, тебе мало неприятностей с отцом? У меня они тоже будут, если мы не вернемся к сроку. Поэтому перестань скандалить, пожалуйста. Идем.
Я смотрела на мать. Смотрела молча. Моя красивая самонадеянная матушка кусала идеально накрашенные губы, беспокоясь о возможных неприятностях с мужем. Она не осмелилась сказать ему, что я сбежала в Лондон. И боялась уведомить, что мы на неделю запоздаем. Она готова на все, лишь бы запихнуть меня в поезд до Веве. Точно девчонка, которая врет напропалую, стараясь избежать трепки. Если мать не доставит меня домой вовремя и с плоским животом, у нее возникнут неприятности.
С ней я всегда себя чувствовала ребенком. Но теперь, глядя на нее, ощутила себя взрослой.
– Значит, ты не собираешься искать Розу. – В тоне моем не было вопроса.
– Потому что она умерла! – выкрикнула мать. – И ты это прекрасно знаешь!
– Возможно. Даже скорее всего. – Я злилась, но хотела быть справедливой. – Однако предположений мне мало, и ты обещала, что мы обо всем дознаемся. Хотя бы ради моего душевного покоя. – Я помолчала. – Если отец не захочет возобновить поиски, ты надавишь на него? Скажи честно.
Мать шумно выдохнула.
– Пойду расплачусь за номера. А ты возьми себя в руки.
Цокая каблуками, она сердито засеменила к стойке. Я осталась возле нашего багажа, чувствуя себя разбитой вдребезги. И тут в другом конце холла увидела Розу. Не настоящую, конечно, а угрюмую прыщавую девочку, которая, привалившись к широкому подоконнику, дожидалась родителей, оформлявшихся в отель. Лицо ее читалось неясно из-за ореола над светлыми волосами, сотворенного солнечным лучом, и на секунду я поверила, что это она, Роза, смотрит прямо на меня и покачивает головой.
Ты не ребенок, Чарли, – услышала я ее голос. – И не трусиха.
Она-то всегда была храброй. Даже если боялась одиночества, как в тот день, когда нас забыли в прованском кафе. Храбрость никогда ей не изменяла. Оказавшись в моем нынешнем положении, она ужаснулась, однако не уступила родителям, предлагавшим «все уладить». Как бы ни было страшно, она родила и одна поднимала ребенка.
Вы-то чего хотите? – эхом прозвучал вопрос Финна из давешней ночи.
Хочу быть смелой, – подумала я.
Знаешь, что сделай? – посоветовала Маленькая Неурядица. – Составь и реши уравнение: Х на Х равняется храбрости.
Мать защелкнула сумочку и отшагнула от стойки. Мне стало нехорошо. Я же ничего не знаю о младенцах. Маленькие и беспомощные, прожорливые и хрупкие, они жутко пугали. Особенно тот, что во мне. Я к нему не готова. Совсем.
Подошла мать. Я набрала воздуху в грудь.
– Я не поеду в Швейцарию.
Выщипанные брови матери изогнулись дугой.
– Что?
– Процедуры не будет.
– Шарлотта, не начинай. Обсуждение закончено. Ты согласилась…
– Нет. – Голос мой был как чужой. – Я не избавлюсь от ребенка. Я его сохраню.
Казалось бы, должно накатить облегчение типа катарсиса. Ничего подобного. Тошнота и страх. А еще хотелось есть. Зверски. Сейчас я тебя покормлю, – на пробу сказала я Маленькой Неурядице.
Идея, похоже, ей понравилась.
Бекон, – откликнулась она.
Пожалуй, надо придумать ей имя, а то что это – М.Н.?
– Шарлотта, мы обе знаем, что другого варианта нет, поэтому…
– Другие варианты есть. – Впервые в жизни я перебила мать. – Ты выбираешь тот, который сулит наименьшие неприятности тебе. Меня вычистят, и отцу не придется краснеть перед деловыми партнерами, а тебе – перед партнерами по бриджу. Я знаю, вы желаете мне добра, но ваш вариант далеко не единственный, и я не обязана на него соглашаться.
От ярости мать всю перекосило.
– И как ты собираешься жить, неблагодарная потаскушка? – злобно прошипела она. – Ни один порядочный мужчина не женится на девке с ублюдком. На что ты рассчитываешь?
– Деньги у меня есть. Не только те, что на счете, но и мною заработанные. Я сумею о себе позаботиться. Я не беспомощна, – сказала я упрямо, ибо так оно, черт возьми, и было, хоть голосок в моей голове неустанно твердил: неудачница, неудачница, неудачница. В денежных делах я разбираюсь лучше матери, поиск Розы организую лучше отца. Пусть не вышло спасти Джеймса, но это не значит, что я неудачница во всем. – Я справлюсь.
– Черта с два! Как ты собираешься растить ребенка?
– Видимо, предстоит научиться. – Гора ожидавших меня новых знаний пугала до ужаса, но это не означало, что я не сумею ее покорить. – Я почти полный профан в младенцах, однако в запасе еще шесть месяцев, чтоб поднакопить знаний. А еще я знаю, что прямо с этой минуты займусь поиском Розы.
Я взяла свой баул. Мать вцепилась мне в руку.
– Если сейчас уйдешь, дорога домой тебе закрыта навсегда.
Меня словно ударили под дых. Но я вскинула подбородок и ответила:
– Когда я была дома, ты меня даже не замечала. Теперь вряд ли что-нибудь изменится.
Я потянула к себе баул, мать вцепилась еще крепче.
– Ты никуда не пойдешь, Шарлотта Сент-Клэр, кроме как на вокзал! – завопила она. – Ты несовершеннолетняя, я имею право тебя заставить!..
Бедная моя мать, всегда так озабоченная тем, что о ней подумают окружающие, орала, как базарная торговка. На нас смотрели все, кто был в гостиничном холле. Я тоже заорала:
– Ты меня отшвырнула! Я никуда с тобой не поеду!
Я попыталась выдернуть руку, но мать не отпускала.
– Не смей так со мной разговаривать, Шарлотта!
За моей спиной раздался тихий сердитый голос. Тихий сердитый голос с шотландским выговором.
– Вам докучают, мисс?
– Ничуть. – Мне удалось вырваться из маминой хватки. Я обернулась – Финн с сумкой через плечо, в руке ключ от «лагонды». Видимо, они с Эвой съезжают из гостиницы. – В вашей машине найдется местечко для меня?
Он ухмыльнулся и взял мой баул.
Мать уставилась на его мятую рубашку с закатанными рукавами и подбородок в темной щетине.
– Кто это… – начала она, но тут появилась Эва и проскрежетала:
– Надо же, опять америкашка.
– Она едет с нами, либо вы остаетесь, – сказал Финн.
– Ты служишь у меня!
– Но машина-то моя.
В животе у меня екнуло и потеплело. Я хотела ехать поездом, но при мысли, что опять заберусь в чудесную «лагонду»… Я полюбила эту машину! Теперь она мне роднее дома, из которого меня только что вышвырнули. Я взглянула на Финна и булькнула «спасибо».
– Так и знала, что от тебя не избавиться. – Как ни странно, в голосе Эвы не слышалось досады, только одобрение. – Американцы, они хуже бородавок.
– Кто эти люди? – Матери удалось вклиниться с вопросом.
Эва ее оглядела. Ну и пару они собою представляли: изящная дама в модной шляпке и безупречно белых перчатках и побитая жизнью старуха с руками-клешнями, одетая в затрапезное платье. Эва не отводила хищного властного взгляда исподлобья, пока мать не сморгнула.
– Ты, стало быть, ее мамаша, – сказала Эва. – Не вижу никакого сходства.
– Как вы смеете…
Я их перебила:
– Эва, я хочу отыскать свою кузину, и во всей этой неразберихе есть человек, которого вы боитесь. По-моему, надо выяснить, жив он или мертв. Давайте объединим наши усилия.
Сама не знаю, почему я это сказала. Эва с ее пистолетом и перепадами настроения все только осложняла, одна я бы двигалась быстрее. Но вот нынче я, хоть было жутко, стала храброй и теперь желала придать храбрости Эве – вернуть ее к той, кто беззастенчиво обдурил ростовщика и помог мне заложить жемчуг, кто выудил ответ из лавочницы, до смерти ее ненавидевшей. Я не хотела, чтоб она залегла в своей берлоге на Хэмпсон-стрит. Почему-то казалось, это ее принизит.
А еще был личный мотив. Я хотела узнать, что с ней случилось в оккупированном Лилле – не только с ее руками, но и с душой.
Я поискала красноречивые доводы, однако ничто не пришло на ум, и тогда я просто сказала:
– Я хочу услышать вашу историю.
– В ней приятного мало, – ответила Эва. – И нет эпилога.
– Так допишите его теперь. – Я вызывающе подбоченилась. – Вы вечно на взводе, но отваги вам не занимать. Ну что? Да или нет?
– Кто они такие, Шарлотта?!
Я даже не посмотрела на мать. Прежде она мною управляла, а теперь выпала из моей жизни. Но Эва смерила ее взглядом.
– С мамашкой я не поеду. Уже через тридцать секунд в ее обществе я поняла: она бесит еще больше тебя. День пути вместе, и я ее пристрелю.
– С нами она не едет. – Я взглянула на мать. В душе перемешались злость и любовь к ней. На секунду возник и тотчас угас порыв исполнить ее желание. – Прощай.
Наверное, надо было что-нибудь добавить. Но что тут скажешь?
Взгляд матери метался с Эвы на Финна и обратно.
– Ты не можешь взять и уехать с… этими…
– Финн Килгор, – вдруг представился Финн. Он протянул руку, и мать машинально ее пожала. – Недавний заключенный тюрьмы Ее величества Пентонвиль.
Мать разинула рот и отдернула руку, точно ужаленная.
– Упреждая ваш вопрос, – вежливо добавил Финн, – скажу, что сидел по статье «тяжкие телесные». Я сбросил в Темзу докучливых американцев. Хорошего дня, мэм.
Он закинул мой баул на плечо и пошел к выходу. Закурив, Эва двинулась следом, но обернулась:
– Так ты хочешь услышать мою историю, америкашка?
Я бросила прощальный взгляд на мать. Она смотрела на меня, но как будто не узнавала.
– Я тебя люблю, – сказала я и вышла на людную улицу.
Кружилась голова. Подташнивало. Переполняла радость. Ладони взмокли, в голове царил сумбур, сквозь который пробилось одно четкое желание.
– Завтракать, – сказала я, когда Финн подогнал «лагонду» с опущенным верхом. Я забралась на сиденье и погладила старушку по приборной доске. – Лимож подождет, сперва я наемся до отвала. Малышка просит, чтоб ее покормили.
– Почему это – малышка? – спросила Эва.
– Она сама сказала.
Как много нынче я узнала. И сколько всего еще предстояло узнать.
Глава шестнадцатая
Эва
Июль 1915
Через десять дней кайзер будет мертв. Так говорила себе Эва.
– Пошевеливайся! – понукала Лили, резво взбираясь на холм. У Эвы взмокшие волосы липли к шее, а Лили будто не замечала жары – подхватив юбки и сбросив шляпу на спину, она только прибавляла шаг. – Копуша!
Удобнее перехватив скатанное одеяло, Эва поднажала. Здешние окрестности Лили знала как свои пять пальцев.
– Господи, до чего же хорошо прогуляться тут днем, а не тащиться в темноте с проводниками, с ног до головы перемазавшись в грязи! Ну, осталось чуть-чуть…
Лили припустила вверх по склону. Обливаясь потом, Эва чувствовала, что два месяца жизни впроголодь сказались на ее выносливости, но забыла об усталости, забравшись на вершину холма. На небе ни облачка, яркое солнце золотило зелень пригорка. До Лилля рукой подать, но такое впечатление, будто выбралась из-под мрачной тучи немецких указателей и немецкой солдатни. Хотя и здесь жизнь далека от райской. Местные фермеры тоже испили свою чашу голода и безнадежности – продовольственные отряды оккупантов реквизировали мясо, масло, яйца. Однако сейчас, на макушке невысокого холма, можно было вообразить, что ненавистные захватчики сгинули.
Возможно, скоро так и будет. Если британская авиация сделает свою работу.
Одинаково сложив руки на груди, Эва и Лили разглядывали железнодорожный путь в сторону Германии. Через десять дней по нему проедет кайзер. Всего десять дней, и мир может стать другим.
– Я осмотрела местность. – Лили кивнула на железную дорогу. – То же самое сделали Виолетта и Антуан. (Из всех агентов шпионской сети Эва только их и знала – Виолетту и Антуана, обманчиво смиренного книготорговца, который изготавливал агентам фальшивые документы на все случаи жизни.) Мы сошлись во мнении, что этот участок – самый удобный для бомбежки. – Лили задрала подол и стала развязывать нижнюю юбку. – Но кто знает, примет ли начальство наше предложение.
– Давай расстелем одеяло, мы же на пикнике, – напомнила Эва.
Официантка и ее подруга белошвейка решили угоститься скудными бутербродами на лоне природы – это была их ширма на случай встречи с немцами. Эва расстелила старенькое одеяло, но Лили даже не взглянула на еду. Разложив юбку на траве, она достала грифель и стала быстро зарисовывать карту местности.
– С бумажками перейти границу теперь все сложнее. – Не прекращая сосредоточенной работы, Лили усмехнулась: – Но эти козлы даже не представляют, сколько информации умещается на нижней юбке.
– Я-то зачем тебе здесь? Виолетта хорошо знает местность, от нее толку больше.
– Она свое дело сделала. Но ценное сведение раздобыла ты, маргаритка, и заслуживаешь участия в операции. – Молниеносными штрихами Лили наносила на карты возвышенности, тропинки, деревья. – Выслушав мой доклад, дядя Эдвард приказал доставить тебя к нему.
– Меня?
– Он хочет выдоить из тебя как можно больше деталей. В столь важной затее рисковать нельзя. Едем через два дня.
Против ожидания, перспектива скорой встречи с капитаном Кэмероном отнюдь не согрела душу. Он был так далеко, словно в другом мире. Мысль о разделявшем их расстоянии взволновала гораздо сильнее его ласковых глаз.
– Я не смогу поехать в Фолкстон. Мне никак нельзя не выйти на работу.
– В такую даль ехать не придется. – Лили спокойно закончила набросок карты. – Дядя Эдвард будет ждать нас в Брюсселе. За день обернемся.
– Мое заикание слишком п-п-приметно. Я тебя подставлю.
Стань она причиной ареста Лили, ржавой бритвой отсекла бы свой неуклюжий язык.
– Ничего! – Лили взъерошила ей волосы. – Говорить буду я, мне не привыкать льстивой болтовней пробивать себе дорогу. Твоя задача хлопать ресницами, строить из себя невинную простушку, и тогда все пройдет как по маслу. Интересно, при чем тут масло? Странные у вас, англичан, выражения.
Эва видела, что веселость ее наигранная. Балаболя, Лили натянула нижнюю юбку, грифелем превращенную в карту.
– Пожалуйста, будь осторожнее, – сказала Эва, собирая несъеденные бутерброды. – Тебе всё шуточки. Смотри, досмеешься до расстрельного взвода.
– Пускай! – Лили махнула исхудавшей, почти прозрачной рукой. – Ясное дело, когда-нибудь я попадусь, ну и что? Хоть послужила отчизне. Пока есть время, надо спешить совершать подвиги.
– Времени-то м-м-мало, – причитала Эва, спускаясь с холма. – Через два дня в Бельгию… Как же я отпрошусь с работы?
– Уж сочини какой-нибудь предлог, – на ходу сказала Лили и бросила взгляд искоса: – Как там твой сволочной ухажер?
Думать о нем не хотелось. С той ночи, как Борделон проводил ее домой, Эва старалась не попадаться ему на глаза. На работе уносила тарелки, наливала шнапс и слушала. Ей удалось составить донесение о немецком асе Максе Иммельмане. Борделона она обходила стороной, но тот подавал знаки, что ждет ответа. Иногда безмолвно смотрел на ее шею, до сих пор помнившую прикосновение его языка. Или перед закрытием предлагал допить вино из бокала со следами жирных губ. Что же это за мир, в котором полуголодная отчаявшаяся девушка должна воспринимать угощение чужими опивками как шикарный жест кавалера?
– Не отстает, – наконец ответила Эва.
Лили заправила выбившуюся прядь за ухо.
– Поволынить его удается?
– П-пока что.
А есть ли в ее жизни что-нибудь, кроме «пока что»? Встреча с капитаном Кэмероном через два дня и приезд кайзера через десять – все это в одном сером мареве. Есть прошлое и есть «пока что». Все остальное неопределенно. И нереально.
В тот вечер в «Лете» было как-то особенно шумно – немцы реготали, обнимая истерически хохотавших женщин.
– Лярвы, – прошептала Кристин. Они с Эвой стояли у стены, ожидая, когда какой-нибудь гость вскинет палец: официантка, ко мне! – Вон та, что в новом шелковом платье липнет к офицеру, это Франсуаза Понсо. Знаешь, для этаких сучек булочник печет особый хлеб – он мочится в тесто, перед тем как его раскатать…
– Так им и надо. – Эва кивнула, хотя в животе у нее возникла противная пустота.
Франсуаза улыбалась, но в глазах ее была тревога, когда тайком от кавалера она прятала булочки в сумку. Наверное, дома ее ждали голодные рты, а в награду за свое унижение кормилица семьи получала оскверненный хлеб и поношенье. Однако было безопаснее согласиться с Кристин, выражавшей мнение большинства горожан.
Рене Борделон поглядывал на своих официанток, в глазах его мерцали блики горящих свечей. Смотри на Кристин, – мысленно взмолилась Эва. – Вон какая – блондинка, видная, литая, чего тебе еще? Однако разливать послеобеденный бренди он поманил Эву и одобрительно улыбнулся, наблюдая за ее неторопливыми изящными движениями.
– Пусть кто-нибудь другой отнесет бухгалтерскую книгу наверх, – в конце смены упрашивала она официантов, но те лишь смеялись:
– Нет уж, делай свою работу сама, Маргарита! Когда гроссбух приносишь ты, у хозяина поднимается… настроение, а нам это на руку.
Зубоскальство коллег означало, что взгляды, которые Борделон бросал на Эву, не остались незамеченными.
– Какие же вы с-свиньи, – буркнула Эва и поплелась к лестнице на второй этаж.
Книксен. Сухие пальцы скользнули по ее руке, принимая книгу.
– Вы спешите, мадмуазель Ле Франсуа? – Борделон оглядел аккуратные строчки на листе.
– Нет, мсье.
Борделон неторопливо перелистал страницы. Спасаясь от духоты летней ночи, он был без пиджака, набриолиненные волосы его сиянием не уступали лаковым туфлям. На манжетах белоснежной рубашки горели запонки, рубиново-красные в золотом ободке.
– Стекло арт-нуво, – сказал Борделон, перехватив взгляд Эвы на эти яркие пятна. (От него ничто не укроется?) – В духе Густава Климта. Вы о нем слышали? Перед войной мне посчастливилось побывать на выставке его картин в Вене. Впечатление невероятное. Там была и мифологическая Даная, которую Зевс посетил в облике золотого дождя… Климт изобразил женщину на пике наслаждения в тот момент, как золото льется меж ее ног.
Эве отнюдь не хотелось говорить о наслаждении, живописном и любом другом.
– Нет, я о нем н-н-не слышала.
– Это вызов. – Сняв запонки, Борделон выронил их в подставленную ладонь Эвы и завернул рукава рубашки, открыв бледные гладкие предплечья. Стараясь на них не смотреть, Эва уставилась на запонки, под светом переливавшиеся оттенками багрового цвета. – Вызов в золотом обрамлении. Многие считают это неприличным, ну и что? Бодлера тоже называли похабником.
Эва осторожно положила запонки к бюсту поэта и, глянув на грубое мраморное лицо, подумала: он был противен своей любовнице так же сильно, как Борделон – мне?
– Могу я попросить вас об одолжении, м-мсье?
– Об одолжении? Это уже интересно.
– Нельзя ли мне взять отгул? Подруга попросила вместе с ней навестить ее дядюшку, а живет он далековато.
Это была чистая правда. С Борделоном Эва старалась меньше лгать и больше недоговаривать.
– То есть вы хотите прогулять работу, – задумчиво сказал Борделон. – А ведь есть много желающих занять ваше место и работать без всяких отгулов.
– Я знаю, мсье. – Эва изобразила умоляющий взгляд. – Я надеялась, вы мною д-довольны, и п-п-п-п….
Борделон дал ей побуксовать на слове, потом отложил гроссбух.
– Ну хорошо. Можете взять выходной, – наконец сказал он, и от радости Эва чуть не обмякла.
– Спасибо вам…
– Уже поздно, – прервал ее Борделон. – Вы не забыли свой пропуск? Или вас опять проводить? – Он распустил галстук-бабочку. – Пожалуй, я провожу вас в любом случае. Мне бы хотелось развить наше знакомство, Маргарита.
Борделон назвал ее по имени, однако пренебрег обращением «мадмуазель». Едва он развязал галстук, как стало ясно, что выходить он никуда не собирается. Развитие знакомства произойдет здесь и сейчас.
Потому что я попросила об одолжении.
Эва усиленно сглотнула, чтоб было видно, как дрогнуло ее горло. Борделону понравится ее волнение.
Он бросил галстук на подлокотник кресла.
– Вы обдумали мое давешнее предложение?
Эва не стала притворяться, будто не поняла.
– Оно меня удивило, м-мсье.
– Вот как?
– Я, простая официантка, не пара мужчине со вкусом. У меня ни красоты, ни м-манер, ни светского опыта. Так что вы меня сильно удивили.
Борделон поднялся из глубокого кресла и неспешно подошел к столику атласного дерева, уставленному хрустальными графинами. Один откупорив, плеснул светлой искристой жидкости в бокал, мерцающий гранями, точно бриллиант, и подал его Эве:
– Отведайте.
Эва сделала глоток, поскольку выбора не имелось. Горло ей ожгло нечто приторно-сладкое и очень крепкое с едва уловимым цветочным ароматом.
– Ликер из цветков черной бузины. – Борделон оперся локтем о каминную доску. – Меня им приватно снабжает один винодел из Грасса. Чудесные там места, пьянящий воздух насыщен тем же цветочным ароматом, который вы почувствовали в ликере. Напиток уникален, в ресторане я его не подаю. Немцам сойдут бренди, шнапс и шампанское, а этот ликер я приберегаю для себя. Надеюсь, он вам понравился?
– Да. – Эва не стала врать, когда в том не было нужды. – Но зачем угощать меня, если вы д-дорожите такой уникальностью?
– Потому что вы тоже уникальны. Вы, Маргарита, обладаете хорошим, я бы даже сказал, очень хорошим вкусом, только совершенно неотесанны. Как Ева в Эдемском саду.
Непонятно, как Эва не подскочила, услышав свое настоящее имя. Но как-то удержалась и вновь пригубила бокал.
– В своих партнершах я всегда ценил изящество и хороший вкус, – продолжил Борделон. – Прежде, выбирая между сырым материалом и готовым изделием, я всегда отдавал предпочтение последнему, но сейчас в Лилле почти не осталось элегантных женщин. Голод вкупе с патриотизмом превратили всех моих давних знакомиц в мегер. И тут меня осенило: если я хочу надлежащую партнершу, я должен, подобно Пигмалиону из греческого мифа, сотворить ее сам. – Длинным пальцем он отвел прядь со лба Эвы. – Вот уж не думал, что процесс созидания настолько меня увлечет. Так что вам тоже удалось меня удивить.
Эва не знала, что на это сказать. Но Борделон, похоже, и не ждал ответа.
– Еще? – кивнул он на бокал.
– Да.
Борделон вновь плеснул щедрую порцию. Он хочет меня напоить, – подумала Эва. – Семнадцатилетняя Маргарита не привычна к крепким напиткам. Бокал-другой сделают ее покладистой и ко всему готовой.
На дне фужера она как будто видела железнодорожный путь, по которому проедет кайзер, коменданта Хоффмана и его свиту, за шнапсом выбалтывающих секреты, радостное лицо Лили, получившей от нее первое донесение. А в ушах звучал голос наставницы: «Сучья работа, верно?»
Да, – опять согласилась Эва. – Но кто-то должен ее делать. Так почему не я, если у меня получается хорошо?
Она осушила бокал. Борделон придвинулся ближе. Эва ощутила тонкий запах дорогого одеколона. Сейчас поцелует? Эва отогнала видение капитана Кэмерона, на пустынном берегу обучающего ее стрельбе из пистолета. Борделон склонился к ней.
Не отпрянь.
Рене втянул ноздрями воздух и, чуть скривившись, выпрямился.
– Пожалуй, вам стоит принять ванну. Моя туалетная комната к вашим услугам.
Нетронутые губы Эвы недоуменно дрогнули. Она опустила взгляд и увидела, что манжеты ее платья, несмотря на всю аккуратность в работе, слегка забрызганы соусом бер-блан и красным вином. А потом еще вспомнила утреннюю прогулку с Лили, на которой вся взмокла. Я воняю, – подумала Эва и от унизительности чуть не расплакалась. – От меня несет застарелым потом и дешевым мылом. Прежде чем лишить девственности, меня надо хорошенько отмыть.
– Мыло для вас я выбрал сам, – буднично сказал Борделон, расстегивая воротничок рубашки. Он явно ждал благодарности.
– Спасибо, – выдавила Эва и пошла к указанной ей двери.
В туалетной комнате царила та же неприличная роскошь: черно-белый кафель, огромная мраморная ванна, зеркало в золоченой раме. На полке лежал целехонький брусок мыла, наверняка реквизированный во время обыска у какой-нибудь дамы. Вспомнились слова Борделона об аромате ландыша, который подошел бы Эве – нечто легкое, душистое, юное.
В голове промелькнули наставления Лили о способах ублажения мужчины, и Эва почувствовала, что сейчас ее вырвет, однако сумела перебороть тошноту. Наблюдай за ним и подчиняйся его желаниям, – сказала наставница. Глянув на мыло, Эва поняла, что от нее требуется не только пахнуть ландышем, но быть легкой, душистой и юной. Что ж, спасибо за подсказку.
Мстительно не жалея горячей воды, Эва наполнила ванну и, охнув, опустилась в жаркую благодать. Уже больше двух месяцев она мылась над раковиной, вытираясь крохотным полотенцем. От тепла и двух бокалов ликера голова ее поплыла. Так и лежала бы целую вечность, но дело не ждет.
И лучше покончить с ним поскорее.
Не желая облачаться в ношеное белье и платье, Эва оставила их на полу и завернулась в белоснежное банное полотенце. Глянув в зеркало, она себя не узнала. И виной тому были не обозначившиеся скулы, памятка о скудном рационе последних месяцев, но выражение твердой решимости. Маргарита Ле Франсуа не могла выглядеть этаким кремнем, и Эва усиленно поработала над мимикой: приоткрыла рот, затрепетала ресницами.
– О, вот так-то лучше, – улыбнулся Рене Борделон, оглядев ее с босых ног до головы с распущенными каштановыми волосами.
– Благодарю вас. – Эва понимала, что от нее ждут признательности. – Я так давно не принимала горячую ванну.
Борделон запустил руку в ее влажные волосы и поднес их к носу.
– Прелестно.
Стройный и далеко не урод, он выглядел элегантно в дымчатом шелковом халате, сменившем его костюм. Длинные прохладные пальцы его проскользнули по волосам и замерли на горле Эвы, почти сомкнувшись. Теперь он ее поцеловал, медленно, мокро, умело. Глаза его оставались открытыми.
– Вы проведете здесь всю ночь, – проговорил он, через полотенце оглаживая ее бедро. – Рано утром я встречаюсь с комендантом Хоффманом – он хочет обсудить прием в честь аса Макса Иммельмана, который теперь будет отвечать за безопасность воздушного пространства над городом. Но я не прочь прийти на встречу слегка не выспавшимся.
Вот ради этого она и была здесь. Борделон чуть расслабился и выдал сведения, которые наверняка заинтересует британских авиаторов. Эва отложила информацию в памяти. От ужаса и решимости сердце ее билось еле-еле.
– Ну, покажитесь. – Борделон улыбнулся и тронул полотенце возле ее груди.
Пройди через это, – приказала себе Эва. – Потом этим воспользуешься. Ты сможешь, точно.
Она позволила полотенцу упасть к ногам и подставила губы для нового поцелуя. И что теперь, ничего не делать, раз страшно?
Часть третья
Глава семнадцатая
Чарли
Май 1947
Странно, что еще на полпути в Париж мы не улетели в кювет. Ни я, ни Финн не замечали живописных окрестностей в пышном майском цвету, потому что с заднего сиденья Эва рассказывала о том, как была шпионкой.
Эва – шпионка? Развернувшись к ней, я слушала с открытым ртом, и даже Финн то и дело оглядывался через плечо.
– Ой, смотри, угробишь нас, – сварливо сказала Эва. – А тебе, америкашка, сейчас муха в рот влетит.
– Рассказывайте дальше! – взмолилась я.
Шпионские истории я видела только в кино и считала их выдумкой, но вот нате вам – пусть Эва не соответствовала голливудскому стандарту, однако что-то в ее скрипучем будничном голосе, каким она вела речь о Фолкстоне, шифровках и дяде Эдварде, заставляло верить каждому ее слову. «Лагонда» поедала мили извилистых французских дорог, а Эва рассказывала. Ресторан «Лета». Его элегантный владелец. Куча цитат из Бодлера. Очкастая соратница под агентурной кличкой «Виолетта».
– Хозяйка антикварной лавки! – воскликнула я, в ответ получив вялый взгляд:
– Тебя не проведешь, да?
Я ухмыльнулась, ничуть не задетая ее сарказмом. У меня еще кружилась голова от невероятности того, что я распрощалась с матерью, Процедурой и всей спланированной жизнью. К тому же я очень плотно позавтракала, и на полный желудок страхи мои уступили место жажде приключений. Если путешествие в компании бывшего заключенного и бывшей шпионки навстречу неизвестному будущему не суть математические величины уравнения, приводящего к приключению, то уж не знаю. Бог весть когда последний раз я себя чувствовала настолько живой.
Эва рассказывала, временами замолкая. Военный Лилль, нехватка всего, поборы оккупантов. То и дело возникало имя Рене Борделона. И тогда голос Эвы полнился такой ненавистью, что стало ясно: он был не просто ее хозяином.
– Думаете, он еще жив? – Закинув руку на спинку сиденья, Финн глянул на Эву.
Та лишь хмыкнула и приложилась к фляжке. Финн спросил, были ли в шпионской сети другие агенты, кроме Виолетты.
– Да, был еще кое-кто, – не сразу ответила Эва.
Я буквально лопалась от любопытства, однако взгляд Финна остерег меня от расспросов. Новые отношения внутри нашей троицы еще только формировались: сейчас Эва была со мной не за деньги, но по собственной воле, и я больше не имела права давить на нее. Кроме того, теперь, услышав ее историю, я прониклась к ней уважением и потому прикрыла крышкой горшок, в котором бурлили мои вопросы. Эва опять прихлебнула из фляжки. Я глянула на ее неловкие клешни, и мой приключенческий настрой слегка угас. Что бы тогда ни произошло, изуродованные руки говорили о боевом ранении, какое получил и мой брат, на войне потерявший ногу. Его наградили «Пурпурным сердцем». Коробочка с медалью лежала возле него, когда он выстрелил себе в рот. А какие раны нанесли Эвиной душе?
Под полуденным солнцем Эву разморило, посреди фразы она вдруг умолкла и всхрапнула.
– Пусть подремлет, – сказал Финн. – Все равно заезжать на заправку.
– Долго еще ехать? – спросила я.
Мы решили, что на пути в Лимож заночуем в Париже.
– Час-другой.
– Сколько уж едем-то!
Финн ухмыльнулся.
– Я так заслушался рассказом о дешифровке, что проскочил нужный поворот и чуть не завез нас в Реймс.
В перламутрово-розовых сумерках мы подъехали к неказистому отелю на окраине города – роскошные бульвары нам были не по карману. Хоть кошелек мой отощал, мне надо было кое-что купить. Пока Эва и Финн устраивались в номерах, пропахших вчерашним рыбным супом, я зашагала на торговую улицу, где отыскала ломбард. Покупка нужной вещицы заняла всего пару минут, но на обратном пути я углядела комиссионку. А я уж устала чередовать три блузки и спать в комбинации.
Миниатюрная хозяйка, смахивавшая на обезьянку в идеально подогнанном модном платье, сложила губы сердечком:
– Чем могу служить, мадмуазель?
– Мадам. – Я поставила сумочку на прилавок, чтоб было видно обручальное кольцо на моей левой руке. – Мне нужно кое-что из одежды.
Узнав, сколько я готова потратить, хозяйка на глаз прикинула мой размер, а я старалась не крутить на пальце золотое кольцо, только что купленное в ломбарде. Мне оно было чуть великовато, как и титул «мадам». Но война закончилась всего два года назад, и молодые вдовы были вовсе не редкостью. Да, я решила сохранить Маленькую Неурядицу, однако не хотела, чтоб вслед мне плевали как родившей без мужа. Сценарий я знала: покупаешь обручальное кольцо и сочиняешь историю о любимом, погибшем на войне (в моем случае уже после войны), украсив ее парочкой убедительных деталей. Кое-кто воспримет этакую легенду скептически, но сказать ничего не сможет, поскольку необходимые атрибуты налицо: обручальное кольцо и покойный супруг.
Дональд, решила, заходя в примерочную кабинку. Дональд… Макгоуэн – так звали моего никогда не существовавшего покойного мужа. Наполовину шотландец, наполовину американец. Темноволосый. Служил в танковом корпусе под командованием Джорджа Паттона. Любовь всей моей жизни, недавно он погиб в автомобильной аварии. Он всегда гонял как сумасшедший, я предупреждала его, да разве он послушает. Если родится мальчик, я назову его в честь отца…
Я представила, как скривилась бы Роза:
– Дональд! Вот уж имечко ты выбрала!
– Да ладно тебе, – сказала я. – Наверное, будет девочка. Так что и «Дональд» сойдет.
– Жутко унылое имя!
– Не обижай моего Дональда!
– Мадам? – удивленно окликнула меня хозяйка, и я, проглотив смех, стала примерять одежду.
Но воображение разыгралась, продолжая строить неясные планы. Предположим, я отыщу Розу, и тогда мы могли бы жить вместе. Скажем, здесь, во Франции. Деньги у меня есть, так почему бы не купить себе новую честную жизнь, в которой две фальшивые мадам с фальшивыми обручальными кольцами все начнут с чистого листа? Вспомнилось прованское кафе, где вместе с маленькой Розой я провела самый счастливый день в моей жизни. Неужто такое убежище не найдется для нас взрослых?
Кафе. Я вспомнила, как мне нравилась моя недолгая работа в беннингтонской кофейне, пропитанной восхитительными запахами: обслуживаешь посетителей, в уме лихо подсчитываешь сдачу… А что, если нам с Розой открыть кафе? Я вообразила заведение, где продают открытки, сэндвичи с мягким козьим сыром и мраморной ветчиной в прожилках, где вечерами выступает Эдит Пиаф, где отодвигают столы, расчищая место для танцев… А за кассой поочередно сидят две молодые вдовы, которые флиртуют с мужчинами, но порой бросают печальные взгляды на фото покойных мужей… Надо раздобыть хорошие снимки липовых супругов…
– Мило! – одобрительно кивнула хозяйка, когда я появилась в узких черных брючках и короткой полосатой кофточке с глубоким вырезом. – «Новый облик» не для вас, – бесцеремонно заявила она, складывая в стопку примеренные мною брюки, юбки и свитера в обтяжку. – Вы одевались от Диора, но созданы для моделей от Шанель. Я ее знала, она вроде вас – невысокая, темненькая, некрасивая.
– Ну спасибо. – Задетая, я оглядела сумрачный магазин. – Не верится, что вы знакомы с Шанель.
– До войны я работала в ее салоне! Если она вернется в Париж, я опять буду работать у нее, а пока вот перебиваюсь. Все мы перебиваемся, но не в кошмарной одежде. – Хозяйка наставила на меня палец в ярком лаке. – Никаких оборок! Все покупайте по фигуре. Вам идет полоска. Туфли без каблуков. Забудьте про завивку, обрежьте волосы чуть выше плеч…
Я посмотрелась в зеркало. Пусть вещи не новые, но выглядела я симпатично. Слегка по-мальчишески. И до чего ж удобно без корсета и кринолина! Я заулыбалась, когда хозяйка надела мне соломенную шляпку, залихватски сдвинув ее чуть набок. Прежде я никогда не покупала одежду сама – во что мне нарядиться, решала мать. Но я уже не малолетняя девчонка, я – мадам, пора вести себя как взрослая женщина.
– Сколько с меня?
Мы поторговались. Мой запас франков был ограничен, но я подметила завистливый взгляд хозяйки, обругавшей «Новый облик», на мой костюм от Диора.
– Это из последней коллекции, – сказала я. – В отеле у меня есть еще один. Завтра принесу, если отдадите брюки, две юбки, кофточки и вон то черное платье.
– Уступлю только платье, если пообещаете носить его с жемчугами, накрасив губы ярко-красной помадой.
– Жемчугов пока нет, а помада найдется.
– Договорились.
Покачивая бедрами, я, вся в обновках, вернулась в гостиницу и нашла своих спутников в баре. Мне было приятно увидеть, как взметнулись брови Финна.
– Позвольте представиться: миссис Дональд Макгоуэн, – сказала я, показав руку с обручальным кольцом.
– Охренеть! – Эва прихлебнула коктейль, больше похожий на чистый джин.
Я погладила живот.
– Буду работать под прикрытием.
– Какой он, ваш Дональд Макгоуэн? – спросил Финн.
– Темноволосый, лицо худощавое. Окончил юрфак Йельского университета, воевал в танковом корпусе. – Я промокнула глаза воображаемым платочком с черной каймой. – Любовь всей моей жизни.
– Для начала недурно, – сощурилась Эва. – Носки свои он с-складывал или скатывал?
– Э-э… складывал.
– Без «э-э». Кофе пил черный или со сливками? Братья-сестры у него были? Он играл в университетской футбольной команде? Работа под прикрытием требует знания мельчайших деталей. – Эва выставила палец пистолетом. – Сочини биографию своему Дональду, да так ее выучи, чтоб от зубов отскакивала. Кольцо носи постоянно, пусть на пальце образуется желобок, какой имеется у всякой давно замужней женщины. Первым делом народ посмотрит: а есть ли такой желобок у девицы, что катит детскую коляску, выдавая себя за миссис?
– Слушаюсь, мэм! – ухмыльнулась я. – Поужинаем?
– Давай. Но сегодня плачу я. А то все ты да ты.
Я не подала виду, что тронута этим маленьким знаком Эвы – мол, я здесь уже не из-за твоих денег.
– Хорошо, только сперва я проверю счет. Иначе вы оплатите все, что вам подсунут.
– Как скажешь. – Эва подтолкнула ко мне счет за выпивку, который официант только что положил на стол. – Ты же у нас финансист.
– А нет, что ли?
Оно как-то само собой получилось, что все денежные дела отошли мне, самой молодой из нашей троицы. Я торговалась с портье, сбивая цену номеров, проверяла счета и хранила у себя мелочь, которая в карманах Финна и Эвы наверняка затерялась бы среди карандашных огрызков и прочего мусора.
– Уму непостижимо! – ворчала я, подписывая счет за напитки. – Одна – многоопытная шпионка, у другого ездит машина, в которой все держится на соплях, но оба битый час станут на бумажке высчитывать размер чаевых!
– Проще предоставить это вам, – сказал Финн. – Вы прям маленький арифмометр.
Я усмехнулась, вспомнив, как в лондонском банке клерк счел меня слишком юной и глупой, чтобы распоряжаться собственными деньгами. Но вот извольте – я распоряжалась финансами нашей группы. Интересно, чем еще я сумею распорядиться?
Покручивая на пальце фальшивое обручальное кольцо, я представила картину: в узких брючках, обернутых посудным полотенцем, я сижу за кассой, у меня красивая короткая стрижка. За стойкой Роза в стильном черном платье встряхивает светлыми кудряшками. На подиуме маленький оркестр играет джаз. Рядом с нами два пухлых малыша лепечут по-французски и по-английски – это Маленькие Неурядицы, превратившиеся в Несносные Наказания… Миссис Дональд Макгоуэн и мадам Этьен Фурнье живут хорошо. Просто хорошо.
Глава восемнадцатая
Эва
Июль 1915
Эва еще не видела Лили такой раздраженной.
– Сосредоточься, маргаритка! Ты витаешь в облаках!
– Сейчас соберусь, – пообещала Эва, но думала об одном: меня измочалили.
Хоть и не до смерти. Рене Борделон был довольно внимателен. Не настолько, чтобы лишить себя удовольствия, но все же. Чуть-чуть крови, не особенно больно. Вот и все, – думала Эва, получив разрешение одеться и идти домой. Еще одна смена, а утром поезд в Бельгию, встреча с капитаном Кэмероном, доклад о приезде кайзера. И до возвращения о Борделоне можно забыть.
Но после смены он опять оставил ее у себя.
– Конечно, я должен бы дать тебе время прийти в себя. – Борделон чуть улыбнулся. – Но уж очень ты соблазнительна. Ты не против?
– Нет, – сказала Эва.
А что она могла ответить? Поэтому был второй раз.
– С нетерпением буду ждать твоего возвращения.
Сидя в кровати, Борделон смотрел, как она одевается, и длинными пальцами собирал в гармошку простыню на колене.
– Я т-тоже. – Эва глянула на часы – без малого четыре утра. До встречи с Лили на вокзале осталось меньше четырех часов. – К сожалению, пора уходить. Спасибо за выходной день, мсье. (О благодарности забывать нельзя.)
Борделон не попросил обращаться к нему по имени, хотя сам называл ее только Маргаритой. Глядя, как она натягивает пальто, он усмехнулся:
– Ты удивительно молчалива, Маргарита. А ведь обычно женщины страшные болтушки. Я люблю тем сильней, что, как дым ускользая И дразня меня странной своей немотой…[5]
Нечего и спрашивать, чьи это строки. Бодлер, конечно. Вечно Бодлер, черт бы его побрал. До встречи на вокзале осталось всего ничего, и она придет не собранная, не выспавшаяся, благоухающая мужским одеколоном.
Да еще измочаленная.
Вместе с Лили поспешая на перрон, Эва старалась, чтобы походка не выдала ее состояния. В свое время Лили обо всем узнает, но не теперь, когда она так сосредоточена на благополучном переходе границы. А капитан Кэмерон не узнает никогда. Эвелин Гардинер не меняет свою девственность на отправку с передовой. Она снова ляжет с Рене Борделоном, ибо теперь знает, что в постели тот разговорчив. За две ночи он уже кое-что выболтал об асе Максе Иммельмане и предстоящем визите кайзера. Пусть себе говорит, а она будет слушать. Что до остального… Привыкнет, вот и все.
– Скверно, – тихо сказала Лили.
Эва поняла, что опять отвлеклась и приказала себе собраться. Теперь она увидела, что встревожило Лили – перрон кишел немцами, военными и гражданскими.
– Кого-то взяли? – чуть слышно прошептала Эва, чувствуя, как взмокают руки в перчатках.
Самой большой угрозой было то, что под пытками арестованный шпион выдаст других агентов, поэтому все они почти ничего не знали друг о друге, однако…
– Нет, с помпой встречают какую-то армейскую шишку, – прошептала Лили. – Принес же черт ее именно сегодня…
Сквозь давку они пытались пробиться к охранникам, проверявшим билеты и паспорта. Поезд уже подали, локомотив под парами пыхтел и всхрапывал, точно жеребец, которому не терпится пуститься вскачь. Но в присутствии высокого начальства контролеры были особенно дотошны.
– Говорить буду я, – напомнила Лили.
Нынче она была торговкой сыром Вивьен, в соломенном канотье и старенькой кружевной блузке с высоким воротом. Согласно плану, Лили изводит охранников болтовней, неуклюжая Эва то и дело роняет что-нибудь из громоздкой поклажи, и от них не чают избавиться. Но всех гражданских досматривали придирчиво, очередь двигалась еле-еле. Нам нельзя опоздать на поезд, – кусая губы, думала Эва. Наконец они добрались до турникета. Лили уже изготовилась подать свой паспорт, но тут раздался возглас на французском с немецким акцентом:
– Мадмуазель де Беттиньи! Неужто вы?
Эва первой разглядела и тотчас узнала немца лет сорока пяти: густые усы, треугольная челочка, большие эполеты, два ряда медалей – кронпринц Баварии Рупрехт, генерал-фельдмаршал, командующий шестой армией, один из лучших германских военачальников. В июне он приезжал в Лилль и, обедая в «Лете», нахваливал «эльзасский черничный пирог», а также новые немецкие истребители-монопланы «фоккер», размещенные на местном аэродроме. Подливая ему бренди, Эва запомнила информацию о «фоккерах».
И вот сейчас он, окруженный толпой адъютантов, подошел ближе и коснулся плеча Лили:
– Глазам не верю, Луиза де Беттиньи!
На долю секунды Лили окаменела, зажав в руке паспорт торговки сыром Вивьен. Но тотчас кинула его в сумочку, точно картежник, сбрасывающий негодную сдачу, мгновенно сменила угодливую ухмылку на сияющую улыбку и, развернувшись к кронпринцу, присела в книксене. Эва не замедлила последовать ее примеру.
– Ах, ваше высочество! – воскликнула Лили. – Уж вы умеете польстить даме, узнав ее со спины, да еще в такой неприглядной шляпке!
– В любом уборе вы ослепительны, мадмуазель.
Генерал склонился и, звякнув медалями и орденами, поцеловал ей руку.
Лили ответила очаровательной улыбкой. Эва была как в тумане, но не могла не восхититься ее молниеносным перевоплощением: самоуверенный взгляд, гордо вскинутый подбородок, и даже унылое канотье по мановению пальца обрело игривый наклон тех огромных шляп с газовой вуалью, оставленных ею в вагонных купе во всех уголках Франции. Она мгновенно преобразилась в дворянку, переживающую нелегкие времена.
– Надо же так оконфузиться! – Речь ее обрела аристократическую тягучесть, которую ни с чем не спутаешь. – Кронпринца Баварии я встречаю в старых кружевах. – Лили коснулась воротничка блузки. – Принцесса Эльвира мне этого никогда не простит.
– Кузина к вам очень расположена. Помните, как в гостиной ее дома в Голешове мы играли в шахматы…
– И вы победили! Исподтишка окружив моих слонов, вынудили короля к сдаче. Неудивительно, что теперь вы командуете шестой армией, ваше высочество…
Потекла светская болтовня. На Эву, неловко переминавшуюся с поклажей, никто даже не взглянул, приняв ее за служанку блистательной дамы. Она вздрогнула, увидев, что их поезд отошел от перрона.
– Что вы делаете в Лилле, мадмуазель де Беттиньи? – Окруженный роем адъютантов, генерал не заметил отхода поезда. Он добродушно улыбался, от глаз его разбежались морщинки. Не будь он правой рукой кайзера, Эва прониклась бы к нему симпатией. – В этакой дыре!
Так вы и превратили его в дыру, – подумала Эва, и приязнь к Рупрехту мгновенно испарилась.
– Я собиралась навестить брата в Бельгии… Ах, боже мой, поезд-то ушел! Теперь не знаю, пропустят ли меня через границу… – Отчаяние Лили изобразила не хуже персонажа комедии дель арте.
Генерал тотчас отдал приказ адъютанту:
– Машину для мадмуазель де Беттиньи и ее горничной. Вас отвезет мой личный шофер.
– Необходим паспорт мадмуазель, – сказал адъютант.
Эва замерла. У Лили был только паспорт на имя торговки Вивьен, и если его найдут…
Лили рассмеялась и стала копаться в сумочке.
– Где-то он был… – На свет появились носовой платок, ключи, булавки и заколки. – Маргарита, мои документы у тебя?
Эва поняла свою задачу и, приняв вид деревенского тугодума, начала поочередно распаковывать все свертки и узелки. Генерал улыбался, свита его нетерпеливо переминалась с ноги на ногу.
– Ваше высочество, нас ждут у коменданта… – наконец сказал адъютант.
– Не хлопочите, мадмуазель де Беттиньи, я подтверждаю вашу личность, знакомую мне еще с мирных времен. – Генерал вновь приложился к руке Лили.
– И каких счастливых времен! – подхватила Лили.
Кронпринц сам усадил ее в подъехавший автомобиль. Растерянная Эва вместе с поклажей забралась на заднее сиденье. В машине запах дорогой кожи перебивал бензиновую вонь. Из окошка Лили помахала платком, дверцы захлопнулись, и автомобиль плавно тронулся с места, суля поездку неизмеримо комфортнее, чем в битком набитом вагоне.
Лили смолкла. Только, покосившись на шофера, отпустила замечание о несносной жаре, как и полагалось аристократке. Эву распирало от уймы вопросов, но она сидела, опустив глаза долу, как и полагалось горничной. В полном молчании пересекли границу с Бельгией. Машину кронпринца даже не остановили. Шофер предложил довезти Лили до дверей дома, но та, мило улыбнувшись, попросила высадить ее возле ближайшей железнодорожной станции, и они с Эвой вышли у какого-то полустанка – обыкновенной платформы со скамьями.
– Я бы не прочь прокатиться до самого дома, поезда мне уже осточертели, – глядя вслед роскошной машине, сказала Лили. – Но дядя Эдвард вряд ли одобрит наше появление в генеральском авто.
Эва молчала, не зная, с чего начать. Кроме них, на пыльной платформе была еще только старушка, дремавшая на дальней скамье.
– Ну что, маргаритка? – Лили поставила саквояж на скамейку и села. – Скажешь, что я – немецкий шпион, раз командующий шестой армии знает меня в лицо?
– Нет, – помотала головой Эва, хотя эта мысль, надо сознаться, у нее промелькнула. Двойной агент уж кто-кто, но только не Лили.
– Ну вот, теперь ты знаешь мое настоящее имя, – улыбнулась Лили, стягивая перчатки. – Оно известно немногим. Лишь Виолетте и дяде Эдварду.
Виолетта, верный оруженосец, предаст меня мучительной смерти, если я подвергну Лили опасности, разболтав ее секрет, – подумала Эва.
– И кто же она, Луиза де Беттиньи?
– Дочь обедневших французских дворян. Ей бы вся стать пойти в актрисы, учитывая ее страсть к лицедейству. Но дочери обедневших французских дворян актрисами не становятся.
– А к-кем же?
– Если они бедны как церковная мышь, то их участь – служить гувернанткой в доме похотливого итальянского герцога, польского графа или австрийской принцессы. По мне, уж лучше пуля в лоб, чем вдалбливать французские глаголы наследникам обветшалых замков и несуществующих гербов.
Сгорая от любопытства, Эва осмелилась на следующий вопрос:
– И вот так Луиза де Беттиньи познакомилась с кронпринцем Баварии? Она обучала его детей?
– Нет, отпрысков его кузины, принцессы Эльвиры. Жуткая стерва. Нос картошкой, нрав как у тюремной надзирательницы. Косноязычные дети ее, глупые как пробка, мнили себя хозяевами планеты. Служа гувернанткой, обретаешь хорошие навыки в подглядывании и подслушивании, однако… – Лили вздохнула. – Скука смертная. Я утешалась тем, что это все же легче, чем добывать уголь в забое или по восемнадцать часов вкалывать в прачечной. Но все так надоело, что оставалось либо броситься под поезд, как Анна Каренина, либо пойти в монахини. Я всерьез подумывала о монастыре, да уж больно я ветреная.
В траве стрекотали кузнечики, припекало солнышко, на дальней скамье похрапывала старушенция.
– Вот такая она, Луиза де Беттиньи, – закончила рассказ Лили. – Но это уже не я. Я превратилась в Лили, которая нравится мне гораздо больше.
– Я тебя понимаю, – сказала Эва. Имя Луиза де Беттиньи годилось для надутой глупышки, которая носит кружевные воротнички и не обладает иными достоинствами, кроме изящного почерка. И оно совсем не подходило хрупкой быстроглазой женщине, у которой в саквояже с двойным дном хранилась уйма немецких военных секретов. – Поверь, я не проболтаюсь. Никому.
– Я тебе верю, маргаритка, – улыбнулась Лили.
Эва тоже ответила улыбкой, чувствуя, как потеплело в груди.
Лили опять вздохнула.
– Этот чертов поезд когда-нибудь придет?
Тема ее настоящего имени больше не возникала никогда.
Слава богу, в поезде ехали недолго, поскольку возбуждение от неожиданной встречи с генералом понемногу улеглось и Эву опять одолели мысли о прошлой ночи с Борделоном. Ей было ни к чему запоминать дорогу к явочной квартире, блеклая синяя дверь которой тотчас открылась на стук Лили.
Она прошла в кабинет дяди Эдварда, а Эва осталась в гостиной под приглядом молодого худосочного секретаря. Вскоре Лили вышла и подмигнула:
– Заходи. А я попробую где-нибудь раздобыть бренди. – Она склонилась и прошептала Эве на ухо, чтобы не слышал секретарь: – Похоже, наш дорогой дядюшка сгорает от нетерпения увидеть тебя. И, кажется, у него не только служебный интерес…
– Лили! – прошипела Эва, глянув на молодого человека.
– А коли доведется увидеть нашего доблестного капитана голым и расслабленным, спроси его, почему он вместо своей кошмарной женушки сел в тюрьму, – выдала Лили на прощанье. – До смерти любопытно!
В кабинет Эва вошла с пылающими ушами. Капитан Кэмерон поднялся ей навстречу:
– Здравствуйте, мисс Гардинер.
Эва встала как вкопанная. Она сама не знала, что было тому причиной: ее собственное имя, которое так давно никто не произносил, или облик капитана. Я и забыла, как ты выглядишь. Она-то думала, что помнит его прекрасно: худое лицо англичанина, светлые волосы, заостренные пальцы. Но, оказалось, из памяти выпали детали: как он, усевшись, забрасывает ногу на ногу, переплетает худые пальцы и широко улыбается.
– Садитесь, пожалуйста, – предложил Кэмерон, и Эва только теперь сообразила, что застыла в дверях.
Усевшись на жесткий стул перед столом капитана, она оправила юбку.
– Рад вас видеть, мисс Гардинер. – Капитан опять улыбнулся.
Эва вспомнила их первый разговор в гостиной пансиона. Неужели это было только два месяца назад? Как много всего произошло за это время. Например, прошлой ночью чужие прохладные пальцы исследовали все ее нежные впадины – от сгибов локтей и ключиц до той, что между бедер… Нет, не думай об этом. Нельзя.
Кэмерон сложил ладони домиком, лоб его прорезала морщина.
– Как вы себя чувствуете? Вы как будто…
– Похудела? В Лилле с едой неважно.
– Да, похудели, но еще и… Как вам живется?
О шотландском налете в его речи она тоже забыла.
Длинные пальцы, словно паучьи лапки, легко касаются мочек ее ушей.
– Хорошо.
– Так ли?
Узкие губы скользят по ее животу, язык забирается меж пальцев рук.
– Я д-делаю что д-должно.
– Моя обязанность – не только получить информацию, но еще оценить состояние агента. – Морщина на лбу Кэмерона не исчезла. – Работаете вы отменно. Алиса Дюбуа… Что такое?
– Нет, ничего. Просто я называю ее Лили. В нашу первую встречу она сказала, что «Алиса Дюбуа» порождает образ костлявой училки с лицом лопатой.
Капитан рассмеялся:
– Узнаю Алису. Вас она очень хвалит. – Взгляд его стал цепким. – Сработали вы первоклассно, но, возможно, это стоило вам чрезмерных усилий?
Долгий поцелуй, глаза его всегда открыты.
– Ничуть. Я создана для такой работы.
Не позволяя пальцам сжаться в кулаки, Эва выдержала взгляд капитана. Он не пропустит даже малейшей перемены в ее лице. Нынче Кэмерон был в цивильной одежде. Пиджак его висел на спинке стула, подвернутые рукава рубашки открывали узкие запястья. Пусть он выглядит университетским преподавателем, нельзя забывать, что идет допрос. И не заметишь, как этакий дока вытянет из тебя информацию.
Эва улыбнулась, точно многоопытный боец, не теряющийся в любой ситуации.
– Я полагала, мы поговорим о приезде к-к-к… (удар кулаком по коленке)…кайзера, капитан.
– Вы держали ушки на макушке, молодчина. Теперь расскажите обо всем по порядку.
Эва сжато, но в точных деталях передала эпизод в ресторане. Кэмерон слушал внимательно, иногда делая пометки. Как приятно видеть мужчину, который временами моргает.
Откинувшись на стуле, капитан просмотрел свои записи.
– Еще что-нибудь?
– Изменилось время приезда – кайзер прибудет на час позже, чем планировалось ранее.
– Вот это новость! Как вы об этом узнали?
– Обслуживая гостей ресторана.
От Рене. Кончив, он не спешит выйти из меня, но, остужая любовную испарину, начинает болтать…
Кэмерон что-то подметил в ее глазах.
– В чем дело, мисс Гардинер?
Как приятно слышать свое настоящее имя, особенно из его уст. Приятно настолько, что это не кончится добром.
– Лучше называйте меня М-маргаритой Ле Франсуа. Так мне спокойнее.
– Хорошо.
Капитан продолжил беседу, расспрашивая о каждой мелочи, и выявил пару деталей, которые Эва сочла несущественными.
– Ну вроде бы все. – Кэмерон встал. – Вы оказали неизмеримую помощь.
– Спасибо. – Эва тоже встала. – Скажите пилотам, чтоб не промазали. Пусть к чертям собачьим разнесут этот поезд.
От ее горячности вспыхнул и взгляд капитана.
– Принято.
Эва пошла к двери, но ее догнал голос с легким шотландским выговором:
– Берегите себя.
Эва взялась за дверную ручку.
– Я осторожна.
– Ой ли? Лили трясется над всеми агентами, точно наседка. Говорит, вы ходите по самому краю.
В темноте на нее опускается стройное мужское тело.
– На то она, по вашим словам, и наседка.
– Эва… – Голос приблизился вплотную.
– Не называйте меня этим именем. – Эва резко развернулась и шагнула к капитану. – Оно уже не мое. Я Маргарита Ле Франсуа. Вы сами в нее меня превратили. И я останусь ею до конца войны или до своей смерти. Понятно?
– Умирать совсем не обязательно. Просто будьте осторожны…
Прекрати. Хотелось впиться в его губы, чтоб он замолчал. Наверняка они теплые. Нельзя. Тебе это слишком понравится. Ты уже размякла от его голоса, и все это плохо для дела.
Эва отпрянула, но капитан ее удержал, взяв за талию.
– Наша работа трудна, – тихо сказал он. – И хорошо, что мы это понимаем. Если хотите поговорить…
– Не хочу, – отрезала она.
– Станет легче, Эва.
Он уже достал ее этим именем. Сил никаких нет. Конечно, он это делал намеренно – нащупал слабую точку и давил, проверяя, не сломается ли его подопечная. Такая у него работа – оценить состояние агента. Эва вскинула подбородок и резко сменила тему, желая ошеломить капитана:
– Либо отпустите меня, Кэмерон, либо займемся тем, что не требует досужей болтовни.
Она сама не знала, откуда взялись эти слова. Дура, дура! Капитан изумленно вытаращился, но теплая рука его так и осталась на ее талии. Эва понимала, что ей надо уйти, но все в ней этому противилось. Прильнуть бы к нему – и будь что будет! Она хотела очутиться в постели с этим мужчиной, каждое слово и реакцию которого не придется просеивать, взвешивать и учитывать.
Но Кэмерон отшагнул от нее, безмолвно крутя обручальное кольцо на безымянном пальце.
– Насколько я знаю, жена отправила вас за решетку, – в лоб сказала Эва, подразумевая: Что ж такое вы ей задолжали?
Капитан попятился еще дальше.
– Кто вам сказал?..
– Майор Аллентон, еще в Фолкстоне. Почему вы в-в-взяли вину на себя? – Эва перехватила инициативу и не собиралась отступать.
– Все просто: я хотел спасти ее от тюрьмы. – Кэмерон отвел взгляд и ухватился за спинку стула. – Она была… несчастлива. Очень хотела ребенка, но никак не могла забеременеть. Каждый месяц надеялась, что теперь-то получилось, и потом от огорчения творила нечто странное. Прятала вещи и затем устраивала скандал из-за их пропажи. Увольняла горничных – мол, подслушивают под дверью, хотя они близко не подходили к ее комнате. Потом стала копить деньги, чтоб обеспечить будущее нашего несуществующего ребенка. Ради этого заявила о краже жемчужного ожерелья и получила страховку. – Капитан потер лоб. – Когда обман вскрылся, она умолила меня взять вину на себя. Жутко боялась тюрьмы. Я ее пощадил. Она такая слабая.
Обыкновенная лгунья, которая обрадовалась возможности избегнуть наказания, не посчитавшись с тем, что разрушает твою жизнь и карьеру, – подумала Эва, но не произнесла эти жестокие слова.
– Следующей весной жена родит. – Кэмерон поднял взгляд. – Теперь она гораздо спокойнее. И счастлива.
– А вы – нет.
В знак возражения капитан вяло покачал головой, но Эва видела его насквозь. Оба они измотаны и подавлены, оба запросто могут погибнуть в мясорубке войны. Сознавая, что поступает неправильно, но не в силах удержаться, она подошла к Кэмерону. Хотелось любым способом изгнать воспоминание о паучьих руках и бесцветном голосе Борделона. Вот она я. Возьми меня.
Капитан прижал ладонь к губам. Жест благородного рыцаря, который никогда не воспользуется слабостью дамы. Эва чуть было не сказала, что она уже не девушка, что цветок невинности сорван Рене Борделоном. Но прикусила язык. Кэмерон мог отозвать ее из Лилля. Даже после того, как она затащит его в койку. Дура ты, идиотка, – прошептал внутренний голос. – Забыла, что говорила Лили об отношении начальства к шпионажу через постель? А ты еще, как потаскуха, вешаешься ему на шею.
Нет, он не такой узколобый, он все поймет, – мысленно возразила Эва.
Но голос был непреклонен:
Рисковать нельзя.
Эва попятилась. Если что, она скажет, что не это имела в виду, хотя оба все прекрасно поняли.
– Прошу прощенья, дядя Эдвард. Мы закончили?
– Вполне, мадмуазель. Поберегите себя.
– Меня бережет Лили. На пару с Виолеттой.
– Маргаритка, лилия и фиалка. – Кэмерон улыбнулся, но в глазах его была мучительная тревога. – Мои цветочки.
– Цветы зла, – неожиданно для себя сказала Эва и вздрогнула.
– Простите?
– Бодлер. Мы не те цветы, за которыми ухаживают, а потом собирают в букет. Мы распускаемся во зле.
Глава девятнадцатая
Чарли
Май 1947
Четыре порции джина-мартини за ужином отправили Эву прямиком в постель, а я все никак не могла угомониться. Для прогулки не было сил – Маленькая Неурядица пила мою энергию, точно горячий шоколад, и я надеялась, что эта стадия беременности скоро минует, – но все равно я еще не созрела, чтобы подняться в свой номер. А тут Финн встал из-за стола и, пряча в карман обойму от «люгера», которую нынче Эва отдала сама, сказал:
– Надо кое-что подремонтировать в машине. Подержите фонарь?
Пока мы ужинали, прошел дождь, на улице было тепло и пахло прибитой пылью. Под светом фонарей блестели мокрые тротуары, проезжавшие машины шуршали шинами. Из багажника Финн достал инструментальный ящик и фонарь.
– Светите, – сказал он, открывая капот.
– А что приключилось со старушкой? – спросила я.
– Масло подтекает. – Финн сунулся к мотору. – Через день-другой я проверяю, чтоб не стало хуже.
Я привстала на цыпочки и направила луч в нутро «лагонды». Мимо пронеслась машина с хохочущими француженками.
– Не проще ли определить, где течет, и устранить неисправность?
– Хотите, чтобы я повременил с поездкой, разобрал и снова собрал чертов мотор?
– Вообще-то нет.
Теплое солнышко и наше зарождавшееся товарищество сделали сегодняшнее путешествие очень приятным, но мне не терпелось попасть в Лимож. Роза. Чем ближе я подбиралась к ее последнему месту обитания, тем больше крепла надежда, что она жива и ждет меня. А рука об руку с Розой я горы сверну.
– Ну же, – уговаривал Финн заупрямившуюся гайку, болт или чего там. Когда он вот так увещевал машину к сотрудничеству, шотландский выговор его становился заметнее. – Давай, давай, старая ржавая железяка, – бормотал он, орудуя гаечным ключом. – Фонарь повыше, мисс…
– Ваша «мисс» грозит мне разоблачением и провалом, как сказали бы соратники Эвы. – Я повертела рукой с фальшивым обручальным кольцом. – Не забывайте, я – миссис Дональд Макгоуэн.
Финн ослабил, то ли затянул гайку, болт или чего там.
– С кольцом это вы лихо придумали.
– Хорошо бы иметь фотографию Дональда, – задумчиво проговорила я. – Дабы временами обращать на нее затуманенный взор и говорить, что сердце мое вместе с ним в могиле.
– Дональд не хотел бы, чтоб вы себя хоронили, – возразил Финн. – Вы молоды. Он бы посоветовал вам опять выйти замуж.
– Я не хочу замуж. В моих планах отыскать Розу и, возможно, открыть кафе.
– Вон как? – Выглянув из-под капота, Финн сдунул прядь, упавшую на глаза. – Зачем?
– Однажды мы с ней провели во французском кафе целый день, который стал самым счастливым в моей жизни. И я подумала… Но это просто мечты. Надо что-то делать со своим будущим.
Теперь, когда приходилось заботиться о Маленькой Неурядице, следовало чем-то заменить старый план матери: Хорошо учиться в колледже, пока не подцепишь симпатичного молодого юриста. Удивительно, что неясное будущее меня ничуть не пугало. Отныне я могла делать, что захочу. Скажем, найти работу. Чем математики занимаются в реальной жизни? Учительствовать я не хотела, бухгалтером меня не возьмут…
– А что, неплохо иметь свое маленькое дело типа кафе, – предположила я, вообразив ряд гроссбухов с аккуратными колонками цифр.
– Дональду это не понравилось бы. – Финн усмехнулся и взял ключ поменьше. – Чтоб его вдова подавала еду или сидела за кассой?
– Да, он не всегда меня понимал, – созналась я.
– Мир его праху, – абсолютно серьезно откликнулся Финн.
Надо же, как он изменился! Раньше так себя вел, словно каждое его слово на вес золота, а теперь вон шутит.
– А вы чем хотите заняться?
– Не понял, миссис Макгоуэн?
– Не собираетесь же вы всю жизнь завтраком лечить Эву от похмелья и на ночь разряжать ее пистолет? – Я втянула носом сырой воздух – похоже, опять пойдет дождь. Пара стариков в мятых кепках торопливо прошагали по улице, беспокойно поглядывая на небо. – Чем бы вы занялись, если б вам сказали: выбирай что хочешь?
– До войны я работал в автомастерской. Всегда мечтал открыть свою такую, где чинил бы машины, восстанавливал старые модели… – Финн выпрямился и осторожно захлопнул капот. – Теперь вряд ли получится.
– Почему?
– Видимо, нет деловой хватки. И потом, нынче полным-полно тех, кто ищет работу или хотел бы получить кредит в банке. А кто же даст хорошее место или ссудит стартовый капитал бывшему солдату с тюремным сроком?
– Поэтому вместе с нами вы рванули в Лимож? – Я выключила фонарик, и тьма как будто сгустилась, хотя мутные уличные фонари неярко горели. – Понятно, что движет Эвой и мной. Вам-то это зачем?
– А что еще делать? – негромко сказал Финн, в голосе его притаилась улыбка. – Кроме того, вы обе мне нравитесь.
Помешкав, я спросила:
– За что вы сидели? Только не говорите, что умыкнули лебедя из королевских ботанических садов или бриллиантовую диадему из сокровищницы Тауэра. – Я покрутила фальшивое обручальное кольцо. – Правда, что произошло? – Финн неспешно вытирал тряпкой испачканные руки. – Эва рассказала, что в Великую войну была шпионкой. Я призналась, что переспала с половиной курса. Наши секреты вы знаете.
Финн убрал ящик с инструментами в багажник. Потом сложил тряпку чистой стороной вверх и стал подтирать следы дождевых капель на крыле. Сквозь большое окно на входе в отель на нас пялился ночной портье.
– В последний год войны я насмотрелся кое-чего плохого, – проговорил Финн и надолго замолчал.
Я уж думала, он больше ничего не скажет.
– Я вспыльчив, – наконец вымолвил он.
– Неправда, – улыбнулась я. – В жизни не встречала более уравновешенного человека…
Финн вдруг шлепнул ладонью по крылу. Я вздрогнула и осеклась.
– Я вспыльчив, – спокойно повторил он. – После демобилизации я вел себя скверно. В хлам напивался, затевал драки. В конце концов меня арестовали. Дали срок за побои.
Побои. Противное слово. С Финном оно никак не вязалось.
– Кого вы избили? – тихо спросила я.
– Не знаю. Прежде мы не встречались.
– А за что?
– Не помню. Я обезумел. – Финн привалился к капоту и сложил руки на груди. – Все время был на взводе. Он что-то сказал. Я ему врезал. И стал избивать. Меня оттаскивали вшестером, когда я бил его головой о дверной косяк. Слава богу, успели оттащить, прежде чем я раскроил ему череп.
Я молчала. Улица подернулась легким туманом.
– Он поправился, – сказал Финн. – Не скоро. Я сел в тюрьму.
– С тех пор вы кого-нибудь ударили? – спросила я, чтоб не молчать.
Финн невидяще смотрел перед собой.
– Нет.
– Тогда, может, дело не в вашей вспыльчивости?
Финн хохотнул.
– Я превратил парня в котлету – сломал ему нос, челюсть, четыре пальца, чуть не выбил глаз – и дело не в моей вспыльчивости?
– До войны у вас случались такие драки?
– Нет.
– Значит, причина, видимо, не в вас. В войне.
Хотелось узнать, что с ним было на фронте, но я не стала спрашивать.
– Паршивое оправдание, Чарли. Тогда все бывшие фронтовики должны оказаться за решеткой.
– Одни попадают в тюрьму. Другие возвращаются к работе. Третьи себя убивают. – Мысль о брате отдалась болью. – У всех по-разному.
– Ступайте под крышу, – резко сказал Финн. – Пока не промокрявились.
– Я американка, не понимаю ваш сленг, что это значит?
– Пока не промокли насквозь. Чаду это вредно, миссис Макгоуэн.
Я пропустила его слова мимо ушей и тоже привалилась к капоту.
– Эва знает?
– Да.
– И что сказала?
– Что питает слабость к красивым мужикам с шотландским выговором и тюремным сроком, а потому дает мне шанс. И больше об этом не вспоминала. – Финн покачал головой, волосы опять упали ему на глаза. – Она не из тех, кто осуждает других.
– И я не из таких.
– Но лучше вам держаться подальше от гнилого яблока вроде меня.
– Финн, в прошлом я порядочная девушка, а ныне – беременная без мужа. Эва – бывшая шпионка, ныне пьяница. Вы сидели в тюрьме, а ныне механик, шофер и спец в английских завтраках. Знаете, почему мы никого не осуждаем? – Я толкнула его плечом, потом еще раз, заставив посмотреть на меня. – Потому что никто из нас не вправе морщить нос на чужие грехи.
Финн все смотрел на меня, в уголках его глаз затаилась улыбка.
Я подтянулась и села на капот. Теперь лицо Финна было почти вровень со мной. Я подалась вперед и осторожно прижалась губами к его губам, вновь ощутив их мягкость и колючесть его подбородка. И опять его руки легли на мою талию. Только теперь я сама оборвала поцелуй. Я бы не вынесла, если б он снова меня оттолкнул.
Но он не оттолкнул. Его губы сами нашли мой рот. Сильные теплые руки притянули меня ближе. Пальцы мои исполнили свою мечту, зарывшись в его спутанные волосы, а его ладони скользнули под мою новую полосатую кофточку, но не отправились выше, а замерли на боках. Меня всю трясло, когда мы наконец оторвались друг от друга.
– Я измазал тебя солидолом. – Финн глянул на свои испачканные руки. – Извини, голубушка.
– Отмоется, – выговорила я.
Только мне не хотелось смывать его запах, вкус его губ и даже его солидол. Я хотела целоваться с ним, но мы были на улице и уже моросил дождь. Я слезла с капота, мы вошли в отель. Пойдем ко мне, в мой номер, – готовилась я сказать, но поймала тот особый взгляд ночного портье, бесстрастный и понимающий.
– Доброй ночи, мсье Килгор, доброй ночи, мадам Макгоуэн, – сказал администратор, заглянув в книгу регистраций.
– Великолепно, – пробурчала я, вваливаясь в свой одинокий номер.
Я успешно сгубила репутацию не только Чарли Сент-Клэр, но и миссис Макгоуэн. Мой Дональд был бы в шоке.
Глава двадцатая
Эва
Июль 1915
В Лилле Эву ждал подарок от Борделона – темно-розовый пеньюар тончайшего шелка, что проскользнет сквозь кольцо. Однако не новый. От пеньюара чуть пахло духами неведомой женщины, лишившейся его во время очередной реквизиции, дабы теперь в него облачалась Эва.
Чтобы изобразить радость, она представила, как поезд кайзера взлетает на воздух, и, приложившись щекой к нежному шелку, проговорила:
– Спасибо, м-мсье.
– Тебе идет.
Борделон откинулся в кресле, явно довольный тем, что отныне она соответствует антуражу его шикарного кабинета. Про себя Эва мрачно усмехнулась: надо же, какой эстет. Как обычно, в своем роскошном халате Рене дожидался, пока она смоет все запахи долгой вечерней работы, и теперь, когда на смену темному платью и полотенцу пришло шелковое облачение, ничто не оскорбляло его чувство прекрасного.
– Я подумываю куда-нибудь тебя свозить. – Откупорив графин с ликером из черной бузины, он, как всегда, плеснул на донышко себе и щедро наполнил ее бокал. – Торопливые ночные свидания мне не по нраву. Я планирую недолгую поездку в Лимож. С ночевкой. Пожалуй, возьму тебя с собой.
Эва пригубила ликер.
– Почему в Лимож?
– Здесь гнусно. – Борделон скорчил рожу. – Гораздо приятнее пройтись по улицам, у которых нет немецких названий. А еще я думаю открыть второй ресторан. Возможно, Лимож подойдет. Вот на выходных и осмотрюсь.
Два дня с Борделоном. Эву пугала не ночь, но именно дни, сулившие долгие трапезы, чаепития и совместные прогулки, когда надо следить за каждым своим словом и жестом. Все это измочалит еще задолго до постели.
Отложив партию в шахматы и допив огневой ликер, они перешли в спальню. По завершении неизбежного действа, Эва, выждав минуту-другую, влезла в рабочее платье, собираясь домой. Наблюдая за ней, Рене прицокнул языком:
– Весьма невежливо так спешить, когда и простыни еще не остыли.
– Я не хочу, чтоб пошли разговоры, м-мсье, – сказала Эва. Кроме того, она боялась, что ее вдруг сморит. А если во сне она заговорит по-немецки или по-английски? Даже подумать страшно. И как быть, когда в Лиможе они будут спать в одной постели? – Возникнут сплетни, что я не ночую дома. – Эва натянула чулки. – А б-булочник мочится в тесто, из которого печет хлеб для женщин, которые… якшаются с немцами.
– Но я-то, дорогая моя, не немец, – усмехнулся Борделон.
Ты еще хуже. Иуда, предавший ради выгоды. Немцев ненавидели, но такие, как Рене Борделон, вызывали ненависть стократ сильнее. После нашей победы тебя первого вздернут на фонарном столбе.
– И все равно меня осудят, – упорствовала Эва. – Начнут угрожать.
Рене пожал плечами.
– Только скажи, если кто-нибудь осмелится. Я сообщу немцам, и таких говорунов обложат неподъемным штрафом, упекут в тюрьму, а то и покарают круче. Комендант окажет мне этакую любезность, дабы погасить раздоры среди горожан.
Похоже, Борделона ничуть не беспокоило, что из-за него кто-то окажется за решеткой или на краю голодной смерти. Несколько раз Эва слышала, как за послеобеденным бренди он доносил на тех, кто ему не нравился, прятал вещи от реквизиции или высказывался против оккупантов. И сейчас он говорил так небрежно… Неужто совесть не мучит? Нет, ни малейших следов.
– Ты вправду все еще стыдишься, милая? – Борделон склонил голову набок. – Не хочешь, чтоб люди знали о нашей связи?
– Я не хочу есть хлеб с мочой, – прошептала Эва, изображая мучительное смущение. По правде, она была в ужасе.
Рене как будто решал, чем отозваться на ее откровенность: ироничной усмешкой или хмурым взглядом? Слава богу, он выбрал усмешку.
– В конечном счете, Маргарита, я приучу тебя не обращать внимания на досужую болтовню. Ты обретаешь свободу, когда опираешься лишь на собственное мнение и плюешь на чужое. – Даже голый – бледное гладкое тело, оттененное простынями, – он не утратил изысканности. – Значит, на выходных едем в Лимож, я беру тебя с собой. Если угодно, для персонала можешь сочинить историю о заболевшей тетушке. А я при всех выражу тебе свое недовольство.
– Спасибо, мсье.
Эва не собиралась ехать с ним в Лимож. Если все сложится удачно, через два дня кайзер будет мертв, и мир переменится.
Конечно, это не просто, – говорила она себе. От смерти одного человека, пусть и короля, маховик войны враз не остановится. Но даже если бойня не прекратится, мир станет совсем иным. И Борделону придется делать срочный переучет союзников и врагов, он забудет об утехах в Лиможе.
Дни до приезда кайзера ползли со скоростью ледника, но еще медленнее тянулись ночи в безукоризненной постели Рене, хоть Эва и вызнала кое-что о местном аэродроме, наверняка полезное дяде Эдварду. Наконец Главный день настал. Утро его, выдавшееся жарким и душным, «цветы зла» встретили в молчании. Лица быстроглазой Лили и осмотрительной Виолетты горели надеждой столь яростной, что ее следовало немедля затоптать, точно гидру. Втроем они поднялись на травянистый холм.
– Не надо бы нам сюда приходить, – сказала Виолетта.
– Уймись, – ответила Лили. – Я сойду с ума, если буду сидеть дома, прислушиваясь, не летят ли аэропланы. И потом, как я составлю отчет, не увидев результата? Все прочее подождет.
– Идея негожая, – пробурчала Виолетта.
Однако назад они не вернулись, а, миновав разоренные фермы, заняли позицию на пологом взгорке, откуда открывался вид на железнодорожные пути. Именно отсюда Лили и Эва выбирали место для бомбового удара. В угрюмом молчании Виолетта жевала травинку, Эва стискивала и разжимала кулаки и только Лили без умолку трещала:
– Давеча, проезжая через Турне, я купила просто кошмарную шляпу: розаны из голубого атласа и вуаль с мушками. Я оставила ее в вагоне, наверное, она и сейчас там. Ни одна уважающая себя проститутка не позарится на розанчики из голубого…
– Заткнись, а? – рявкнула Эва, и даже Виолетта наконец разомкнула уста:
– Спасибо, что угомонила ее.
Все трое не сводили глаз с путей, словно одним усилием воли могли их воспламенить. Солнце забиралось все выше.
Самой зоркой оказалась Лили.
– Кажется…
Султанчик дыма. Поезд.
Состав появился беззвучно – с такого расстояния не услышишь ни лязга колес, ни пыхтения паровоза. И деталей не разглядишь. Но по сведениям Эвы, это был тот самый поезд, в котором кайзер Вильгельм совершал секретную инспекцию фронта.
Эва взглянула на голубое небо. Пусто.
Маленькая рука Лили отыскала в траве и крепко сжала ее ладонь.
– Твою же мать! – процедила Лили, глядя в небо. – Хмыри английские…
Поезд чуть приблизился. Хватка Лили уподобилась тискам. Второй рукой Эва отыскала и стиснула руку Виолетты. Та ответила тем же.
Когда возник басовитый стрекот аэропланов, Эва подумала, что сердце ее сейчас остановится. Сперва послышалось нечто вроде шмелиного гуденья, а затем появились два самолета в боевом порядке. Эва не разбиралась в монопланах и бипланах, вообще ничего не знала о летательных аппаратах, просто запоминала то, о чем за десертом говорили немцы. Однако эти аэропланы были так прекрасны, что у нее перехватило дыхание. Лили тихонько материлась, но брань ее была сродни молитве. Виолетта окаменела.
– Я даже не знаю, как они поражают цель, – бормотала Эва. – Пилоты просто сбрасывают бомбы?
Теперь рявкнула Лили:
– Заткнись, а?
Поезд приближался. Аэропланы чертили круг в голубом небе. Ну! – мысленно взмолилась вся троица. – Давайте! Пусть все закончится этим летним днем, наполненным ароматом разогретых трав и птичьим щебетом.
На таком удалении не разглядишь капли сброшенных бомб, не услышишь пулеметные очереди или что там полагается. Но пламя и дым взрывов увидишь. Аэропланы лениво кружили над поездом, точно орлы. Вот сейчас, – подумала Эва.
Нет, ничего.
Ни дыма. Ни пламени. Ни искореженных рельсов, ни вагонов, летящих под откос.
Кайзер благополучно проследовал в Лилль.
– Не вышло, – пролепетала Эва. – Не с-сумели.
– Или бомбы оказались бракованные, – в нескрываемой ярости прошипела Виолетта.
Сделайте еще заход! – мысленно умоляла Эва. – Попробуйте снова! Однако аэропланы, теперь казавшиеся не гордыми орлами, но общипанными воробьями, скрылись. Почему?!
Да какая разница! Кайзер жив. Он объедет позиции, поглядит на солдат в окопах и одобрительно кивнет, увидев, что в Лилле городские часы переведены на берлинское время, а бульвары снабжены табличками с немецкими названиями. Вот разве что он решит отобедать в «Лете», и тогда Эва получит шанс воткнуть столовый нож ему в спину или подлить крысиного яду в его шоколадный мусс. В противном случае он, живой и здоровый, вернется в Германию и машина войны покатится дальше, целехонькая, как только что проехавший поезд.
– Ну и ладно, – проскрежетала Виолетта. – Смерть кайзера привлекла бы сюда всю немецкую контрразведку. И нас бы непременно взяли.
– Не п-похоже, что война закончилась. – Эва не узнала свой голос. – Теперь вряд ли что из-з-з… – Так и не осилив слово, она встала и машинально отряхнула юбку.
Не шевелясь, Лили смотрела вслед удалявшемуся поезду, лицо ее как будто сразу постарело.
Виолетта глянула на нее, сверкнув очками.
– Поднимайся, Лили.
– Будь они прокляты… – Лили покачала головой. – Ах, сволочи…
– Ну же, милая, вставай.
Лили поднялась. Попинала траву, а потом вдруг мрачно, чуть заметно усмехнулась:
– Не знаю, как вы, пташки мои, а я сегодня напьюсь вдрызг.
В любом случае Эва не смогла бы составить ей компанию за стаканом паршивого бренди или виски. Вечером у меня Рене, – подумала она. – И завтра. А на выходных от него не отделаться ни днем ни ночью.
Вечер делился на части. Горячая ванна, затем минут десять относительного покоя: шелковый пеньюар, слегка липнущий к чуть влажному телу, большой бокал ликера. Рене ставил какую-нибудь пластинку, например Дебюсси, и рассуждал об импрессионизме в музыке, живописи и литературе. Это была легкая часть. От Эвы требовалось лишь восхищенно внимать.
Потом Рене забирал у нее бокал и вел в спальню. Наступала трудная часть.
Долгие-долгие поцелуи. Он никогда не закрывал глаза, немигающий взгляд его ловил малейшие перемены в ее лице. Потом он медленно стягивал с нее темно-розовый шелковый пеньюар, неторопливо укладывал ее на безупречно свежие простыни и голый ложился сверху, но не спешил войти в нее.
Ужасно хотелось, чтобы он поскорее справил свое дело и отвалился. Так было бы гораздо легче.
– Прежде я не занимался обучением девственницы, – после первого раза сказал Рене. – Невинности всегда предпочитал опытность. Что ж, посмотрим, насколько ты сметлива. Поначалу ты не изведаешь наслаждения, так уж вы, женщины, устроены, что, по-моему, весьма несправедливо.
Язык его охотно исследовал все закоулки ее тела: от впадин за ушами и под коленями до прочих известных мест. Этим он мог забавляться бесконечно, как и тем, чтобы рука ее под его водительством изучала его собственное бледное чистое тело. Он любил придать ей ту или иную позу и разглядывать с разных углов зрения.
– Когда ты удивлена, ты слегка распахиваешь глаза, точно лань, – однажды сказал Рене и вдруг легонько прикусил ей сосок. – Вот как сейчас… – Он провел пальцем по ее ресницам.
Для Эвы стало откровением, что плотская близость позволяет людям лучше узнать друг друга. Я этого не хочу, – заполошно думала она. – Чем меньше ему обо мне известно, тем успешнее моя работа. Но с каждой ночью он узнавал о ней все больше.
«Труднее всего лгать тому, кто прекрасно тебя знает», – еще в Фолкстоне сказал капитан Кэмерон. Эва отогнала мысль о нем, не желая, чтобы он незримо присутствовал в постели Борделона, но страх не исчез. Если Рене узнает ее достаточно хорошо, удастся ли обманывать его и дальше?
Удастся, – решительно сказала себе Эва. – Просто потребуется больше сноровки, но ты справишься. И запомни: ты тоже его узнаёшь.
Ночь за ночью в нем открывалось что-нибудь новое: дрожь жилки на виске, огонек, вспыхнувший в глазах. Мужчину, которого ты видела голым, прочесть уже гораздо легче даже сквозь броню его элегантного костюма.
Вслед за прелюдией тотчас происходило соитие. Борделон предпочитал быть сверху или сзади. Ухватив Эву за волосы, он запрокидывал ей голову, чтобы видеть ее лицо, и, не теряя ритма, приказывал смотреть на него. После извержения обмякал и, остывая от любовной гонки, продолжал начатый в кабинете разговор о Дебюсси, Климте или прованском вине.
Нынче темой был кайзер.
– Говорят, он доволен визитом. Аэродром ему понравился, но кто знает, какое впечатление произвели на него окопы. По слухам, это жуткое зрелище.
– Вы его в-видели? – Эва даже не шелохнулась: пальцы ее по-прежнему были переплетены с пальцами Рене, ноги обхватывали его узкие бедра. В такие моменты Борделон расслаблялся. – Я надеялась, он появится в «Лете».
Она старалась говорить простодушно, но, видимо, что-то промелькнуло в ее лице.
– Чтобы плюнуть ему в луковый суп? – усмехнулся Рене.
В постели она ему лгала, только если не было иного выхода. Соприкасаясь обнаженными телами, можно услышать мысли друг друга.
– Я бы не стала этого делать. Разве что мысленно, – честно сказала Эва.
Борделон рассмеялся и, выскользнув из нее, откатился на простыни. Как всегда, Эва сдержала вздох облегчения.
– По слухам, он хоть и кайзер, но вульгарен. Однако я рассчитывал, что он зайдет в ресторан. Изобразить радушного хозяина перед императором было бы крупной удачей.
Эва накрылась простыней.
– Он не приказал что-нибудь изменить в г-городе?
– Да, весьма интересно…
Рене пустился в рассказ.
– Ты добываешь удивительно ценную информацию, – сказала Лили.
Через неделю после отъезда кайзера она вновь появилась в городе. Собираясь на работу, Эва щеткой расчесывала волосы. Лили зашифровала ее последнее донесение и, оторвавшись от клочка рисовой бумаги, презрительно усмехнулась, покачивая головой:
– Неужели за хересом или бренди комендант открыто болтает об артиллерийских позициях?
– Нет. – Эва смотрелась в зеркало над хромоногим умывальником. – В постели об этом говорит Рене Борделон.
Она спиной чувствовала взгляд Лили.
Эва старалась говорить обыденно, но споткнулась на первом же препятствии:
– Как раз накануне нашей встречи с дядей Эдвардом я стала его…
Кем, содержанкой? Нет, он взял ее на работу, но не содержал. Шлюхой? Он не платил ей сверх жалованья, если не считать вознаграждением ликер или пеньюар, который она могла надевать только в его апартаментах. Возлюбленной? Любовью там и не пахло.
Но Лили все поняла.
– Бедная моя. – Она подошла к Эве и забрала у нее щетку. – Сочувствую. Паршиво тебе?
– Хуже. – Эва зажмурилась, у нее перехватило горло. – Мне… очень стыдно.
Щетка прошла сквозь ее волосы.
– Я знаю, ты не из тех, кто легко теряет голову, поэтому не видела особого риска в этаком шаге. Но в подобных делах случается такое, чего никак не ждешь. Ты влюбилась в него?
Эва яростно тряхнула головой.
– Вот уж чего нет и в помине!
– Хорошо. Иначе мне пришлось бы доложить руководству. И я, если что, это сделаю. – Лили говорила спокойно, расчесывая Эве волосы. – Ты мне ужасно нравишься, но нельзя подвергать опасности столь важное дело. Если речь не о влюбленности, чего ты стыдишься?
Эва заставила себя открыть глаза и через зеркало посмотреть на Лили.
– Поначалу от меня не требовали наслаждения, его даже не ждали. Но вот теперь…
Постепенно она обвыклась с тем, что происходило на хрустящих простынях. А в постельных делах запросы Рене Борделона были столь же высоки, как во всем прочем. Настала пора доставлять и самой получать наслаждение.
Возникло нечто совершенно невообразимое.
– Говори. Уж поверь, ошеломить меня не удастся, – буднично сказала Лили.
– Это начинает мне нравиться. – Эва опять зажмурилась.
Ход щетки не сбился.
– Он ненавистен мне. – Эва все-таки совладала с голосом. – Как же я могу получать удовольствие от того, что он со мной д-д-д… – Слово застряло, она смолкла, не договорив.
– Видимо, он хорош в постели.
– Он враг. – Эву трясло, но она не понимала, что тому причиной – злость, стыд или отвращение. – Можно пожалеть женщин, которые спят с офицерами, чтобы прокормить семью, мужчин, которые работают на немцев, чтобы дети их не погибли от холода. Но Рене Борделон стал предателем ради наживы. Он ничуть не лучше гансов.
– Наверное, – сказала Лили. – Только знаешь, в плотской любви сноровка нужна, как и во всем другом. Подлец может быть хорошим плотником, шляпником, любовником. Мастерство никак не связано с душой.
– Ох, Лили… – Эва потерла виски. – Ты говоришь как истинная француженка.
– Верно, и француженка – лучший собеседник на данную тему. – Лили подняла ей голову, чтобы Эва смотрела прямо в зеркало. – Значит, мсье Выжига удалец в постели, и ты казнишься тем, что получаешь удовольствие?
Эва представила, как Рене вдыхает аромат вина в бокале, как неспешно заглатывает устрицу…
– Он эстет. И хочет максимум наслаждения от бордо, от хорошей сигары, от меня…
– Твое тело откликается на умелое обращение с ним, – осторожно сказала Лили. – Но это вовсе не значит, что ты отдаешься всем сердцем и душой.
– Без сердца и души отдаются только бляди, – отрезала Эва.
– Чепуха! Так рассуждают дремучие тетки. Никогда не слушай этих безрадостных клуш в ситцевых платьях, считающих свои хлопоты по дому высшей добродетелью.
– И все равно я себя чувствую блядью, – прошептала Эва.
Лили перестала расчесывать ей волосы и оперлась подбородком о ее макушку.
– Наверное, это матушка тебе говорила: если женщина получает удовольствие с мужчиной, который ей не муж, она – шлюха, верно?
– Что-то в этом роде.
И как тут возразишь? Рене вызывал только неприязнь, и его прохладные руки, изобретательные и терпеливые, не должны пробуждать в ней ничего, даже отдаленно напоминающего наслаждение.
– Обычная женщина не почувствовала бы… – начала Эва, но Лили отмахнулась:
– Будь мы обычными, сидели бы дома, сушили бы спитую заварку и скатывали бинты для госпиталей, а не мотались бы туда-сюда с «люгерами» и шифровками. Мы с тобой сделаны из стали и не подходим под мерку обычных женщин. – Лили убрала подбородок с Эвиной макушки. – Послушай меня. Я старше и мудрее. Поверь, вполне возможно делить постель с мужчиной, которого ты презираешь. Черт, иногда это даже помогает. Отвращение придает сил, а содрогание от любви и содрогание от ненависти ничем не отличаются. Пуччини отразил это в «Тоске».
Маргарита Ле Франсуа не слышала об этой опере, но Эва ее знала.
– Тоска убивает Скарпиа, прежде чем он овладел ею.
– Может, и ты когда-нибудь прикончишь Борделона. Как он на тебя взгромоздится, ты подумай об этом, и тотчас содрогнешься от наслаждения.
Эва невольно хихикнула. Лили казалась надежным теплым щитом, хоть и говорила беспечно.
– Ладно. – Начальница шпионской сети разлила по кружкам кошмарное варево из листьев грецкого ореха с лакрицей и села напротив Эвы. – Ты решилась ублажить мсье Выжигу ради возможности получать информацию, так?
– Да.
– Сведения, которые он выбалтывает, очень важны, они гораздо важнее того, что ты подслушиваешь за столиками. Твой оргазм его заводит. Продолжай в том же духе, если хочешь и дальше добывать бесценную информацию.
– Уж лучше я буду симулировать, – неожиданно для себя сказала Эва. Ну и разговор у них! Прихлебывая суррогатный напиток, в голой комнатке они вырабатывали постельную тактику столь же прозаично, как в гостиной две английские леди, пригубливая фарфоровые чашки с чаем, говорят о церковных делах. – Только не уверена, что справлюсь. Вру-то я хорошо, но не знаю, как одновременно сдерживать и симулировать оргазм. А Рене все з-з-замечает.
– И он доволен тем, что видит?
– Да. По-моему, я ему нравлюсь. На выходных он везет меня в Лимож.
– Поезжай и возьми от поездки все что можно, – горячо сказала Лили. – Наслаждайся каждым бокалом вина, каждой «маленькой смертью» в постели, каждой крохой информации. В нашем деле радостей мало. Питаемся мы скверно, одеваемся ужасно, страдаем без выпивки и сигарет. Нас мучат кошмары, мы дурнеем и живем в постоянном страхе ареста. Так что не вини себя за маленькое удовольствие, и не важно, от чего ты его получаешь. Просто бери.
Эва снова отхлебнула жуткое питье.
– А про грех ты ничего не с-скажешь?
Несмотря на всю ветреность, Лили была набожной, всегда при себе имела четки, с нежностью говорила о своем исповеднике и монахинях из коммуны Андерлехта.
Лили пожала плечами:
– Мы простые смертные и оттого грешим. В этом смысл нашей жизни. Задача же Небесного владыки – нас прощать.
– А в чем твоя задача? Вытаскивать нас из трясины депрессии? – Эва помнила, как даже несгибаемая Виолетта переживала, когда при переходе границы подстрелили ее проводника. В чувство ее привела Лили. – Тебе самой-то бывает горько и страшно?
Лили беспечно дернула плечом:
– Опасность меня не пугает, но я не люблю, чтоб она маячила. Ладно, у тебя нет дел, что ли? У меня так навалом.
Минут через десять она вышла из квартиры, унося шифровку, спрятанную в рукояти зонтика. Немного выждав, Эва отправилась в «Лету». В зале, уже сервированном к ужину, она встретила Кристин, которая, брезгливо посторонившись, чуть слышно обронила:
– Лярва!
Эва остановилась и, подражая Лили, грозно вскинула бровь:
– Не поняла?
– Я видела, как после смены ты шастаешь к хозяину, – злобно прошептала Кристин, зажигая свечи на столе. – Он барышник, а ты просто…
Эва шагнула к ней и схватила за руку.
– Вякни еще хоть слово – вылетишь отсюда пробкой. Начнешь сплетничать, и здешняя кормушка для тебя закроется, ясно? – Загородив Кристин от официантов, разносивших хрустальные бокалы по столам, она вонзила ногти в ее запястье. – Я могу это устроить. – Эва совсем не заикалась. – Окажешься в черном списке, никто не даст тебе работы, и ты сдохнешь от голода.
Кристин выдернула руку и снова прошипела:
– Шлюха!
Эва спокойно отошла. Уже несколько дней она примеряла на себя этот ярлык, но сейчас поняла: кроме нее самой, никто не смеет так ее называть, а уж тем более девица, в ком ума еще меньше, чем у вареного рака.
Глава двадцать первая
Чарли
Май 1947
– Я его помню. – Эва показала на арочный каменный мост через спокойную реку, голубой лентой петлявшую сквозь Лимож. По мосту, нещадно сигналя, туда-сюда сновали маленькие французские автомобили, казавшиеся неуместными на обветшалом романтическом сооружении древних римлян. – Уже смеркалось, когда мы подошли к реке. Рене Борделон сказал, что питает отвращение к столикам на террасе – мол, это годится для заурядного кафе, но не ресторана. Однако здешний вид, пожалуй, заставит его изменить свое мнение.
Сунув руки в карманы поношенной кофты, Эва оглядела травянистый берег, деревья и дома вдоль набережной.
– Сукин сын исполнил свое желание. Открыл второй ресторан с видом на реку, – сказала она и зашагала по мощенной булыжником улице.
Мы с Финном переглянулись и, одновременно пожав плечами, побрели следом. Из Парижа в Лимож мы добрались довольно быстро, поскольку Эва проснулась рано. Нынче она вновь была разговорчива и вспоминала свое боевое прошлое, хотя в некоторые ее истории верилось с трудом (неудавшаяся бомбежка поезда с кайзером?). Следуя ее указаниям, мы подъехали к отелю рядом со средневековым собором. Пока Финн отгонял машину на стоянку, Эва на беглом французском переговорила с портье, размахивая бумажкой с адресом второй «Леты», где работала Роза. Потом мы втроем пешком отправились в город. Лимож смотрелся приятно: склонившиеся над рекой плакучие ивы, устремленные ввысь шпили готической церкви, горшки с геранью на балконах. Здесь не было разрухи, как в северной Франции, где похозяйничали немцы.
– Тут спокойнее, чем в Париже, – сказал Финн, вторя моим мыслям. Он был в рубашке, что вызывало неодобрение мужчин в отутюженных летних костюмах, но женщин, судя по их взглядам, его мятый наряд ничуть не смущал. Финн посматривал на молодых мамаш в соломенных шляпках и уткнувшихся в газеты мужчин на верандах кафе. – Здешний народ не выглядит таким заморенным, как на севере страны.
– Следствие «свободной зоны». – В туфлях без каблуков и в брючках, теперь я легко приноравливалась к его широкому шагу. – Режим Виши, конечно, не подарок, но здесь жилось легче, нежели в оккупированных районах.
– Не скажи, – фыркнула Эва, вышагивая впереди нас. – Одна их милиция чего стоила.
– Что за милиция? – не понял Финн.
– Вооруженные отряды, отлавливавшие участников Сопротивления. Я ненавидела этих сволочей.
– Но ведь милиции не было в Первую мировую войну, – удивилась я. – А в последней войне вы не участвовали.
– Это ты так считаешь, америкашка.
– Погодите, вы шпионили на двух войнах? А что вы…
– Не важно. – Эва вдруг остановилась, прислушиваясь к колокольному звону, лениво плывшему в летнем воздухе. – Колокола. Я их п-помню.
Солдатской походкой она вновь зашагала к реке. Качая головой, я поспешила следом.
– Гардинер, когда последний раз вы были в Лиможе? – спросил Финн.
– В августе девятьсот пятнадцатого, – не оборачиваясь, сказала Эва. – Рене Борделон привез меня сюда на выходные.
Всего несколько слов, но зародившееся подозрение насчет элегантного хозяина «Леты» превратилось в уверенность. Голос Эвы полнился чистейшей ненавистью, для которой может быть только очень личный повод. И я поняла: он был ее любовником. Ради ценных сведений Эва легла в постель к врагу.
Я вглядывалась в ее надменное, побитое жизнью лицо. И ведь тогда она была лишь чуть старше меня. А ты, Чарли, могла бы лечь с врагом, чтобы выуживать информацию? Притворяться, что он тебе мил, смеяться его шуткам, позволять раздеть себя – и все ради того, чтобы пошарить в его столе и надеяться, что в разговоре он сболтнет полезные сведения. И еще знать, что в любой момент тебя могут разоблачить и расстрелять.
Я восхищалась Эвой. Хотелось не только нравиться ей, но походить на нее. И познакомить ее с Розой. Вот чокнутая корова, помогшая тебя отыскать, когда все другие сдались. Я представила, как они окинут друг друга высокомерным взглядом. Потом мы берем выпивку и говорим, говорим наперебой. Свет не видел таких странных подруг.
Интересно, у Эвы когда-нибудь была близкая подруга вроде моей Розы? В ее военных историях фигурировала только Виолетта – лавочница, плюнувшая ей в лицо.
– Что это ты вдруг посерьезнела? – спросил Финн.
– Просто задумалась. – Печалиться не было причины. Пригревало солнышко, рука моя то и дело чиркала по рукаву Финна, что наполняло удивительно приятным чувством. – С каждым шагом я все ближе к Розе.
Финн скептически глянул на меня.
– Почему ты так уверена, что она отыщется?
– Не знаю. – Я попыталась облечь свою мысль в слова: – Надежда крепнет и крепнет.
– Но она уже вон сколько тебе не пишет. Года три? Четыре?
– Может, она и писала. В войну письма часто теряются. И потом, последний раз мы виделись, когда мне было всего-то одиннадцать. Она могла решить, что я еще слишком юна для постыдных вестей… – Я погладила свой живот. – Чувство, что она и сейчас в этом городе, становится все сильнее. Эва смеется, когда я говорю, что чувствую Розу, но…
Эва внезапно остановилась, и я чуть не врезалась в нее.
– «Лета», – тихо проговорила она.
Наверное, некогда это было красивое здание в фахверковом стиле с кованой оградой вкруг террасы. Но сейчас резные золоченые буквы на покосившейся вывеске были грубо замалеваны суриком, а большие окна заколочены досками. Уже давно здесь не подают луковый суп и слоеное пирожное.
– Что же произошло? – спросила я.
Эва подошла к старинным дверям, запертым на висячий замок, и пальцем ткнула в надпись, процарапанную в облупившейся краске: ПРЕДАТ…
– Предатель, – негромко сказала она. – Взялся за старое, Рене? Выходит, прежний опыт тебя не научил, что немцы всегда проигрывают.
– Сейчас-то говорить легко, а тогда – поди знай, – спокойно возразил Финн.
Но Эва уже отошла к соседнему дому и постучала в дверь. Никто не ответил, она перешла к следующему. Четыре попытки окончились неудачей, а в пятом доме хозяйка сказала, что ничего не знает о ресторане. Наконец мы набрели на очень пожилую женщину с невероятно горестным взглядом.
– «Лета»? – переспросила она, затянувшись сигаретой. – Закрылась в конце сорок четвертого. И поделом.
– Что так?
– Гнездилище немчуры. – Женщина скривилась. – Эсэсовцы с французскими девками гудели там ночи напролет.
– И хозяин такое допускал? – Эва переменилась неузнаваемо, сейчас она выглядела любопытной кумушкой. По сцене в лондонском ломбарде я уже знала, что она мастер перевоплощения. – Как его звали-то?
– Рене дю Маласси. – Старуха сплюнула. – Барыга. Поговаривали, он был на поводке у милиции. Я бы этому не удивилась.
Дю Маласси. Я запомнила имя.
– И что с ним стало? – спросила Эва.
– Скрылся в ночи. Под Рождество, в сорок четвертом. Понял, куда ветер дует. С тех пор его не видели. – Дама недобро усмехнулась. – А то бы вмиг болтался на фонарном столбе.
– За предательство?
– Предатель предателю рознь, мадам. В сорок третьем был один случай. Этот дю Маласси вытащил на улицу помощника повара, молодого парнишку, и обвинил его в воровстве. Устроил обыск на глазах у прохожих и жителей соседних домов, привлеченных шумом.
Я представила эту картину: ночной туман над рекой, удивленные зеваки, дрожащий паренек в поварском фартуке. Эва каменно молчала, слушая рассказ старухи.
– Дю Маласси обшарил его карманы, выгреб горсть серебра и пригрозил вызвать полицию. Мол, вора арестуют и отправят в лагерь. Не ведаю, мог ли он это устроить, но все знали, что он снюхался с фашистами. Парень бросился бежать. Дю Маласси достал пистолет, и мальчишка рухнул замертво, не сделав и десятка шагов.
– Вон как, – тихо сказала Эва.
Я поежилась.
– Уж так. Дю Маласси платком отер руки, морщась от вони пороховой гари. Потом велел метрдотелю связаться с властями и убрать труп. На парня даже не взглянул. Вот что за человек он был. Не только предатель. Убийца, хоть и красавчик.
– И немцы не подняли шум? – спросил Финн.
– Нет, насколько я знаю. Видимо, он нажал нужные кнопки, потому что никакого расследования не было, ресторан по-прежнему процветал. Дю Маласси прекрасно знал, что в городе полно желающих накинуть петлю ему на шею. Оттого-то и дал деру, когда стало ясно, что немцев разделают. – Старуха затянулась сигаретой и окинула нас подозрительным взглядом. – А почему вы интересуетесь? Он вам, часом, не родня?
– Дьявол ему родня, – злобно сказала Эва. Женщины обменялись кривыми ухмылками. – Спасибо за рассказ.
Эва отошла в сторону, и тогда я на своем корявом французском обратилась к старухе:
– Извините, пожалуйста, я ищу родственницу, которая могла работать в «Лете». – Заметив, что женщина нахмурилась, я торопливо добавила: – Нет, она не спелась с немцами. Возможно, вы ее видели. Девушка заметная – юная… блондинка… заливистый смех…
Я достала потрепанную фотографию, которую получила в сорок третьем: глядя через плечо, Роза улыбалась, точно Бетти Грейбл на знаменитом снимке в купальнике. Прежде чем старуха произнесла хоть слово, я поняла, что она узнала Розу.
– Да, девушка милая. Офицерье щипало ее за задницу, когда она разносила напитки. Только она не хлопала зенками, как другие потаскухи, нанятые в официантки. Опрокинет поднос с пивом на этакую скотину и на голубом глазу просит прощения за свою неловкость. Все это происходило на террасе, я сама видела.
Меня даже качнуло. Воспоминание постороннего человека. Роза обливает пивом немецких вояк. На нее это похоже. У меня защипало глаза.
– Когда последний раз вы ее видели? – Голос мой осип, и я только сейчас поняла, что Финн крепко держит меня за руку.
– Еще до закрытия ресторана. Наверное, она бросила эту работу. – Старуха опять сплюнула. – Приличным девушкам там не место.
Сердце мое упало. Я так надеялась услышать, что Роза жива и по-прежнему в Лиможе.
– Большое спасибо за помощь, мадам. – Я выдавила улыбку.
Однако идеи мои не иссякли.
У Эвы опять случился приступ. На сей раз она не вопила, меня разбудили глухие удары в стенку между нашими номерами. Я выглянула в коридор. Финна не видно. Я одна.
Поверх комбинации натянув джемпер, я подошла к номеру Эвы и прижалась ухом к двери. Удары, как будто чем-то колотят в стенку. Будем надеяться, не головой, – подумала я и поскреблась в дверь:
– Эва?
Удары.
– Уберите пистолет. Я вхожу.
Забившись в угол, Эва сидела на полу, но взгляд ее, направленный в потолок, был ясен. Она молчала и рукояткой пистолета методично долбила в стенку. Бух. Бух. Бух.
Я подбоченилась.
– Стучать обязательно?
– Так легче думается.
Бух. Бух.
– Сейчас ночь. Может, вместо размышлений лучше поспать?
– Я даже не пыталась. Кошмары караулят. Дождусь рассвета.
Бух. Бух.
– Тогда, если можно, стучите потише. – Я зевнула и развернулась к двери. Меня нагнал голос Эвы:
– Не уходи. Нужны твои руки.
Я глянула через плечо:
– Для чего?
– Ты умеешь разбирать пистолет?
– Нет, в колледже этому не обучают.
– Я думала, все американцы помешаны на оружии. Давай научу.
Через минуту я неумело разбирала «люгер», сидя по-турецки перед Эвой, которая называла его части:
– Ствол… щечка рукоятки… ударник…
– Зачем мне это? – спросила я и ойкнула, получив удар по пальцам, когда попыталась вставить затвор не той стороной.
– Разборка оружия всегда помогала мне думать. Сейчас мои руки на это не годятся, поэтому я одолжила твои. Достань масленку из моей сумки.
На холстине я разложила части пистолета.
– О чем вы думаете?
Глаза Эвы мерцали, но не от виски, хотя стакан с обычной порцией янтарной жидкости она пристроила на колено.
– О Рене дю Маласси. Вернее, о Рене Борделоне. О том, куда он делся.
– То есть вы полагаете, он жив.
А ведь прежде она это отрицала напрочь.
– Сейчас ему стукнуло семьдесят два, – проговорила Эва. – Да, я думаю, он жив.
Гримаса ненависти к нему и одновременно отвращения к себе исказила ее лицо. Редкий случай, когда Эва не смогла скрыть свои чувства. Она вдруг показалась такой хрупкой, что сердце мое сжалось от странного желания ее защитить.
– Почему вы решили, что дю Маласси и Борделон – одно и то же лицо? – осторожно спросила я.
Эва чуть усмехнулась.
– Огюст Пуле-Маласси – издатель, выпустивший «Цветы зла» Бодлера.
– Я уже начинаю ненавидеть этого поэта. Хотя не читала его вообще. (Мне это было ни к чему.)
– Тебе повезло, – проскрипела Эва. – А мне вот пришлось выслушать от корки до корки весь сборник в исполнении Рене.
Держа ствол «люгера» в одной руке и промасленную тряпицу – в другой, я помолчала, а затем спросила:
– Значит, вы с ним были…
Эва шевельнула бровью.
– Ты потрясена?
– Нет, я тоже не святая.
Я огладила живот. В последние дни Маленькая Неурядица вела себя лучше: она по-прежнему забирала мою энергию, но утренняя тошнота почти прекратилась, а главное, смолк противный голосок.
– Рене привез меня в эту гостиницу. – Эва обвела взглядом комнату, словно силясь что-то рассмотреть. – Номер был, конечно, другой. Этакая каморка ему не годилась. Он снял лучшие апартаменты на четвертом этаже: большие окна, синие бархатные гардины, огромная кровать…
Я не стала спрашивать, что происходило на той кровати. Видимо, у Эвы была веская причина всю ночь не смыкать глаз, опасаясь кошмаров.
– Так, это у нас что? – Я перебирала части пистолета, под руководством Эвы смазанные ружейным маслом. – Значит, когда пришлось бежать из Лилля, Рене Борделон превратился в Рене дю Маласси. Потом и в Лиможе запахло жареным, и он снова скрылся. Как же ему это удавалось, если многих предателей переловили?
Я вспомнила газетные снимки, на которых коллаборационистов, мужчин и женщин, подвергали унижению, а то и обходились с ними круче. Та старуха не зря помянула фонарные столбы.
– Он был совсем не дурак. – Эва отставила масленку. – Он угождал власть имущим, однако помнил, что они могут потерпеть поражение. У него всегда имелось место, куда можно сбежать, прихватив свои деньги, и под новым именем все начать заново. Лилль, потом Лимож. – Эва смолкла, задумавшись. – Наверное, он уже планировал побег, когда в пятнадцатом году привез меня сюда. Я об этом не догадывалась, ведь он сказал, что присматривает место для второго ресторана. Я думала, он хочет расширить дело. Видимо, Рене о том и не помышлял, но подыскивал место для новой жизни, если вдруг возникнет такая необходимость. И она возникла.
– Хм. – Я вся перепачкалась в смазке, но процесс меня увлек. Наверное, я бы вряд ли прогуливала уроки домоводства, если б на них вместо выпечки бисквитов учили разбирать оружие. – Знаете, Рене Борделон и Рене дю Маласси отличаются не только именем.
– Чем же еще?
– Готовностью нажать спусковой крючок. – Я глянула на эту деталь пистолета, в разобранном виде совсем не страшного. – По вашим рассказам, Борделон брезговал грязной работой. Поймав на воровстве вашего предшественника, он подвел его под расстрел, который исполнили немцы. А вот дю Маласси не замешкался собственноручно спустить курок.
– Перейти эту грань неп-просто, – согласилась Эва.
Похоже, она знала, о чем говорит.
– Почему же он так изменился? Что превратило его из эстета барышника… – Я припомнила, как выразилась старуха. – …в элегантного убийцу?
Эва криво усмехнулась.
– Полагаю, я.
В уравнении возникла неизвестная величина, но расспросить о ней я не успела – жестом приказав собрать пистолет, Эва замкнулась. Я сменила тактику:
– Как же вы его разыщете? Наверняка у него опять другое имя. – Я закрепила ствол. – Куда он мог смыться из Лиможа?
Меня до мурашек будоражила мысль, что речь не просто о жадном до наживы старом враге, но об убийце.
– Есть у меня один английский офицер, давнишний знакомец. – Эва приняла мой новый курс. – Тоже служил в разведке, захватил и вторую войну. Ныне обитает в Бордо. Из Лондона я ему звонила, но он уехал на утиную охоту. Уже должен вернуться. Если кто и сможет раскопать информацию о бывшем предателе, так только он.
Она имеет в виду капитана Кэмерона? – подумала я. В ее рассказах он выглядел неплохо. Хотелось бы увидеть, насколько он соответствует созданному мною портрету, но у меня своя задача.
– Значит, вы свяжетесь с вашим знакомым, а мы с Финном поищем мою кузину.
Показав, как вставить пружину, Эва спросила:
– Где ты будешь ее искать? Если жива, она могла уехать куда угодно.
– Моя тетка сказала, что рожать ее отправили в поселок под Лиможем. – Я уже немного приноровилась к пистолету, мои измазанные маслом пальцы легко управлялись с деталями. – Через четыре месяца после родов она устроилась на работу в Лиможе. Возможно, ребенка она оставила в поселке под приглядом какой-нибудь семьи. Возможно, и сама туда вернулась, покончив с работой в «Лете». Неизвестно. В маленьких селениях все друг друга знают. Кто-нибудь вспомнит ее по фотографии. – Я пожала плечами. – По крайней мере, есть с чего начать.
– П-план недурен, – одобрила Эва, и от ее похвалы я даже вспыхнула. – Давай-ка, разбери пистолет еще разок.
Я вновь занялась «люгером», а Эва рассказала о тех летних днях, что провела здесь вместе с Борделоном.
– Мы приехали поездом, и он повел меня покупать новое платье. Одно дело его апартаменты, но он не желал, чтоб на прогулке или в театре я появилась в старом наряде. Это было шелковое платье от Поля Пуаре. Фисташковое, отделанное черным бархатом, на спине застежка из сорока трех пуговиц, обшитых тем же бархатом. Борделон их считал, расстегивая…
Я передернула затвор. Интересно, что Эва сделает, отыскав старого врага? Сдаст властям? Общеизвестно, что французы сурово обходились с коллаборационистами. Или же доверит «люгеру» поквитаться за нее? Такой вариант отнюдь не исключен.
Что же он сотворил с тобой? И что ты сделала с ним?
В тот день, рассказывала Эва, река выглядела не голубой, как нынче, а серой. Под новыми лаковыми туфлями в цвет платья шуршала палая листва.
– Как хорошо вы все помните.
Я передала ей вычищенный и смазанный пистолет.
– Еще бы. – Эва залпом допила виски. – В ту поездку я поняла, что, кажется, беременна.
Глава двадцать вторая
Эва
Сентябрь 1915
Осень только началась, а холод стоял собачий. Лучше всякой демаркационной линии он разделял два мира, соседствовавшие в Лилле. По одну сторону – немцы, заграбаставшие уголь, свечи и горячий кофе, по другую – французы, у которых нет ничего. Если раньше их отличали национальность и статус захватчика и порабощенного, то теперь главной особенностью стало положение согретого и замерзающего.
Эва холода не замечала. Мысль, что она, похоже, беременна, затмевала все другое.
Признаки были налицо – исчезли месячные. Правда, некоторые женщины втихомолку жаловались, что из-за жизни впроголодь цикл нарушился, но Эва не верила в такую удачу. Она сильно исхудала, однако ресторанная подкормка позволяла не голодать. Кроме того, были и другие признаки: грудь стала очень чувствительной, от острых запахов сочного ростбифа или сыра «морбье» подступала тошнота.
Сомнений не оставалось. Рене Борделон ее обрюхатил.
Однако впадать в отчаяние было некогда. Шпионской работы хватало. Французские войска вели наступление в Шампани, о чем за кофе не раз говорили комендант и генералы. Эва все запоминала. Отработав смену в ресторане, еще дольше она трудилась в постели Рене, и оттого ее рабочий день растягивался на девятнадцать часов как минимум. Эва передавала информацию об артиллерийских позициях, о немецких потерях, о графиках эшелонов и расположении складов. Она так привыкла ходить по лезвию ножа, что это уже казалось обычным делом, а постоянный контроль над мимикой и голосом просто-напросто отучил от живых реакций. И поддаваться панике и отчаянию лишь потому, что тело ее замыслило предательство, она не имела права. Никакого.
Но в ту субботу, когда на пороге возникла Виолетта, по делам заехавшая в Лилль, от радости Эва чуть не расплакалась. Всю неделю ее мучили кошмары, что напарницу, не вызывающую особой приязни, по закону подлости арестовали именно сейчас, когда так требовалась ее помощь.
Видимо, Виолетта что-то заметила, ибо в глазах ее за круглыми стеклами очков промелькнуло удивление.
– Похоже, ты мне рада, – хмуро сказала она, счищая грязь с поношенных ботинок. – Есть новости?
– Новостей нет, но мне нужна помощь, и обратиться я могу только к тебе.
Виолетта сняла перчатки и, потирая озябшие руки, окинула Эву любопытным взглядом:
– Почему – ко мне?
Эва глубоко вдохнула.
– Лили г-г-говорила, в прошлом ты медсестра.
– Да, работала в Красном Кресте. Недолго. Перед самой войной.
Внезапно возникло сомнение, однако Эва его подавила, поскольку других вариантов попросту не было.
– Я беременна, – выпалила она, заставив себя не отвести взгляд. – Поможешь мне?
На секунду Виолетта опешила, потом взорвалась:
– Твою мать! Ты, что ли, совсем без мозгов, что вздумала заводить шашни? Только не говори, что у тебя роман с Антуаном или…
– Я тебе не дура школьница! – рявкнула Эва. – Ради информации я сплю с хозяином «Леты». Лили не говорила, нет?
– Нет конечно. – Виолетта поправила очки. – А предохраняться тебе ума не хватило?
– Я предохранялась. Б-без толку. (Выбравшись из кровати, на цыпочках шла в роскошную ванную и спринцевалась. Процедура была еще противнее того, что происходило в постели, но всякий раз она это делала. Не помогло.) Упреждая твои вопросы, скажу, что и все прочее не сработало: прыжки со ступенек, горячие ванны вкупе с п-порцией бренди. Ничего.
Виолетта выдохнула уже не так шумно и присела на край кровати.
– Какой срок?
– По-моему, два месяца, – сказала Эва.
По ее прикидкам, это произошло уже на втором или третьем свидании.
– Значит, еще не поздно. Это хорошо.
– Так ты поможешь или нет?
Сердце, подкатившееся к горлу, мешало говорить.
– Вообще-то я занималась ранами, а не абортами. – Виолетта сложила руки на груди. – Может, стоит известить Борделона? Он же богатый, оплатит настоящего врача.
Эва уже прикидывала такой вариант.
– А вдруг он захочет ребенка?
Это было маловероятно – Рене не выглядел семьянином, но кто его знает… Что, если идея обзавестись наследником покажется ему… любопытной?
– Тогда втихаря избавишься сама. Скажешь, случился выкидыш.
Эва покачала головой. Рене терпеть не мог всякие хлопоты и ненужные расходы. Любовница, считал он, должна быть удовольствием, не доставляющим треволнений. А траты на врача или потеря желанного ребенка – это уже беспокойство. Можно запросто лишиться работы в «Лете», источнике информации. Нет уж, пусть все идет, как идет.
– М-да. – Виолетта задумалась, однако не предложила известить капитана Кэмерона или других кураторов сети. – Я видела, как это делается, но операция опасная. Ты решила определенно?
Эва энергично кивнула:
– Да.
– Есть угроза истечь кровью. Время терпит, может, еще сама скинешь…
– Сделай это! – в отчаянии выкрикнула Эва.
Дело было не только в ее решимости продолжить работу. Но еще и в том, что под маской ее внешнего спокойствия обитала паника на грани безумия. Без малейших колебаний она уже стольким пожертвовала – домом, покоем, невинностью, даже собственным именем, и все это ради необозримого светлого будущего, которое наступит после победы над оккупантами. Но теперь оккупант захватил ее изнутри, притязания его были не меньше, чем у немцев на Францию, и будущее просто сгинуло. В мгновение ока из воина, бьющегося с врагом и спасающего жизни, она превратилась в обычную беременную бабу, которую без всяких церемоний отправят в тыл, снабдив ярлыком шлюхи. Эва прекрасно знала, какая жизнь ожидает ее через семь месяцев, если сейчас ничего не предпринять: никому не нужная и всеми презираемая мать-одиночка без работы и без гроша в кармане, навеки прикованная к ублюдку от вражеского семени, брошенного в студеном и голодном аду войны. Тело предало ее самым бессовестным образом: сперва уступило наслаждению в объятиях барышника, а потом сберегло его частицу, вопреки усердным стараниям смыть все бесследно. Но потачки ему больше не будет.
Все последнее время Эва, свернувшись калачиком в холодной постели, отражала натиски слепой паники и ледяного ужаса. Теперь она знала, что охотно рискнет истечь кровью, но попытается отобрать свое будущее у засевшего в ней оккупанта.
– Есть один врач, который оказывает помощь нашим. – Виолетта качнула головой. – Человек он набожный и сам за такое никогда не возьмется. Под каким-нибудь предлогом я одолжусь его инструментами. Скажем, завтра.
– Хорошо. – У Эвы пересохло во рту. – Завтра.
Воскресенье. Надо же, чтоб именно в это благословенный день Эва решилась на поступок, за один только помысел о котором многие назвали бы ее распутной убийцей. Но выбирать не приходилось, поскольку ресторан был закрыт лишь по воскресеньям. Стало быть, имелся целый свободный день, чтобы истечь кровью и умереть либо выжить.
– Что будет, если я умру во время операции… или после? – сумела выговорить Эва, увидев напарницу с сумкой заимствованных инструментов.
– Я оставлю тебя и сюда больше не приду, – буднично ответила Виолетта. – Иначе нельзя. Если займусь твоими похоронами, меня арестуют. Через день-другой твой труп обнаружат соседи, и тебя похоронят за казенный счет. Лили известит дядю Эдварда.
Безрадостная перспектива резанула будто ножом.
– Что ж, давай п-покончим с этим, – сказала Эва, про себя добавив: и постараемся не умереть.
– Лежи спокойно, – в несчетный раз повторила Виолетта неведомо зачем – Эва и так была неподвижна, точно мраморное изваяние надгробия.
Возможно, Виолетта хотела подбодрить пациентку. Когда она застелила кровать чистой простыней и надела фартук с перемычкой на груди, явно сохранившийся со времен Красного Креста, голос ее обрел властность медицинской сестры. Стараясь не смотреть на разложенные сверкающие инструменты, Эва разделась от пояса – сняла нижнюю юбку, чулки, панталоны – и улеглась. Было холодно. Очень.
– Опий. – Виолетта откупорила пузырек, и Эва, послушно разомкнув губы, проглотила несколько капель. – Предупреждаю, будет больно.
Тон ее стал безапелляционным, и Эва вспомнила слова Лили: Вероятно, она решила, что лучше уж расстрел, чем скатывать бинты для Красного Креста. Поверь, чем бы медсестра ни занималась, она не сможет обойтись без пилежки. Почему-то сейчас это успокоило.
Виолетта протерла инструменты и руки чем-то едко пахнущим, потом взяла какую-то металлическую штуковину и подержала ее меж ладоней.
– Врачи никогда не согревают инструменты, – сказала она. – Вот им бы засунуть холодную железяку.
Опий уже подействовал. Комната поплыла, тело налилось тяжестью.
– Ты это уже делала? – Собственный голос показался Эве далеким.
– Один раз, – буркнула Виолетта. – В начале года помогла Орели, младшей сестре Антуана. Она была проводником наших курьеров – местные вызывают меньше подозрений. Но вот однажды угодила в лапы солдатни, решившей позабавиться. Ей всего-то девятнадцать. Родные ее обратились ко мне, когда выяснилось, что подонки ее обрюхатили.
– Она это… перенесла? – Эва смотрела на металлическую штуковину в руке Виолетты.
– Да. И сразу вернулась к нашей работе. Отважная девочка, что и говорить.
Раз она сумела, я тоже смогу, – подумала Эва, однако вздрогнула, когда Виолетта раздвинула ей ноги.
– Приготовься.
Виолетта постаралась согреть крючок, но все равно возникло ощущение, будто Эву проткнули сосулькой. Потом ошпарило острой болью.
– Лежи спокойно, – последовал приказ, хоть Эва не шевельнулась.
Она чувствовала, как в ней копошатся, но, казалось, это происходит где-то очень далеко. Боль то накатывала, то отступала. Холодно. Эва закрыла глаза, желая, чтоб все это было не с ней. Лежи спокойно.
Вот, железяка ушла. Все закончилось? Или нет? Виолетта что-то говорила.
– …будет кровотечение. Ты не боишься крови?
– Я ничего не боюсь, – с трудом проговорила Эва – онемевшие губы не слушались.
Виолетта скупо улыбнулась:
– Да уж, спору нет. А при нашей первой встрече я подумала: через неделю она сбежит домой к мамочке.
– Больно… – Эва не узнала свой голос. – Болит…
– Понятное дело.
Виолетта вновь поднесла ей склянку с опием.
Горечь. Почему в Лилле все отдает горечью? Только у Рене сытная еда, восхитительное вино и сладкий горячий шоколад, а то, чем питаются они с Лили и Виолеттой, прогоркло и вонюче. В этом городе все наоборот: зло вкусное, а добро – будто желчь.
Виолетта убрала окровавленные салфетки, подложив свежие Эве под бедра и между ног.
– Ты молодец. Лежи тихонько.
Зазвонили колокола, приглашая на вечернюю службу. Кто-нибудь ходит в церковь? Кому тут помогут молитвы?
– С ее очарованьем черным, С кортежем дьявольских страстей, С отравой, слез ручьем позорным И стуком цепи и костей… – Эва поняла, что зачем-то цитирует Бодлера.[6]
– Ты бредишь, – сказала Виолетта. – Постарайся лежать спокойно.
– Да, брежу. Я и так не шевелюсь, командирша ты чертова.
– Вот она, благодарность.
Виолетта укрыла Эву одеялом.
– Мне холодно.
– Я знаю.
И тут Эва разрыдалась. Не от горя или боли. От облегчения. Будущее вырвалось из хватки Рене Борделона, и слезы хлынули проливным дождем.
Утром стало полегче.
Виолетта подготовила список инструкций.
– Кровотечение может возобновиться. Держи под рукой побольше чистых тряпок. А это от боли. – Она вложила пузырек с опием в руку Эвы. – Я бы осталась и присмотрела за тобой, но сегодня должна вернуться в Рубе. Есть срочные донесения, которые надо переправить через границу.
– Понятно. (Работа есть работа.) Будь осторожна, Виолетта. Ты говорила, последний раз тебя обыскали с головы до ног.
– Если что, пойду другим маршрутом. – Виолетта никогда не выказывала страх, даже если боялась. В этом они с Эвой были похожи. А бояться стоило – немцы поняли, что в районе действует шпионская сеть, и ужесточили досмотр на пропускных пунктах. – Ты-то сумеешь отвертеться от барышника? Нужно время, чтоб все затянулось.
– Скажу, обильные месячные. У него это вызывает брезгливость.
Пожалуй, неделя покоя ей обеспечена. Виолетта поджала губы.
– А как ты собираешься избежать повторения?
Эва поежилась.
– Не знаю. Прежний способ не помог.
Не дай бог снова пройти через это. Ни за что на свете.
– Есть одна штука, но установить ее может только врач, и он, скорее всего, откажет незамужней женщине. Тогда так: в… – Виолетта беззвучно проартикулировала слово – …вставляй смоченный уксусом тампон. Гарантия не стопроцентная, но все же лучше, чем ничего.
Эва кивнула:
– Спасибо тебе.
Виолетта махнула рукой, отметая благодарность.
– Все, об этом больше ни слова. Тебе известно, как поступают с женщинами, которые на такое решаются. И с теми, кто им помогает.
– Могила.
Помолчали. Будь они друзьями, наверное, обнялись бы, а так – просто кивнули друг другу. Виолетта намотала шарф и пошла к двери. Наверное, они все же были друзьями, только в манере тех угрюмых мужчин, что не балаболят, но все понимают без слов.
– Удачи тебе, – сказала Эва.
Виолетта, не обернувшись, вскинула руку.
Позже Эва пожалела, что не обняла ее. Очень пожалела.
Она встала, чтобы запереть дверь. Тотчас закружилась голова. Свело живот. Она вернулась в холодную кровать и свернулась клубочком под тонким одеялом. Волнами накатывала тупая боль. Оставалось лишь терпеть и плакать. Слезы тоже набегали и откатывали, точно волны.
К вечеру кровотечение прекратилось, но жуткая слабость не исчезла. Эва послала в ресторан записку, извещая о сильной простуде. Рене, конечно, будет недоволен, однако делать нечего – она не сможет весь вечер таскать подносы. Эва старалась не шевелиться, и все равно ее прошибало потом. Наконец, собравшись с силами, она села в кровати и стала разбирать «люгер». Запах ружейного масла и ощущение холодного металла успокаивали. Собрав пистолет, Эва прицелилась в стенку, представив, как вгоняет пулю меж глаз Рене. На третий день «люгер» стал самым вычищенным оружием во Франции, а Эва, уверившись, что не умрет, вышла на работу. Она старалась не замечать Кристин, кипевшую яростью от того, что ненавистную напарницу не уволят даже за прогул трех смен. Эва деликатно извинилась перед Рене; она знала, что выглядит достаточно скверно, чтоб байка о простуде и обильных месячных показалась достоверной. Вечером наверх ее не позвали. Возблагодарив небо за эту маленькую милость, Эва поплелась домой. Она мечтала поскорее улечься в свою убогую постель, хоть там и не было пуховых подушек Рене.
Однако дома ее ждала гостья. Подтянув колени к груди, Лили сидела на полу в углу комнаты.
– Не обращай на меня внимания, – вяло отмахнулась она. – Я посижу тут, меня всю колотит.
– Я думала, ты отправилась в Бельгию. – Эва заперла дверь. – В сопровождении того подстреленного проводника.
– Все так. – Лили стиснула в руке старые четки из слоновой кости. – Он подорвался на мине, и я, забрав донесения, вернулась.
В комнате было холодно, Лили, одетая в белую блузку и серую юбку, заметно дрожала. Эва укрыла ее одеялом.
– У тебя весь подол в засохшей крови.
– Наверное, это кровь проводника. – Взгляд Лили был тусклый, словно от опия. – А может, той женщины, что шла впереди… или ее мужа… Накрыло всех троих.
Эва села рядом и притянула ее светловолосую голову себе на плечо. Наверное, холодный крючок внутри тебя, острая боль и навеянные опием прерывистые кошмары – это еще не край, бывает что и похуже.
– От прожекторов на границе было светло, как днем. – Лили перебирала бусины четок. – Сразу за вышками с часовыми начинался лесок. Немцы его заминировали. Первыми прошли муж с женой, проводник побежал за ними… Кажется, женщина ему глянулась… Видно, кто-то из них наступил на фугас, всех троих разнесло в клочья… прямо у меня на глазах…
Эва зажмурилась, представив вспышку и взрыв.
– Антуан приготовил мне новый пропуск. – Голос Лили был ровен, но худые плечи ее вздрагивали. – Он-то и сказал, что…
– Ш-ш-ш. – Эва прижалась щекой к ее волосам, пахнущим кровью. – Не разговаривай. Поспи.
– Не могу. – Лили смотрела в пустоту, по щекам ее медленно катились слезы. – Она стоит у меня перед глазами.
– Кто, женщина, подорвавшаяся на мине?
– Нет. Виолетта. – Лили уткнулась лицом в колени и зарыдала. – Антуан сказал, что сегодня в Брюсселе ее арестовали. Она у немцев, маргаритка.
Глава двадцать третья
Чарли
Май 1947
– На ужин вы оба не приглашены, – сказала Эва.
Телефонный звонок английскому офицеру принес свои плоды: на нынешний вечер был назначен их совместный ужин в гостиничном кафе. Как только условились о встрече, Эва надела свирепую мину, но я уже умела под всякой маской разглядеть ее истинное лицо. Она меня буквально сразила своим рассказом о том, как забеременела в Лиможе. Забеременела. В то время почти моя ровесница, она угодила в схожую ситуацию, но только все это происходило в голодающем городе, полном врагов, где, в случае разоблачения, ее тотчас поставили бы к стенке. По сравнению с этим Маленькая Неурядица выглядела мелочью. С детства мне вдалбливали, что подобное поведение достойно порицания, но я не осуждала Эву. Ее засосало в войну, и она исполняла свой долг. По правде, я ею восхищалась.
Я знала, что она пошлет меня с моим восхищением куда подальше, а потому просто улыбнулась:
– Скажите только, вы встречаетесь с капитаном Кэмероном?
Вечно загадочная, Эва пожала плечами.
– Разве ты не едешь в поселок, где жила твоя кузина?
– Еду.
В Лиможе мы были уже три дня. Я бы отправилась в путь раньше, но в «лагонде» надо было кое-что подлатать, прежде чем довериться ей на проселках. Нынче Финн объявил о полной готовности, и мы оставили Эву дожидаться ужина с ее таинственным сотрапезником.
– Как думаешь, это капитан Кэмерон? – спросила я, усаживаясь в машину.
– Не удивлюсь, – сказал Финн.
– Мы успеем вернуться, чтоб посмотреть на него?
– Зависит от того, чем увенчаются наши поиски.
Вытянув рукоятку подсоса, он завел мотор. Машина тронулась с места. Я поежилась, снедаемая предвкушением и страхом.
– Возможно, сегодня все решится.
Финн улыбнулся и, руля одной рукой, неспешно покатил из города. Как всегда, он был в старой рубашке с подвернутыми рукавами, но сегодня побрился, и мне ужасно хотелось коснуться его гладкой щеки. Хотелось настолько, что сложенные ладони я спрятала меж коленей. Почему так: мы были одни, а казалось, будто в машине толпа народу?
– Скоро приедем, – сказала я, только чтоб не молчать.
Согласно мятому дорожному атласу, отыскавшемуся в бардачке, до места назначения было всего пятнадцать миль.
– Надеюсь.
Мы проехали мимо обнесенного изгородью луга с пасущимися коровами, вдали виднелся фермерский дом из серого камня. За городом дорога превратилась в ухабистый проселок. Я была напряжена и не обращала внимания на живописные окрестности. Сама не знаю, отчего я так нервничала, но меня потряхивало. В тот раз Финн ответил на мой поцелуй и больше о том не поминал. А мне хотелось продолжения игры, только я не ведала, как это сделать. Возможно, я дока в числах, но во флирте я полная неумеха.
– Напомни, как называется поселок? – спросил Финн, разорвав путаницу моих мыслей.
– Орадур-сюр-Глан.
Судя по старой карте, это просто деревенька. Трудно представить Розу в крохотном селении, не заслуживающем даже названия городка. Она всегда мечтала о парижских бульварах и огнях Голливуда. На худой конец, сойдет и Нью-Йорк, – говорила она, но очутилась в забытом богом французском поселке.
Сейчас мы ехали вдоль заросшей дикой лакфиолью ограды из грубого камня, по которой вышагивала босоногая девочка, для равновесия раскинув руки. У нее были темные волосы, но я тотчас увидела в ней Розу, какой та помнилась: светлые кудряшки на фоне голубого летнего платьица. Меня кольнуло яркое предчувствие, почти уверенность. Ты здесь, Рози. Я знаю, ты здесь. Укажи путь, и я тебя найду.
– Не старайся, быстрее не поедем, – сказал Финн, и я поняла, что ногой в сандалии давлю на несуществующую педаль газа. – Чего ты сидишь, точно в церкви?
– В смысле?
Мы подъехали к каменному мостику, по которому навстречу нам катил велосипедист. Пропуская его, Финн остановился и, ухватив меня за лодыжки, закинул мои ноги на сиденье.
– Обычно ты сидишь вот так.
Он поехал дальше, а я залилась румянцем. Когда он взял меня за лодыжки, пальцы его почти сомкнулись. У меня ужасно тонкие ноги. Нынче я была в узкой красной юбке, купленной в Париже, и белой рубашке по типу мужской. Рукава я закатала до локтя, а подол рубашки завязала узлом на животе. Я знала, что выгляжу хорошо, вот только ноги мои подкачали. У Розы уже в тринадцать лет были красивые ножки. Когда я ее найду, первым делом задушу в объятиях, а потом попрошу одолжить мне свои ноги.
– Похоже, мы ошиблись с поворотом, – немного погодя сказал Финн. – Едем на юг, а нам надо на запад. Никаких указателей… Сейчас, минутку.
Он подъехал к придорожному магазинчику с почтовыми открытками в витрине и кошкой, дремавшей на крыльце. Кошка зевнула, когда Финн, перешагнув через нее, на французском с сильным шотландским акцентом обратился к хозяину. Мы с Розой могли бы завести кошку, – подумала я, глядя на полосатое существо, вылизывающее хвост. Из-за своей аллергии покойный Дональд, мир его праху, не позволял мне обзавестись питомицей. Я уже возненавидела твоего Дональда, – сказала воображаемая Роза. – Неужто не могла придумать себе симпатичного умершего мужа?
– Чему ты улыбаешься? – спросил Финн, усаживаясь в урчавшую «лагонду».
– Да вот, гадаю, как ты воспримешь Розу. Хотя чего тут гадать? Она всем нравится.
– Вы с ней похожи?
– Ничуть. Она забавная, смелая. Красивая.
Финн уже включил передачу, но мешкал тронуться с места, окинув меня долгим внимательным взглядом. Потом заглушил мотор, притянул меня к себе и, перебирая мои волосы, приник к моему уху. Я почувствовала тепло его дыхания.
– Чарли, голубушка… – Он поцеловал жилку, пульсирующую на моей шее, и меня будто прострелило током. – Ты… (поцелуй в щеку, потом в уголок рта) смелая… (Нежный поцелуй в губы.) Не говоря уж о том, что красивая. Ты прелестна, как весенний денек.
– Всем известно, что шотландцы страшные вруны, – пролепетала я.
– Не путай нас с ирландцами. Мы не льстецы.
Наши губы слились в долгом поцелуе. Глухо тренькнул звонок проехавшего велосипеда, но я не разомкнула рук, обвивших шею Финна, только прижалась к нему теснее, чувствуя бешеный стук своего сердца.
Наконец Финн отстранился, но не выпустил меня из объятий.
– Я готов провести так весь день, – сказал он. – Но, может, поищем твою кузину?
– Едем.
Уже давно я не была такой счастливой.
– Хочешь сесть за руль?
Я посмотрела на него и расплылась в улыбке:
– Ты доверишь мне свою старушку?
– Перелезай.
Мы поменялись местами. Я примерилась к педалям, улыбка не сходила с моего лица.
– Если она остыла, надо чуть-чуть помочь ей подсосом, – напомнил Финн.
Тронулись. «Лагонда» мурлыкала, точно кошка.
– Знаешь, хозяин как-то странно посмотрел на меня, когда я спросил, как проехать в Орадур-сюр-Глан, – сказал Финн.
– В чем странность?
– Не знаю. Странно – и все.
– Хм.
Я рулила по разбитой дороге, чувствуя рядом Финна. Пригревало солнышко, я стала напевать «Жизнь в розовом цвете», визитную карточку Эдит Пиаф. Век бы не вылезала из этой машины.
– Вон, смотри, – показал Финн, но я уже и сама заметила силуэт колокольни. – Вроде приехали.
Кровь в моих жилах пузырилась, точно шампанское. Мы опять поменялись местами – я была чересчур взвинчена и могла не уследить за дорожными знаками. Петлистая дорога вывела нас к южной окраине поселка на реке Глан – уже виднелись церковь в окружении приземистых каменных домов и телеграфные столбы. Кровли зданий выглядели как-то странно.
– Тихо здесь, – заметил Финн.
Верно, не слышалось ни собачьего лая, ни дребезжания трамваев, ни треньканья велосипедных звонков. Финн сбросил скорость, хотя на улице не было играющих детей. Удивление мое нарастало, и тут я увидела дом с обвалившейся крышей и следами сажи на стенах.
– Видимо, когда-то случился пожар, – сказала я.
Следы были давние, омытые дождями.
Недовольно подвывая мотором, «лагонда» уже ползла, как улитка. Я оглядела улицу. Пусто, ни души. Только всё новые меты огня. На тротуаре валялись кем-то оброненные ходики: от жара циферблат покоробился, замершие стрелки показывали четыре часа….
– Ни одного дома с целой крышей.
Финн показал на обуглившиеся стропила, обгорелую дранку. Стало понятно, почему издали кровли выглядели так странно. Явно случился пожар. Однако крепкие каменные дома отстояли друг от друга далеко, как же огонь перекинулся с одного строения на другое?
Моя пузырящаяся кровь замедлила свой бег по жилам.
Слева показалась массивная церковь, возведенная из местного прочного известняка. У нее тоже не было крыши.
– Что ж никто не отстроился заново? – пробормотала я. – Ладно, пожар, но почему никто не вернулся на пепелище?
Следующая мысль переехала меня, точно грохочущий поезд: потому что никого не осталось.
– Нет! – вскрикнула я, споря с собою. – Невозможно, чтобы весь поселок сгинул в огне.
Жители, конечно, бежали от огня. Но после бедствия, когда бы оно ни случилось, люди сюда приходили – улицы и здания были очищены от мусора.
Так почему они здесь не остались? Почему не восстановили дома?
Мы доехали до центра поселка. Здание бывшей почты, трамвайная станция. Рельсы сохранились хорошо – казалось, неведомо откуда вот-вот появится трамвай. Вокруг стояла мертвая тишина. Не слышалось даже птичьего щебета.
– Останови машину, – попросила я. – Я выйду… мне надо…
Финн встал посреди мостовой. Никто ему не посигналит, требуя проезда. Движения не было вообще. Финн помог мне выбраться из машины.
– Теперь понятно, отчего хозяин магазина так странно на меня посмотрел.
Что же здесь произошло? Поселок напоминал корабль-призрак без команды. Или кукольный домик без кукол. Роза, где ты?
Улицей, по которой приехали, мы пошли обратно. Я заглянула в окно сгоревшей гостиницы – все окутано толстым слоем пыли, ни постояльцев в креслах, ни портье за конторкой. Возможно, где-то сохранился оплавившийся звонок, готовый вызвать давно сгинувшего коридорного.
– Хочешь войти? – спросил Финн.
Я помотала головой.
Слева показалась пустынная ярмарочная площадь, на краю которой застыла проржавевшая машина. Финн потрогал крыло в осыпающейся краске.
– «Пежо», 202-я модель. Чья-то гордая радость.
– Почему же хозяин ее бросил?
Ответа не было. С каждым гулким шагом во мне рос страх.
По крутому травянистому склону мы поднялись к церкви, обнесенной каменной оградой. Три арочных окна таращились пустыми глазницами. Финн провел рукой по камню и замер.
– Чарли, следы от пуль…
– Что?
Он показал на оспины в камнях.
– Это не охотничья дробь. След автоматной очереди.
– Кому понадобилось в такой глуши…
– Пошли отсюда. – Финн отвернулся от стены, лицо его побелело. – Доедем до следующей деревни и выясним, что здесь произошло…
– Нет. – Я отпрянула. – Здесь была Роза.
– Сейчас ее тут нет. – Финн оглядел пустынную улицу. – Здесь ни души. Поехали.
– Нет… – начала я, но сдалась. Жуткая тишина вокруг сводила с ума, я вся покрылась мурашками. Лучше поскорее убраться отсюда.
И тут краем глаза я уловила какое-то движение.
– Роза! – пронзительно вскрикнула я, разглядев человека, бредущего по склону холма. Лица я не видела, но это явно была женщина, одетая, несмотря на теплынь, в старое пальто. Не сводя с нее глаз, я кинулась к ней. – Роза!
Финн поспешал следом. Женщина будто не слышала моего зова.
– Роза! – Крик мой уподобился заклинанию или молитве.
Я схватила ее за плечо.
Она обернулась.
Это была не Роза.
Эва? – чуть было не крикнула я, хотя между этой полной немолодой женщиной с пучком седых волос и тощей высокой Эвой не было никакого сходства. Глаза – вот что их роднило. У незнакомки был тот же опустошенный взгляд много перестрадавшего человека. Ей тоже можно было дать и пятьдесят, и семьдесят лет. Она походила на виденные мною оплавленные ходики, что всегда показывают четыре часа – миг непонятной гибели поселка.
– Кто вы? – прошептала я. – Что здесь случилось?
– Я мадам Руффанш. – Голос ее был четок, без всякой старческой шепелявости. – Погибли все, кроме меня.
Пригревало солнышко. Шелестела трава. Все эти обычные детали служили фоном тихому рассказу мадам Руффанш, которая поведала нам ужасную историю, даже не спросив, кто мы такие и зачем мы здесь.
Она казалась Хором из шекспировской пьесы. Взлетевший занавес явил чудовищную декорацию, публика пребывает в недоумении, но вышел Хор и все спокойно разъяснил: что произошло, когда и как.
Только не сказал – почему.
Мадам Руффанш этого не знала. Наверное, не знал никто.
– Это было в сорок четвертом, – говорила она, стоя под пустыми глазницами окон сожженной церкви. – Десятого июня. В тот день они пришли.
– Кто? – просипела я.
– Немцы. С февраля танковая дивизия СС стояла под Тулузой. После высадки союзных войск она двинулась на север. Десятого июня немцы добрались сюда. (Пауза.) Кто-то донес, что бойцы Сопротивления укрылись в Орадур-сюр-Глан… или Орадур-сюр-Вейр… не помню точно…
Финн взял мою ладонь, рука его была ледяной.
– Рассказывайте дальше, – выдавила я.
Но понукать не требовалось. Исполнитель сойдет со сцены, лишь до конца поведав всю историю. Мадам Руффанш смотрела на меня, но не видела, перед глазами ее стояло десятое июня сорок четвертого.
– Около двух часов дня в наш дом ворвались солдаты и приказали всем – мне, мужу, сыну, двум дочерям и внучке – идти на площадь. – Она кивнула туда, где мы видели брошенный «пежо». – Там уже собрался народ, люди стекались со всех концов поселка. Потом женщин и детей загнали в церковь. – Мадам Руффанш прикоснулась к церковной стене в следах сажи, словно ко лбу покойника. – Матери несли малышей на руках, везли в колясках. Нас было несколько сотен.
Но Розы среди вас не было. Меня замутило. Она же не местная, жила и работала в Лиможе. Я не сомневалась, что найду ее, но только не так… Нет, в тот день она не могла быть здесь.
– Ждали мы долго, – спокойно говорила мадам Руффанш. – В четыре, примерно, часа…
Четыре. Я вспомнила оплавленные ходики.
– …в церковь вошли солдаты. Совсем еще мальчишки. Они тащили ящик, за которым волочился шнур. Поставили ящик в проходе под хорами, запалили шнур и выбежали. Грохнул взрыв, все заволокло черным дымом. Мы задыхались, кричали, метались по церкви.
Говорила она бесстрастно, словно читала по бумажке. Хотелось зажать руками уши, но от ужаса я не могла шевельнуться. Финн как будто перестал дышать.
– Выломав дверь, мы забились в ризницу. Я опустилась на пол, где было меньше дыма. Дочь кинулась ко мне, и тут немцы открыли огонь, стреляли из окон и дверей. Андреа погибла на месте. (Пауза. Дрогнули ресницы.) Ей было восемнадцать. (Пауза. Дрогнули ресницы.) Она упала на меня, а я закрыла глаза и притворилась мертвой.
– Боже мой… – проговорил Финн.
– Потом стрельба стихла, немцы забросали трупы соломой, хворостом, обломками молельных скамей. Все было в дыму, я выбралась из-под тела дочки и спряталась за жертвенником. Высоко в стене за моей спиной были три окна, я подползла к центральному, самому большому, и, подставив стремянку, с которой зажигают свечи, сумела вскарабкаться на подоконник.
Я представила, как эта сгорбленная старуха, задыхаясь от дыма и пороховой гари, ползет среди трупов, а потом карабкается по голой стене. Видимо, что-то отразилось на моем лице, ибо она пожала плечами:
– Не знаю, как мне удалось. Силы будто удесятерились.
– Такое бывает, – чуть слышно сказал Финн.
– Окно было разбито. Я вывалилась наружу. Упала с высоты десяти футов. – Мадам Руффанш посмотрела на темный проем окна над нашими головами. – Вот сюда.
Не родившийся вопль застрял в моем горле. Сюда, эхом звучало в голове, сюда. Три года назад эта женщина выбросилась вот из этого окна и упала вот на этот травянистый пятачок, где сейчас мы стояли под ласковым солнцем. Вот сюда.
– Следом попыталась выбраться еще одна женщина. Немцы нас заметили и начали стрелять. – Мадам Руффанш медленно пошла вдоль стены, мы с Финном двинулись за ней. – В меня угодили пять пуль. Я заползла вот в этот церковный огород. Тогда тут много чего росло. – Она оглядела бесплодный участок, заглушенный сорняками. – Я спряталась в зарослях гороха. Опять затрещали автоматы, послышались крики… Это расстреливали наших мужчин и мальчиков. Потом загудел огонь – полыхали подожженные дома. А позже захлопали пробки от шампанского… Немцы пили всю ночь…
Я разлепила губы, но не произнесла ни слова. Какие уж тут слова. Финн резко отвернулся и так стиснул мою руку, что чуть не сломал мне пальцы. Я ответила ему крепким пожатием. Взгляд мадам Руффанш был безмятежен, пальцы ее шевелились, словно перебирая бусины невидимых четок.
– Немцы пробыли здесь несколько дней… Начали копать траншеи, чтоб скрыть трупы. Глупость. Такое не скроешь. В воздухе стояла вонь горелого мяса. По улицам носились испуганные собаки, искали хозяев… Немцы убили всех жителей, но пожалели собак, не тронули ни одну. Траншея за церковью была мелкая и засыпана кое-как – из земли торчали руки убитых.
Я глянула на Финна. Он смотрел в сторону, плечи его вздрагивали. Я будто окоченела, не могла ни шевельнуться, ни даже охнуть.
– Потом немцы на все махнули рукой и ушли. Меня спасли мужчины, которые тайком пробрались в поселок – узнать, не уцелел ли кто из родных. Я умоляла их прикончить меня, сбросить в реку, но они отвезли меня в больницу. Провалялась там год. Когда вышла, война уже закончилась, немцев прогнали. А вот поселок таким…
Пауза. Дрогнули ресницы.
– …и остался.
Пауза. Дрогнули ресницы.
– Я выжила, – просто сказала мадам Руффанш. – Уцелели еще несколько человек. Те, кто в этот день работал в поле или по делам уехал в город, а еще недостреленные мужчины, которым удалось выбраться из горящих сараев, и дети, спрятавшиеся в руинах…
Лицо ее исказилось, она как будто медленно всплывала с подводного острова времени под названием «Десятое июня сорок четвертого». Казалось, теперь она видит не только скопище призраков, но и меня – Чарли Сент-Клэр в красной юбке и сандалиях на пробковой подошве.
– Зачем вы сюда приходите? – Финн обвел рукой пожарище. – Почему не покинете это место?
– Здесь мой дом. По-прежнему. А я – живой свидетель. Вы не первые, кто сюда приезжает… Уж лучше встретить меня, чем вообще никого. Скажите, кого вы ищите. И я отвечу, жив этот человек или его больше нет. – Глаза ее казались бездонными озерами сочувствия.
Повисло долгое молчание. Ветерок ерошил волосы Финна, играл полами пальто мадам Руффанш. Наконец я раскрыла сумочку, достала фотографию Розы и вложила ее в морщинистые руки старухи.
Господи! – молилась я. – Милый Господи!
Вглядываясь, мадам Руффанш поднесла фотографию близко к глазам, на лице ее промелькнула улыбка узнавания, и она тихо проговорила:
– А-а, Элен…
Финн меня опередил:
– Элен?
– Элен Жубер – так она назвалась, когда приехала сюда рожать. Вдова, совсем молоденькая. Наверное, все догадывались, но… – Женщина пожала плечами. – Девушка славная, нам было все равно. Потом она устроилась на работу в Лиможе, ребенка оставила под приглядом семьи Иверно. Каждые выходные его навещала. – Мадам Руффанш улыбнулась. – Элен. Имя хорошее, но никто ее так не называл. Она сказала, что в детстве за румяные щечки ее прозвали Розой, вот и мы так ее звали. Прекрасная Роза.
Внутри меня зарождался вопль.
– Умоляю… – Голос мой надтреснул. – Скажите, что в тот день ее здесь не было, что она работала в Лиможе.
Мадам Руффанш долго молчала, глядя на смеющуюся Розу. Я поняла, что десятое июня вновь затягивает ее в свой бесконечный круговорот.
– Высоко в стене за моей спиной были три окна, я подползла к центральному, самому большому, и, подставив стремянку, с которой зажигают свечи, сумела вскарабкаться на подоконник. Я вывалилась наружу. Упала с высоты десяти футов.
Слово в слово старуха повторила то, что сказала пять минут назад. Я обомлела. Сколько же раз она поведала эту историю тем, кто разыскивал своих близких, если заучила ее, точно роль? Наверное, только так она могла сохранить рассудок, ради чужих людей ежедневно погружаясь в страшные воспоминания.
– Мадам, пожалуйста…
Старушка развернулась и, как автомат, пошла обратно. Я держалась рядом.
– Следом попыталась выбраться еще одна женщина. – Пауза. Дрогнули ресницы. Мы вновь стояли под тем самым окном. – Я подняла голову и увидела, что она протягивает мне своего ребенка.
Мадам Руффанш посмотрела на темный зев окна. Я проследила за ее взглядом и будто сама увидела всю картину: светловолосую женщину, запеленутого ребенка в ее руках. Вон там.
– Я поймала младенца, заходившегося плачем.
Я видела этот мяукающий сверток.
– Женщина выпрыгнула из окна, упав рядом со мной. Выхватила у меня ребенка, и мы кинулись бежать.
Я видела прыжок той женщины, объятой ужасом и все равно изящной. Видела ее белое платье, испачканное травой и кровью, видела, как она подхватила ребенка и метнулась к спасительным зарослям…
– Немцы начали стрелять. Мы бросились наземь.
Я видела земляные фонтанчики, взрытые пулями, каменную крошку от посеченных ими стен, чуяла пороховую гарь. Видела светлые волосы, измазанные кровью.
– В меня угодили пять пуль, но я смогла уползти. – Мадам Руффанш осторожно вложила фотографию в мои дрожащие руки. – А прекрасную Розу и маленькую Шарлотту убили.
Я закрыла глаза и услыхала шорох летнего платья, полощущегося под теплым ветерком. Роза стояла рядом. Поверни я голову, увидала бы ее белую одежду в потеках крови. И страшные раны от пуль. Я представила, как в смертельной агонии она сучит ногами, пытаясь бежать, чтобы спасти свою малышку. Девочку, которую я никогда не видела, которая уже не будет старшей сестрой моему ребенку. Девочку по имени Шарлотта.
Я слышала дыхание Розы. Нет, она не дышала. Уж три года как ее не было на свете. Она умерла, и все мои надежды оказались напрасны.
Глава двадцать четвертая
Эва
Октябрь 1915
Она погибла под градом пуль. Народ жадно читал контрабандные газеты, смаковавшие жуткие подробности. В Бельгии расстреляли английскую шпионку – медсестру Красного Креста, мгновенно ставшую знаменитостью, героиней и мученицей. Имя ее звучало повсюду.
Эдит Кэвелл.
Не Виолетта Ламерон. Эдит Кэвелл погибла, но Виолетта, по сведениям агентов шпионской сети, пока что была жива.
– Они с Виолеттой похожи, – сказала Эва, тайком прочитав запрещенную газету. Кэвелл арестовали в августе, но жестокая казнь свершилась только сейчас. – У них одинаковый взгляд.
Газеты романтизировали образ Эдит Кэвелл: на рисунках она изящно оседала под винтовочным залпом, отретушированные фотографии представляли ее женственно хрупкой. Но взгляд ее, – думала Эва, – отражает железную волю. Переправить в Голландию две сотни раненых солдат – задача не для хрупкой дамочки. В глазах ее была твердая решимость, какая читалась в глазах Виолетты, Лили и самой Эвы. Кэвелл – еще один цветок зла.
– Все к лучшему. Не хочу показаться циничной, но смерть Кэвелл нам на руку, – сказала Лили, расхаживая по комнате. После ареста Виолетты она залегла на дно и уже две недели скрывалась у Эвы. Безделье давалось ей тяжело: Лили металась, точно тигрица в клетке. – За эту казнь немцев так проклинают, что они не решатся расстрелять еще одну женщину.
А как они поступят? – в страхе думала Эва. Обычно немцы не пытали заключенных, даже шпионов. Их допрашивали, избивали, сажали в карцер, над ними висела угроза казни. Однако все агенты знали: их могут расстрелять, но перед тем не станут выдирать ногти.
А вдруг для Виолетты сделают исключение?
Она не поделилась своим страхом с Лили, которая и без того не находила себе места. Эва тоже мучилась, вспоминая руки Виолетты, согревающие металлический крючок. Если б не она, плод от семени Рене сейчас поспевал бы. Либо Эва уже была бы покойницей, сдуру попытавшись самостоятельно его вытравить. Она в неоплатном долгу перед Виолеттой.
– Ее будут допрашивать. – Ссутулившись, Лили туда-сюда моталась по комнате. – Антуан сказал, против нее никаких улик. При ней не было шифровок. Ее выдал арестованный в Брюсселе агент, но он знал только ее имя. Даже если гансы найдут какую-нибудь зацепку, ничего существенного им не выудить.
Эва представила немца-следователя за колченогим столом и напротив него Виолетту: она чуть наклонила голову, за бликами очков скрывая глаза. Нет, так просто ее не расколоть. Пока дело не дойдет до пыток.
– Мне осточертело сидеть сложа руки, – ярилась Лили. – Наверняка уже скопились донесения. Но больше никаких потерь. – В голосе ее слышалось ожесточение. – Я скорее сама встану к стенке, чем потеряю еще хоть одного человека.
– Не валяй дурака. – Эва поймала себя на том, что в отсутствие Виолетты перенимает ее функции по обузданию взбалмошной начальницы. – Может, я что-нибудь разузнаю в «Лете».
Возможно, теперь маяться уже недолго, – мелькнула мысль. После провала агента их могли отозвать из Лилля, что было бы вполне логично. Только сейчас не время мечтать о том, чтоб навеки распрощаться с Борделоном. Пока ты здесь, должна работать.
Однако в море ресторанной болтовни Виолетту не поминали. Всю неделю разговоры шли только о казни Кэвелл. Одни офицеры сидели мрачные, другие хорохорились, накачиваясь шнапсом.
– Баба эта – шпионка! – горячился гауптман. – И что, будем распускать нюни, если подлый шпион оказался женского пола?
– Нынче уж не то, что раньше, – сетовал оберст. – Шпионы в юбках…
– Расстрелять женщину – позор для фатерлянда. Так войны не ведут…
– Шпионаж – дело малопочтенное. Наверняка шпионы есть и здесь, в этом богом проклятом месте. Говорят, дней десять назад в Брюсселе поймали еще одну шпионку…
Эва навострила уши, но имя Виолетты Ламерон не возникло. Говорили только об Эдит Кэвелл. Не приведи Господь такого же конца для Виолетты!
Позже тем вечером голый Рене, посмеиваясь, подошел к серванту и взял графин с жидкостью, зеленой, как хризолит. С недавних пор он знакомил Эву с абсентом.
– Немцы – неисправимые романтики, уверенные, что войну можно вести благородным способом! Война есть война. И единственное, что имеет значение – кто уцелеет, а кто погибнет.
– Не только это. – Укрывшись простыней, Эва сидела по-турецки в мягкой кровати. – Еще важно, кто из нее выйдет б-б-бедным, а кто богатым.
Рене одарил ее одобрительной улыбкой, на которую она и рассчитывала. Маргарита должна постепенно отходить от облика наивной провинциалки. Она уже не захлебывалась шампанским, но обрела налет изысканности и научилась ценить красивую жизнь, с которой ее так охотно знакомили. В постели она была податливой и страстной, а также во всем усердно подражала циничности Рене, чем вызывала его улыбку. Образ Маргариты получал точно просчитанные изменения, и Борделон, похоже, был доволен своим творением.
– Не понимаю, что п-п-плохого в том, чтоб процветать в военное время, – с некоторым вызовом сказала Эва, словно оправдывая позицию своего любовника. – Кому хочется г-голодать или ходить в лохмотьях?
На каждый бокал Рене положил серебряную решетчатую ложечку с кубиком сахара.
– Ты умна, Маргарита. А вот немцы – полные дурни, если считают, что для шпионажа женщинам не хватит мозгов и хитрости.
Эва увела разговор от темы ее ума:
– Говорят, казнь Кэвелл взбесила англичан?
– Может, и взбесила. – Рене капнул холодной воды на сахар, и тот медленно истаял в абсент. – Но больше, я думаю, обрадовала.
– Почему? – Эва приняла бокал.
«Зеленая фея» не вызывала у нее галлюцинаций или безудержной болтливости (Рене сказал, все это выдумки французских виноделов, боявшихся разорения), но все равно абсент она пила осторожно.
– Знала бы ты, милая, какие потери несут англичане. Каждый месяц в окопах гибнет масса солдат… Эта расчудесная война тянется второй год, народ устал от крови. Но вот немцы казнят англичанку хорошего рода и безупречной репутации (кто еще благопристойнее сестры милосердия?), и тотчас следует всплеск патриотизма. – Пригубив бокал, Рене забрался под простыню.
– Значит, они расстреляют и вторую шпионку, пойманную в Брюсселе? – рискнула спросить Эва.
– Нет, если им достанет ума. Зачем давать пищу желтой прессе? Разве что женщина та молода и красива. – Сквозь бокал с изумрудной жидкостью Рене задумчиво смотрел на лампу. – Вот тогда англичанам было бы выгодно, чтоб ее расстреляли. Хорошенькая мученица – это еще лучше немолодой Кэвелл. Ничто так не распаляет общество, как смерть юной прекрасной девы. Допивай и иди ко мне… Ты еще не пробовала опий, нет? Надо как-нибудь тебя угостить. Соитие в опийном дурмане наделяет провидением…
Но призрак Эдит Кэвелл еще не попрощался окончательно. Когда ночью Эва вернулась домой, Лили сидела за шатким столом, под глазами ее были заметны темные окружья.
– Любопытные новости от дяди Эдварда, маргаритка.
– Нас отзывают? – После абсента у Эвы слегка кружилась голова. Слава богу, удалось отсрочить пробу опия. Она боялась всего, что могло развязать ей язык. – Приказано покинуть Лилль? – От надежды, что вдруг настал долгожданный момент, голова закружилась сильнее.
– Нет. – Лили замолчала. У Эвы упало сердце. – И в то же время – не исключено.
– Говори яснее. – Эва раздраженно расстегивала пальто.
– Антуан доставил сообщение от дяди Эдварда. Нас хотели отозвать, но усатый начальник (Лили имела в виду солдафона сплетника майора Аллентона) высказался за продолжение работы.
– Несмотря на то что немцы, взяв одного агента, попытаются ликвидировать всю сеть?
– Даже так. – Лили достала окурок, завернутый в носовой платок, и поискала спички. – Усач считает, что риск оправдан нашим отличным местоположением. Нам приказано, соблюдая осторожность, работать дальше. Хотя бы еще некоторое время.
– Очень рискованно. – Эва покачала головой.
Более того – опрометчиво. Однако, не рискуя, войну не выиграть, а солдаты не вправе избегать опасности. Согласившись на эту работу, она позволила государству распоряжаться ее жизнью. Что толку плакаться – мол, она мечтала избавиться от Рене?
Эва села на кровать и потерла глаза, в которые будто насыпали песка.
– Значит, работаем дальше, – с легкой горечью сказала она.
Лили затянулась окурком.
– Может, и нет.
– Хватит загадок, Лили.
– Дядя Эдвард не выступит против начальства открыто, но у него есть способы выразить свое мнение. Ясно, что он категорически против решения оставить нас в Лилле. Не впрямую он дает понять, что продолжение операции считает крайне опасным. Велика угроза того, что Виолетту казнят, а нас арестуют, и мы разделим ее судьбу.
– Вполне возможно. – Эва жила с этим страхом давно и к нему уже привыкла. – Фрицы закручивают гайки. Они же не слепые. Линия фронта растянулась на десятки километров, но через две недели максимум все их новые огневые позиции оказываются уничтожены.
Лили выпустила струю дыма.
– Дядя Эдвард считает Усача идиотом, однако он не может не выполнить приказ. И потому намекает: нас отзовут, если мы сами об этом попросим, сославшись на усталость и нервное истощение.
– Разве солдаты могут не подчиниться приказу? – изумилась Эва.
– Обычные солдаты – нет. Но мы другое дело. Агент на грани нервного срыва ненадежен. Он опасен для всей сети, и проще его отозвать. Так что…
– Понятно. – На секунду Эва дала волю чувствам: больше не будет жизни впроголодь, берлинского времени, прохладных рук, шарящих по ее телу, и ожидания выстрела в спину. Никакой опасности. Однако у этого варианта наверняка есть оборотная сторона. – После отзыва нас перебросят в другое место? Скажем, в Бельгию или…
– Видимо, нет. – Лили стряхнула пепел. – Мы перейдем в категорию надорвавшихся агентов. А битую чашку не ставят на стол.
Бой окончен, пора домой. Сколько бы ни продлилась эта война, они уже внесли свой вклад в победу.
– Возможно, так и надо сделать – попросить об отзыве, – спокойно сказала Лили. – Я доверяю чутью дяди Эдварда. Если он считает опасность чрезмерной, он, скорее всего, не ошибается.
– Наверное, так, – согласилась Эва. – Но есть четкий приказ остаться. Приказ. И потом, речь о каких-то неделях… Будем осторожны, и тогда после отзыва получим новое задание.
Лили пожала плечами.
– Пока что нам везло. Больше того, нам сопутствовал успех.
Эва выдохнула, отгоняя мысли о возвращении домой.
– Я за то, чтобы остаться. Хотя бы ненадолго.
– Я и сама к этому склоняюсь, только не хотела давить на тебя. Не передумаешь?
– Нет.
– Значит, решено. – Лили оглядела окурок. – Черт, берегла его две недели, а хватило всего на пару хороших затяжек. Что за жизнь, нет слов!
Эва взяла ее за руку.
– Обещай, что будешь осторожна. Я за тебя боюсь.
– Что толку бояться? – Лили сморщила нос. – Знаешь, прошлой осенью я дала слабину и у меня появились всякие предчувствия, да такие сильные, что я поехала попрощаться с родными. Я была уверена, что вижусь с ними в последний раз… И возвращаясь, думала: ну вот и все, скоро меня возьмут и шлепнут. Однако ничего не случилось, совсем ничего. Не стоит тратить время на зряшные страхи, маргаритка.
– А вдруг Виолетта не выдержит допросов и назовет твое имя? – осторожно спросила Эва.
– Даже если так, им меня не найти. Я утекаю сквозь пальцы, как вода. – Лили улыбнусь. – Даю слово, что сменю маскировку и маршруты. – Улыбка ее угасла. – Усач прав в одном: долго это не продлится. В районе Шампани готовится удар, к Новому году, я уверена, фронт будет прорван. Нам надо продержаться совсем немного. – Лили помолчала и мягко добавила: – И тогда Виолетта выйдет на свободу. Тюремный срок она уж как-нибудь переживет.
– А если счет не на м-м-месяцы? – спросила Эва. В Лилле она провела всего пять месяцев, но они показались вечностью. – Если война растянется на годы?
– Значит, на годы, – сказала Лили. – И что теперь?
И правда, что теперь? К теме прошения об отзыве больше не возвращались.
Эва насторожилась, услыхав разговор коменданта Хоффмана и двух оберстов, хорошо подогретых бренди. Новость была важная, хоть и уступала самородку о визите кайзера.
– Ты уверена? – спросила Лили. Она обзавелась новыми документами и вновь совершала вылазки через границу.
Присев на край хромого стола, Эва кивнула:
– В начале следующего года, в январе или феврале, немцы планируют широкомасштабное наступление.
– Направление удара?
– Верден.
Эва поежилась. В названии города, в котором она не бывала, слышалось нечто зловещее, вроде поля брани. Но «предупрежден – значит вооружен». Может быть, Верден станет вехой в окончании бойни.
– Как бы тебя не подставить, – задумалась Лили.
Кое-какую информацию они не передавали, дабы не обнаружилась ее утечка через «Лету».
– Сведение-то важное, – сказала Эва. – Ради этого мы здесь и остались.
Все взвесив, Лили согласилась.
– Через два дня я встречаюсь с дядей Эдвардом в Турне. Поедем вместе. Дело серьезное, он захочет расспросить нас обеих.
Эва кивнула – это будет воскресенье, у нее выходной.
– Ты успеешь достать еще один п-пропуск?
– Мой источник, слава богу, ни разу не подвел.
Эва прикусила ноготь, уже обгрызенный до мяса. То ли из-за ареста Виолетты, то ли из-за октябрьской холодрыги, всю неделю ее терзал безотчетный страх. Почему Кристин так на нее посмотрела? Что-то подозревает? Почему немецкий лейтенант внезапно смолк, когда ему подали кофе? Догадался, что она подслушивает? Почему Рене так внимателен к ней? Что-то пронюхал и хочет ее убаюкать, прежде чем нанести удар?
Возьми себя в руки.
Вечером она опять была у Борделона. Он разжег камин и вслух читал роман «Наоборот» Жориса-Карла Гюисманса, временами откладывая книгу, дабы воплотить в жизнь наиболее пикантные сцены. Эву подобные игрища скорее утомляли, чем возбуждали, но Маргарите надлежало проявлять боязливую нерешительность, так вдохновлявшую постановщика интермедий.
– Ты делаешь успехи, дорогая, – урчал он, поглаживая ей мочку уха. – Может, нам, как герою романа, на время уехать в деревню? В какое-нибудь теплое местечко, где не будет этой тевтонской унылости. Скажем, в Грасс, в эту пору года он чудесен. Воздух буквально пропитан цветочными ароматами. Я даже подумываю там обосноваться, когда отойду от дел. И потому уже приобрел заброшенный особняк, который просто молит о перестройке его в роскошную виллу… Ты хочешь поехать в Грасс, Маргарита?
– Куда угодно, где т-т-тепло, – поежилась Эва.
– Последнее время ты постоянно мерзнешь. – Рука Рене прошлась по ее телу. – Ты, случайно, не беременна?
Вопрос едва не застал Эву врасплох, чего с ней не случалось давно. Она успела скрыть отвращение и деланно рассмеялась:
– Нет.
– Хм. В любом случае это не стало бы трагедией. – Рене положил руку ей на живот, распластав длинные пальцы между ее бедренными косточками. – Я никогда не чувствовал особого зова к отцовству, но с годами начинаешь задумываться о наследнике. А может, это дрянная погода так на меня действует. Перевернись-ка.
Правильно, что я ничего не сказала, – думала Эва, ритмично раскачиваясь. – Он бы меня куда-нибудь отправил, как изнеженную племенную кобылу, и где бы сейчас я была?
Домой она вернулась под утро, поспать времени не осталось. Эва быстренько соорудила узелок, чтоб не с пустыми руками проходить через контрольный пункт, и отправилась на вокзал. Лили запаздывала. Эва уже слегка запаниковала, но потом наконец увидела знакомую фигуру, соскочившую с пролетки. Утро выдалось сырым и зябким, капли влаги усеивали соломенную шляпку и дымчато-голубое пальто Лили. В туманном мареве она казалась совсем маленькой.
– Вот незадача, – тихо проговорила Лили, остерегаясь чужих ушей. – Второй пропуск достать не удалось. В Турне может поехать лишь одна из нас.
– Езжай т-т-ты. Мне ехать не обязательно.
– Не скажи. Начальство хочет все услышать из первых уст.
– Значит, поеду я.
– Ты еще ни разу не проходила через контрольный пункт одна. Пограничники стали очень дотошны, но я-то им уже примелькалась, а на заику они обратят внимание. Я должна быть рядом и уболтать их, если что. – Лили задумчиво покусывала губу. – Сообщение-то уж больно важное, иначе на неделю отложили бы поездку. Нам бы только проскочить сейчас, а уж в Турне раздобудем второй пропуск.
Эва глянула на угрюмых продрогших охранников на другой стороне улицы, от холода то ли озлобленных, то ли ко всему безразличных.
– Я думаю, проскочим.
– Я тоже на это надеюсь. Значит так, маргаритка: держи пропуск, вставай в очередь и не оборачивайся. Я буду через три человека от тебя.
После этого короткого инструктажа Эва сошла на мостовую, где кучка мальчишек, невзирая на промозглую погоду, затеяла игру в салочки. Прижимая узелок к груди, краем глаза она следила за Лили, которая ухватила мальчишку в зеленом шарфе и притянула к себе. Она что-то шепнула ему на ухо, вложила монетку в руку, и паренек отбежал в сторону. Лили встала в очередь. Эва вдруг так занервничала, что ее качнуло. Она приказала себе успокоиться.
Прозябший охранник трубно высморкался в большой носовой платок. Приняв подобострастный вид, Эва молча подала ему пропуск. Часовой скользнул взглядом по бумажке и махнул рукой – мол, проходи. Эва замешкалась, якобы пряча пропуск в сумочку, но на самом деле зажала его в ладони. В ту же секунду паренек в зеленом шарфе с разгону врезался в нее и повалился наземь. (На мальчишек часовые не обращали внимания, только изредка их шугали.)
– Чего ты тут разлегся! – Эва помогла пареньку подняться и, отряхивая его пальтишко, незаметно сунула пропуск ему в рукав. – Смотреть надо, куда несешься! – Собственный голос показался ей ужасно театральным.
Мальчишка отбежал и, сделав круг по площади (видимо, ему было наказано кидаться к цели не сразу), врезался в Лили, от которой получил новую порцию выволочки. Эва искоса наблюдала за ними и все равно не уследила, как ее напарница исхитрилась выудить пропуск. Однако та его предъявила, когда через пару минут подошла ее очередь.
Сердце Эвы опять застучало молотом. Охранник глянул на пропуск – неотличимую бумажку с печатью, но без фотографии. В жизни не определишь, что по этому пропуску уже кто-то прошел… Облегчение обрушилось волной, когда охранник снова высморкался и стал проверять следующего в очереди.
– Видала? – сказала Лили, переждав пронзительный вой паровозного гудка. – Тупицы безмозглые. Сунь им под нос любой квиток и шагай себе!
Эва от души рассмеялась.
– Да уж, ты во всем найдешь забаву!
– Пока что удается, – беспечно ответила Лили. – Как думаешь, в Турне у нас будет время купить дурацкие шляпы? Я хочу такую, из розового атласа…
Эва все еще похохатывала, когда это случилось. Позже она изводила себя вопросами: своим беззаботным смехом она привлекла к ним внимание? А что было делать? Ах, если бы…
Веселость ее унял резкий голос:
– Ваши документы, фройляйн!
Лили удивленно обернулась.
Их окликнул не простуженный часовой, но молодой гауптман в форме с иголочки. Взгляд его из-под козырька, ронявшего дождевые капли, был тверд и подозрителен. Эва отметила порез от бритья на его подбородке и белесые ресницы. Язык ее стал точно каменный. Сейчас он бы не выговорил даже одного слова, а не то чтобы застрекотать как пулемет Шоша, косивший солдат в окопах…
Заговорила Лили, легко и досадливо:
– Документы? Нас уже проверили.
Она кивнула на охранника.
– А теперь вас проверю я.
Офицер протянул руку.
Лили ощетинилась, изображая оскорбленную дамочку:
– Кто вы такой, чтобы…
Гауптман нахмурился:
– Предъявите паспорта.
Вот оно, – подумала Эва. Всепоглощающий ужас, охвативший ее, был сродни мертвецкому покою. Пропуска нет, тут уж не обманешь. Сейчас меня схватят. Сейчас схватят…
Лили подала пропуск офицеру. Пока тот разглядывал бумажку, Эва поймала взгляд подруги. Меня схватят, а ты уходи, – старалась она сказать глазами. – Уходи.
На миг лицо Лили осветилось озорной улыбкой.
– Пропуск не мой, – сказала она. – Я вот у нее стырила. Понял, дубина немецкая?
Глава двадцать пятая
Чарли
Май 1947
Она умерла.
Моего самого дорогого человека не было на свете.
Прожорливая война не насытилась, заграбастав моего брата. Эта гадина сожрала и Розу, нашпиговав ее пулями. Она отняла у меня ту, кого я любила, как родную сестру.
Не помню, сколько я так стояла на пятачке жухлой травы перед церковной стеной в оспинах пуль. Я смотрела на мадам Руффанш, и она казалась мне соляным столбом, в какой превратилась жена Лота, узревшая чудовищные картины. Рвавшийся из груди вопль застрял в моем горле и скреб его, точно ржавая бритва, обдирающая кожу. Но прежде чем я успела исторгнуть крик, Финн взял меня за плечи и сильно встряхнул. Я видела его как сквозь туман. Губы его шевелились, и я только догадывалась, что он говорит: «Чарли, голубушка…», но ничего не слышала. Меня словно контузило. В ушах стоял оглушительный звон.
Взгляд мадам Руффанш был безмятежен. Единственный свидетель, она заслужила благодарность потомков, бальзам на раны и медаль за отвагу. Но я не могла на нее смотреть. Она была с Розой в ее последний час, видела ее гибель. Почему она, а не я? Почему меня не было рядом с Розой, когда она оказалась лицом к лицу с фашистами? Почему меня не было рядом с Джеймсом, когда моя любовь могла помочь ему унять ярость и заглушить какофонию кошмарных воспоминаний? Я так любила их обоих и так безоговорочно их подвела. Теплым летним вечером я оставила брата одного, он сказал, что глотнет пивка, а сам глотнул пулю. Я думала искупить свою ошибку тем, что отыщу Розу, хотя в это никто уже не верил, но я ничего не искупила. В том прованском кафе я сказала Розе, что никогда не покину ее, но покинула. Я позволила океану и войне нас разлучить, и теперь она мертва. Я потеряла всех.
Неудачница, – безостановочно твердил противный голосок. Литания моей жизни. Неудачница.
Я взяла ладонь мадам Руффанш в свои руки и молча пожала – на иную благодарность меня не хватило. Потом развернулась и побежала вниз по склону. Уже на улице я упала, споткнувшись о разбитый цветочный горшок. Наверное, когда-то в нем цвела алая герань, посаженная домохозяйкой, которую убили десятого июня. Саднили ободранные ладони, но я встала и, шатаясь, побрела дальше. Слезы застили мне глаза, и лишь подойдя к машине, я поняла, что это не наша «лагонда», а брошенный «пежо», ржавеющий с тех пор, как расстреляли его хозяина. Я отшатнулась от этой ужасной, хоть и ни в чем не повинной машины и дико огляделась в поисках «лагонды». Вот тут Финн меня нагнал и прижал к себе. Зажмурившись, я уткнулась лицом в его грубую рубашку.
– Увези меня отсюда, – сказала я, вернее, попыталась сказать, потому что вместо слов вырвалось хриплое рыдание.
Но Финн, кажется, понял. Он подхватил меня на руки, отнес к «лагонде» и, не открывая дверцу, опустил на сиденье, после чего и сам запрыгнул в машину. Я прикрыла глаза и, вдыхая умиротворяющий запах кожи и бензина, съежилась в комок. Рванув с места, Финн дал газу, будто нас преследовала орда призраков. В общем-то, так оно и было. Внутренним взором я видела малышку, только-только начавшую ходить. Она тянула ко мне ручонки и называла «тетей Шарлоттой». На макушке ее зияла страшная рана. Роза назвала дочку моим именем. Но уже почти три года, как ее больше нет.
Я что-то промычала. Подпрыгивая, машина миновала мост. Я обманулась во всех своих ожиданиях.
Едва Орадур-сюр-Глан скрылся из виду, Финн подрулил к первой же придорожной гостинице. Либо хозяин заметил мое обручальное кольцо (Роза уже никогда не посмеется над миссис Макгоуэн и ее Дональдом), либо ему было все равно. В убогом номере мой затуманенный слезами взгляд остановился на кровати.
– Стоит мне уснуть, привидится кошмар, – прошептала я. – Во сне я увижу, как ее… – Я крепко зажмурилась, пытаясь вернуться в свой кокон бесчувствия, но он сгинул начисто. Слезы накатывали огромными волнами. Я задыхалась. И ничего не видела. – Не дай мне заснуть.
Финн взял мое лицо в ладони.
– Сегодня ты не уснешь, – сказал он. Я различила слезы в его глазах. – Обещаю.
Финн ненадолго ушел и где-то раздобыл бутылку виски. О еде мы даже не помышляли. Скинув обувь, уселись в кровати и стали пить. Я то плакала, то просто смотрела в окно, за которым дневной свет сменился синими сумерками, а потом усеянной звездами тьмой. Иногда я говорила, перебирая, словно бусины четок, воспоминания о Розе и Джеймсе, и тотчас начинала их обоих оплакивать. Финн не мешал мне выговориться и выплакаться. Вконец обессиленная, я улеглась, положив голову ему на колени. Стояла глубокая ночь. Я подняла взгляд и увидела, что лицо Финна мокро от слез.
– Тот лагерь… – чуть слышно проговорил он, – боже мой…
Я отерла ему щеки.
– Ты видел что-то еще страшнее?
Финн долго молчал. Я уж думала, не ответит. Но потом он залпом допил виски в своем стакане и произнес:
– Да.
Мне не хотелось слышать о чем-то еще ужаснее бойни в Орадур-сюр-Глане, но Финн уже начал свой рассказ:
– В апреле сорок пятого наш шестьдесят третий противотанковый полк стоял под городом Целле, что на севере Германии. – Крупная рука его перебирала мои волосы. – Ты слышала о лагерях смерти?
– Да.
– Мы освободили узников Берген-Бельзена.
Я села, подтянув колени к груди. Финн смолк. Дрогнули ресницы.
– Первыми в лагерь вошли врачи, следом мы, военные. Это была обитель призраков вроде той, что мы видели сегодня. Только те призраки были из плоти и крови. – Размеренно описывая ужасную картину, навеки впечатанную в память, Финн говорил так же бесцветно, как мадам Руффанш: – Тысячи живых скелетов в полосатых робах бродили среди огромных куч из костей и тряпья. Даже не бродили, еле-еле передвигались. Стояла невероятная тишина. (Пауза. Дрогнули ресницы.) И светило солнце. Вот как нынче.
Глаза мои опять набрякли слезами. Только плакать бесполезно. Уже ничем не поможешь тем, кто сгинул в Орадуре и Бельзене. Джеймсу и Розе. Будь проклята война.
– На земле лежала девочка-цыганка, – продолжил Финн. – Что она цыганка, я узнал уже потом. Мне сказали, что узники-цыгане носили нашивку – буква «Z» в черном треугольнике. Ей было лет пятнадцать, но выглядела она древней старухой… Мешочек с костями и лысой головой… Огромные глаза ее были точно камни на дне колодца… Она потянулась к моему сапогу, рука ее смахивала на белого паучка… Девочка умерла у меня на глазах. Мы посмотрели друг на друга, и она угасла. Я пришел ее спасти, а она умерла. Столько всего перенесла, и вот сейчас…
Я поняла, что для него это всегда происходит сейчас. Всякий раз, как он вспоминал те запавшие глаза и белого паучка на своем сапоге, девочка вновь и вновь умирала у него на глазах.
– Многое стерлось из памяти. – Финн охрип, шотландский выговор его стал заметнее. – Я не старался забыть намеренно, просто детали как-то размылись. Рытье братских могил, вынос трупов из бараков, кормежка завшивленных людей… Но цыганочку ту я помню. Она у меня перед глазами.
Есть ли такие слова, что смогут утешить? Наверное, нет. Пожалуй, единственное снадобье – человеческое тепло, которое скажет: «Я с тобой». Я взяла руку Финна и крепко сжала ее в своих ладонях.
– В тифозном бараке запах был… – Финна всего передернуло. – Разлагающиеся трупы, поносные лужи… – Глаза его казались бездонными. – Радуйся, Чарли, голубушка, что в Орадуре ты оказалась через три года после несчастья. Солнышко, тишина, призраки – и никакого запаха.
Похоже, он закончил рассказ. Я плеснула виски в стаканы. Мы выпили, стремясь поскорее забыться. Твое здоровье! – сказала Роза. Нет, она ничего не сказала, потому что умерла. И та цыганочка тоже. Я опять положила голову на колени Финну. Комната кружилась. Финн гладил меня по волосам.
В окно заглянула луна, она разгоралась все ярче и ярче, пока я наконец не сообразила, что это взошедшее солнце нещадно светит мне в глаза.
Я сморгнула, пытаясь прийти в себя. Мы с Финном, полностью одетые, лежали рядышком: рука его покоилась на моей спине, я уткнулась носом в его мерно вздымавшуюся и опадавшую грудь. Голова у меня раскалывалась. Желудок мой сделал кульбит, и я, выскочив из кровати, еле успела добежать до умывальника в углу.
Раз и другой меня вывернуло желчью, отдававшей виски. Финн проснулся и сел в кровати.
– Похоже, тебе нездоровится, – сказал он.
Я успела ожечь его взглядом, прежде чем меня вывернуло в третий раз.
Расхристанный, босой, Финн выбрался из кровати, подошел ко мне и убрал волосы с моего лица, когда я опять согнулась над раковиной.
– Что-нибудь снилось? – мягко спросил он.
– Нет. – Стараясь не встречаться с ним взглядом, я выпрямилась, отерла рот и взяла стакан для полоскания. – А тебе?
Он помотал головой. Не глядя друг на друга, мы умылись. Наверное, каждый себя чувствовал незажившей культей – не дай бог заденешь и взвоешь от боли. Голову будто налили свинцом. Роза, – вспомнила я, и мысль аукнулась тупой ноющей болью. Это не привидевшийся кошмар, это ужасная явь. Щипало глаза, но слез уже не осталось.
Лишь маячил большой-большой вопрос.
Мы привели себя в порядок, Финн уломал хозяина на две чашки черного кофе, который нехотя принял мой разбушевавшийся желудок. Потом мы сели в машину и молча отправились в Лимож. Я сидела в мятой несвежей одежде, терла разламывающиеся виски и раздумывала над мучительным вопросом.
Что дальше, Чарли Сент-Клэр?
Что дальше?
За всю дорогу мы не проронили ни слова. В окошко я смотрела на город, в своей весенней красе похожий на театральную декорацию: плакучие ивы над рекой, фахверковые дома, прелестный старинный мост, который наверняка видела Роза, обслуживая клиентов «Леты». Причин здесь оставаться больше не имелось, но и уехать было некуда.
– Интересно, вернулась ли Гардинер, – проговорил Финн.
Это были его первые слова после утреннего вопроса, не снилось ли мне что-нибудь.
– Откуда? – Я непонимающе уставилась на него.
– Со встречи с английским офицером из Бордо, не помнишь?
Я и впрямь забыла.
– Но ведь это было вчера?
– Кажется, да.
Мы ведь не собирались ночевать в окрестностях Лиможа. Что дальше? – эхом бился вопрос. Что дальше?
Финн припарковался, мы вошли в гостиницу. В холле недавно натерли полы, запах мастики перебивал аромат свежих цветов на конторке портье. Цвет этих роз напомнил о нежном румянце на щеках моей кузины, и у меня опять заломило голову. Перед раздраженной администраторшей стоял рослый англичанин, считавший, что если орать, чужеземцы его непременно поймут.
– Эвелин Гардинер – иси?! В смысле, здесь?! Понимэ?! Гардинер!!
– Oui, monsieur. – Было заметно, что портье повторяет это уже в сотый раз. – Elle est ici, mais elle ne veut pas vous voir[7].
– Англе, английский?! Кто-нибудь?!
Мужчина обернулся: лет пятидесяти пяти, седоватые усы, гордо выпяченное брюхо. Костюм цивильный, но вид солдафонский.
Мы с Финном переглянулись, и он шагнул вперед:
– Я шофер мисс Гардинер.
– Вот и хорошо. – Незнакомец смерил Финна неодобрительным взглядом, хотя тон его был относительно дружелюбен. – Пожалуйста, доложите ей обо мне. Она меня примет.
– Нет, – сказал Финн.
Усы англичанина встопорщились.
– Разумеется, примет! Вчера мы вместе ужинали и прекрасно ладили…
Финн пожал плечами.
– Однако нынче она не желает вас видеть.
– Послушайте…
– Жалованье мне платит она. Не вы.
За спиной англичанина портье закатил глаза, а мое любопытство отыскало просвет в окутавшем меня тумане горя.
– Сэр, вы случайно не капитан Кэмерон?
Незнакомец не соответствовал созданному мною образу Кэмерона, но какой еще английский офицер по зову Эвы примчится из Бордо?
– Пройдоха Кэмерон? Вот еще! – Англичанин презрительно фыркнул. – Ну-ка, сгоняйте наверх, дорогуша, и скажите мисс Гардинер, что к ней пришел майор Джордж Аллентон, которому уже надоело тратить свое драгоценное время.
– И не подумаю.
Вышло дерзко, но я просто измучилась. И потом, чего ради я должна исполнять хамские приказы? Я порадовалась, что это не Кэмерон. В рассказах Эвы он мне нравился.
Побагровевший майор открыл рот, как будто изготовившись что-то рявкнуть, но вдруг сдулся.
– Чудесно, – пробормотал он, шаря в кармане. – Передайте этой старой карге, что Министерство обороны рассчиталось с ней за все ее прошлые заслуги. – Майор сунул мне в руку черную коробку. – Если угодно, пусть бросит в сортир, но я больше не намерен хранить это у себя.
– Вы давно ее знаете? – спросил Финн.
– Она работала у меня во время обеих войн. – Аллентон нахлобучил шляпу. – Но я жалею, что вообще связался с этой косноязычной лживой стервой.
Чеканя шаг, майор вышел на улицу. Мы с Финном опять переглянулись, и я опасливо приоткрыла коробку. Что там? Драгоценности, документы, взрывное устройство? С Эвой надо быть готовой ко всему. Но в коробке лежали награды – четыре ордена, пришпиленные к подушечке.
– Военный крест, Военный крест с пальмовой ветвью, орден Почетного легиона и орден Британской империи… – Финн тихо присвистнул.
Я медленно выдохнула. Значит, Эва не просто бывшая шпионка, она орденоносная героиня, легенда, и даже армейский чин, который терпеть ее не может, стоит перед ней навытяжку. Я потрогала орден Британской империи.
– Если это столь давние награды, почему она их не забрала?
– Не ведаю.
Глава двадцать шестая
Эва
Октябрь 1915
Их скрутили и повели к зданию вокзала. Орали конвоиры, выли сирены. Лили успела шепнуть, едва шевельнув губами: «Мы не знакомы. Ты выпутаешься».
Не глядя на нее, Эва помотала головой. Один дюжий немец чуть ли не волоком тащил Лили, второй вел Эву, у которой вмиг онемела заломленная за спину рука. Эва еще не вполне осознала весь ужас произошедшего, и мысли ее разбегались, точно мыши, застигнутые внезапно вспыхнувшим светом. Она качнула головой рефлекторно – нет, она не оставит подругу в лапах врага. Ни за что.
Конвоиры вновь заорали, и губы Лили проартикулировали всего одно слово.
Верден.
Эва похолодела. Широкомасштабное наступление немцев планировалось в начале следующего года. В Турне капитан Кэмерон ждал доклада. Шифровка с деталями операции была спрятана под кольцом на пальце Лили. Господи, если немцы ее найдут…
Времени на раздумья уже не осталось, девушки успели обменяться только отчаянными взглядами. Их втолкнули в караульное помещение, где расположились телефонист и наряд часовых.
– Задержанных развести, – приказал гауптман. – А я сообщу о них куда надо.
Эва очутилась в узкой комнате, где отдыхающая смена – человек шесть зевающих полуодетых солдат – совершала утренний туалет. Молодой белобрысый сержант в исподней рубахе вытаращился на неожиданную гостью, другой солдат, брившийся над ведром, застыл с бритвой в руке. Эва обшарила взглядом комнату. Нет, отсюда не сбежать. Стоит шагнуть к окну, как на нее бросится вся эта волчья стая. Вторая дверь с застекленным оконцем вела в смежную каморку. У Эвы перехватило горло, когда там она увидела Лили. Без шляпки, со сбившейся набок прической, Лили походила на маленькую девочку, нарядившуюся в мамину одежду. Но глаза ее сверкали, рот кривился в ухмылке. Привалившись к столешнице у стены, она стягивала перчатки, словно готовясь к чаепитию.
– Не троньте меня! – вдруг завопила Эва, взгляд ее заметался по комнате.
Немцы оторопели, поскольку никто ее не трогал. Эва орала, отвлекая внимание от соседней каморки, где Лили проворно сдернула кольцо с пальца.
– Руки прочь! – завизжала Эва.
Молодой сержант шагнул к ней, желая успокоить. Сквозь оконце Эва видела, как Лили, все так же кривясь в усмешке, сунула в рот и проглотила шифровку.
Обрадоваться Эва не успела. Гауптман, секунду назад вошедший в комнату отдыхающей смены, метнулся в каморку к Лили.
Он заметил, заметил…
Немец схватил Лили за горло, пытаясь просунуть пальцы ей в рот. Лили стиснула зубы и оскалилась, точно росомаха. Гауптман гадливо ее отшвырнул. Из коридора донесся топот сапог. Эва осела на пол и зарыдала. Не оттого, что Лили взяли с поличным, но потому, что так должна поступить Маргарита – насмерть перепуганная дуреха, которая знать не знает женщину в соседней комнате. Эва перегрызла бы глотки немецким свиньям, но Маргариту ждало задание.
Верден.
Съежившись на полу, она плакала под аккомпанемент тяжелого шарканья немецких сапог. Солдаты что-то ей говорили, но Эва никак не реагировала, потому что Маргарита знала только два немецких слова – «да» и «нет». Каждой своей вопящей клеточкой она сосредоточилась на соседней каморке, откуда не доносилось ни звука.
Немцы не знают, что она – руководитель шпионской сети, – лихорадочно соображала Эва. – Им невдомек, какой куш они сорвали. И все равно возникло кошмарное видение: Лили ставят к стенке, как Эдит Кэвелл. Повязка на глазах, наручники, на груди косой крест – мишень для расстрельного взвода. Лили падает кулем. На губах ее застыла усмешка.
Нет! – мысленно вскрикнула Эва. Однако жуткое видение было на пользу – оно помогло новому всплеску рыданий. Слезы и полная беспомощность сейчас важнее демонстрации отваги. Жалкая плакса ничем не опасна.
В комнату вошли полицейский и женщина, лицо которой словно вытесали топором. Эва ее узнала – она часто дежурила на пропускных пунктах. За зеленую форму и толстые жадные пальцы, которыми эта безжалостная баба рылась в чужих вещах, Лили прозвала ее Жабой.
Сейчас она хмуро глянула на Эву и обронила по-французски:
– Раздевайся.
– З-здесь? – Опухшая от слез Эва встала и обхватила себя руками, ежась под похотливыми мужскими взглядами. – Я не м-м-м…
– Раздевайся! – рявкнула Жаба.
Но полицейский, видимо, усовестился и велел солдатам выйти из комнаты.
– Если и ты, сучка, что-нибудь прячешь, я все равно отыщу и подведу тебя под расстрел, – посулила тетка, грубо расстегивая Эвину блузку, под которой открылась изношенная сорочка.
Путаясь в крючках, Эва сама сняла юбку. Нет, все это не взаправду. Всего пару часов назад она, стоя перед угасающим камином, надевала эту самую юбку, и Рене сморщил нос: «Такое белье, милая, носят оборванки из приюта. Так и быть, куплю тебе сорочку с валансьенским кружевом…» Накатила жуткая слабость, Эва застонала и хлопнулась на пол, симулируя обморок. Однако Жаба присела на корточки и приступила к обыску. Верден, – мысленно повторяла Эва, чувствуя, как грубые руки шарят по ее телу. Верден, – говорила она себе, когда эти руки выдернули шпильки из ее волос. Слава богу, нынче при ней не было шифровок…
Это продолжалось минут десять – Жаба обыскала Эву, затем проверила ее одежду и обувь. Жгучая пощечина завершила процедуру. Эва открыла заплаканные глаза.
– Одевайся, – сказала Жаба, явно разочарованная.
Эва села, прикрывшись руками.
– М-можно стакан в-в-в…
– Ч-ч-чего-чего? – передразнила Жаба.
– Воды, – всхлипнула Эва.
Пусть эта сука издевается, лишь бы утвердилась во мнении, что перед ней простофиля, позволившая украсть свой пропуск.
– Ах, воды? Вон, угощайся. – Жаба показала на плошку с мутной водой, в которой солдаты ополаскивали зубные щетки, и засмеялась собственному остроумию.
Эва неуклюже оделась. У дрожавшей Маргариты Ле Франсуа руки не слушались, но мысль Эвелин Гардинер неслась, точно курьерский поезд. Сквозь оконце в двери она видела, как Жаба подошла к Лили, и переполнилась страхом от того, что сейчас произойдет.
Жаба приказала Лили раздеться.
Она не подчинится, – подумала Эва.
Лили стояла как вкопанная. Жаба сдернула с нее юбку.
Ни за что не подчинится.
Лили сопротивлялась, но здоровенная баба сорвала с нее всю одежду. В отличие от Эвы, Лили не прикрыла свою наготу и даже не шелохнулась, когда Жаба всю ее обшарила. Такую худенькую – ребра ее выпирали, точно перекладины лестницы. Потом Жаба грубо отпихнула Лили, с лица которой не сходила презрительная усмешка, и перешла к осмотру ее одежды и сумки.
Пусть она ничего не найдет, – взмолилась Эва, но из сумки выпали паспорта торговки сыром Вивьен, прачки Розали, белошвейки Мари и Алисы Дюбуа, которые Лили использовала при переходах границы. Жаба что-то орала, размахивая паспортами, Лили бесстрастно смотрела перед собой.
Наконец ей разрешили одеться. Она застегивала последнюю пуговицу на блузке, когда в каморку вошел человек с кружкой в руке. Эва, подглядывая сквозь занавесь растрепанных волос, его узнала – это был герр Роцелэр, начальник городской полиции. Несколько раз она его видела издали, но в донесении составила его характеристику, услышав, что о нем говорят пьяные офицеры. Сейчас это низенький смуглый мужчина в отлично сшитом пиджаке пожирал глазами Лили.
– Вас не мучит жажда, мадмуазель? – по-французски спросил он, протягивая кружку, наполненную густым желтоватым питьем.
Хотят, чтобы ее вырвало, – сообразила Эва, – надеются таким способом заполучить шифровку.
– Спасибо, мсье, я не люблю молочного, – вежливо ответила Лили. – Не найдется ли у вас бренди? У меня был жуткий день.
Точно так она сказала в их первую встречу в Гавре. Эва вспомнила тот дождливый день, душное кафе и невероятную шляпу Лили. Воспоминание резануло ножом. Добро пожаловать в сеть Алисы.
– Отведайте, прошу вас. – Герр Роцелэр изображал хлебосольного хозяина.
Лили усмехнулась и покачала головой. Жаба ее пихнула и, ухватив за волосы, запрокинула ей голову, а полицмейстер попытался силой влить питье ей в рот. Но Лили выбила у него плошку, содержимое которой разлилось по полу. Жаба влепила Лили пощечину.
– Не надо! – Герр Роцелэр вскинул руку. – Сначала допросим обеих.
У Эвы екнуло сердце.
– Эта раззява тут ни при чем. – Лили фыркнула. – Говорю же, я высмотрела ее в очереди и стянула у нее пропуск.
Сквозь оконце полицмейстер глянул на Эву, скорчившуюся в углу.
– Приведите ее.
Жаба вошла в комнату, схватила Эву за руку и втащила в каморку. Эва рухнула на колени и залилась слезами, икая и подвывая. Истерика далась ей удивительно легко. Внутри она была абсолютно спокойна и как будто наблюдала за собой со стороны. Краем глаза она видела маленькие босые ступни Лили.
– Итак, мадмуазель… – Полицмейстер старался поймать взгляд Эвы, согнувшейся пополам. – Ле Франсуа, если это ваше настоящее имя…
– Я ее знаю, герр Роцелэр, – вмешался молодой гауптман, арестовавший девушек на перроне. Оттого-то он и решил проверить наши документы, что узнал меня? – подумала Эва. – Значит, виновата я, я… – Она живет на рю Сен-Клу. Помню, я был там с проверкой. Девица достойная.
– Маргарита Ле Франсуа… – Полицмейстер пролистал Эвин паспорт и кивнул на Лили: – Вы знакомы с этой женщиной?
– Н-н-н… – Предательское слово с металлическим вкусом тридцати сребреников никак не сходило с уст, но вот наконец Эва прошептала: – Нет.
– Да откуда ей знать меня? – досадливо воскликнула Лили. – Раньше я ее в глаза не видела! Неужели я бы стала переходить границу на пару с дурой-заикой?
Герр Роцелэр разглядывал Эву: мокрые щеки, облепленные растрепавшимися волосами, трясущиеся руки, через которые словно пропустили электрический ток.
– Куда вы ехали, мадмуазель?
– В Т-т-т-т…
– Да отвечайте же, господи боже мой!
– В Т-т-т… – Эва не притворялась – еще никогда в жизни она так не буксовала. – На п-п-причастие моей п-племямянницы… в Т-т-т…
– В Турне?
– Да, г-г-господин…
– У вас там родные?
На этот вопрос Эва отвечала еще дольше, полицмейстер раздраженно переступил с ноги на ногу. Вид Лили выражал полнейшее равнодушие, но Эва знала, что внутренне подруга натянута как струна, и легко угадывала ее мысли.
Плачь, маргаритка, реви во всю мочь.
Полицмейстер спросил еще о чем-то, но Эва зашлась истеричным рыданием, рухнула на вонявшие хлоркой половицы и заскулила, точно побитый щенок. Однако сердце ее билось ровно.
– Боже ж ты мой! – Герр Роцелэр раздраженно всплеснул руками. – Гауптман, выпишите ей новый пропуск, и пусть идет на все четыре стороны. – Он повернулся к Лили, глаза его блеснули. – А вот с вами, мадмуазель шпионка, мы поговорим. Вашим подельникам, которых мы взяли… – Он говорит о Виолетте, – поняла Эва. Гауптман помог ей встать. – …придется несладко, если вы откажетесь отвечать на вопросы.
Лили взглянула полицмейстеру в глаза:
– Вы лжете. Потому что боитесь. Вот и хорошо. Больше я ничего не скажу.
Она скользнула взглядом по Эве, и в глазах ее мелькнул огонек; потом отвернулась к стене, погрузившись в каменное молчание.
Полицмейстер схватил Лили за плечи и сильно встряхнул, отчего голова ее мотнулась, как у тряпичной куклы.
– Ты заговоришь, подлая шпионка, заговоришь…
Лили молчала. Рыдающую Эву выпроводили из комнаты. Слезы ее были неподдельны.
Гауптман прочел ей нотацию об аккуратном отношении к документам, но потом смягчился, видя, как она неуемно заливается в три ручья.
– Такой девушке здесь совсем не место, – сказал он ворчливо, приказав писарю выдать новый пропуск. – Вы вели себя глупо, мадмуазель, но я сожалею о доставленных вам неприятностях.
Эва все плакала. Лили, – билась мысль, – Лили! Будь ее воля, Эва влетела бы в каморку и перегрызла глотку Роцелэру, но сейчас стояла подле хлопотавшего гауптмана и плакала, закрыв руками лицо.
– Езжайте в Турне, к родным. – Гауптман всучил ей пропуск, явно желая сплавить ее как можно быстрее. – Ступайте.
Эва зажала бумажку в кулаке и вышла из караульного помещения, чувствуя себя Иудой.
В Турне явочная квартира была в небольшом старом доме, ничем не отличавшемся от своих соседей по улице. Эва тяжело поднялась на крыльцо и отбила условный стук. Дверь распахнулась, едва она успела опустить руку. Долю секунды капитан Кэмерон смотрел на нее, потом втянул ее в прихожую и заключил в объятия.
– Слава богу, вам хватило ума приехать! – выдохнул он. – Я боялся, вы заупрямитесь, и даже арест Виолетты на вас не подействует.
От него пахло твидом, трубочным табаком и чаем – очень по-английски. А Эва уже привыкла, что мужское объятие отдает французским одеколоном, сигаретным дымом и абсентом.
Опомнившись, Кэмерон отстранился и поправил не застегнутый воротничок рубашки. Он был без галстука, под глазами его пролегли глубокие тени.
– Добрались благополучно?
Эва судорожно вздохнула.
– Лили…
– Где она? Пытается что-нибудь разузнать о Виолетте? Она слишком рискует…
– Лили арестована! – выкрикнула Эва. Слова эти будто ударили под дых. – Она у немцев.
– Господи Иисусе! – прошептал Кэмерон, словно молясь. В единый миг он постарел лет на десять. Жестом он остановил Эву, собравшуюся продолжить рассказ: – Не здесь. Доложите официально.
Ну, конечно. Все должно быть запротоколировано, даже несчастье. Следом за Кэмероном Эва прошла в тесную гостиную, где сдвинутые к стене аляповатые столики освободили место для картотеки, плотно набитой папками; в комнате были еще два человека: худосочный секретарь в рубашке без пиджака и военный с навощенными усами – майор Джордж Аллентон, он же Усач, который некогда уведомил Эву о тюремном сроке капитана.
– Для знаменитой Луизы де Б. эта дама чересчур юна и хороша собой, – отпустил тяжеловесный комплимент майор, явно не узнав Эву.
– Не сейчас, Джордж, – оборвал его Кэмерон. Он предложил Эве стул и кивком выпроводил секретаря. Когда за тем закрылась дверь, он тяжело, точно древний старик, сел напротив Эвы. – Сеть Алисы провалена. Докладывайте.
Эва коротко рассказала, что произошло. Лицо Кэмерона посерело, но взгляд его, обращенный на Аллентона, полыхал гневом.
– Я же говорил, что оставлять их в Лилле слишком рискованно, – тихо произнес он.
Майор пожал плечами.
– На войне приходится рисковать.
Эва едва не врезала ему. Кэмерон кусал губы, сдерживая злые слова. Аллентон, не замечая их отклика, увлеченно грыз заусенец на пальце.
– Лили… – Кэмерон растер изборожденное морщинами лицо. – Хотя чему удивляться, она всегда была бесшабашной. Однако столько раз ей везло… И я решил, что так будет вечно…
– На этот раз удача ей изменила. – Эва почувствовала такую усталость, что опасалась не встать со стула. – Она и Виолетта у немцев. Хорошо бы их посадили в одну камеру. Вдвоем они всё одолеют.
Майор покачал головой.
– А как же вас-то отпустили?
– Сочли меня полоумной.
После всех театральных рыданий уже не осталось ни единой слезинки, хотя от горя душа вопила. Хотелось свернуться клубком, точно подыхающее животное. Однако надо было закончить дело. Эва дала полный отчет по Вердену, и помертвевшие глаза Кэмерона ожили. Собрав волю в кулак, он стал делать пометки. Аллентон то и дело встревал с вопросами, что очень раздражало. Вот Кэмерон всегда молча выслушивал рапорт и лишь потом уточнял детали, а майор перебивал чуть ли не на каждом слове.
– Верден, говорите?
– Да. – Эве ужасно хотелось выдрать ему навощенные усы. – Стопроцентно.
Майор окинул Кэмерона высокомерным взглядом.
– Вот почему я настаивал, чтобы эта группа продолжила работу.
– Конечно. – Капитан глубоко выдохнул. – Но теперь-то вы согласитесь, что агента нужно отозвать. Сеть Алисы подлежит ликвидации, ничего другого не остается.
– Почему это? – Аллентон глянул на Эву. – Я считаю, она должна вернуться в Лилль.
Сердце Эвы ухнуло, но она вяло кивнула.
– Вы шутите, Джордж? – У Кэмерона глаза полезли на лоб.
– Я поеду, куда прикажут, – вмешалась Эва, хотя никто ее не спрашивал. – Дело есть дело.
– Ваше задание выполнено, – сказал Кэмерон. – Вы поработали отлично, однако оставаться в Лилле чрезвычайно опасно. С арестом Лили оборваны все связи сети.
– Замена ей найдется, – возразил Аллентон. – Руководителем станет Альберт или вот она, наша весьма инициативная гостья.
– Я подам рапорт, в котором изложу свое категорическое несогласие, майор, – глухо сказал Кэмерон.
– Да речь-то о неделе-другой.
– Я буду там, сколько потребуется. – Эва переборола страх. Ужасно хотелось домой, но она не струсит, когда на карту поставлены человеческие жизни. – Вечерним поездом я вернусь в Лилль.
Кэмерон встал. На скулах его играли желваки. Он мягко взял Эву за плечо.
– Я бы хотел переговорить с мисс Гардинер наедине. Если не возражаете, майор, мы с ней перейдем наверх.
Аллентон усмехнулся. В сопровождении капитана Эва поднялась в комнату, где стояла узкая железная кровать со стопкой сложенных одеял. Кэмерон захлопнул дверь.
– Вы незвано вторгаетесь в спальню дамы? – улыбнулась Эва. – Видно, и впрямь взбудоражены.
– Да, я чертовски взбудоражен, – дрожащим шепотом сказал Кэмерон. – Ваше нежелание просить об отзыве – полная дурь. Складывается впечатление, что вы хотите погибнуть.
– Я разведчик. – Эва опустила сумку на пол. – На этой работе, случается, г-гибнут. И беспрекословно подчиняются приказам.
– Вы получили глупый приказ. Думаете, в разведке одни блестящие умы? У нас полным-полно идиотов. – Капитан яростно ткнул пальцем в сторону гостиной, где остался Аллентон. – Они неумело играют чужими жизнями, и когда в результате гибнут такие, как вы, эти умники пожимают плечами и говорят: «На войне приходится рисковать». Неужели ради такого дурака вы готовы пожертвовать собой?
– Поверьте, я хочу, чтобы все это закончилось. – Гася вспышку капитана, Эва коснулась его рукава. – Но я не желаю, чтоб меня списали вчистую. Если агента отзовут по причине нервного истощения, другого задания ему уже не получить. – Она помолчала. Кэмерон взъерошил волосы, но не возразил. – Я смогу еще чуть-чуть продержаться, а уж потом…
– Знаете, как майор откликнулся на казнь Эдит Кэвелл? – уже тише спросил Кэмерон. – Лучшего, сказал он, нельзя и желать, это разозлило всю нацию. Я не хочу злословить о коллеге, но вы должны понять: ему глубоко плевать, что и вас могут схватить. Гибель молодых разведчиц означает шумиху в газетах и подъем боевого духа в окопах. Но я не привык подвергать своих людей бессмысленному риску.
– Я рискую не бессмысленно…
– Вы хотите поквитаться за Виолетту и Лили. И ради мести готовы погибнуть. Я прекрасно понимаю ваши чувства.
– Будь я мужчиной, мое желание и дальше исполнять свой долг вы бы назвали патриотизмом. – Эва сложила руки на груди. – Когда того же хочет женщина, это самоубийство.
– Разведчик с перегоревшими нервами уже не помощник своей стране. Вас захлестывают эмоции. Уж я-то вас знаю.
– Тогда вы должны знать, что во имя долга я забываю об эмоциях. Как всякий солдат, получивший приказ. Как всякий, кто принял присягу.
– Нет, Эва. Я вам запрещаю.
Про себя Эва усмехнулась. Кэмерон выдал свои чувства, назвав ее по имени.
– Вы сообщите Аллентону, что не готовы вернуться в Лилль, – сказал капитан, оправляя манжеты рубашки. – И я переправлю вас в Фолкстон. Противно действовать за спиной начальства, но другого выхода нет. Вопрос решен.
Кэмерон шагнул к двери. Нельзя, чтобы он сошел вниз и сообщил майору о негодности агента. Эва ухватила его за руку.
– Побудь со мной, – прошептала она.
Кэмерон отпрянул, гнев его сменился полной растерянностью.
– Мисс Гардинер…
Эва просунула руку ему под рубашку и приникла губами к ложбинке между его ключиц. От него пахло мылом. Он назвал ее Эвой.
– Я должен идти, мисс Гардинер…
Капитан перехватил ее руку, нырнувшую ему под рубашку. Эва приподнялась на цыпочки и, запинаясь, прошептала на ухо:
– Не покидай меня.
Она понимала, это – запрещенный удар. Какие у него теплые руки. Эва пошла в атаку.
– Лили стоит перед глазами… Пожалуйста, не оставляй меня одну. Я не вынесу…
Это был нечестный ход, рассчитанный на джентльмена, который не бросит даму в несчастье. С Рене этот трюк никогда не прошел бы.
– Я тоже терял друзей. – Кэмерон осип. – Я понимаю, каково вам сейчас…
– Я продрогла, – шепнула Эва, перебирая волосы на его груди. Как давно она об этом мечтала! – Хочется лечь, согреться и обо всем забыть.
– Эва… – Капитан вновь отпрянул, упершись ей в грудь рукой, на которой сверкнуло обручальное кольцо. – Я не вправе…
– Прошу…
Эву полоснуло печалью, точно острым ножом. Забыться, хоть ненадолго. Она прижалась губами к губам Кэмерона.
– Я не вправе воспользоваться твоим состоянием… – пробормотал он.
– Я хочу забыться… Помоги мне, Сесил…
И он сдался. Оборона его рухнула, точно взорванная стена. Глухо застонав, капитан привлек к себе Эву, и они слились в поцелуе. Не давая ему опомниться, Эва потянула его к кровати и стала расстегивать его рубашку. Она сознавала, что поступает подло. Все это ради того, чтобы он не помешал ей вернуться в Лилль. Хотя наряду с расчетом было и желание, ибо достовернее всего ложь, замешанная на правде. А правда в том, что она хотела Кэмерона с тех самых пор, как в конторской заике он разглядел шпионку.
– Господи, Эва… – Кэмерон зажмурился, когда, сняв с нее блузку и сорочку, увидел на ее руках синяки, оставленные немецким конвоиром. – Сволочи поганые… – Целуя каждый синяк, он гладил ее выступающие ребра и бормотал: – Какая ты худенькая… бедная моя, храбрая девочка…
Эва обвила его ногами и приняла всего без остатка. Наверное, стоило изобразить девственницу, застенчивую и неуклюжую. Это было бы разумно, но сейчас ложь нестерпима. Она не притворялась под мраморной тяжестью прохладного тела Рене и не станет притворяться перед этим долговязым мужчиной с веснушчатыми плечами, который, целуясь, закрывает глаза. Отринув все мысли, Эва нырнула в любовный омут и пришла в себя, когда уже тихонько плакала в объятиях Кэмерона.
– Я понимаю тебя, – негромко сказал он, поглаживая ее по голове. – Правда, понимаю. И у меня так было, что дорогой мне человек оказывался в лапах врага.
Эва приподняла голову, роняя слезы.
– Кто?
– Ну вот, Леон Трулен… Ему еще не было и девятнадцати… Его отвели ко рву и расстреляли… Были и другие. – Кэмерон провел рукой по своим волосам в сильной проседи. – Я так и не смог привыкнуть. Грязная у нас работа.
Верно, грязная, и она впереди, но пока об этом лучше ненадолго забыть. Эва прижалась к Кэмерону, влажные ресницы ее защекотали ему щеку.
– У тебя есть чай? Последнее время я пила только отвар из листьев грецкого ореха.
Капитан улыбнулся, сразу помолодев. Эва знала, что позже он станет терзаться своим поступком (близость с подчиненной! супружеская измена!), но пока он был счастлив.
– Есть. И чай, и даже настоящий сахар.
Эва простонала и пихнула его из кровати.
– Завари поскорее!
Кэмерон натянул брюки и босиком прошлепал по половицам. Все это сильно отличалось от привычной картины, когда Рене надевал парчовый халат, закуривал сигарету и начинал болтать, а Эва систематизировала и запоминала услышанное… В эту минуту думать о Борделоне было особенно противно. Эва приняла кружку с чаем, отхлебнула и опять застонала:
– Ой, сейчас умру!
А что, было бы совсем неплохо умереть в постели с Кэмероном. И тогда уже не надо возвращаться в Лилль, думать о задании, красться, как тать в ночи… Эва отогнала эти мысли, но Кэмерон что-то подметил.
– О чем ты думаешь? – Он заправил ей свесившуюся прядь за ухо.
Эва прихлебнула чай.
– Так, ни о чем.
Кэмерон погладил ее по шее.
– Эва… кто он?
Она не стала притворяться, будто не поняла. Невинная девушка, которую капитан провожал на фолкстонском причале, сгинула, нынче ему отдалась страстная женщина.
– Никто, – равнодушно сказала Эва. – Просто человек, который в постели выбалтывает полезную информацию.
– Борделон? – чуть слышно спросил капитан.
Эва кивнула. Она не смела поднять взгляд, сердце стучало в горле. Кэмерон читал ее донесения и знает, кто такой Рене. Наверное, он гадливо отшатнется…
Ну и ладно. Работа есть работа.
– С этим покончено. – Капитан поставил кружку на пол и крепко обнял Эву. – Утром я увезу тебя в Фолкстон. Ты его больше никогда не увидишь.
Он явно считал, что вопрос об отзыве из Лилля решен окончательно. На секунду Эва уступила соблазну оказаться дома, в безопасной Англии. Где будет чай!
Потом вздохнула и, тоже поставив кружку, прижалась щекой к плечу Кэмерона. Он хотел встать, но Эва опрокинула его в постель. Они снова любили друг друга, нежно и медленно. Эва глушила свои крики, закусив подушку. Но вот обессиленный капитан провалился в сон. Дождавшись, когда дыхание его станет ровным, Эва бесшумно слезла с кровати и оделась. Простит ли он меня когда-нибудь? – с горечью подумала она, бросив прощальный взгляд. – Наверное, нет. И полюбить меня не сможет. А вот я его люблю, уж точно. Эва поправила светлую прядь, упавшую на его лоб; капитан хмурился, словно даже во сне был чем-то встревожен.
Майор Аллентон усмехнулся, когда она появилась в гостиной. Он, конечно, догадался, что происходило наверху. Эве было все равно. Шлюха она или нет, майор настроен отправить ее обратно.
– Мне нужен пропуск, – без предисловий сказала Эва. – Я готова вернуться в Лилль.
Аллентон удивился.
– А я думал, Кэмерон убедит вас не подчиняться приказу. Он тот еще гусь. Ничего странного – когда так долго копаешься в грязном белье вроде шпионажа, коварство становится второй натурой.
Он брезгливо поморщился. С Рене Эва столь поднаторела в чтении мыслей по лицу, что майор был для нее открытой книгой. Оставалось лишь выбрать нужный абзац.
– Вы старше чином, сэр. – Эва опустила глаза. – Разумеется, я подчинюсь вашему приказу. Раз вы говорите, нужно вернуться, я в-в-возвращаюсь в Лилль.
– А вы и впрямь молодчина. – Довольный, майор потянулся за перьевой ручкой. За окном смеркалось, под светом тусклой лампы темные пятна на выцветших обоях выступили отчетливее. – Теперь я понимаю, что в вас нашел Кэмерон. – Взгляд майора ощупал Эву. – Он лезет на стену от беспокойства за всю агентуру в юбках, но вы для него что-то особенное.
Эву кольнула радость, смешанная с виной – теперь у капитана вновь будет повод тревожиться о ней.
– Пропуск, сэр, – напомнила она.
Время не ждет. Не дай бог, Кэмерон проснется, и тогда – новый виток дебатов. Лучше поторопиться.
Майор взялся подделывать пропуск.
– Могу спорить, Кэмерон не говорил вам, какая у него агентурная кличка?
От подобной дури Эва чуть не закатила глаза. Слава богу, Аллентон – не оперативник. Выведать у него информацию – все равно что выманить конфету у ребенка. Ты и вправду идиот, – хотела сказать Эва, но, сдержавшись, подала ожидаемую реплику:
– Нет, не говорил. И какая же?
Вручая ей пропуск, майор осклабился:
– Эвелин.
Глава двадцать седьмая
Чарли
Май 1947
Наступил второй вечер, как я узнала, что Розы нет на свете. Я опять боялась увидеть ее во сне, однако больше не хотела напиваться до бесчувствия. Голову только-только отпустило.
Уже подошло время ужина с Эвой и Финном, а я все перебирала одежду, выискивая что-нибудь чистое. После Орадур-сюр-Глана было не до стирки, и у меня осталось только черное платье, которое я выторговала у хозяйки парижской комиссионки. Прямое и строгое, с высоким воротом и открытой спиной, оно не скрывало, но лишь подчеркивало мою угловатость. Шикарно! – услышала я Розин смех и крепко зажмурилась, ибо именно это она сказала, когда мы, маленькие, забрались в гардеробную ее матери и стали примерять вечерние платья. Роза нарядилась в платье из черной тафты от Скиапарелли – длинный шлейф, осыпающиеся блестки по корсажу, а я влезла в атласные туфли, для меня слишком большие.
Стряхнув воспоминание, я посмотрела на свое колеблющееся отражение в зеркале. Роза одобрила бы мое черное платье, – решила я и сошла вниз.
Ужинали мы в соседнем кафе, уютном и очень французском: красные маркизы, клетчатые скатерти. Играло радио, и пела, конечно, Эдит Пиаф. Песня называлась «Три колокола». Звонили ли колокола в Орадур-сюр-Глан, когда женщин и детей загоняли в церковь, – подумала я…
Эва и Финн сидели за дальним столиком; Эва помахала мне искалеченной рукой, и я пошла к ним, лавируя меж официантов с подносами.
– Привет, америкашка. Финн говорит, вы познакомились с майором Аллентоном. Тот еще подарочек, а?
– Усатый болван.
– Однажды я чуть не выдрала ему усищи. – Эва покачала головой, ковыряя корочку багета. – Теперь жалею, что сдержалась.
Закинув руку за спинку стула, Финн молчал, но я поняла, что он отметил мое черное платье. Я вспомнила наше совместное похмельное пробуждение и посмотрела на него, но он отвел взгляд.
– Финн рассказал о вашей поездке. – Эва глаз не прятала. – И про твою кузину.
Городок, затерянный в долине, – выпевала Эдит Пиаф. Я ждала, что сейчас Эва скажет: «Ну что я говорила? С самого начала я знала, что затея зряшная».
– Сочувствую тебе, – сказала Эва. – Проку от этого мало, когда теряешь близкого человека, но я тебе сочувствую.
Я разжала стиснутые зубы.
– Розы нет. И что… – Я запнулась, но продолжила: – теперь?
– Я по-прежнему разыскиваю Рене Борделона, – ответила Эва.
– Удачи вам.
Я отломила кусок булки. Финн молча крутил свой стакан.
Эва сказала:
– Я думала, и ты хочешь его найти.
– Только затем, чтоб он вывел к Розе.
Эва выдохнула. Она пока лишь ополовинила свой бокал, взгляд ее был задумчив и ясен.
– Возможно, охота за ним тебя увлечет. Засранец Аллентон рассказал кое-что любопытное.
– Зачем он вам сдался, этот Рене? – Я откинулась на стуле. – Да, он был барыга, вы за ним шпионили. – Вокруг сновали официанты, и я не стала упоминать, что ради информации Эва с ним спала, забеременела от него и сделала аборт. – Сейчас он старик, и что уж такого он натворил, чтобы устраивать на него травлю с собаками?
Глаза Эвы сверкнули.
– Того, что он сделал, мало?
– Мало. А за что вы получили награды – Военный крест, орден Британской империи? – Я сверлила ее взглядом. – Пора играть в открытую, Эва. Хватит ходить вокруг да около.
Финн резко встал и пошел к бару.
– Он не в духе. – Эва смотрела, как водитель ее пробивается сквозь людскую толчею. – Наверное, ваша поездка что-то в нем разбередила. – Она перевела взгляд на меня. – Что, кишка тонка, америкашка?
– Чего?
– Хочу понять. Кузина твоя погибла, и теперь ты отправишься домой вязать пинетки? Или готова на что-нибудь интереснее?
Вопрос этот перекликался с мучившей меня мыслью: что дальше, Чарли Сент-Клэр?
– Откуда мне знать, на что я готова, если вы не говорите ради чего все это?
– Ради друга, – просто сказала Эва. – Светловолосой женщины, обладавшей лучезарной улыбкой и невиданной отвагой.
Она о Розе? – подумала я.
– Ее звали Лили. – Эва улыбнулась. – А также Луиза де Беттиньи, Алиса Дюбуа и бог знает как еще. Но для меня она навеки Лили. Мой самый лучший друг.
Лили. Значит, и у нее была своя Роза.
– Прямо цветник, – сказала я.
– Женщины-цветы делятся на два вида. Одни только и могут что стоять в красивой вазе, другие выживут в любых условиях, даже во зле. Лили принадлежала ко второму виду. А ты к какому?
Хотелось думать, что и я из того же вида. Но зло не проверяло меня на прочность (хм, мелодраматично), как Эву, Розу или неведомую Лили. Я со злом не сталкивалась, в моей жизни были только печаль, неудача и ошибочный выбор. Я пробурчала что-то невнятное и поспешила продолжить свои расспросы.
– Вы ничего не говорили о своем друге военной поры. Никогда. А кто она? И почему так важна для вас?
Эва поведала о встрече с Лили в Гавре. Я будто услышала добродушно-ироничное приветствие: «Добро пожаловать в сеть Алисы!» Я будто увидела цепочку рук и три пары глаз, впившихся в поезд кайзера. Я вообразила пролитые слезы, утешения, арест. Лили предстала как живая, она очень походила на Розу, доживи та до тридцати пяти лет.
– Ваша подруга – нечто особенное, – сказал Финн, когда Эва смолкла. Во время рассказа он вернулся с бутылкой пива, но так к ней и не притронулся. Судя по его удивленному лицу, он тоже впервые слышал эти истории. – Выглядит настоящим бойцом.
Эва залпом опорожнила свой стакан.
– О да. Лили прозвали королевой шпионажа. Никакие другие агентурные сети не могли сравниться с ее сетью, покрывавшей фронт протяженностью в десятки километров. И все нити сходились к одной маленькой женщине… Высокое начальство сильно пригорюнилось, когда ее взяли. Оно понимало, что теперь уже не получит столь важной информации. – Эва невесело усмехнулась. – И не получило.
Роза и я, Финн и его цыганочка, Эва и Лили. Выходит, нас троих преследовали призраки женщин, сгинувших в военное лихолетье. Хотя Лили, возможно, жива? Я хотела спросить, что с ней стало, но Эва, не сводя с меня взгляда, заговорила вновь:
– Тридцать с лишним лет я ковыряла рану, полученную в Лилле. Поверь, америкашка, не надо скорбеть вечно. Иначе не заметишь, как пролетят годы. Отдайся горю – расколошмать мебель, напейся, трахнись с матросом, а потом живи дальше. Как ни крути, Роза умерла, а ты – живая. – Эва встала. – Дай знать, если решишь, что и ты из цветов зла. Тогда я объясню, зачем тебе вместе со мной искать Рене Борделона.
– А без этой вашей таинственности никак нельзя? – прошипела я, но Эва, отставив пустой стакан, пошла к выходу.
Я смотрела ей вслед, в душе моей бурлили досада и боль, как две сливающиеся реки. Что дальше, Чарли Сент-Клэр?
– Королева шпионажа… Луиза де Беттиньи… – Финн наморщил лоб. – Кажется, я о ней слышал. В газетах что-то писали о военных героинях…
Он замолчал, вновь погружаясь в мрачную напряженность, из которой на время его извлек рассказ Эвы.
– Что с тобой, Финн?
– Ничего. – Отвернувшись от меня, он смотрел на освобожденную от столов площадку, где в танце уже покачивались пары. – Мое обычное состояние.
– Неправда.
– Как демобилизовался, я все время такой.
Мой брат замыкался и мрачнел, когда его начинали расспрашивать про войну. И если собеседник не отставал, Джеймс матерился и уходил прочь. В такие моменты я его боялась, а теперь вот жалела, что ни разу не пошла за ним и не взяла его за руку. Просто чтобы он знал, что я рядом, люблю его и понимаю, как ему больно. Все это дошло до меня, когда было уже слишком поздно.
Глядя на отчужденное лицо Финна, я хотела сказать, мол, сейчас-то еще не поздно, но чувствовала, что словами к нему не пробиться, а потому лишь накрыла ладонью его руку.
Финн ее отдернул.
– Я справлюсь.
А это возможно? – подумала я, глянув на пустой Эвин стул. Нашу троицу преследовали мучительные воспоминания о двух войнах, и, похоже, никому из нас не удалось с ними справиться. Как там сказала Эва – отдайся горю? Наверное, главное – хотя бы попытаться его одолеть. Иначе не заметишь, как промелькнут тридцать скорбных лет.
По радио пела Эдит Пиаф. Я встала.
– Потанцуем?
– Не хочу.
Да и мне-то не хотелось. Ноги были как свинцовые. Но Роза любила танцевать. И Джеймс тоже – помню, как накануне отправки флотских новобранцев я неуклюже отплясывала с ним буги-вуги. Сейчас они бы пошли танцевать. И я через силу сделаю это за них.
Я подошла к площадке, и веселый француз втянул меня в танцующую толпу. Я танцевала с ним, потом с его приятелем, не слушая любезности, которые они нашептывали мне на ухо. Я закрыла глаза и двигалась под музыку, стараясь… Нет, не забыть о нависшей туче горя, но хотя бы жить под ней. Пусть сейчас у меня ватные ноги, но, может, когда-нибудь я выберусь к ясному небу.
Сменялись мелодии, и я танцевала, Финн поглядывал на меня, нахохлившись над бутылкой пива. И если б не цыганка, все, наверное, было бы хорошо.
Я отошла в сторонку поправить развязавшийся шнурок, Финн, не допив свое пиво, встал из-за стола, и мы одновременно увидели смуглую старуху в линялом цветастом платке и яркой юбке, которая вошла в кафе, таща за собой тележку. Может, это была не цыганка – откуда мне знать, как выглядят настоящие цыгане? Сложив ладонь горстью, старуха что-то прошамкала, и тут на нее ястребом налетел хозяин кафе.
– Не попрошайничать! – Он толкнул ее и скривился, точно увидел крысу в своей кухне. – Пошла отсюда!
Старуха, явно привычная к такому обращению, вышла на улицу. Хозяин отер руки о фартук.
– Сволота цыганская, – пробурчал он. – Сослать бы их всех к чертовой матери!
Увидев перекошенное бешенством лицо Финна, я кинулась к нему, но не успела. Он грохнул бутылкой о стол, разнеся ее вдребезги, в два прыжка подскочил к опешившему хозяину, схватил его за грудки и мощным джебом сбил с ног.
– Финн!
Мой крик потонул в звоне разбитой посуды – падая, хозяин свалил столик. Финн пинком перевернул его на спину и, присев, прижал коленом к полу.
– Ты… говно… собачье… – раздельно произнес он, сопровождая резким ударом каждое слово.
Звук был такой, словно на столешнице отбивали мясо.
– Финн!
Сердце мое засбоило. Расталкивая перепуганных женщин и мужчин с салфетками на шее, я кинулась к Финну, но меня опередил официант, схвативший его за руку. Финн впечатал кулак ему в лицо, из расквашенного носа официанта брызнула кровь, яркими пятнами украшая упавшую скатерть. Парень попятился, и Финн вновь занялся хозяином. Тот вопил, пытаясь прикрыться руками.
Меня оттаскивали вшестером, когда я бил его головой о дверной косяк. Слава богу, успели оттащить, прежде чем я раскроил ему череп, – так рассказывал Финн о драке, из-за которой угодил в тюрьму.
Пусть нынче я одна, но никто никому не раскроит череп. Что было мочи, я вцепилась в плечо Финна, твердое, как валун.
– Финн, прекрати!
Он развернулся и врезал непрошеному миротворцу. В последний момент Финн увидел, что это я, но остановить свой кулак уже не успел. Жесткий удар пришелся мне в подбородок. Схватившись за лицо, я опрокинулась навзничь.
Финн побелел, как мертвец, и уронил руку.
– О, господи… – Он вскочил, забыв об окровавленном хозяине. – Боже мой, Чарли…
– Все в порядке. – Я потрогала разбитую губу. Пустяки, главное – он оставил в покое хозяина, с лица его исчезла гримаса слепого бешенства. Сердце мое стучало, как после сумасшедшего бега. Я встала и шагнула к нему. – Ничего страшного.
Финн вздрогнул. В глазах его стоял ужас.
– Боже мой… – вновь прошептал он и, растолкав ошалевших посетителей, опрометью выскочил из кафе.
Официанты помогли подняться избитому хозяину, а я, даже не взглянув на него, бросилась вдогонку за Финном, который, пробежав мимо гостиницы, скрылся на парковке. За рядами «пежо» и «ситроенов» я разглядела длинный силуэт «лагонды». Финн был на заднем сиденье, как в тот наш ночной разговор в Рубе. Он склонился к коленям и увидел меня, лишь когда я открыла дверцу и уселась с ним рядом.
– Уйди, – глухо произнес он.
Я взяла его за руку. Костяшки были ободраны до крови.
– Ты поранился…
Носового платка у меня не было, и я осторожно накрыла ссадины ладонью. Финн отнял руку и взъерошил волосы.
– Надо было размозжить башку этому говнюку.
– И ты снова очутился бы в тюрьме.
– Туда мне и дорога. – Финн сгорбился, обхватив руками голову. – Я тебя ударил, Чарли.
Я потрогала губу, кровь уже не шла.
– Ты же не видел, кто тебя схватил. А разглядев меня, хотел остановиться…
– И все равно ударил. – Взгляд его полнился виной и злостью. – Ты не дала мне его убить, а я тебе вмазал. Зачем ты здесь, Чарли? Сидишь рядом с такой сволочью.
– Ты не сволочь, Финн. Ты в раздрызге, но вовсе не сволочь.
– Да что ты знаешь…
– Я знаю, что мой брат не был сволочью, хотя молотил кулаками в стену, орал матом и боялся толпы! Он надломился. Как ты. Как Эва. Как я, когда забила на учебу и либо рыдала в кровати, либо трахалась с противными мне парнями. – Я не сводила глаз с Финна, стараясь, чтобы он меня понял. – Но ведь то, что сломано, можно поправить.
Я очень хотела ему помочь. Залечить его раны, чего не сумела сделать для Джеймса. И для родителей, безумно по нему горевавших.
– Тебе здесь не место, – прохрипел Финн. Плечи его напряглись. – Поезжай домой. Роди чадо и живи своей жизнью. Ничего хорошего не выйдет, если будешь болтаться с калеками вроде Гардинер и меня.
– Никуда я не поеду.
Я потянулась к его руке. Финн ее убрал.
– Не надо.
– Почему?
Прошлой ночью мы сидели плечом к плечу и пили виски, потом я положила голову ему на колени, он перебирал мои волосы, и в том не было никакой неловкости. А сейчас он весь ощетинился, между нами возникло осязаемое напряжение.
– Вали из машины, Чарли.
– Почему? – повторила я.
Черта лысого я отступлю.
– Потому что в моем состоянии можно только пить, махать кулаками и трахаться. – Глядя перед собой, Финн говорил ровно и зло. – Первым я занимался вчера, вторым – двадцать минут назад. И сейчас мне хочется одного – сорвать с тебя это черное платье. – Он ожег меня взглядом. – Так что уходи подобру-поздорову.
Если уйти, он так и просидит здесь всю ночь, снедаемый виной, злостью и воспоминанием о мертвой цыганочке.
– Как ни крути, она умерла, а ты – живой, – повторила я Эвины слова. – Мы оба живые.
Я притянула его к себе, запустив пальцы ему в волосы.
Губы наши соединились намертво и не разомкнулись, даже когда Финн меня приподнял и верхом усадил себе на колени. Щеки наши были мокры от слез. Финн сдернул бретельки платья с моих плеч, я так рванула его рубашку, что брызнули пуговицы. Мы срывали друг с друга одежду, и нам было все равно, что кто-нибудь нас может увидеть через окно машины. На пути в Орадур наш поцелуй был невероятно нежен, а сейчас Финн буквально впился в нежную плоть меж моих грудей, щекоча меня ресницами. Я прижалась щекой к его волосам и стала расстегивать ремень его брюк. Финн меня обнял и замер, загнанно дыша.
– Господи, Чарли… – пробормотал он невнятно. – Я представлял себе это совсем по-другому.
Пусть не было роз, свечей и проникновенных мелодий. Но нам обоим было нужно то, что происходило здесь и сейчас. Еще одной ночи бесчувствия, боли и желания небытия я бы не выдержала. И я не дам пропасть Финну. Не отпущу его, как других, кого потеряла, не сумев помочь.
– Возьми меня… – прошептала я, едва переводя дух. – Возьми…
Я стянула платье, Финн сбросил рубашку и брюки на пол, и мы повалились на сиденье.
Раньше в такие моменты я всегда думала о чем-то постороннем. И уже перестала ждать каких-либо ощущений, кроме разочарования, что простейшее на свете уравнение – мужчина плюс женщина – в итоге вечно дает ноль. Но не в этот раз. Мельтешня рук и ног, скрип кожаного сиденья и тяжелое дыхание ничем не отличались от прежних моих опытов, но я была совсем другая. Я горела, таяла и содрогалась от желания. Трясло и Финна. Он лег сверху, губы его находили мои шею, уши, груди, словно он хотел поглотить меня всю. На секунду пальцы его так вцепились в мои волосы, что у меня искры посыпались из глаз. Я обняла его и, распахнув бедра, крепко-накрепко прижала к себе, точно стараясь с ним слиться воедино. Хотелось невозможного – чтобы наши разгоряченные тела были еще теснее друг к другу. Кажется, я кричала и царапала ему спину, отдаваясь бешеному ритму. Было жарко, потно, грубо – хорошо. По-живому. Когда нас обоих пробило финальной судорогой, я ощутила на своей щеке слезу.
Не знаю, кто из нас ее обронил. Это не важно. Главное, она не была каплей, упавшей из тучи горя.
Глава двадцать восьмая
Эва
Октябрь 1915
Если уж арест неизбежен, самый подходящий для него день – воскресенье, когда закрыта даже декадентская «Лета». Отпрашиваться с работы не пришлось, вечером Эва вернулась в Лилль.
– Маленькая удача, – проговорила она вслух, выдохнув облачко пара.
В выстуженной комнате ничего не изменилось – узкая кровать, в углу саквояж с двойным дном, в котором был спрятан «люгер», – но она казалась опустевшей. Уже не протопают тяжелые башмаки Виолетты, костерящей безрассудных проводников. Уже не впорхнет Лили с рассказом о том, как на пропускном пункте она подкупила часового контрабандной колбасой. Эва оглядела унылую комнатку, вспомнила вечера с подругой и едва не захлебнулась в накрывшей ее волне отчаяния. У нее задание, и она его выполнит, но мгновений радости больше не будет. Впереди работа в «Лете» и ночи в постели Борделона. Отныне она единственная обитательница этой комнаты.
Разве что появится Антуан, – подумала Эва. – Можно разработать новую схему действий. Флегматичный Антуан знал контакты сети, для которой изготавливал фальшивые документы, и мог бы заменить Лили. Надо что-нибудь придумать. Эва сдалась усталости и, не снимая пальто, легла. Весь день она ничего не ела, и ее замутило, но не от голода, а от мысли о завтрашней неизбежной встрече с Борделоном. Почудился запах его дорогого одеколона. Эва уткнулась в подушку, стараясь вспомнить аромат чая и шершавость английского твида.
– Кэмерон… – прошептала она, на миг ощутив мягкость его волос и нежное прикосновение губ. Наверное, он сожалеет о том, что было сегодня. И проклинает ее за то, что сбежала от него сонного. Но, может быть…
Измученная переживаниями этого дня – ужас ареста, любовное томление, – Эва ухнула в темную бездну сна.
Утро выдалось холодным и ясным. К вечеру Эва, по глаза укутавшись шарфом, отправилась на работу. Обычно к ее приходу в ресторане уже кипела жизнь: официанты стелили скатерти и раскладывали столовое серебро, в кухне гремели посудой и переругивались повара. Однако сегодня зал был темен, а кухня тиха. Озадаченная, Эва медленно расстегнула пальто. На входе не было никаких объявлений, да и Рене, жадный до выручки, просто так не закрыл бы ресторан. И тут сверху донесся его голос:
– Это ты, Маргарита?
Возник соблазн притвориться, что она ничего не слышала, и выскользнуть на холодную улицу. Нервы подали сигнал тревоги, но сбежать нельзя – навлечешь подозрения.
– Я, – откликнулась Эва.
– Поднимайся.
В ярко освещенном кабинете шторы на окнах были задернуты. По комнате, застеленной узорчатым ковром, разливал тепло зажженный камин, на стенах играли цветные блики изделий от Тиффани. С книгой в руках Борделон расположился в кресле, подле него стоял бокал бордо.
– А, вот и ты, дорогуша, – сказал Рене.
Эва изобразила озадаченность.
– Ресторан не откроется?
– Сегодня нет. – Борделон пометил страницу вышитой шелковой закладкой и отложил книгу в сторону. Улыбка его была приветливой, но Эва почувствовала, как по спине ее пробежал холодок. – Я приготовил тебе сюрприз.
Беги, – шепнул внутренний голос.
– Правда? – Заложив руки за спину, Эва нащупала дверную ручку. – Новая поездка в выходные? Вы говорили, что хотели бы отправиться в Г-грасс…
– Нет, сюрприз иного рода. – Борделон неспешно прихлебнул вино. – Теперь ты удивишь меня.
Эва крепко ухватила ручку. Рывок – и она на свободе.
– Вот как?
– Да.
Из щели меж сиденьем и подлокотником кресла Рене достал пистолет. На Эву смотрел девятимиллиметровый «люгер», в точности как ее собственный. С такого расстояния меня уложат, прежде чем я приоткрою дверь, – подумала Эва.
– Садись, дорогуша. – Борделон кивнул на стул.
Усаживаясь, Эва заметила и узнала крохотную царапину на стволе, которую всякий раз пыталась зашлифовать, когда чистила пистолет. Это был ее «люгер». Она вдруг вспомнила, как вчера ей почудился запах французского одеколона в ее комнате, и страх сшиб ее, словно грохочущий товарняк.
Борделон обыскал ее квартиру. И нашел пистолет. Что еще он знает?
– Поведай мне, Маргарита Ле Франсуа, – начал Борделон таким тоном, словно изготовился к своему любимому рассуждению об искусстве, – кто ты на самом деле.
– Почему вы мне не верите? – Эва заикалась и дрожащей рукой терла глаза, призвав на помощь весь арсенал растерянной простодушной девицы. – Это пистолет моего отца. Я держала его при себе, наслушавшись историй о том, что немцы вытворяют с французскими девушками…
Рене буравил ее взглядом.
– Тебя задержали вместе с женщиной, у которой были шесть разных паспортов. Что у тебя общего с явной шпионкой?
– Мы незнакомы! Разговорились на вокзале, она забыла п-пропуск дома. Я предложила ей свой. – Слова опережали мысли, Эва судорожно цеплялась за любую мало-мальски достоверную отговорку. Она и подумать не могла, что Борделон узнает об ее аресте. Чистая случайность – приятель-немец, рассказывая ему о задержании шпионки, походя упомянул заику по имени Маргарита. Придурковатая девица оказалась ни при чем, ее отпустили.
Не всплыви ее имя, Борделон так и остался бы в полном неведении. Но оно всплыло, у него тотчас возникли подозрения, и он отправился к ней на квартиру, где нашел только «люгер», – дома Эва не хранила шифры и донесения. Но и пистолета было достаточно, чтобы состоялась эта сцена допроса.
– Ты, моя милая, не такая дура, чтобы отдать свой пропуск незнакомке, – покачал головой Рене.
– А что в том плохого? – Эва безуспешно пыталась выжать из себя хоть слезинку.
Но после вчерашней истерики перед полицмейстером и плача по Лили глаза были сухи, как пустыня. Взамен она опустила взгляд и сказала себе: Ты выкарабкаешься. Сумеешь.
Однако Рене не опустил пистолет и не сводил с нее глаз.
– Как ты вообще оказалась на вокзале? Где ты была вчера?
– Ездила в Т-т-турне на первое причастие племянницы.
– Ты не говорила о родне в Бельгии.
– Так вы и не с-спрашивали!
– Ты вправду заикаешься? Или только прикидываешься дурочкой? Весьма хитрый ход.
– Конечно, вправду! Думаете, мне это нравится? – крикнула Эва. – Я не ш-шпионка! Что такого подозрительного вы нашли в моей комнате?
– Вот это. – Борделон постучал стволом пистолета о резной подлокотник. – Почему ты его не сдала? Немцы запрещают населению иметь оружие.
– Я не смогла с ним расстаться. Это пистолет м-м-моего…
– Прекрати заикаться! – вдруг рявкнул Борделон, и Эва вздрогнула непритворно. – За дурака меня держишь?
Вот чего он боится всерьез – выставить себя дураком, – подумала Эва. – Наверное, вспоминает, о чем болтал в постели? Или прикидывает, что с ним будет, после того как немцы узнают о его любовнице, сливавшей военные секреты англичанам? Пожалуй, первое для него страшнее. Плевать он хотел на расположение немцев, тут задета его гордость. Он привык считать себя умнее всех, и ему невыносима мысль, что какая-то сопливая девчонка обвела его вокруг пальца.
К несчастью, сейчас Эва не чувствовала себя хитрой и умной. Все подавил страх.
Ты выкарабкаешься, – мысленно повторила она, ибо о других вариантах не хотелось и думать. Но что потом? Даже если она убедит Рене в своей невиновности, с «Летой» все кончено. И с Лиллем тоже, невзирая на приказ Аллентона. Это провал. Но если удастся бежать, ее, возможно, направят в другое место. Мелькнула еще одна сладкая мысль: больше никогда не будет постели с Борделоном.
Видимо, глаза ее вспыхнули, ибо Рене резко подался вперед.
– О чем ты думаешь? Почему ты…
Он был совсем близко. Эва хлестко ударила ногой по стволу «люгера», хотя еще секунду назад не собиралась этого делать. Удар вышел скользящим, однако пистолет отлетел к камину. Подбирать его было некогда, Эва кинулась к двери. Если удастся выскочить из ресторана, есть шанс затеряться на городских улицах. Вокзал отпадает, но можно пешком перейти бельгийскую границу. Мысли эти градинами простучали в голове, пока ноги несли ее по роскошному ковру. Эва ухватилась за дверную ручку, отдраенную до ослепительного блеска. Ты выберешься.
Но и Рене не тратил времени на пистолет. Он тоже бросился к двери, бюст Бодлера описал в воздухе короткую дугу и с силой обрушился на пальцы Эвы.
Звучно хрустнули раздробленные фаланги, руку ожгло дикой болью. Эва рухнула на колени, хватая ртом воздух. Перед лицом ее покачивался мраморный бюст, сияющие туфли Рене переместились ближе к двери.
– Твою душу мать… – сквозь стиснутые зубы простонала Эва, подхватив раненую руку.
Лишь услышав, как осеклось тяжелое дыхание Борделона, она сообразила, что невольно выругалась по-английски. Рене присел на корточки, теперь их лица были на одном уровне, и в глазах его читались страх, сомнение и безумная ярость.
– Ты шпионка, – выдохнул он.
В голосе его сомнения уже не слышалось.
Вот так. Она выдала себя с головой. Так долго этого боялась, а все вышло до смешного просто. Наверное, дело в том, что она понимала: нынче ей не обмануть Борделона. Тогда почему не сознаться?
Рене взял ее за горло, длинные пальцы его почти сошлись на ее шее. В другой руке он все еще держал мраморный бюст, которым в любую секунду мог проломить ей висок.
– Кто ты?
В жесткой хватке Эва задыхалась. Она стиснула зубы, не позволив вырваться зревшему крику, и выдавила кривую ухмылку. Не пытаясь высвободиться, посмотрела мучителю прямо в глаза. Наконец-то можно не притворяться пугливой дурочкой.
Вероятно, в этой теплой роскошной комнате она и умрет. Однако перед тем скажет, как лихо облапошила ее хозяина. Пусть это глупо, по-детски, но удержу ей нет.
– Меня зовут Эва, – выговорила она, слова скользили, точно шелк. – Я – Эва, а не дурацкая Маргарита. Да, я шпионка.
Борделон застыл. Эва перешла на немецкий:
– Знай, трусливый барыга, я свободно говорю по-немецки и все это время слушала разговоры твоих драгоценных клиентов.
В глазах Борделона отразились ужас, неверие, злость. Эва опять усмехнулась и закончила по-французски:
– Я не вымолвлю ни слова о своей работе, о моих товарищах и о женщине, вместе с которой меня арестовали. Но вот что я скажу, Рене Борделон. Ты наивный дурак. И паршивый любовник. А я ненавижу Бодлера.
Глава двадцать девятая
Чарли
Май 1947
– Ступай в гостиницу, Чарли. Тебе надо поспать. – В полутьме Финн застегивал рубашку, избегая моего взгляда. Все мое существо еще жило тем, что только что произошло, а я думала, как сказать, что так хорошо мне никогда и ни с кем не было. Но Финн, поняла я, опять укрылся за непробиваемой стеной. – Иди в кровать, голубушка.
– Я не оставлю тебя наедине с твоими мыслями, – тихо сказала я.
Отныне я не допущу, чтоб дорогой мне человек в одиночку сражался со своими демонами.
– Все нормально. Я загляну в кафе. Перед кое-кем надо извиниться.
Похоже, он и вправду приходил в себя. Я кивнула. Мы выбрались из машины и посмотрели друг на друга. Казалось, Финн хочет что-то сказать, но взгляд его упал на мою разбитую губу, и он только поморщился.
– Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
И вот одна в неуютном гостиничном номере я лежала в постели, но не могла уснуть. Сквозь жалюзи проникали желтоватый свет фонарей и приглушенный шум редких машин. Я поглаживала свой живот. С тех пор как я решила не ехать в Веве, Маленькая Неурядица присмирела. Наверное, решила, что теперь можно успокоиться и расти себе расти, пока не придет время выбираться на свет божий. И вот тогда-то она поймет, что свет этот холоден, а матушка весьма слабо представляет, как обустроить ей хорошую жизнь. Ведь до поездки в Орадур я жила фантазией, сочинив уравнение, в котором Чарли плюс Роза чудодейственно равнялось счастливому будущему.
Однако ниточка надежды печально оборвалась.
– Прости, малышка, – ласково сказала я животу. – Мамочка твоя точно так же беспомощна, как и ты.
Не знаю, почему, но я была уверена, что родится девочка. Малышка Роза, подумала я, и вот так она получила имя. Ну да. Еще одна Роза. Моя собственная.
Церковный колокол отбил полночь. У меня подвело живот – окрещенная Маленькая Неурядица жаловалась, что ее не покормили ужином. Удивительно, как даже в горе и шоке организм упрямо требует своего.
– Кое-чем ты уже отметилась, Розанчик, – сказала я. – Тебя еще нет, а я уже в два раза чаще бегаю в туалет.
Натянув свитер, я наведалась в уборную, а затем прошлась по коридору. Под дверью Финна было темно. Хотелось надеяться, что он принес извинения и теперь безмятежно спит. Интересно, он сожалеет о том, что произошло на заднем сиденье машины? Я вот – ничуть. На цыпочках я перешла к двери Эвы, под которой виднелась полоска света. Значит, не спит. Без стука я вошла в номер.
Подтянув к груди длинные босые ноги, Эва сидела на подоконнике и смотрела на темную улицу. В сумраке, скрывавшем ее лицо, она читалась стройным силуэтом без возраста. Если бы не изуродованные руки, ее можно было принять за ту девушку, что в 1915-м отправилась в Лилль… Опять эти руки. С них-то все и началось. Я вспомнила, как меня замутило, когда я впервые их увидела той лондонской ночью.
– Тебя не учили стучаться, америкашка? – Кончик Эвиной сигареты вспыхнул, откликаясь на глубокую затяжку.
Сложив руки на груди, я сказала, словно продолжая наш давешний разговор:
– Понимаете, я не знаю, как быть дальше. – Эва наконец-то посмотрела на меня и вскинула бровь. – У меня был план, четкий, как простая геометрическая задача. Найти Розу, родить ребенка, приспособиться к новой жизни. Теперь плана нет. Но я не готова вернуться домой, где опять начнутся споры с матерью о том, как мне следует жить. Я не хочу сидеть на диване и вязать пинетки.
И самое главное, я не хотела разрушить наше трио, возникшее в синей машине. Исстрадавшаяся часть меня предлагала собрать манатки и рвануть домой, не дожидаясь, чтобы утром Финн дал мне от ворот поворот. Но другая моя часть, маленькая и невероятно требовательная, совсем как Розанчик, хотела продержаться до конца, каким бы он ни был. Кто знает, что свело нас троих вместе и как так вышло, что все мы гонялись за разновидностями одного и того же – наследием женщин, погибших в войнах. Теперь у меня не было пункта назначения и цели, но дорога уходила вдаль, и я не хотела прекращать путешествие.
– Я поняла, мне нужно какое-то время, чтоб сообразить, как быть дальше. – Я ощупью пробиралась сквозь чащобу мыслей и слов, но Эва сидела неподвижно, как истукан. Я посмотрела на ее руки и глубоко вдохнула. – А еще я хочу услышать конец вашей истории.
Эва выпустила струю дыма. На улице гуднула припозднившаяся машина.
– В кафе вы сказали, что у меня кишка тонка. – Я чувствовала, как колотится мое сердце. – Может, и так. В моем возрасте вы зарабатывали военные награды, я же не совершила ничего и близко похожего. Но мне достанет отваги не возвращаться побитой собакой домой. И хватит духу выслушать вашу повесть, пусть даже очень страшную. – Я села напротив Эвы, во взгляде ее стояли боль и ярость. – Рассказывайте. Дайте мне повод остаться.
– Тебе нужен повод? – Эва перекинула мне сигареты. – Отмщение.
Я чуть не выронила пачку.
– За кого?
– За Лили, – глухо проскрежетала Эва, голос ее полнился яростью. – И за то, что случилось со мной.
Уже светало, когда она досказала свою историю.
Глава тридцатая
Эва
Октябрь 1915
Не имело значения, что она скажет или не скажет. Можно сыпать оскорблениями, или держаться корректно, или мертво молчать – все равно Борделон вскинет руку с бюстом и размозжит ей очередной сустав. Корчась от боли, Эва глянула на свои пальцы и посчитала.
На обеих руках двадцать восемь суставов.
Пока Борделон раскрошил девять.
– Я сдам тебя немцам. – Металлический голос был ровен, хоть в нем и слышалась сдерживаемая ярость. – Но сначала поговорю с тобой сам. И ты мне все расскажешь.
Они сидели друг против друга; Борделон барабанил пальцами по макушке мраморного Бодлера, уже не белоснежного, но забрызганного кровью. Поначалу Рене был неловок, его корежило от хруста переломанных костей. Но вскоре он приноровился, и только вид крови заставлял его морщиться. Роль палача тебе внове, как мне – роль пыточной жертвы, – подумала Эва. Она не представляла, сколько это продолжается. Время растянулось, его отсчитывала пульсация боли в изуродованных пальцах. Мерцал камин; разделенные журнальным столиком, Эва и Борделон сидели в кожаных креслах, словно затеяли обычную партию в шахматы, перед тем как отправиться в постель. Только теперь руки Эвы были привязаны к столешнице шелковым шнуром от халата Рене. Привязаны накрепко, не вырвешься.
Да она и не пыталась. Сбежать было невозможно. Оставалось хранить молчание и не выказывать страх. Эва сидела прямо, хоть ужасно хотелось упасть головой на руки и завопить благим матом. Она даже сумела улыбнуться. Борделон никогда не узнает, чего ей стоила эта улыбка.
– Может, сыграем в шахматы? – сказала Эва. – Ты обучал глупую Маргариту, но вообще-то я играю недурно. Хорошо бы сразиться по-настоящему, а не поддаваться тебе нарочно, в угоду твоему величию.
Лицо Борделона закаменело. Эва едва успела приготовиться к очередному удару, завершившемуся уже знакомым хрустом костей.
Рене усмехнулся, когда сквозь стиснутые зубы она простонала. Сперва Эва решила, что не издаст ни звука, но не выдержала на пятом ударе. Сейчас был десятый. Она не могла притворяться, что ей не больно. И боялась посмотреть на свою руку. Краем глаза она видела, что кисть превратилась в нелепо вздувшееся кровавое месиво. Пока что досталось только правой руке, левая, сжатая в кулак, оставалась нетронутой.
– Кто эта женщина, с которой тебя арестовали? – Голос Борделона подрагивал. – Конечно, она не главарь сети, но может его знать.
Про себя Эва улыбнулась. Борделон и немцы недооценивали Лили. Как и всякую женщину.
– Ее зовут Алиса Дюбуа. Она – никто.
– Не верю.
Борделон не верил ни единому слову. Когда он расправился с третьим суставом, Эва попыталась всучить ему ложную информацию, надеясь этим его остановить. Но Борделон не прекратил истязание, даже когда она якобы заговорила. Хоть новичок в пытках, ремесло палача он постиг быстро.
– Как ее настоящее имя? Говори!
– Зачем? – выдавила Эва. – Ты ничему не веришь. Сдай меня немцам, пусть допросят они.
Сейчас она уже хотела оказаться в немецком застенке. Там ее могут избить, но гансы не питают к ней личной ненависти, как обманутый Борделон. Сдай меня, – мысленно взмолилась Эва.
– Сдам, но сначала вытрясу из тебя информацию. – Рене как будто читал ее мысли. – Раз уж немцы узнают, что моя любовница – шпионка, я должен чем-нибудь откупиться. Можно проще – пристрелить тебя, чтоб не навлекать на себя никаких подозрений. (Пауза.) Вряд ли кто-то станет искать пропавшую официантку.
– Не выйдет. Ты не справишься.
Конечно, он мог ее убить, но Эва пыталась посеять в нем сомнения. Об этом она думала, едва Борделон нацелил на нее пистолет.
– Думаешь, я безропотно позволю отвести меня на какой-нибудь пустырь, где и сгниет мой труп? Нет, я буду орать и сопротивляться. Кто-нибудь нас непременно увидит.
– Можно прикончить тебя и здесь…
– А куда ты денешь тело? Пусть немцы к тебе благоволят, но прибирать за тобой не станут. Как ты незаметно вынесешь труп из ресторана? Это город шпионов – немецких, французских, английских. Все всё видят. Ничего у тебя не выйдет.
Да нет, могло и выйти. Деньги, удача, точный расчет – и все готово. Но Эва нагромождала препятствия нарочно, и в глазах Борделона промелькнуло сомнение. Он не имел четкого плана и сейчас был растерян, хоть виду не подавал. Ты блестяще планируешь, но в отличие от меня не умеешь импровизировать, – подумала Эва. Она поняла, что в непривычной ситуации Борделон теряется, и на всякий случай взяла это на заметку.
– Я бы мог тебя убить, но предпочту выжать сведения, – наконец сказал Рене. – Немцы будут чрезвычайно признательны, если я преподнесу им шпионскую сеть, доставившую столько неприятностей. Насколько я знаю, у них недостаточно улик, чтобы казнить двух арестованных шпионок.
Эва взяла на заметку и это.
Усмехаясь, Борделон побарабанил пальцами по мраморному бюсту, и Эву прохватило холодом, только искалеченная рука горела огнем.
– Итак, кто эта женщина?
– Никто.
– Лжешь.
– Да, лгу! – выпалила Эва. – Ты это з-знаешь и не поверишь ни одному моему слову. Ты понятия не имеешь, как вести этот допрос. Дело-то не в информации, а в том, что тебя перехитрили. Ты меня калечишь, потому что я оказалась умнее.
Губы Борделона сжались в нитку, на щеках проступили красные пятна.
– Ты просто-напросто лживая сука.
– Но кое-чему можешь поверить. – Эва подалась вперед. – Все мои стоны в постели – сплошная симуляция.
Бюст обрушился на большой палец. Эва не успела стиснуть зубы, крик ее вырвался на волю. Может, вопль мой прорвется сквозь парчовые шторы на окнах и толстые стены, его услышат соседи? – подумала она. Нет, никто тебе не поможет, даже если услышит крик. Темный город за окном был все равно что на другом краю света. Пусть я потеряю сознание! – мысленно взмолилась Эва. – Пусть я провалюсь в беспамятство…
Но Рене плеснул ей в лицо водой из стакана, и мир снова прояснился.
– Значит, ты сразу нацелилась заманить меня в постель? – Голос Борделона звенел от напряжения.
– Ты сам полез в ловушку, рохля французская. – Эве удалось издать смешок, по лицу ее стекала вода. – Облегчил мне задачу. Ради твоей болтовни стоило пару минут попыхтеть и постонать…
Прицельными ударами Борделон размозжил последние три сустава на ее правой руке. Эва кричала. В комнате вдруг возникла резкая вонь. Эва поняла, что испражнилась под себя – из нее текло на дорогое кожаное кресло и узорчатый ковер. Сквозь марево боли накрыло жгучим стыдом.
– До чего же ты грязная баба, – сказал Борделон. – Не мудрено, что всякий раз приходилось тебя отмыть, прежде чем отодрать.
Опять накатила волна стыда, но страх был еще сильнее. Эва даже не представляла, что бывает так страшно. Все кончено – мысль эта металась, точно мышь перед кошкой, изготовившейся к прыжку. Кончено… кончено… Никто ей не поможет. Наверное, здесь она и умрет, как только Борделону надоест ее мучить, и он решит, что проще ее пристрелить. От ужаса во рту пересохло, язык стал суконным.
– Одна рука готова, – небрежно сказал Борделон, отставив бюст. Глаза его сверкали то ли от возбуждения, то ли от позора, что его одурачила девчонка. Как бы то ни было, вид крови, хруст костей и вонь испражнений его уже не смущали. – У тебя еще есть левая рука, с которой вполне можно прожить. Я ее не трону, если ты заговоришь. С кем тебя арестовали на вокзале? Кто руководит сетью? Почему ты вернулась в Лилль, а не осталась в Турне?
Донесение о Вердене доставлено, – думала Эва. – Возможно, это спасет много жизней. Значит, мы с Лили пострадали не зря.
– Ответь на вопросы, и тогда я перевяжу твою руку, опием сниму боль и сдам тебя немцам. Я даже попрошу врача заняться твоими пальцами. – Он погладил Эву по щеке. Прикосновение его было еще одной пыткой, Эва гадливо вздрогнула. – Поговори со мной.
– Ты мне не поверишь, даже если я…
– Поверю, дорогуша, поверю. По-моему, ты сломалась. Кажется, ты сама уже хочешь сказать правду.
Перед глазами все расплывалось. Ужас в том, что она действительно была готова во всем признаться:
Я работала на Луизу де Беттиньи, агентурная кличка Алиса Дюбуа, она руководитель сети. Я бы никогда не узнала подлинного имени Лили, если б не та встреча с кронпринцем на вокзале. Зачем только это случилось…
Руководитель сети Луиза де Беттиньи меньше пяти футов росту, но отважна, как львица. На моем месте она бы не проронила ни слова, даже лишившись всех пальцев.
Или проронила бы? Поди знай, как поведет себя человек, которому раздробили четырнадцать суставов.
Но к столу была привязана не Лили, а Эва, и она могла отвечать только за себя.
– Кто эта женщина? – прошептал Борделон. – Кто она?
Эва хотела презрительно усмехнуться. Но не смогла. Попыталась придумать хлесткую фразу. Но не сумела. И потому просто плюнула в маячившее перед ней безупречно выбритое лицо.
– Пошел ты на хер! Предатель! Ничтожество!
– Благодарю, дорогуша, – выдохнул Борделон, испепеляя ее взглядом, и погладил ее левую руку. Эва сжала пальцы в кулак, но он их распрямил и, плотно придавив к столу, потянулся за мраморным бюстом. Сволочной Бодлер! Эва оскалилась, открыв зубы в крови от искусанных губ. Ее охватил непередаваемый ужас. – Кто эта женщина? – словно забавляясь, спросил Борделон.
Бюст завис над левым мизинцем.
– Я ничего не скажу, даже если бы ты поверил.
– У тебя есть четырнадцать шансов передумать.
Бюст ринулся вниз.
Время расщепилось. Алая вспышка боли, следом черный бархат беспамятства. Голос Рене был подобен стальной игле, сметывающей кошмар яви с благодатью бесчувствия. Выплеснутая в лицо вода уже не действовала, и тогда Борделон нажимал на перебитый сустав – Эва вскрикивала и приходила в себя. Рене неспешно вытирал пальцы носовым платком и продолжал допрос, сопровождаемый хрустом переломанных костей.
Боль накатывала и отступала, а вот ужас был неизменен. Эва съеживалась, пряча залитое слезами лицо, потом выпрямлялась в обгаженном кресле и смотрела в глаза своему палачу, но уже ничего не говорила. Сил не осталось даже на вымученную усмешку.
Когда был раздроблен последний сустав, пришло что-то вроде облегчения. Эва глянула на месиво, некогда бывшее ее руками, и у нее возникло такое чувство, словно она пересекла финишную черту. Наверное, теперь он возьмется за пальцы на ногах… или за колени, – подумала Эва, как будто со стороны наблюдая за собой, содрогающейся в рыданиях. Она пережила такую страшную боль, что ее уже ничто не пугало. Значит, будем молчать и дальше.
Борделон и так уже в большом убытке: ковер испорчен безнадежно, ноль доходов за вечер, соседи растревожены странным шумом в его квартире. Рано или поздно ему придется закончить свои игрища, сдать ее немцам или убить. Эве было все равно. Любой вариант означал прекращение боли.
Вытерпи, – шепнул голос Лили. Подруга всегда рядом. Вытерпи, маргаритка. С немцами начнется другая игра – когда еще они разберутся, где ложь, а где правда. Но сейчас не было сил бояться предстоящей муки, пережить бы нынешнюю.
Вытерпеть. Только и всего. Больше не надо притворяться, носить маску, ходить по лезвию бритвы. Соскочив с лезвия, она угодила в пасть зверя, но зато больше не нужно лгать. Только терпеть.
И она терпела.
Из черноты беспамятства, которое наступало все чаще, ее вывела не пронзительная боль, а нечто, опалившее горло. Борделон запрокинул ей голову и влил бренди в рот. Поперхнувшись, Эва попыталась сжать губы, однако стакан прижался к ним плотнее.
– Пей, иначе ложкой выколю тебе глаз.
Эва думала, что уже достигла вершины страха, но перед ней открывались все новые хребты, которые еще предстояло одолеть. Она разомкнула губы и проглотила добрую порцию бренди, устроившего пожар в желудке. Рене вновь сел напротив, разглядывая ее.
– Эва. – Он как будто перекатывал во рту ее настоящее имя. – Недурно. Ты и впрямь была соблазном. Тебе даже не пришлось угощать меня яблоком. Из никчемности я превратил тебя в музу. И посмотри на себя теперь. Безгласность ужаса, безумий дуновенья Свой лед означили на мертвенном челе…[8]
– Опять треклятый Бодлер? – выговорила Эва.
– Это из «Больной музы». Весьма уместно.
Повисло молчание. Эва ждала очередных вопросов, но Борделон просто ее разглядывал. Она вновь соскользнула в темный омут беспамятства и теперь очень медленно всплывала на поверхность. Боль почему-то утихла. Второе кресло пустовало. Отыскивая Борделона, Эва повела головой, и стены, обитые скользким желтовато-зеленым шелком, поплыли перед глазами. Эва сморгнула. Комната ежесекундно преображалась, точно узор калейдоскопа. Эва тряхнула головой и сосредоточила взгляд на абажуре лампы от Тиффани, на котором был изображен павлин с распущенным хвостом, отливавшим тысячью оттенков синего и зеленого. Эва вскрикнула, и павлин вперил в нее сверкающий взгляд. Все «глаза» на его хвосте тоже обратились на нее. Кажется, их называют «аргусово око». Все они таращились на Эву, со звоном отделяясь от стеклянного абажура.
Я брежу – возникла смутная мысль. Эва опять сморгнула. Павлин никуда не делся – с яркого веера хвоста смотрели обвиняющие глаза. Эву вдруг прошиб пот.
А павлин заговорил, и голос его был подобен визгу, какое издает стекло под нажимом пальца:
– Кто эта женщина, с которой тебя арестовали?
Эва снова вскрикнула. Наверное, рассудок ей отказал, она сошла с ума. Либо Рене подмешал что-то в бренди… Мысль ускользнула, прежде чем Эва успела за нее ухватиться.
– Кто эта женщина? – повторил павлин.
– Я… не знаю… – Эва уже ничего не понимала, она угодила в обитель кошмаров, где все неопределенно. Со столика на нее смотрели широко распахнутые, налитые кровью глаза Бодлера. По мраморным щекам его катились кровавые слезы.
– Кто эта женщина? – хриплым нутряным голосом спросил Бодлер. – Ты же знаешь.
Из высокой изящной вазы на каминной полке грациозно поднимались лилии на длинных стеблях. Цветы зла, навеки заточенные в стекло. Эва жадно смотрела на прохладную воду, омывавшую зеленые стебли.
– Пить, – прошептала Эва.
Язык ее превратился в шершавый булыжник.
– Ты получишь воду, как только ответишь на мой вопрос.
И у лилий глаза были налиты кровью. Мне жажда грудь на части рвет; Чтоб жажды той уменьшить силу, Пускай вино ее могилу До края самого зальет![9] Могила лилий. Могила Лили. Эва вскрикнула – в узорчатом ковре под ее ногами разверзлась черная яма…
– «Вино убийцы», – сказал мраморный бюст. – Прекрасно, Эва. Кто эта женщина?
Насмешливый голос как будто принадлежал Рене, но самого его нигде не было. Эва видела только зеленые стены, дышавшие в ритме ее бешеного пульса, стеклянного павлина с распущенным хвостом и окровавленное мраморное лицо. И еще черную яму. На дне ее шевелилась какая-то огромная прожорливая тварь. Эва шевельнулась, разбудив боль. Тварь вылезла из ямы и стала грызть ей руки. Эва зажмурилась, чтобы не видеть, как сверкающие клыки впиваются в ее перебитые пальцы. Она закричала, дернулась, и ее вновь накрыло волной невыносимой боли. Вот так она и умрет в полном сознании – ее съедят живьем. Эва зарыдала, безвольно мотая головой. Кошмарная тварь неспешно пережевывала ее руки.
– Кто эта женщина?
Тварь уже сожрала Лили? – подумала Эва. Она ничего не помнила. По загривку ее стекал пот.
– Кто эта женщина?
Эва заставила себя открыть глаза. Надо смотреть в лицо своему убийце. Потом перевела взгляд на руки, ожидая увидеть обглоданные культи, и закричала. Раздробленные окровавленные пальцы не исчезли, однако странно преобразились – их стало вдвое больше и каждый был увенчан не ногтем, но глазом. И все эти глаза одновременно моргали, глядя незряче и обвиняюще.
Так я и есть тварь! – пронзила мысль. Это я убила Лили?
– Кто эта женщина?
Я убила ее?
Эва обмякла, бешено пульсирующий мир померк. Волна за волной накатывали тьма, боль, ужас и скрежет зубовный.
– Пора просыпаться, дорогуша.
Эва разомкнула веки. Но даже резкий свет, ударивший в глаза, не мог тягаться с голосом Борделона, острым, как серебряная игла. Эва выпрямилась, движение аукнулось болью в руках. Во рту пересохло, голова раскалывалась. Рене улыбался, привалившись к окну. Серый костюм, волосы расчесаны и напомажены, в руке чашка с чаем. Яркий свет лился из окна. Значит, утро, – подумала Эва. Но какого дня? Она бы не сказала, сколько ночей провела в урагане боли – одну, две или целый месяц…
Клыки… пульсирующие стены… злобные глаза… Взгляд Эвы заметался по комнате, но в ней все было как обычно. Обитые зеленым шелком стены не дышали, недвижимый павлин застыл на стеклянном абажуре, лилии покоились в высокой вазе.
Лилии. Лили. Сердце пропустило такт, Эва перевела взгляд на Рене. Тот улыбался, прихлебывая горячий чай.
– Надеюсь, так тебе комфортнее.
Эва посмотрела на свои руки, обмотанные чистыми салфетками – этакие рукавички скрыли жуткое зрелище. Одежда грязная, но лицо и волосы обтерты губкой – Рене постарался, чтоб она выглядела приличнее.
– Герр Роцелэр пришлет своих людей. – Борделон посмотрел в окно. – Они прибудут примерно через полчаса. Я решил, надо тебя слегка почистить. Некоторые молодые офицеры болезненно реагируют на увечье женщин. Даже английских шпионок.
Облегчение накрыло, точно лавина. Фрицы ее заберут. Значит, она не умрет в этой комнате, но окажется в немецкой тюрьме. Возможно, все кончится расстрелом, но уже то хорошо, что рядом не будет Борделона. Он прекратил пытки. Сдался.
Я выстояла, – оцепенело думала Эва. – Вытерпела.
Она представила улыбку Лили. Может быть, в тюрьме они свидятся. С ней и Виолеттой. Втроем они выдержат что угодно. Даже расстрел.
– Кланяйся от меня своей подруге, если вдруг окажетесь в соседних камерах. – Рене будто читал ее мысли. – Твоя Луиза де Беттиньи выглядит незаурядной женщиной. Жаль, что мы не встретились. – Он опять прихлебнул чай. Солнечный луч падал на его тщательно расчесанные волосы и гладко выбритый подбородок. – Ты удивлена? Но ты же сама о ней рассказала.
– Я не с-ск-к… – Эва пыталась совладать с непослушными губами. – Я не с-сказала н-н-н… – Ничего – такое короткое слово никак не поддавалось. Язык омертвел.
– Луиза де Беттиньи, она же Алиса Дюбуа, она же еще бог знает кто. Ты перечислила все ее имена. Комендант Хоффман будет чрезвычайно рад узнать, кого содержат в немецком застенке. Главаря шпионской сети. Невероятно, что им оказалась женщина.
– Я не сказала н-н-н… – Эва сделала новую попытку, но столь важное слово опять не получилось.
Я не сказала ничего, – проговорила она мысленно. Еще никогда ей не было так страшно; обуявший ее ужас уподобился нависшей горе, готовой расплющить ее в лепешку. Я не сказала ничего.
И тут вспомнились странные видения, оживший бюст Бодлера…
Рене покивал, наблюдая, как меняется ее лицо. Прежде оно было маской, а теперь превратилось в открытую книгу, передавшую все ее мысли и чувства.
– В одном ты была права – в твоих словах я не мог отличить правду от лжи. Однако добрая порция опия… – Борделон погонял чай в чашке. – …порождает причудливые картины. И подавляет волю. Этой ночью ты увидела нечто невообразимое и наконец-то стала весьма покладистой.
– Я не сказала н-н-н… – Эва уподобилась заезженной пластинке.
– Ошиб-б-баешься, дорогуша. Ты трещала как сорока. И выдала свою подружку Луизу, за что я тебе весьма признателен. – Борделон отсалютовал чашкой. – Вместе с немцами.
Выдала. Слово взорвалось в голове. Выдала. Нет, она не предала бы Лили.
Но он знает ее имя. От кого еще он мог его узнать?
Нет.
Предательница.
Нет…
– Ей-богу, – буднично продолжил Рене, словно не замечая молчания Эвы, – догадайся я сразу, что опий сделает тебя сговорчивой, руки твои были бы целы, а комната моя не провоняла бы дерьмом. Не уверен, что удастся отчистить ковер. – Рот его разъехался в кривой недоброй ухмылке. – Хотя испорченный ковер – невысокая цена за удовольствие искалечить тебя, Маргарита. То бишь Эва. По-моему, оба эти имени тебе не подходят.
Лили у стены, на глазах ее повязка, команда «Целься!»…
Предательница. Предательница. Эвелин Гардинер, ты жалкое ничтожество.
– Для тебя есть имя лучше. – Борделон отставил чашку, шагнул к креслу и прижался щекой к щеке Эвы, обдав ее запахом дорого одеколона. – Милашка Иуда.
Бросок Эвы был не хуже змеиного. Хоть привязанная к креслу, она сумела зубами вцепиться в нижнюю губу своего врага, почувствовав медный вкус его крови, горчившей, как ее собственное злосчастье. Эва стиснула зубы крепче. Борделон завопил и, ухватив ее за волосы, попытался оторвать от себя. Шпионка и ее источник, пленница и захватчик, предательница и коллаборационист слились в последнем кровавом поцелуе. Наконец Рене вырвался. Кресло опрокинулось, Эва ударилась головой об пол, перед глазами ее заплясали разноцветные звезды.
– Сука подзаборная! – Подбородок Рене был в крови, глаза горели бешенством, голос утратил самодовольный покой начисто. – Манда английская! Дешевка! Проблядь!
Витиеватую речь его сменил поток отборных ругательств. Окровавленный рот придавал Борделону сходство с людоедом, кем он, в сущности, и был. Ради выгоды он уже давно пожирал сердца и души. Сейчас он смахивал на прожорливую тварь из кошмарных видений. Но Эва не ощутила даже крохотной радости от этой победы. Ее сломили. С хрустом громче, чем издавали раздробленные фаланги. Она рыдала на полу, но никаких слез не хватит, чтобы смыть ее ужасный позор. Она и впрямь Иуда. Человека, дороже которого никого нет на свете, выдала своему злейшему врагу.
Я хочу умереть, – думала Эва. Рене стих и, прижав салфетку ко рту, отошел к окну. Хочу умереть.
Мысль эта не отступала, слезы текли. Потом пришли немцы. Отвязали Эву от кресла и выволокли из комнаты.
Глава тридцать первая
Чарли
Май 1947
– Господи Иисусе, – тихо сказал Финн.
Завороженная рассказом, я не заметила, как он вошел в номер.
– Нет, Иисуса и близко не было в той комнате с зелеными стенами, – просипела Эва. – Только Иуда. – Она потянулась за сигаретной пачкой, но та оказалась пуста. – Вот эта комната мне и снится. Не Рене, не хруст перебитых костей. Комната. Дышащие стены, павлин на абажуре, бюст Бодлера…
Эва смолкла и отвернулась к окну, я видела ее четкий профиль. Вдали ударил церковный колокол, и все мы – Финн, подпиравший стенку, я, скорчившаяся на подоконнике, и неподвижная Эва, обхватившая руками колени, – прислушались к его скорбному перезвону.
Руки Эвы. С первого дня я хотела узнать, что с ними случилось. Теперь я знала. Вот чего ей стоило служение своей стране – боевых ран, каждодневно напоминавших о том, что она сломалась. Бескомпромиссная душа, она отвергала любое оправдание своей слабости и, считая себя позорным трусом, отказалась от заслуженных наград. Я посмотрела на свои целенькие пальцы и содрогнулась, представив, как под ударами мраморного бюста они превращаются в клешни.
– Эва… – Голос мой пресекся. – Я не знаю человека отважнее вас.
– Меня сломали, – отмахнулась она. – Капля опия в бренди, и я все выболтала.
Что-то в ее словах меня задело. Я даже не могла сообразить, что именно, однако хотела возразить, но Финн меня опередил.
– Не стройте из себя доносчицу, – сказал он тихо и сердито. – Любого можно сломать, если найти его слабое место. В этом нет позора.
– Есть, дурень ты шотландский. Из-за этого вынесли приговор Лили, Виолетте и мне.
– Так вините Рене Борделона, пытавшего вас. Вините немецкий трибунал…
– В моей увядшей душе вины хватит на всех, – безжалостно сказала Эва, не глядя на нас. – И Рене, и немцы, и я – все сыграли свою роль. Виолетта мне этого не простила, и я ее понимаю.
– Но что стало с Лили? – спросила я. – Ее… расстреляли?
Я вообразила, как эту маленькую храбрую женщину ставят к стенке, и меня замутило. После рассказа Эвы она стала для меня живой и бесценной, как Роза.
– Нет. Незадолго до этого немцы казнили Кэвелл и не желали новой шумихи. Нам уготовили иную судьбу. – Эву передернуло, словно по руке ее пробежала крыса.
– Вы с Виолеттой уцелели, – выговорила я. – А Лили?..
– Ладно, закончили с темой не для ночных бесед, и потом, все это уже не важно. – Эва как будто захлопнула книгу и посмотрела мне в глаза. – Важно другое – Рене Борделон. Теперь ты знаешь, что он за человек и что он со мною сделал. Я долго мечтала, как после войны вернусь в Лилль и снесу ему башку. Капитан Кэмерон положил этому конец, солгав мне, что Борделон мертв. – Эва немного успокоилась, голос ее обрел обычную скрипучесть. – Видимо, решил, что меня это утешит. Чертово благородство не позволяло ему понять жажду мести, когда от ненависти тебя всю трясет ночь напролет, и только вкус крови врага смог бы избавить от кошмарных сновидений.
Финн яростно кивнул. Он это понимал. Я тоже. Меня обжигало нестерпимой ненавистью, стоило подумать о немецких солдатах, убивших Розу и ее дочку.
– Пусть я оп-п-п… – Эва шарахнула себя кулаком по коленке, и слово выскочило: –…опоздала на тридцать лет, но все-таки хочу свести счеты. Рене мне задолжал. – Она смотрела на меня в упор. – Тебе, кстати, тоже.
Я сморгнула.
– Мне?
– Ты говорила, америкашка, тебе нужен повод для продолжения поисков. Я дам тебе этот повод, но сначала спрошу: ты впрямь хочешь правды?
Я опять сморгнула. Все еще под впечатлением от рассказа Эвы, я себя чувствовала актером, которого вытолкнули на сцену, а он не знает роли.
– Да, хочу. Только я не понимаю, ведь я никогда не встречалась с Рене Борделоном.
– Однако у него перед тобой должок. Он не только взял на работу твою кузину, он сделал еще кое-что. – Теперь Эва говорила четко, словно командир. – Чтобы узнать, чем под именем Рене дю Маласси он занимался в Лиможе, я обратилась к майору Аллентону. Майор болван, а потому за эти годы, естественно, вырос в должности. Во вторую войну я выполняла кое-какие его задания, и за давешним ужином, щедро сдобренным вином и лестью, мне удалось повернуть разговор на Маласси. Аллентон просто кладезь информации, открытой и совершенно секретной. Слава богу, что на свете есть трепливые дураки. В последнюю войну майор координировал связь с французским Сопротивлением – организовывал сброс провианта, собирал разведданные. Мсье дю Маласси барышничал в Лиможе, это было известно. Ради выгоды он снабжал информацией нацистов и милицию, созданную подонками из Виши. – Пошарив в сумке, Эва неловко достала фотографию. – Вот Рене в сорок четвертом. Снимок сделан по приказу Аллентона, поскольку Борделон представлял интерес для разведки.
На групповой фотографии с банкета местной знати и немецких чинов крайний слева человек был обведен маркером. Я вгляделась в заклятого врага Эвы, наконец-то обретшего лицо, но вопреки ожиданиям в облике его не было ничего звериного. Пожилой мужчина в темном костюме; худое лицо, высокий лоб, седые волосы зачесаны назад. С годами он не оплыл, скорее усох; его трость с серебряным набалдашником выглядела неотъемлемым аксессуаром. В руке бокал с вином, который он, чуть улыбаясь, двумя пальцами держит за ножку. Возможно, я, зная его прошлое, просто надумала, но мне показалось, что взгляд этого человека излучает ледяной холод.
Финн заглянул через мое плечо и тихо ругнулся. Я поняла, о чем он думает. Этот старик изуродовал Эву. Она превратилась в злобную каргу, горькую пьяницу, которую мучили кошмары, а он продолжал наживаться, водил дружбу с захватчиками и губил другие жизни. Застрелил повара, обвинив его в воровстве. И вот на фоне хрусталя и свастик улыбается в объектив…
Я его уже ненавидела.
– Все знали, что он барыга, – тихо проговорила Эва. – Но мало кто знал, что и он в ответе за бойню. От источника в милиции майор Аллентон узнал о доносе лиможского информатора, сообщившего о похищении и убийстве немецкого офицера, близкого друга штурмбанфюрера Дикмана из танково-гренадерского полка СС «Дер Фюрер». Дескать, акцию провели участники Сопротивления, указывалось имя конкретной девушки. Милиция проверила донос и подтвердила смерть захваченного офицера. Все ждали ареста и казни той девушки. Но Дикман решил показательно казнить весь поселок. – Эва смотрела мне в глаза. – Девушку звали Элен Жубер. Поселок – Орадур-сюр-Глан. Имя доносчика Рене дю Маласси.
Меня охватил ужас. Вспомнились слова мадам Руффанш: она назвалась Элен Жубер… мы звали ее Розой…
– Не ясно, была ли твоя кузина непосредственным участником Сопротивления, – продолжила Эва. – Разумеется, у нее имелись связи с этим движением, поскольку в нем был задействован отец ее ребенка. Нет никаких данных об ее участии в операциях, но это ничего не доказывает. Возможно, после рождения малышки она отошла от активных действий или просто передавала информацию, полученную в Лиможе, кто знает? Но даже если она не шпионила в «Лете», Рене, видимо, ее заподозрил. С некоторых пор он опасался подслушивающих официанток. – Скупая горькая улыбка. – В любом случае Роза не могла участвовать в похищении и убийстве немецкого офицера – для таких операций отбирают только опытных бойцов. Но Рене хотел от нее избавиться, и потому…
– Донес на нее? – прошептала я. – Но он же мог ее просто уволить.
– Наверное, решил, что так будет надежнее. Он мог бы собственноручно ее пристрелить – для него это уже не было проблемой. Но, видимо, не хотел повторения публичной расправы с поваром. Чтоб не лишиться расположения немцев. Поэтому просто донес на нее, упомянув поселок, в который она ездила по выходным. – Эва задумалась. – Скорее всего, он не рассчитывал, что немцы уничтожат все население поголовно. Но даже если б эсэсовцы пощадили других жителей, твою кузину они бы казнили. По вине Рене Борделона.
Я покрылась мурашками. Фотография жгла мне руку. Я еще раз взглянула на кичливого старика.
– Немцам, которые оборвали жизнь твоей кузины, уже не отомстить, – сказала Эва. – Штурмбанфюрер Дикман, отдавший приказ на бойню, погиб вскоре после высадки союзников – это зафиксировано в документах и подтверждено Аллентоном. Солдаты, исполнявшие приказ, тоже убиты, или рассеялись по послевоенной Германии, или все еще сидят в лагерях для военнопленных. За то, что случилось в Орадур-сюр-Глан, никто не осужден, ничьи имена не прозвучали на Нюрнбергском процессе или позже. Без нового тщательного следствия ты вряд ли узнаешь, кто именно убил твою кузину. Их тебе не достать. А вот Рене – другое дело. Он не спускал курок, но сделал все возможное для смерти Розы.
Я не могла шевельнуться, что-нибудь произнести и даже вздохнуть. Только смотрела на самодовольное лицо на фото. Ох, Роза…
– Я хочу разыскать Борделона, он должен поплатиться за содеянное. – Эва сложила изуродованные руки на груди. – Ты со мной, Чарли Сент-Клэр?
Часть четвертая
Глава тридцать вторая
Эва
Март 1916
Брюссель
Суд длился всего один день.
Томительные часы Эве помнились как в тумане. Под конвоем их ввели в величественный зал; Виолетта смотрела прямо перед собой, Лили заинтересованно оглядывала стеклянный потолок, судейские кресла и гордых бельгийских львов, Эва уставилась на свои незажившие пятнистые руки. За истекшее время боль так и не исчезла, она привлекала внимание больше, чем гудение немецкой речи.
Эва посмотрела на немецких военных, чиновников и секретарей, заполнявших зал. Ни одного француза или гражданского на зрелище не допустили. К счастью, не было и Рене Борделона, он не пришел полюбоваться на творение рук своих. Встреча с ним ужасала больше приговора. Приди он, Эва бы рухнула на пол, устланный толстым ковром.
Раньше я не была такой слабой и пугливой, – думала она, слушая вступительную речь председателя суда. Сломленная напрочь, от любого шороха в камере она вздрагивала и заливалась слезами, чего не бывало прежде. Теперь в ней жило единственное сильное чувство – ненависть к себе.
Предательница. Ядовитое слово вошло в ее кровь и плоть, его буднично по слогам отбивало сердце. Предательница.
Лили знала о ее предательстве. В тюрьме Сент-Жиль их содержали в разных камерах, но Эва подкупила надзирателя, чтобы тот рассказал о ее поступке. Ложь была бы непосильной ношей. Сердце Эвы стучало молотом, когда она, минуя взглядом Виолетту, заставила себя посмотреть на Лили. Плюнь в меня, я заслужила.
Но та лишь улыбнулась. Лицо ее приняло озорное выражение, словно она была на свободе, а не под враждебным приглядом конвоя. Лили приложила пальцы к губам и послала воздушный поцелуй.
Эва вздрогнула, как от удара.
Их допрашивали по очереди, чтобы они не слышали показаний друг друга. Первой вызвали Виолетту; лишь теперь Эва узнала ее настоящее имя – Леони Ван-Гутт. Заместительница Лили, считавшая Эву предателем, окинула ее ненавидящим взглядом, когда ту под конвоем выводили из зала. Эву допросили второй. Она не защищалась. Ясно же, чем все это кончится. Под аккомпанемент пульсирующей боли в руках Эва молча слушала поток немецкой речи, морщась от запахов бриллиантина и ваксы. Вскоре ее опять вывели в коридор. Все ждали допроса Лили; выходя, Эва уловила рябь нетерпеливого предвкушения, пробежавшую по залу. Наверное, – подумала она, – такая же рябь пробегала по амфитеатру Колизея, ожидавшего выхода львов на арену. Здешние золоченые львы были неподвижны, но и они могли одарить смертью.
Судьи удалились на совещание, длившееся не более получаса. Эва, Лили, Виолетта и еще несколько обвиняемых вновь предстали перед судом. Пала мертвая тишина. Эву била дрожь, во рту пересохло. Краем глаза она видела, как подергиваются пальцы Виолетты, словно желая ухватиться за руку Лили, замершей, точно истукан.
Гнусавый голос по-немецки зачитал приговор:
– Луиза де Беттиньи – смертная казнь. Леони Ван-Гутт – смертная казнь. Эвелин Гардинер – смертная казнь.
По залу опять пробежала рябь. Эву как будто что-то ударило в грудь. Не ужас.
Облегчение.
Сквозь туман перед глазами она взглянула на свои искалеченные руки, и к ней вернулась мысль, посетившая ее в комнате с зелеными стенами: я хочу умереть.
Больше не будет изводящей монотонности тюрьмы, боли, морфия, грызущей вины. Только зрачки ружейных стволов. Чудесное зрелище. Потом огненный всполох – и ничего.
Эва не успела насладиться охватившим ее облегчением – Лили шагнула вперед и сказала на безупречном немецком, впервые за все это время прибегнув к языку врага:
– Господа, я прошу пощадить моих товарищей. Они молоды, я взываю к вашему милосердию. – Она склонила светловолосую голову. – Я же хочу умереть достойно.
– Я принимаю ваше решение. – Презрительным тоном Виолетта перебила начальницу. – Можете меня расстрелять. Но у меня есть последнее желание, в котором нельзя отказать: не разлучайте меня с Ли… с Луизой де Беттиньи.
– И меня, – услышала свой голос Эва.
Немцы пребывали в замешательстве. Точно такой же недоуменный взгляд Эва подмечала у тюремных надзирателей: неужели эта кроха, эта заика и эта вылитая училка в очках – шпионки?
Боши так и не поняли, кто такие – цветы зла, – подумала Эва. На секунду мысль наполнила ее гордостью, и она даже распрямила плечи, придавленные виной.
Подсудимых оставили в зале, судьи перешептывались между собой и с прокурором. Минул час. У Эвы страшно болели руки. Новый приговор. Опять что-то толкнуло в грудь. На сей раз отчаяние.
Суд закончился.
– Значит, расстрела не будет, – сказала Лили.
Под охраной конвоя во дворе они ожидали подводу, которая доставит их в тюрьму. Эва стояла неподвижно, а вот Виолетту сильно потряхивало, хоть в суде она держалась мужественно.
– Нас отправят в Германию, – пробормотала Виолетта.
Расстрел заменили пятнадцатью годами каторжных работ с отбыванием срока в Зигбурге.
– Пятнадцать лет? – Лили сморщила нос. – Ну уж нет. Посидим лишь до победы над немцами.
– Лучше бы расстреляли, – сказала Эва.
– Ты это заслужила. – Покрасневшие глаза Виолетты зло сверкнули. Она плюнула Эве в лицо. – Иуда.
Конвоир оттащил ее в сторону. Эва не шевельнулась, плевок стекал по ее щеке. Лили подошла к ней. Второй конвоир этого якобы не заметил, сделав им крохотную поблажку.
– Прости, маргаритка. – Лили рукавом отерла ей лицо. Эва вздрогнула. Уже давно никто не был к ней добр. – Виолетта все это переживает тяжело.
– Она меня ненавидит. – Эва не держала зла на бывшую подругу. – За мое предательство.
– Поди знай, как боши выведали, кто я такая. Опий там или нет, ты же ничего не помнишь. – Лили равнодушно пожала плечами. – Меня разоблачили, а как – это уже не важно.
– Важно.
Лили улыбнулась.
– Для меня – нет.
Эва чуть не заплакала. Хотелось крикнуть: Не прощай меня! Не надо меня прощать! Доброта ранила сильнее ненависти.
Виолетта немного успокоилась, лишь обжигала Эву взглядом. Все молчали. Сейчас их отвезут в тюрьму, а через день-другой переправят в Зигбург.
О нем ходила страшная молва. Эва, Лили и Виолетта одновременно посмотрели на восток, словно там уже маячили мрачные стены каторги.
– Ни о чем не думайте, милые мои. – Лили обняла подруг за талии и привлекла к себе. – Живите настоящим. Мы вместе, я с вами.
Эва ткнулась головой ей в плечо. Так они и стояли под блеклым мартовским солнцем.
Глава тридцать третья
Чарли
Июнь 1947
Остаток ночи я разглядывала фотографию, пытаясь уразуметь то, что сотворило запечатленное на ней чудовище. Он убил Розу, – вертелась мысль, – убил ее. Эсэсовец отдал приказ, солдат нажал гашетку, но Роза была бы жива, если б не этот элегантный старик с тростью, украшенной серебряным набалдашником.
На вопрос Эвы я не ответила. Забрала фотографию и молча ушла в свой номер. Казалось, меня придавил огромный валун, расплющив своей непомерной тяжестью.
Рене Борделон убил Розу, – гулко звучало в моей голове.
Он – связующее звено между Эвой и мной. Она и Роза были среди его бессчетных работниц, бумажной клочок с его именем и привел меня к Эве. Но я даже подумать не могла, во что все это выльется.
На рассвете я оделась, собрала вещи и вышла на крыльцо гостиницы. Я ничуть не удивилась, увидев там Эву, в полной готовности к отъезду курившую свою первую за день сигарету. От бессонной ночи у нее тоже воспалились глаза.
– Хорошо, я помогу вам его отыскать, – сказала я.
– Прекрасно, – буднично ответила Эва, словно речь шла о чашке кофе. – Сейчас Финн подгонит машину.
Занималась розовая заря.
– Зачем я вам? – не удержалась я от вопроса, не дававшего мне покоя. – Тридцать с лишним лет вы мечтали с ним поквитаться. Разве не проще это сделать без обузы в виде беременной девицы? Я вам не нужна.
В душе-то я надеялась услышать обратное. Пусть Эва колюча, как еж, но я хотела позаботиться о ней, залечить ее раны.
– Да, я обойдусь без тебя, – кивнула Эва. – Но эта сволочь причинила зло нам обеим, а значит, и ты в полном праве на месть. Я верю в отмщение. – Лицо ее было непроницаемо. – За эти годы я разуверилась во многом, но только не в отмщении.
Она высилась каменным обелиском, и я вдруг подумала: а какую форму примет ее месть? Меня кольнуло беспокойство, я хотела задать новый вопрос, но тут подъехала «лагонда».
– И вот еще что, – тихо сказала Эва, пока Финн загружал наши вещи в багажник. – Ты мне без надобности, но вот он-то нужен определенно. А я готова спорить, что куда ты, туда и он.
– С чего вы взяли? – опешила я.
Эва ткнула пальцем в красную отметину на моем горле. Утром я заметила ее в зеркале и попыталась прикрыть волосами.
– Уж я, америкашка, как-нибудь отличу комариный укус от засоса.
– Хватит болтать, дамы. – Финн открыл водительскую дверцу. – Для поездки денек – лучше не придумаешь.
– Мы готовы, – промямлила я, уши мои горели.
Эва ухмыльнулась и влезла на заднее сиденье.
– Все хорошо, голубушка? – тихо спросил Финн, заметив мое смущение.
Я бы не смогла описать свое состояние. Меня переполняли горе и надежда, безмерная ошеломленность и безмерная злоба, которая с каждым взглядом на фотографию только росла. А когда я смотрела на Финна, тело мое вспоминало о том, что между нами произошло менее двенадцати часов назад.
– Все в порядке, – наконец выговорила я.
Финн кивнул, но я так и не поняла, сожалеет он или нет о том, что было. Он завел мотор, а я обернулась к Эве:
– Вы не сказали, как мы найдем Рене Борделона. Наверняка он сменил имя. И мы не знаем, куда он бежал из Лиможа. У нас есть какой-нибудь след?
Эва затянулась напоследок и выбросила окурок в окно.
– Имеется одно п-предположение. Борделон не раз говорил, что хотел бы обосноваться в Грассе. Он даже купил там заброшенный особняк, который собирался переделать в виллу. Сейчас ему семьдесят три, и он, скорее всего, ушел на покой. Сидит на своей вилле и, греясь под южным солнышком, читает книги, слушает музыку. Так что едем в Г-г-грасс.
– И что потом? Будем кружить по улицам, высматривая Борделона?
– Доверься мне, америкашка. Рене не говорил, где его вилла, но я, кажется, знаю, как ее найти.
– А если его вообще там нет? – засомневался Финн. – Чего стоят случайные реплики, оброненные тридцать лет назад?
– У кого-то есть идеи лучше?
У меня, к сожалению, не было. Я пожала плечами. Из бардачка Финн достал затрепанный дорожный атлас.
– Если не гнать, доедем за два дня. Сегодня заночуем в Гренобле…
– Годится. – Эва откинулась на сиденье и прикрыла глаза. – Жми, шотландец.
Урча, «лагонда» двинулась на юго-восток, и мы погрузились каждый в свои мысли. Я опять разглядывала фотографию. А как выглядел эсэсовец, отдавший приказ уничтожить поселок? Как выглядели солдаты, которые открыли огонь по девушке, с ребенком на руках спасавшейся из горящей церкви? Меня окатило обжигающей злостью. Эва сказала, что этих солдат уже не найти.
А может, удастся? Ведь сохранились имена, документы. И тогда те, кто выжил, пойдут под суд. Это нужно не ради Розы, но ради мадам Руффанш и всей погибшей деревни. Ее мертвые заслуживают справедливости не меньше, чем жертвы злодейств, вскрытых в Нюрнберге.
Но это уже другая забота. Сейчас нацистов, повинных в смерти Розы, не достать. А вот Рене Борделона – вполне возможно.
За окном проплывал величественный пейзаж – нескончаемые холмы, озера, пастбища. Я задумалась над новым уравнением: Роза плюс Лили, поделенное на Эва плюс я, тождественно Рене Борделону. Четыре женщины и один мужчина. Я вглядывалась в зернистый снимок, стараясь уловить в лице Борделона следы раскаяния, вины или жестокости. Но фотография этого не передаст. Я видела просто старика на банкете.
Я хотела вернуть фотографию Эве, но она резко оттолкнула мою руку:
– Оставь себе.
Снимок перекочевал в мою сумочку. Казалось, пустые глаза Борделона следят за мной даже сквозь ее кожаную боковину. Я повернулась к Эве. Она выглядела лучше и уже не походила на вчерашнее загнанное существо, истерзанное виной и ненавистью к себе. Я осторожно коснулась ее руки.
– Ночью вы не рассказали о суде и о том, что стало с вами, Лили и Виолеттой.
– Негожая тема для ночных бесед.
Я подставила лицо пригревавшему солнцу.
– Но сейчас-то тьма рассеялась.
Эва шумно выдохнула.
– Очень надеюсь.
Она поведала нам о суде: львы в зале, отрывистая речь немецких судей, изменение приговора. Плевок Виолетты. Я вздрогнула, вспомнив недавнее повторение этой сцены в Рубе. Виолетта… Мелькнула какая-то мысль, еще ночью меня посетившая (в уравнении что-то не сходилось), но я ее отогнала, потому что Эва сказала:
– Потом нас отправили в Зигбург.
Глава тридцать четвертая
Эва
Март 1916
После войны Эва удивлялась тому, как слабо отпечатались в памяти нескончаемые дни на каторге, неотличимые один от другого. Шесть лилльских месяцев помнились с кристальной четкостью, а два с половиной года в Зигбурге казались дурным сном.
– В камеру!
В марте 1916-го ее приветствовала эта резкая команда, а грубый толчок в спину повелел мрачным коридором следовать за Лили и Виолеттой. Они не знали, как их новая обитель выглядит снаружи – грохочущий фургон въехал в тюремный двор в кромешной тьме.
– Ничего, – шепнула Лили. – Всё рассмотрим, когда выйдем на свободу.
Однако в этом коридоре, пропахшем мочой, потом и отчаянием, свобода казалась недосягаемой. Эва стиснула лязгавшие зубы. Заскрежетал ключ в личине, взвизгнули петли, тяжелая дверь распахнулась.
– Гардинер! – рявкнул надзиратель и снова грубо толкнул Эву.
– Погодите… – пролепетала она, но дверь уже захлопнулась. Удушающая ледяная тьма поглотила Эву.
Первая ночь ломает всех, – позже скажут ей другие заключенные. Но Эва прибыла в Зигбург уже сломленной. Мрак в камере был ничто по сравнению с мраком в ее душе. А потому она разжала зубы и ощупью исследовала свое жилище. Каменные стены, камера теснее, чем в тюрьме Сент-Жиль. Грязный лежак с жестким тюфяком, пропитавшимся застарелым потом, блевотиной и страхом. Сколько узниц сдавленно плакали на этой койке? За стеной приглушенно слышались крики, потом раздался взрыв истерического хохота. Надзиратели не реагировали. Вскоре Эва узнала, что после отбоя камеры не открывают. Узница могла умирать в горячке от заражения крови, вопить от боли в сломанной кости, корчиться в родовых муках – до рассвета дверь не откроется. Многие погибали. На что и был расчет.
Грязная койка вызывала отвращение; дрожа от холода, Эва прикорнула на каменном полу. Утро пришло в компании с угрюмым надзирателем, принесшим одежду – грубые синие чулки и серую робу с крестом на груди. Началась бесконечная череда тюремных дней.
Голод. Холод. Вши. Тумаки надзирателей. Каждодневная работа: шитье мешков, ошкуривание засовов, сборка каких-то железяк. Перешептывание заключенных: говорят, была битва у Монт-Соррель… и на реке Сомма… англичане будто бы захватили Ла-Буаселль… и Контальмезон… Жажда новостей пересиливала физический голод. А надзиратели утверждали, будто немцы одерживают верх.
– Вранье! – фыркала Лили. – Гнусное вранье! Сами понимают, что проигрывают войну. Нам нужно вытерпеть, вот и все.
Вытерпеть, – повторяла себе Эва. Минул год, ничто не менялось: унылые дни, тумаки, вши, ночные вопли. Лили страшно исхудала, но взгляд ее горел уверенностью в победе. Бессонные ночи на грязной койке. Лихорадка уносила жизни тех, кого не успели перемолоть жернова голода и холода. Изолятор – большое помещение с мерзкими зелеными занавесками, провонявшими дерьмом и кровью. Одни называли его лазаретом, другие – преисподней. Сюда добирались не лечиться – умирать. Немцам не приходилось тратить патроны, узниц убивали небрежение и болезни. Тонкий расчет, – отстраненно думала Эва. Смерть женщины на больничной койке не вызовет такой международной шумихи, как ее смерть под дулами расстрельного взвода.
А какие женщины были здесь! Пусть они неимоверно исхудали, пусть у них ввалились глаза и засалились волосы, пусть они носили одинаковые тюремные робы с крестом на груди, но одна к одной – цветы зла. Неистовая Луиза Тюлье помогала Эдит Кэвелл переправлять раненых солдат через границу, у бельгийки мадам Раме расстреляли сына, а ее саму с двумя дочерьми посадили в тюрьму, несгибаемая принцесса де Круа создала бельгийскую шпионскую сеть… Раньше Эва даже не представляла как много женщин рисковали жизнью ради победы. И сейчас они по-своему продолжали борьбу.
– Оказывается, железяки, которые мы собираем, – это части гранат. – прошептала Лили. – Что будем делать?
– Не вздумай, – устало сказала Виолетта.
– Заткнись. Немыслимо производить боеприпасы, которые используют против наших соотечественников.
На другой день по тюрьме разнесся клич: Товарищи! От имени Англии, Франции, Бельгии и всех союзников призываю вас отказаться от производства боеприпасов. Мы не можем создавать орудия смерти, несущие гибель нашим отцам, братьям, мужьям и сыновьям. Мы не сдаемся, мы по-прежнему воюем под знаменами наших отечеств…
Истощенные скелеты вдруг ожили и принялись вопить, точно валькирии, всполошив надзирателей. Эва орала до хрипоты, ее не остановил даже мощный удар кулаком в челюсть. Она смолкла, лишь когда ее затолкали в камеру, а зачинщиков беспорядка – Лили и мадам Бланкаерт – отправили в карцер.
– Оно того стоило, – сказала Лили, отбыв месяц наказания.
Как знать, – подумала Эва, глядя на подругу, превратившуюся в тень себя прежней, и укутала ее своим одеялом. Вытерпеть. Главное – вытерпеть.
Минул еще один бесконечный серый год. Запоздалая весна 1918-го принесла пушинку надежды. По камерам гуляла весть: немцев бьют на всех фронтах. Слухи о победах англичан и вторжении французов на германскую территорию подтверждал поникший вид надзирателей, надрывно вопивших о военных успехах немцев. Это носилось в воздухе: кровавая жатва войны наконец-то завершается.
Месяцев на пять бы раньше, – уже в послевоенные долгие ночи думала Эва, уставившись в зрачок своего «люгера».
Сентябрь 1918
– Спасибо, что пришла, маргаритка.
Укрытая грязным одеялом, Лили казалась бесплотной. Несмотря на почти июльскую жару, в изоляторе было холодно. Эва присела на край кровати и зябко поежилась. В тюрьме разразилась эпидемия тифа; Эва пожаловалась на озноб и головную боль, и ее, освободив от работы, тотчас поместили в изолятор. Вот так она стала соседкой Лили.
– Как ты? – спросила Эва.
– Ничего страшного. – Лили похлопала себя по груди. У нее обнаружили гнойный плеврит, но она ничуть не переживала. – Вскроют гнойник, и все дела.
До операции, назначенной на четыре часа, оставалось недолго.
– Врач приехал из Бонна? – Эва старалась унять дурное предчувствие.
Конечно, операция несложная, но кошмарные условия лазарета и состояние ослабленного голодом пациента…
Лили не боится, и ты не трясись, – приказала себе Эва.
Наверное, Лили все-таки боялась, потому что взгляд ее был необычно цепок. Некогда красивые глаза ее ввалились, голова превратилась в обтянутый кожей череп.
– Пригляди за Виолеттой, если… – Лили выразительно пожала плечами.
– Все будет хорошо, – оборвала ее Эва. – По-другому быть не может.
Этим-то она и жила два с лишним года. Из-за ее предательства подруги оказались в таком кошмаре. Если все закончится благополучно, ее, может быть, простят или хотя бы обо всем забудут. Об этом она думала непрестанно, пытаясь отдать половину своей пайки Лили или своим одеялом укрыть Виолетту, по-прежнему обжигавшую ее ледяным взглядом. Помоги им выжить, и ты искупишь свою вину.
У нее это почти получилось – скоро войне конец. Еще чуть-чуть, и будем дома.
Видимо, в глазах ее промелькнуло отчаяние, потому Лили почти прозрачной ладонью накрыла ее изуродованные пальцы.
– Побереги себя, маргаритка. Без меня будет некому вытащить тебя из беды…
– Не говори так! – Эва испуганно задохнулась и сжала ее руку. Она не потеряет Лили из-за какого-то гнойника. Уж тем более сейчас, когда близок конец мучениям. – Всего-то и надо – сделать надрез и откачать гной. Ты поправишься!
– Вот только немцы не заинтересованы в моем выздоровлении, малышка, – спокойно сказала Лили.
Эва чуть не расплакалась. Тут не поспоришь: тюремное начальство не скрывало, что яро ненавидит эту баламутку.
– Наверное, зря ты устроила забастовку и…
И что еще? Зря не покорилась с первого дня? Зря замышляла побег, зря шутками-прибаутками поддерживала дух заключенных? Будь Лили из тех, кто не высовывается, она бы не создала лучшую шпионскую сеть.
– Все будет хорошо, – упрямо повторила Эва.
Она хотела еще что-то сказать, но в изолятор вошли два санитара.
– Подъем, Беттиньи. Врач ждет.
У Лили не было сил встать самой. Эва помогла ей подняться и оправила ее неказистую серую робу.
– Какой ужас! – скривилась Лили. – Все бы отдала за розовый шелк!
– И сомнительную шляпу? – сумела пошутить Эва.
– Я бы удовольствовалась сомнительным мылом. Волосы – прям пакля.
– Лили… – У Эвы перехватило горло.
– Помолись за меня, пока я там. – Лили кивнула в коридор, в конце которого была операционная. – Мне это нужно. Я написала андерлехтской аббатисе, но твоя молитва, Эвелин Гардинер, мне стократ дороже.
Впервые она назвала Эву ее настоящим именем. Даже после суда они пользовались привычными агентурными кличками.
– Я не смогу молиться, – прошептала Эва. – Я больше не верю в бога.
– Но я-то верю. – Лили поцеловала зажатые в руке четки.
– Хорошо, я помолюсь, – кивнула Эва. – Скоро увидимся. Непременно.
Санитары подхватили Лили под руки и потащили в коридор. Эва шла следом. Выглянула медсестра из операционной, где мелькнул врач, куривший сигарету. Никакой суеты. Никто не стерилизовал инструменты, не готовил хлороформ…
Эву обуял страх. Лили, не ходи туда…
Донесся голос ее подруги, читавшей молитву:
– Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей…
В коридоре столпились женщины, украдкой пробравшиеся в изолятор. Бросая встревоженные взгляды на королеву шпионажа, Луиза Тюлье, принцесса де Круа, Виолетта и другие цветы зла шепотом за нее молились. Санитары прибавили шаг, голос Лили угас. На секунду показалось, что силы покинули ее окончательно – сейчас она разрыдается, рухнет на пол, и ее волоком доставят на операционный стол.
Нет. Лили выпрямилась, вскинула подбородок и бросила знакомый озорной взгляд на подруг. В тусклом свете ее кое-как уложенные волосы напоминали корону.
– Друзья мои… я вас люблю… – тихо проговорила Лили по-французски и, поравнявшись с Виолеттой, вложила ей в дрожащие руки свои четки.
Меж здоровенных санитаров она смотрелась легконогой беззаботной девочкой, плывущей по коридору. Сердце Эвы бухало, точно литавры. Лили…
Перед дверью операционной Лили обернулась и, шаловливо улыбнувшись, послала всем воздушный поцелуй. Эву качнуло, как от удара. Лили скрылась за дверью, из операционной донесся ее веселый ясный голос:
– Вы, как я понимаю, хирург? Не угостите даму хлороформом? Знаете, у меня был просто жуткий день.
У Эвы подогнулись ноги. Она все поняла.
– Обойдется, – сказала Луиза Тюлье. – Нашу Лили плевритом не свалишь…
– Ничто ее не возьмет…
Женщины друг друга успокаивали, но глаза их были полны тревоги.
– Через неделю, а то и раньше, поправится… – Виолетта так стиснула четки, что бусины врезались ей в ладонь.
Надзиратели всех выгнали, в изоляторе осталась только Эва, поскольку у нее подозревали тиф. Свернувшись на койке, она слушала стоны и сдавленные крики человека, которого оперируют без наркоза. Надежда иссякла, плачем не удавалось заглушить мученья Лили. К утру сил уже не осталось, Эва смолкла.
Смолкла и Лили.
Цитата из «Войны женщин» – воспоминаний о Луизе де Беттиньи, записанных Антуаном Редье со слов его жены Леони Ван-Гутт, агентурная кличка Виолетта Ламерон:
Она жила и умерла как боец.
Глава тридцать пятая
Чарли
Июнь 1947
Сердце мое ныло.
Я так надеялась, что королева шпионажа уцелела, что мы встретимся, и я увижу седую, но по-прежнему изящную и веселую женщину. Ужасно хотелось познакомиться с той, над кем годы не властны.
Желая выразить сочувствие, я посмотрела на Эву, сгорбившуюся на заднем сиденье. Но что тут скажешь после такого рассказа? Еще двадцать минут назад Финн съехал на обочину, и теперь все молчали, окруженные летней тишиной.
В безжалостном утреннем свете Эва выглядела неважно. Я потянулась к ее изуродованным рукам, но она снова заговорила:
– Ну вот. Теперь ты знаешь все. Отважная Лили умерла невообразимо страшной смертью. Из-за меня. Я ее подвела и не сумела выручить.
Нет, вы не виноваты! – вскипело во мне возражение. – Не надо так говорить! Но именно так она думала, и никакими словами не загасить ее ненависть к себе. Уж это я понимала. Я очень хотела помочь и собрать разбитое вдребезги, но тут уже ничего не поправишь.
Или поправишь?
Трясущейся рукой Эва отерла дрожащие губы.
– Езжай, шотландец, – прохрипела она. – Если стоять на обочине, в Гренобль вовек не доберешься.
Финн вырулил на дорогу, мы ехали в полном молчании, порожденном ужасным рассказом. Эва закрыла глаза. Финн смотрел прямо вперед и лишь изредка просил передать ему карту. Я обдумывала возникшую мысль.
Гренобль выглядел славно: уютные домики, симпатичные церквушки, неспешная гладь Драка и Изера в обрамлении далеких Альп, укрытых облачными шапками. Устроились в гостиницу. Финн занес вещи Эвы и вопросительно взглянул на меня.
– Мне нужно позвонить, – сказала я, направляясь к стойке портье.
Наверное, Финн решил, что я хочу связаться с родными, но звонила я не в Штаты. После долгих препирательств телефонистка соединила меня с антикварной лавкой в Рубе, название которой я, к счастью, запомнила.
– Алло?
Голос я узнала сразу, хоть слышала его только однажды. В памяти возникли бликующие стекла очков.
– Виолетта Ламерон?
Долгая пауза.
– Кто вы?
– Шарлотта Сент-Клэр. Недавно мы встречались. Я приходила вместе с Эвой Гардинер, известной вам как Маргарита Ле Франсуа. Пожалуйста, не бросайте трубку, – попросила я, услышав раздраженное сопение на другом конце провода.
– Что вам надо? – Тон был ледяной. – Если вы хлопочете об этой продажной суке, я палец о палец не ударю…
Я проглотила злость, стараясь не рявкнуть, что Эва ни в чем не виновата, и удержаться от вопроса: а что было бы с вами, если б вас накачали опием и раздробили вам пальцы? Она считала Эву виновной, и никакие слова ее не переубедят. Только факты. Вот для этого она мне и нужна.
– Необходимо посмотреть протоколы суда над вами, Эвой и Лили. – Я заговорила тише, повернувшись спиной к любопытному портье. – Я думаю, в них скрыта ложь.
Мысль эта пришла мне давно. Что-то не сходилось. Найди икс.
– Что может знать молоденькая американка о протоколах тридцатилетней давности? – В тоне Виолетты слышалось презрение.
Но в таких делах я разбиралась лучше, чем она думала. Работа в отцовской конторе стала хорошей школой: я каталогизировала французские и немецкие кодексы, архивировала судебные решения, слушала рассуждения отца о европейском и американском законодательстве.
– Суд над шпионками в разгар войны должен быть тщательно задокументирован, – сказала я. – Судили увенчанных наградами героев. За процессом внимательно следили немецкие военные, французские журналисты, бельгийские чиновники, английские дипломаты. Я уверена, все бумаги были сохранены как доказательство того, что суд прошел без юридических нарушений. Но если есть нестыковки, их можно найти, надо только посмотреть документы. Вы поможете?
– Какие нестыковки? – не удержалась Виолетта, в голосе ее звучало любопытство.
Клюнула, – подумала я и ответила на ее вопрос.
В трубке долго молчали.
– Почему вы обращаетесь ко мне? Вы меня не знаете, мадмуазель.
– По рассказам Эвы, я знаю, на что вы способны. Вы не остановитесь, пока не докопаетесь до истины. Я не знаю, засекречены или нет эти протоколы, но в любом случае вам проще получить к ним доступ. Судили вас, и вы вправе с ними ознакомиться. Вы с Эвой не владеете всей картиной, потому что не присутствовали на совещании судей. Вы герой войны, Виолетта. – Я решила, что немного лести не повредит. – Наверняка среди властных людей есть те, кто вас уважает, чем-то вам обязан и потому нажмет нужные кнопки. Вы найдете способ раздобыть информацию, если она имеется в тех документах.
– И если имеется.
– Просто сообщите мне, права ли я. Пожалуйста.
Долгое-долгое молчание. Я даже подумала, что связь прервалась. Во рту пересохло. Прошу тебя! – мысленно взмолилась я.
Наконец Виолетта ответила. В голосе ее слышались удивление и заинтересованность, словно приоткрыл глаза шпион, долгие годы дремавший в почтенной лавочнице. В таких, как она и Эва, разведчик не умирает.
– Если я что-нибудь найду, как с вами связаться, мадмуазель Сент-Клэр?
– Завтра я позвоню вам из Грасса и сообщу название своего отеля.
Я положила трубку. Меня потряхивало. Что ж, удочка заброшена, осталось ждать поклевки. Поднимаясь к себе, я подумала, не рассказать ли Эве о своей затее, но тотчас себя одернула – нет. Она совсем ослабла, и это ее просто добьет. Не стоит вселять надежду, пока не будет достаточных оснований.
Номер мой был довольно мил. Я распахнула ставни и посмотрела на улицу в быстро сгущавшихся сумерках. Внизу под ручку прогуливались пары, и я вспомнила, как мы с Розой смеялись: вот вырастем, и у нас будет свидание двое на двое. Держась за руки, прошли улыбчивый парень и высокая блондинка, которая не показалась мне Розой. Просто какая-то незнакомая девушка. Похоже, после поездки в Орадур-сюр-Глан моя галлюцинация меня покинула. Вернись, – попросила я, вглядываясь в прохожих. Вернись, Рози. Но она, конечно, не вернулась. Роза и Джеймс умерли.
В дверь постучали. Я подумала, Эва хочет рассказать о планах на Грасс, но это был Финн. В первую секунду я его даже не узнала: гладко выбрит, в пиджаке (потертом на локтях, но приятного синего цвета), ботинки надраены до зеркального блеска.
– Давай вместе поужинаем, – сказал он без предисловий.
– Вряд ли Эва сойдет к ужину. Похоже, она решила насытиться виски.
Эва искала забвения, и теперь я, узнав, как погибла Лили, понимала ее лучше.
– Гардинер уже отрубилась. – Финн похлопал себя по карману, в котором звякнула обойма «люгера». – Я говорю о нас. Приглашаю тебя на ужин, Чарли.
Я напряглась. Судя по тому, как он вырядился, речь шла не о перекусе в ближайшем кафе.
– Это что… свидание? – Я удержала руку, вознамерившуюся взлететь к моим растрепанным волосам.
– Да. – Финн смотрел мне в глаза. – Так поступает мужчина, когда девушка ему нравится. Надевает пиджак. Чистит ботинки. Приглашает девушку на ужин.
– Я таких мужчин не встречала. Которые, получив свое…
В памяти возникли запотевшие окна машины и наше прерывистое дыхание.
– Беда в том, что ты якшалась с пацанами. Не с мужчинами.
Я хмыкнула.
– Интересно, что сию мудрость изрекает не седобородый старец, но человек, которому еще нет тридцати.
– Дело не в возрасте. Можно оставаться мальчишкой в пятьдесят и быть мужчиной в пятнадцать. Важно, как ты поступаешь, а не то, сколько тебе лет. – Финн помолчал. – Пацан набедокурит с девушкой и смоется. Мужчина – напортачит и принесет извинения.
– Значит, ты сожалеешь о том, что было.
Я вспомнила его объятия и невнятный шепот: Я представлял себе это совсем по-другому… Сердце мое сжалось. Я-то ни капли не сожалела.
– Ничуть. – Голос его был ровен. – Пожалуй, лишь о том, что все было впопыхах. Что все случилось не после совместного ужина, а после драки, в которой тебе разбили губу. Негожее начало отношений с девушкой, которая тебе нравится. А ты мне нравишься, Чарли. Таких мозговитых барышень я еще не встречал – прям счетная машинка в черном платье. И мне это нравится. Ты остра на язык, и это мне тоже по душе. Ты пытаешься всех спасти – начиная с твоей кузины и брата и заканчивая сбрендившей баламуткой вроде Гардинер. И это мне нравится в тебе больше всего. Поэтому и приношу извинения и приглашаю тебя на ужин. Вот он я, в пиджаке. (Пауза.) Я ненавижу пиджаки.
Лицо мое разъехалось в улыбке, которую я не сумела сдержать. Финн улыбнулся в ответ, от глаз его побежали морщинки. У меня вдруг ослабли колени. Я прокашлялась и оправила полосатую блузку.
– Дай мне десять минут.
– Договорились. – Финн вышел в коридор, но через секунду из-за двери донесся его голос: – Можешь опять надеть то черное платье?
– Роскошный ужин я не обещал, – сказал Финн. Привалившись к гранитной балюстраде старого моста через Изер, мы угощались сэндвичами, которые он купил на вынос в кафе неподалеку от площади Святого Андре. – Я маленько на мели.
– Зато никакой ресторан не предложит такого вида.
Я смотрела на темное небо в россыпи звезд и колеблющееся отражение луны в реке, плавно несущей воды сквозь шум городских улиц.
– Какая твоя любимая еда? – вдруг спросил Финн.
Я рассмеялась.
– А что?
– Я многого о вас не знаю, мисс Сент-Клэр, но хочу узнать. – Он смахнул крошку с моих губ. – Для этого и существует первое свидание. Итак – любимая еда?
– Раньше был гамбургер. С луком, капелькой горчицы и латуком, но без сыра. Однако с тех пор, как здесь поселился Розанчик… – я похлопала себя по животу – …я полюбила бекон. Чуть поджаренный, с хрустящей корочкой. Я так им объедаюсь, что к появлению малышки на свет во Франции не останется ни одной свиньи. А какое ваше любимое блюдо, мистер Килгор?
– Жареная рыба с картошкой, и чтоб много солодового уксуса. Любимый цвет?
Я посмотрела на его пиджак, в котором он выглядел еще более темноволосым и широкоплечим.
– Синий.
– Совпадает. Последняя книга, которую ты прочла?
Мы ходили взад-вперед по мосту, дурачась и забавляясь. Финн спросил о моей учебе, и я рассказала о занятиях математикой. Потом я спросила, где он научился так хорошо разбираться в машинах, и он сказал, что с одиннадцати лет работал в дядиной автомастерской. Мелочи, в которых человек приоткрывается. Обычно подобные разговоры происходят еще до того, как полураздетым кувыркаешься на заднем сиденье кабриолета, но у нас все вышло шиворот-навыворот.
– Будь у тебя десять тысяч фунтов стерлингов, что ты купила бы?
– Выкупила бы бабушкин жемчуг. Я его люблю. А ты – что?
– «Бентли Марк VI», – не задумываясь, ответил Финн. – Машина-красавица, первое совместное творение «Бентли» и «Роллс-Ройс». Хотя с такими-то деньгами я бы, наверное, взял «феррари 125S». На гонках в Пьяченце этот новичок победил в шести заездах из тринадцати…
Он стал рассказывать о двенадцатицилиндровом двигателе, и я просто заслушалась. Сама не знаю, почему это было так увлекательно. Когда после лекции по английской литературе Тревор Престон-Грин угостил меня молочным коктейлем и битый час зудел о своем «шевроле», мне хотелось опростать стакан ему на голову. А сейчас рассказ Финна о задней подвеске «Де Дион» меня буквально заворожил.
– Я тебя заболтал, – осекся Финн, заметив мою улыбку.
– Насмерть. Расскажи еще о пятиступенчатой коробке передач.
– Она позволяет резко набрать скорость, – серьезно сказал Финн. – Твоя очередь поведать что-нибудь такое, от чего мухи дохнут.
– Теорема Пифагора. – Я решила выбрать что-нибудь полегче. – А в квадрате плюс B в квадрате равняется C в квадрате. Это значит, что у прямоугольного треугольника сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. (Финн изобразил, что рвет на себе волосы.) Ну что ты? Простенькая эвклидова геометрия не повод для отчаяния.
Мы рассмеялись и стали кидать остатки сэндвичей гогочущим гусям в реке. Потом, опершись на парапет, смотрели на воду и уютно молчали. Я не привыкла молчать на свиданиях. Девушка должна балаболить без устали, иначе ее примут за синий чулок. Будь интересной! Искрись! А то он тебя больше не пригласит! Но вот сейчас молчание было ничуть не хуже болтовни. Нарушил его Финн.
– Как по-твоему, Борделон и впрямь сидит в Грассе и ждет, чтоб его отыскали? – задумчиво проговорил он. – Или Гардинер слегка свихнулась?
Я помешкала, не желая расставаться с умиротворением.
– Шансов, что он там, очень мало, однако Эва оказывается права чаще, чем ошибается. – У меня имелся свой вопрос. – А вдруг мы его найдем? Что она сделает?
– Если докажет, что он тот самый Рене дю Маласси, который сотрудничал с немцами и милицией и застрелил своего работника, то сможет сдать его властям. – Финн раскрошил последнюю хлебную корку. – Де Голль не жалует предателей и убийц, даже престарелых. Борделону светит тюрьма, особенно если будет доказана его причастность к бойне в Орадур-сюр-Глан. Придет конец его репутации и свободе…
– Думаешь, Эва этим удовольствуется?
Мы переглянулись и хором произнесли:
– Нет.
Финн накрыл ладонью мою руку.
– Мы должны удержать ее от непоправимых поступков, – сказала я. Жизнь не кино, в реальном мире отмщение имеет последствия вроде тюрьмы. Молодая Эва выжила в Зигбурге, но сейчас вряд ли переживет тюремный срок за физическую расправу или как там это называется во французском кодексе. – Сколько бы ей ни осталось, я не допущу, чтоб из-за этой старой сволочи она швырнула свою жизнь псу под хвост.
– Но ведь это ее жизнь, правда? – Пальцы Финна медленно переплелись с моими. – Я уже довольно долго рядом с Гардинер. И понимаю ее желание всем рискнуть ради справедливости.
– Убийство старика – это справедливость? Я в таком не участвую, даже если у него руки по локоть в крови. – Эта мысль заставила меня вздрогнуть, а еще я покрылась мурашками от того, что пальцы Финна поглаживали мою руку. – Мы должны не дать ей слететь с катушек. Что очень непросто.
– Ладно, будет день, будет пища. – Финн оттянул меня от парапета. – Кое-что обещай мне, Чарли.
– Что?
– Завтра не разглядывай ту фотографию. Просто насладись поездкой.
Держась за руки, в молчании мы дошли до гостиницы. Финн распахнул дверь, и меня прострелило током, когда его рука коснулась моей голой спины в глубоком вырезе черного платья. Он проводил меня до моего номера, как девушку, которой строго-настрого наказано вернуться домой не поздно.
– Спасибо за прекрасный вечер, – церемонно сказал Финн. – Завтра я тебе позвоню.
– Парни всегда только обещают.
– А мужчины звонят.
Мы пребывали в прозрачном пузыре счастья, украшающем грусть, как глазурь – праздничный торт, и я не хотела из него выбираться.
– В этом я неумейка, – наконец проговорила я. Я не знала, откуда взялось и чему равнялось этакое уравнение: американка в черном платье плюс шотландец в пиджаке, умноженные на летний вечер и сэндвичи и поделенные на неловкое молчание вкупе с беременностью вышеозначенной американки. – Что дальше?
– Это зависит только от тебя, – хрипло ответил Финн.
Секунду я смотрела на него, потом привстала на цыпочки, наши губы мягко соединились, точно летящие пушинки, и я почувствовала, что таю в руках, обвивших мою талию. В бесконечно долгом поцелуе я, расплющенная между твердой дверью и литой грудью Финна, нащупала и нажала дверную ручку. Не прерывая поцелуя, мы ввалились в номер, мои сброшенные туфли приземлились на скинутый пиджак Финна. На мгновенье Финн меня выпустил, запер дверь, потом подхватил на руки и отнес к кровати. Когда он разомкнул хватку, я вскрикнула – почудилось, что я падаю с огромной высоты. Глядя на него снизу вверх, я поймала себя на том, что ужасно волнуюсь. У нас уже все было, но не в постели и не при свете…
Со стоном Финн повалился на меня.
– Кровать несравнимо лучше заднего сиденья, – проговорил он между поцелуями, которыми покрывал мое горло.
– Я умещаюсь и там, и там… – Я стягивала с него рубашку.
– Потому что ты малявка. – Финн мне помог, стащив рубашку через голову, и ухмыльнулся. – Не гони. Это забег на длинную дистанцию…
– Ты же любишь скорость, – выговорила я, любуясь его стройным смуглым телом. – Чтоб разогнаться и лететь на пятой передаче…
– Скорость нужна на дороге. В постели – неспешность.
Я запустила пальцы в его волосы и прогнулась, позволяя ему медленно расстегнуть молнию на моем платье.
– Насколько неспешно?
– Очень… очень… очень… – Он приник к моим губам. – На место прибудем только к утру.
– Всю ночь?
Я обхватила его ногами. Темные глаза его были так близко, что мы соприкасались ресницами. Я в него втрескалась, – ошеломленно подумала я. – Втрескалась по уши.
– Завтра целый день ехать, – прошептала я. – Тебе надо поспать.
– Поспать? – Финн ухватил меня за волосы и пророкотал мне в ухо: – О чем ты?
Глава тридцать шестая
Эва
Март 1919
На английскую землю Эва ступила впервые с тех пор, как стала шпионкой. В Гавр ее провожал Кэмерон. И сейчас он же, стоя под ветром, теребившим полы его шинели, встречал ее на фолкстонском причале.
– Здравствуйте, мисс Гардинер, – сказал он, когда Эва сошла с парома.
Из тюрьмы она освободилась больше двух месяцев назад и все это время исступленно отмывалась в ванне, пока оформлялся ее переезд из временного пристанища в Лёвене.
– Здравствуйте, капитан Кэмерон. Нет, уже майор, верно? – Эва посмотрела на его новые знаки различия и сине-красную орденскую планку на левой стороне груди. – В отлучке я кое-что п-пропустила.
– Я надеялся переправить вас в Англию раньше.
Эва пожала плечами. Узниц Зигбурга освободили еще до заключения перемирия – понурые тюремщики распахнули двери камер, и женщины, обливаясь слезами радости, толпой бросились к поездам, которые развезут их по домам. Эва тоже плакала бы от счастья, будь рядом Лили. Но та умерла, и Эве было абсолютно все равно, как скоро она покинет Зигбург.
Кэмерон ее рассматривал, отмечая перемены. Эва знала, что худа как палка, что ее коротко стриженные волосы (борьба со вшами) напоминают паклю. Руки она держала в карманах, скрывая изуродованные пальцы, но вот бегающий взгляд скрыть не могла. Глаза ее не знали покоя, беспрестанно выискивая опасность. Даже здесь, на открытом причале, она привалилась спиной к ограждению, исключая атаку с тыла. Кэмерон был заметно потрясен тем глубоким следом, какой оставили в ней прошедшие годы.
Но и его они не пощадили: глубокие морщины, прожилки на щеках, седые виски. Когда-то я была влюблена в тебя, – безучастно подумала Эва. После смерти Лили в ней жили только горе, злость и вина, друг друга пожиравшие, точно змеи – свой хвост, а пульс неустанно отстукивал одно лишь слово – предательница.
– Я боялась, меня ждет цирковое представление, – сказала Эва, оглядывая пустынный причал, – кроме нее, никто не сошел с парома. С окончанием войны Фолкстон опять превратился в сонную гавань, где уже не суетились военные чины. – Майор Аллентон все твердил о торжественной встрече.
Да, теперь они – герои войны. Виолетту, говорят, чествовал весь город, когда она вернулась в Рубе. Но Эва категорически отказалась от всяческой помпы.
– Я его отговорил, – сказал Кэмерон. – Знаете, он запланировал армейских шишек, газетчиков и духовой оркестр.
– Слава богу, вам это удалось. А то я бы огрела его какой-нибудь тубой. – Эва закинула сумку на плечо и зашагала с причала.
– Я надеялся увидеть вас на похоронах Луизы де Беттиньи в Кельне, – сказал Кэмерон, пристраиваясь рядом.
– Я хотела приехать.
По правде, Эва была в Кельне, но так и не вышла из гостиничного номера. Вдребезги пьяная, она чуть не пристрелила коренастую груболикую горничную, которая доставила ужин – помни́лось, что перед ней та самая кошмарная Жаба, проводившая обыск в Лилле. От воспоминания Эву качнуло, она глубоко вдохнула морской воздух.
– Так почему же не приехали? – тихо спросил Кэмерон.
– Не х-хватило духу.
С Лили она простилась в зловонном коридоре изолятора и не хотела слушать славословия французских генералов над ее могилой. Ничего этого Эва не сказала, только ускорила шаг, желая отвязаться от Кэмерона. Но длинноногий спутник ее догнал.
– Знакомые вас приютят? Вам есть где жить?
– Что-нибудь найду.
Кэмерон взял ее за локоть.
– Погодите, Эва. Ради бога, позвольте вам помочь.
Она резко высвободила руку. Не выносила, чтоб ее трогали. Оказалось, что после тюрьмы она не выносит многого – распахнутые окна, толпу, открытые пространства, где нельзя защитить спину, сон…
– Обращайтесь ко мне «мисс Гардинер», так будет лучше. – Избегая ласковых глаз Кэмерона, Эва отвернулась к проливу и плотнее натянула шляпу, которую прохладный ветерок норовил сорвать. Размякать нельзя. – Знаете, в тюрьме нас не баловали сводками с фронта, а сейчас уже никто не хочет вспоминать былые сражения. Перед арестом Лили сообщила о готовящемся наступлении под Верденом. – Эва думала о том беспрестанно – их донесение что-нибудь изменило? – Как там все сложилось?
– Вашу информацию передали французскому командующему. – Похоже, Кэмерон решил на этом остановиться, однако под пристальным взглядом Эвы неохотно продолжил: – Этим данным не поверили. Потери были… огромные.
Эва зажмурилась, чувствуя, как в горле зарождается то ли смех, то ли вопль.
– Значит, все зря.
Ради этого донесения Лили пожертвовала собой. Эва оставила спящего Кэмерона и вернулась в смертельную опасность, потому что ради таких сведений стоило рисковать жизнью. Но все оказалось напрасно. Вопреки всем их усилиям кровавая баня состоялась.
– Выходит, от моей работы никакого толку.
– Не смейте так думать! – крикнул Кэмерон. Он хотел схватить Эву за плечи, но та отпрянула. – Вы спасли сотни, нет, тысячи жизней. Ваша сеть была лучшей, с ней не сравнится никакая другая.
Эва усмехнулась. Кому нужны восхваления, если поражений неизмеримо больше, чем побед? Сказочный шанс убить кайзера – неудача. Возможность сорвать наступление под Верденом – неудача. Попытка сохранить шпионскую сеть после ареста Лили – неудача.
– Не знаю, читали ли вы сообщения майора Аллентона, – продолжил Кэмерон. – Он говорит, вы ни разу не ответили. Вы удостоены вот этих наград. Майор собирался вручить их вам на похоронах Луизы. Она награждена посмертно.
Эва не шелохнулась. После неловкой паузы Кэмерон сам открыл коробку, в которой блеснули четыре ордена.
– Военный крест, Военный крест с пальмовой ветвью, орден Почетного легиона и орден Британской империи. Так оценен ваш подвиг.
Побрякушки. Эвы выбила коробку из рук Кэмерона.
– Не надо мне никаких наград.
– Ладно. Они побудут у майора Аллентона.
– Пусть засунет их себе в жопу!
Кэмерон поднял и уложил ордена в коробку.
– Поверьте, я тоже не хотел получать свою награду.
– Никуда не денешься, вы на службе. – Эва отрывисто хохотнула. – А вот я никому на хрен не нужна. Сделала свое дело, получила висюльки и могу валить обратно в свою контору. Да пусть ваша армия подавится этим мишурным говном!
Теперь Кэмерон поморщился от ее выражений. Он опустил глаза, и тут Эва сообразила, что не убрала руку в карман. Взгляд Кэмерона переходил с ее изуродованных пальцев на ее лицо и обратно. Казалось, он вспоминает целомудренную девушку с нежными руками, которую сам же отправил во Францию. Война, пытки, тюрьма и Рене Борделон не оставили от нее и следа. Та девушка превратилась в сквернословящую калеку, давно забывшую, что такое невинность. Ты не виноват, – хотела сказать Эва, увидев страдание в его глазах. Только он ей не поверит. Она вздохнула и сжала искалеченные пальцы в кулак.
– Из рапорта вы д-д-должны были знать об этом, – сказала она.
– Одно дело – знать, другое – увидеть своими глазами.
Кэмерон хотел погладить ее руку, но вовремя остановился. Слава богу, – подумала Эва, – он не заслужил, чтоб я его опять отпихнула. Кэмерон испустил глубокий вздох:
– Давайте выпьем.
В кошмарном портовом баре хриплоголосые официантки швыряли мутные стаканы с джином посетителям, в десять утра уже пьяным. Но в этой дыре, где не было даже окон, никто ни на кого не обращал внимания. После двух порций джина, отлакированных пинтой пива, Эва немного успокоилась. Она всегда гордилась своим хладнокровием в минуту опасности, только этот навык ей уже давно без надобности. Кажется, последний раз он пригодился в той комнате с зелеными стенами.
Рене. Эва прихлебнула пиво, смакуя его вместе с ненавистью, которая раньше горчила, а нынче была сладкой. Теперь-то руки развязаны. В сумке покоился «люгер». Тот старый пистолет с царапиной на стволе остался у Борделона, но ничего, и этот сгодится.
Весь из себя джентльмен, Кэмерон пил, однако, лихо – залпом опрокинул свой джин, пробормотав «За Габриелу». Эва вопросительно приподняла брови.
– Она тоже мой питомец, – пояснил Кэмерон. – Расстреляна в апреле шестнадцатого. Я поминаю всех, кого потерял. – Он поднял пинту. – За Леона.
– Я тоже была в вашем списке?
– Нет, в нем только те, кто погиб точно. – Взгляд Кэмерона стал обволакивающе нежен. – Со страхом я ждал известия о вашей смерти в Зигбурге.
– Я была к ней близка, когда погибла Лили.
Они обменялись долгим взглядом и снова заказали джин.
За Лили.
Помолчали.
– Для вас есть кое-что полезнее наград, – наконец сказал Кэмерон. – Мне удалось пробить вам военную пенсию. Небольшую, но она удержит вас на плаву. Может, сумеете купить жилье в Лондоне.
– Спасибо, – кивнула Эва.
От пенсии она не откажется – с такими руками в машинистки не пойдешь, а надо на что-то жить.
Кэмерон ее разглядывал.
– Вы почти не заикаетесь.
– Тюрьма излечила. Там понимаешь, что заикание – это еще не самое страшное. – Эва прихлебнула пиво. – Да вот это помогает.
Кэмерон отставил бокал.
– Эва, если я могу…
– Чем вы теперь занимаетесь? – оборвала Эва, не давая ему сказать то, о чем он потом пожалеет.
– Во время русской заварушки был откомандирован в Сибирь. Такого там насмотрелся… – Лицо его застыло от всплывших в памяти картин заснеженной России. Эва не спросила, что там было. – Теперь еду в Ирландию, буду начальником учебного центра.
– Кого там готовят?
– Таких, как вы.
– Зачем? Война закончилась.
Кэмерон невесело рассмеялся.
– Всегда на подходе новая.
Думать о молодом поколении шпионов, которых поглотит очередная война, не хотелось. Ну хоть наставник у новобранцев будет хороший.
– Когда едете?
– Скоро.
– Вместе с женой?
– Да. С ней и нашим ребенком.
– Я за вас рада… в смысле, ваша жена очень хотела… – До чего утомительны эти любезности, – подумала Эва, – чувствуешь себя Сизифом. – Как назвали ребенка?
– Эвелин, – тихо ответил Кэмерон.
Эва уставилась на запятнанную скатерть.
– Почему не Лили? Или Габриела? Почему мое имя, а не чье-то другое?
– Взгляните на себя, и вопрос отпадет.
– Я себя видела. Калека.
– Ничего подобного. Вас не сломить, вы отлиты из стали.
Эва судорожно вздохнула.
– Простите, что тогда обманула и сбежала от вас. Вы же не хотели, чтоб я возвращалась в Лилль. – Голос ее сел. – Мне очень жаль.
– Я все понимаю. – Рука Кэмерона придвинулась ближе, почти соприкоснувшись с ее страшными пальцами.
– Я жалею… – начала Эва и смолкла. О чем? Что он женат? Но в таком состоянии она не смогла бы стать ему парой, даже будь он свободен. Что они не переспят? Но ее кошмары не позволят ей с кем-нибудь делить постель. Что нельзя вернуть прошлое? Какое, до Зигбурга? До Лили? До войны? – Я желаю вам счастья.
Прежде Кэмерон поднес бы ее руку к губам. А сейчас он пригнул голову и приник губами к ее раздробленным костяшкам.
– Я сломленный солдат, Эва, душа моя изнемогает под грузом памяти о погибших агентах. Мне уже не быть счастливым.
– Может, вам уйти в отставку?
– Это не выход. В прошлом много потерь, но в Ирландии меня ждут курсанты… И я подготовлю их лучше, чем всякие козлы вроде Аллентона.
Эва поняла, что он пьян. Трезвый Кэмерон никогда не поносил начальство.
– Я еще могу быть полезен. – Кэмерон тщательно выговаривал слова. – Вот отправлюсь в Ирландию и взращу новое поколение пушечного мяса. Буду работать, пока есть силы. А потом, наверное, сдохну.
– Или уйдете на покой.
– Покой нас убивает, Эва. Конечно, если его не опередит пуля. – Кэмерон горько усмехнулся. – Пуля, скука или бренди – вот что нас приканчивает. Видит бог, мы не созданы для мирной жизни.
– Нет, не созданы. – Эва тоже поцеловала ему руку.
Они еще выпили, Кэмерону было пора на вокзал. Даже пьяный, он оставался англичанином – взгляд остекленевший, но походка прямая.
– Через неделю отбуду в Ирландию, – уныло проговорил Кэмерон, словно его ждал ад. – А вы куда?
– Обратно во Францию. И как можно скорее.
– А что у вас там?
– Враг. – Эва поправила на плече сумку с приятной тяжестью «люгера». – Рене Борделон. Я убью его, даже если это станет моим последним поступком в жизни.
Вот на что она сгодится после войны.
Позже, вспоминая растерянный, полный горечи взгляд Кэмерона, Эва отдала должное артистизму, с каким он ее провел.
– Эва… – Майор запнулся. – Рене Борделон мертв… Вы не знали?
Глава тридцать седьмая
Чарли
Июнь 1947
Я приготовилась к насмешкам Эвы, ибо только слепой не догадался бы, чем мы с Финном занимались ночью. Оба невыспавшиеся, я глупо улыбалась, а Финн беспрестанно на меня косился и на выезде из города лишь чудом не опрокинул нас в кювет.
Однако Эва села в машину, не проронив ни слова. Смотрела на далекие горы и даже не отпускала ехидных замечаний о том, что мы с Финном украдкой держимся за руки. Я попыталась ее разговорить:
– Приедем в Грасс и что будем делать?
В ответ загадочная улыбка.
– Вы кого угодно выведете из себя! – воскликнула я.
Но долго злиться я не могла. Пальцы мои переплелись с грубыми и теплыми пальцами Финна, я была просто оглушена счастьем. Я долго пребывала в полном бесчувствии, потом его разнесли вдребезги горе, вина и гнев, которые и сейчас никуда не делись, но померкли под мощным сиянием радости. И дело было не только в нашей бессонной ночи. Но еще и в том, что утром Финн принес мне кофе и тарелку обожаемого мною бекона с хрустящей корочкой. И в том, что из зеркала на меня смотрела не сердитая девица, воинственно вскинувшая подбородок, но счастливая юная женщина, уже загорелая под французским солнцем, наградившим ее россыпью веснушек. Я видела лицо той, кто любит и любима.
Я мотнула головой, отгоняя эти мысли. Не нужно копаться в своем счастье, чтоб его не сглазить. Мне хорошо, век бы не выпускала руку Финна. Однако я развернулась к Эве и сделала новую попытку:
– И все-таки скажите, как мы отыщем Борделона.
– Сейчас я изыскиваю погрешности в своем плане, америкашка, – ответила она. – Я прекрасно понимаю, что в этом вопросе меня слегка заносит…
– Вернее, сносит с катушек, – пробурчал Финн.
– Я все слышу, шотландец. – Эва ничуть не рассердилась. – Согласна, я маленько не в себе, потому и проверяю свой план. Я вовсе не хочу, чтобы затея моя сорвалась.
Я хотела узнать об отведенной мне роли, но тут Финн ругнулся и выпустил мою руку.
– Что случилось?
– Масло течет. – Он показал на датчик. – Надо кое-что подкрутить.
– Ехать-то осталось всего час! – Я грохнула кулаком по приборной доске. – Старая колымага!
– Выбирайте выражения, мисс. Пожилые дамы нуждаются в отдыхе.
– Она-то не живая!
– Да что ты понимаешь! – Финн свернул на проселок.
Вот уж не думала, что перебранка может быть такой приятной. Нас окружали зеленые холмы, воздух полнился каким-то незнакомым терпким ароматом, чувствовалась близость Средиземного моря.
Машина остановилась, и я, задохнувшись, охнула. Мы смотрели во все глаза. Склон холма укрывал ослепительный сине-пурпурный ковер из сотен тысяч гиацинтов, напоивших воздух опьяняющей сладостью.
Я далеко высунулась в окошко, всей грудью вдыхая аромат.
– Похоже, это цветочная ферма.
Я знала, что Грасс – столица парфюмеров, но никогда не видела таких цветочных полей. Я выскочила из машины и, даже не прикрыв дверцу, зарылась лицом в уже раскрывшиеся бутоны. Голова моя поплыла. Ниже по склону виднелось покрывало из роз, а за ним – пиршество жасминов. Я обернулась – Эва замерла, сраженная морем запахов, Финн, улыбаясь, доставал ящик с инструментами. Не в силах побороть искушение, я вошла в синюю гладь и окунула руку в цветочные волны. Я как будто брела по благоухающему сапфировому озеру.
Когда я вернулась на «берег», Финн уже закончил ремонт.
– Это вам, Эва! – Я вывалила ей на колени охапку гиацинтов.
Изуродованной рукой она осторожно коснулась нежных лепестков. У меня защипало глаза. Как же я люблю тебя, старая ты, задиристая карга! – подумала я.
Губы ее тронула скупая улыбка, и я приготовилась услышать какие-нибудь ласковые слова.
– Значит, вот что нам предстоит в Грассе, – сказала Эва.
Я рассмеялась. Как же, дождешься от нее сантиментов!
– Тебе, шотландец, понадобятся шикарный костюм и визитные карточки. Ты, америкашка, изобразишь мою любящую внучку. Запаситесь терпением, затея потребует времени.
Эва коротко изложила свой план.
– Может сработать, – кивнул Финн. – При условии, что Борделон в Грассе.
– Допустим, мы его найдем, и что потом? – спросила я.
Эва усмехнулась.
– Зачем тебе знать?
– Отвечайте. – Я вспомнила вчерашний разговор на мосту. Пусть Эва жаждет крови, но я не буду участвовать в убийстве. – Что вы собираетесь делать?
Эва проговорила на французском:
– Я, как ангел со взором суровым, под твоим буду снова альковом… И к тебе прикоснусь я лобзаньем, Словно лунным холодным сияньем; Ты почувствуешь ласки мои, Как скользящей в могиле змеи[10].
Я простонала.
– Дайте угадаю – Бодлер?
– Мое любимое стихотворение – «Привидение». По-французски «Le Revenant». Это слово от глагола «возвращаться», и потому на французском название выглядит точнее. Рене думал, я уже не вернусь. Он очень сильно ошибается.
Мы с Финном переглянулись.
– Живо в машину, детки, – скомандовала Эва. – Мы не можем весь день любоваться цветочками.
В сумерках въехали в Грасс – окутанный благовонием цветочных полей город квадратных башен, извилистых улочек, абрикосовых крыш и средиземноморских красок. Прошагав к стойке портье, Эва уже открыла рот, но я ее опередила:
– Два номера. – Я глянула на Финна. – Один для бабушки, другой для нас с тобой, милый, верно?
Без запинки выдав эту фразу, рукой с обручальным кольцом я накрыла его ладонь. Как учила Эва, мелкие детали способствуют надежности легенды.
– Конечно. – Финн чуть напрягся, но портье даже глазом не моргнул.
Позже я позвонила в Рубе и сообщила Виолетте название своего отеля. Мы в Грассе, охота началась.
Визитные карточки Финна выглядели солидно.
– Подавай их небрежно, – наставляла Эва. – Да хватит вам ржать-то!
Но мы все не могли остановиться. Впечатляющим шрифтом на карточках было оттиснуто:
Дональд Макгоуэн, поверенный
– Мой Дональд! – наконец выговорила я. – Что ж, мать всегда хотела, чтоб я подцепила юриста.
– Поверенного, – поправила Эва. – Британцы называют юристов поверенными. Кстати, все они жуткие задаваки. Тебе, Финн, надо поработать нал лицом.
Финн был вполне надменен (уже напрактиковался), когда четыре дня спустя вручал свою карточку метрдотелю.
– Я представляю интересы одной дамы и навожу справки по делу весьма деликатного свойства, – проворковал он.
С одного взгляда метрдотель понял, что перед ним важная птица. Лохматого Финна Килгора в мятой рубашке не пустили бы и на порог «Трех колоколов», одного из лучших городских ресторанов, а вот темно-серый костюм и галстук в полоску Дональда Макгоуэна заставил администратора подтянуться.
– Чем могу служить, мсье?
В затишье между обедом и ужином посетителей в зале было немного. Всякий раз Эва точно рассчитывала время, когда персонал имел возможность поболтать и ответить на вопросы.
– Моя клиентка – миссис Найт. – Финн бросил взгляд на Эву в черном шелковом платье, широкополой шляпе и лайковых перчатках. Я поддерживала ее под руку, и она казалась ужасно беззащитной, когда платочком с черной каймой промокала глаза. – Много лет назад она уехала в Нью-Йорк, но почти все ее родные остались во Франции. Эта война унесла так много жизней…
Метрдотель перекрестился:
– Очень много.
– В списках погибших я нашел ее отца, тетушку и двух дядей. А вот кузен ее числится пропавшим без вести.
Если ты могла колесить по Франции в поисках своей кузины, то и мне это можно, – пояснила Эва возникшую у нее идею. – Сейчас вся Европа ищет пропавших родственников.
– Мы выяснили, что в сорок четвертом он, спасаясь от гестапо, бежал из Лиможа в Грасс…
Понизив голос, Финн намекнул о подвигах кузена в рядах Сопротивления и его врагах в правительстве Виши. Яркий образ смелого патриота, чудом избежавшего ареста, объяснял, почему единственный уцелевший член семьи так жаждет отыскать своего напарника по детским играм.
– Думаете, прокатит? – спросила я, когда на кромке гиацинтового поля Эва посвятила нас в свой план. – Прям голливудское кино.
– Потому и прокатит, что все как в кино. После такой войны каждый желает с-счастливого конца – если не для себя, то хотя бы для кого-то другого.
Она оказалась права – и этот метрдотель сочувственно покачал головой. Финн раскручивал легенду:
– Его звали Рене дю Маласси, но, возможно, он сменил имя, спасаясь от милиции. – Финн гадливо скривился – до сих пор все плевались при упоминании тех выродков. – Это весьма затрудняет поиск, однако у нас есть его фотография…
На стол лег согнутый и зашпиленный скрепкой снимок, на котором сейчас было не видно сотрапезников Рене со свастиками на рукавах. Метрдотель вгляделся в фото. Эва всхлипнула, я погладила ее по спине и прошептала:
– Бабушка, не расстраивайся.
Исполняя роль утешительницы, я взяла ее за руки. Сердце мое колотилось в ожидании слов метрдотеля.
– Нет. – Он покачал головой, и сердце застучало реже. – К сожалению, я не знаю этого господина.
Я вычеркнула «Три колокола» из списка ресторанов, а Финн незаметно передав администратору банкноту, проговорил:
– Дайте знать, если вдруг его увидите…
Осталось проверить еще сотни мест.
– Не кукситесь, – на улице сказала Эва. – Я предупреждала: придется побегать, рассчитывая на удачу. Это вам не кино, где тот, кого ищут, вдруг появляется, как кролик из цилиндра фокусника.
– Вы уверены, что это лучший способ поиска? – спросил Финн, надевая фетровую шляпу.
Без головного убора появиться на людях для Дональда Макгоуэна немыслимо.
– В одном из этих мест… – Эва похлопала по сумке, где лежал мятый список – …его узнают.
Расчет ее был прост: Рене Борделон вечно брал от жизни только лучшее. Это в нем неизменно. Он завсегдатай лучших клубов, ресторанов и театров. Персонал наверняка приметит хорошо одетого и щедрого на чаевые клиента, который поговорит о винах с сомелье и о Климте с музейным гидом. Если обойти все лучшие городские заведения, уверяла Эва, по сравнительно недавней фотографии его непременно кто-нибудь узнает, и мы получим его имя.
– И сколько времени это займет? – спросила я, щурясь на солнце и вдыхая аромат цветов.
– Будь мы в Париже – вечность. Но ведь Грасс не огромен.
Финна тревожило другое.
– А вдруг ему станет известно, что его разыскивает какая-то женщина с искалеченными руками, ровесница крошки Маргариты?
– Я профессионал, – вспыхнула Эва. – Хоть в этом-то мне доверься. Думаешь, я стану трубить о своем прибытии в город? Зачем, по-твоему, эти «миссис Найт», «мистер Макгоуэн» и перчатки, скрывающие мои руки?
– Одно условие, – сказал Финн. – Пистолет оставляете в номере.
– Боишься, что я, увидев Борделона на улице, подойду и всажу ему пулю в лоб?
– Я не такой дурак. Просто не хочу рисковать.
Шел четвертый день поисков. Едва устроившись в отеле, Эва начала собирать информацию и составлять список заведений. Как только были готовы визитные карточки и костюм Финна, а Эва обзавелась перчатками и вдовьей широкополой шляпой, словно ненароком затенявшей ее лицо, мы ринулись в дело.
Сперва я сильно нервничала, но вот на четвертый день, когда мы обошли уже шесть ресторанов, пять клубов, три музея и один театр, все это слегка прискучило. И лишь в моменты, когда очередной швейцар или официант вглядывался в фотографию Рене, булькало предвкушение – может, на этот раз…
– Вот вам подлинная шпионская работа. – Выйдя из ресторана, Эва мгновенно утратила старушечью походку. – Скука смертная с редкими-редкими просветами.
Глаза ее сверкали, она выглядела несравнимо лучше, чем в день нашего знакомства. Прежде Эва, бледная и опустошенная, казалась старухой лет семидесяти. А сейчас будто скинула бремя печали и вялости, так ее старившее. В ней произошла разительная перемена: лицо, хоть и морщинистое, обрело здоровый цвет, движения – легкость; исчезла настороженная сутулость, седые волосы сияли, как и глаза. Теперь она выглядела на свои пятьдесят четыре, в ней угадывался большой запас жизненных сил.
– С тех пор как мы здесь, ее не мучат кошмары, – сказала я Финну, когда после ужина Эва ушла к себе. – И пьет она гораздо меньше.
– Погоня ей на пользу. – Финн допил кофе. – По натуре она охотник, а последние тридцать лет была в простое и медленно умирала от безделья. Пусть уж наш поиск еще немного продлится.
– Что ж, я совсем не против.
Финн одарил меня неуловимой улыбкой, от которой я обмякла.
– Нынче я все ноги себе стоптал. Ты-то как?
– Изнемогаю. Надо лечь пораньше.
Но маленький номер с синими ставнями и широкой мягкой кроватью мы использовали вовсе не для сна, и потому ничуть не возражали, что поиски растянулись на неделю, а потом на десять дней. Утром мы втроем завтракали – сталкиваясь коленями за крохотным столиком, угощались слоеными круассанами и крепким эспрессо, а затем начинали свой безупречно срепетированный спектакль. На площади Эр заглядывали в сапожную лавку, торговавшую обувью ручной работы, и в магазин дорогой парфюмерии. Узкими извилистыми улочками шагали к театрам и клубам, в которых служители могли узнать своего особого клиента, а в часы затишья перед ужином наведывались в рестораны, где под приглушенным светом посверкивало столовое серебро. Вечером ужинали в отеле, распивая бутылку прованского розового и объедаясь картошкой фри. Днем мы с Финном подчинялись Эве, однако ночи принадлежали только нам.
– Я не говорила, что в этом костюме-тройке ты выглядишь сногсшибательно? – спросила я, устроив голову на руке Финна.
– Говорила.
– Не грех и повторить. – Я вылила остатки вина в кружку. Финн меня разглядывал, но я уже ничуть не стеснялась своей наготы. – Когда нам вернут «лагонду»?
– Наверное, через неделю.
Поняв, что здесь мы задержимся, Финн отдал машину в ремонт и ежедневно названивал в мастерскую, справляясь о своем драгоценном детище, точно заботливая мамаша.
– Тебе нужна новая машина.
– Ты представляешь, во что она обойдется?
– Тогда – за здоровье твоей старушки! – Я передала ему кружку. – Я бы не прочь наши поиски вести на машине. От ходьбы у меня уже отекают ноги, а я рассчитывала, что это случится позже.
По приезде в Грасс утренняя тошнота и постоянная противная слабость сгинули. Не знаю, благодаря чему – напоенному цветочными ароматами воздуху, любовным утехам или тому, что Розанчику шел четвертый месяц, но я себя чувствовала превосходно – полной сил и готовой на все, даже на бесконечные хождения по городу. Однако скучала по «лагонде».
Финн допил вино и, перебравшись в изножье кровати, стал массировать мне ступню. От удовольствия я поежилась. Ночь была теплая, сквозь открытые окна в комнату вплывали запахи жасмина и роз. Наша постель в круге света казалась кораблем в море тьмы. Мы с Финном условились, что наедине не будем говорить об ужасах войны и подлостях Борделона. Ночные часы принадлежали радостным беседам.
– То ли еще будет на восьмом месяце, – сказал Финн, разминая мне подъем. – Вот уж когда твои ноженьки по-настоящему опухнут.
– Откуда вам это известно, мистер Килгор?
– Из наблюдений за женами друзей. Я, пожалуй, единственный, кого еще не охомутали. Вернувшись домой, все мои однополчане первым делом брюхатили какую-нибудь девушку и потом женились на ней. Я уже трижды был крестным.
– Я прям вижу, как ты стоишь перед купелью, а в руках у тебя вопящий кружевной сверток!
– Вопящий? Ничего подобного. Младенцы меня любят. Как только возьму их на руки, мгновенно засыпают. (Пауза.) Я обожаю детишек. Всегда мечтал о целом выводке своих.
Мы помолчали и тихонечко сменили тему.
– А что еще ты любишь, кроме «бентли»?
Я подставила вторую ногу. Прошлой ночью Финн вслух читал автомобильный журнал – технические характеристики «Бентли Марк VI». При этом он нарочито пародировал мой американский акцент, и я побила его подушкой.
– Если есть «бентли», больше ничего не надо. Ну разве что хорошую автомастерскую, чтоб содержать машину в отличном состоянии. Вроде той, где сейчас чинят «лагонду».
Пальцами ноги я пощекотала ему грудь.
– Я думаю, ты бы смог стать хозяином такой мастерской.
– Для этого надо разбираться не только в машинах, но еще кое в чем. – Финн скроил унылую мину. – А у меня книга учета окажется под канистрой с маслом, перепачканные солидолом квитанции будут нечитаемые, и очень скоро банк заберет мастерскую.
Но не в том случае, если бухгалтерией займусь я… Я не стала додумывать эту мысль и, нежно отогнав ее, пустилась в рассказ о памятном долгом дне в прованском кафе, когда полосатые маркизы, песни Эдит Пиаф и домашние бисквиты стали образом земного рая.
– Пожалуй, в картину идеального кафе надо включить и английский завтрак.
– Я еще отменно готовлю жаркое…
Мы оба понимали, что происходит в этих неспешных ночных разговорах. Осторожно, почти опасливо, мы намечали совместное будущее и не высказанное словами заменяли легкими улыбками. Иногда во сне нас мучили кошмары, но справиться с ними легче, если можешь уткнуться в теплое плечо рядом с тобой, и тогда печаль, поплутав в ночи, превращается в радость.
Мы так мало знакомы, а я без ума от тебя, – думала я, в сумраке рассматривая лицо Финна. – Влюбилась безоглядно.
Через две с половиной недели нашего пребывания в Грассе Эва, прихлебывая послеобеденный кофе, сказала:
– Видимо, здесь его нет.
Мы с Финном переглянулись, подумав обо всех, кто отрицательно покачивал головой, глядя на фотографию. Три ресторатора и один дорогой портной как будто узнали человека на фото, но имени его не помнили. Больше ничего.
– Наверное, пора заканчивать. Пусть Чарли отправляется домой вязать пинетки, а ты, Финн, отвезешь меня обратно в край жареной рыбы с картошкой.
– Я пока не готова вернуться домой. – Я старалась говорить легко; Финн сжал мою руку, и я ответила ему пожатием.
– Давайте побудем здесь еще неделю-другую, – сказал Финн. Эва кивнула. – А сегодня берем отгул. Я хочу наведаться к «лагонде».
– Бедных механиков он замучает до смерти, – усмехнулась Эва, глядя ему вслед.
– И попросит прощения у машины, что редко ее навещал.
Мы допили кофе.
– Я не знаю, что мне делать с этим отгулом, – сказала Эва. – Давай обойдем еще пару-тройку ресторанов. Я думаю, с официантами мы справимся и без нашего поверенного.
Глаза ее на загорелом лице сияли, широкополая шляпа сидела ухарски.
– Пожалуй, мне следует представляться вашей дочкой. Роль бабушки вам пока не годится.
– Ха-ха.
– Я серьезно! Видимо, здешний воздух – это эликсир вечной молодости.
В старой части Грасса, где дома стояли тесно, будто в обнимку, я поняла, что полюбила этот город. Лилль, Рубе, Лимож помнились смутно, ибо тогда все мои мысли были о Розе. Но здесь я наконец-то вдохнула полной грудью, и город раскрылся передо мной, точно бутон жасмина. Я не хочу отсюда уезжать, – подумала я, заставляя себя сосредоточиться на нашем деле.
Два наших захода в рестораны оказались безрезультатны, по карте Эва уточняла маршрут к третьему заведению. Я грызла жареные цветки кабачков, к которым Розанчик пристрастилась почти как к бекону, и разглядывала витрину с детской одеждой: матросские костюмчики, плиссированные юбочки. А потом увидела кружевное платьице с вышитыми розочками, переброшенное через ручку коляски, и мне так его захотелось! Я представила в нем Розанчика в день ее крестин. Я уже чувствовала ее в своем слегка округлившемся животе, под одеждой пока незаметном. Финн ничего не говорил, но пробегал по нему пальцами, и касания его были сродни нежным поцелуям.
– Покупай, – сказала Эва, перехватив мой взгляд на платьице. – Чего пялиться на эту охапку кружев – возьми и купи.
– Боюсь, оно мне не по карману. – Я сокрушенно вздохнула и сгрызла последний жареный цветок. – Наверное, это платье стоит больше, чем вся моя одежда из комиссионки.
Эва сунула карту в сумку, вошла в магазин и через пару минут всучила мне коричневый пакет.
– Может, теперь ты прибавишь шагу.
– Ну зачем вы…
– Терпеть не могу благодарностей. Пошли, америкашка.
Я двинулась следом.
– Вы и так много тратите.
Деньги, полученные за жемчуг, закончились, теперь за все платила Эва, но я клятвенно обещала с ней рассчитаться, как только в Лондоне получу доступ к своим сбережениям.
– Да какие это траты – виски, месть и детское платьице.
Я разулыбалась, прижимая пакет к груди.
– Вы станете ее крестной?
– Вот будешь говорить «ее», и назло тебе родится мальчик.
– Ну тогда его крестной. – Несмотря на шутливый тон, я этого хотела всерьез. – Правда, вы согласитесь?
– Я не умею себя вести в церкви.
– Я на вас очень рассчитываю.
– Ладно. – Эва ухмыльнулась и зашагала, вскидывая ноги, точно цапля, пробирающаяся по мелководью. – Раз ты настаиваешь.
– Настаиваю категорически, – сказала я с чувством.
Ресторан располагался неподалеку от площади дю Пти Пюи с ее белокаменным собором. Приближался час ужина, вскоре возникнет ручеек желающих выпить аперитив. После залитой солнцем улицы зал казался сумрачным. Я еще моргала, входя в образ преданной родственницы, а Эва уже перевоплотилась в беспомощную старушенцию, нуждающуюся в поддержке.
Я подошла к метрдотелю и отчеканила роль Финна, которую уже знала назубок. Потом я показала фотографию, Эва платочком промокнула глаза. Если честно, мысли мои были больше заняты кружевным платьицем.
Но через секунду я о нем забыла, меня будто обухом ударили.
– Конечно, мадмуазель, я прекрасно знаю этого господина, – покивал метрдотель. – Это мсье Рене Готье, наш особый клиент.
Я застыла. Рене Готье. Имя звенело в моей голове, точно пение отрикошетившей пули. Рене Готье…
Не представляю, как Эве удалось сохранить образ хрупкой старушки, но, видимо, не зря ее наградили четырьмя орденами.
– Ох, какую радость вы нам доставили, мсье! – дрожащим голоском проворковала она. – Я столько лет не видела моего дорого кузена! Говорите, теперь он прозывается Рене Готье?
– Да, мадам. – Метрдотель был чрезвычайно доволен своей ролью доброго вестника. Эва не ошиблась – после войны все мечтали о счастливом конце. – У него чудесная вилла в окрестностях Грасса, но он частенько к нам захаживает, дабы отведать наш рийет из утки, лучший, осмелюсь сказать, на всем побережье…
Плевать я хотела на рийет. Пульс мой стучал как бешеный.
– Не скажете ли адрес виллы, мсье?
– По Рю де Папийон езжайте до конца поля мимоз. Иногда мы доставляем на виллу ящик-другой вина, поскольку «вуврэ» подают только у нас…
Эва уже собралась уходить.
– Благодарю вас, мсье, вы подарили нам счастье, – скороговоркой выпалила я, подхватывая ее под руку.
Но метрдотель, лучась улыбкой, смотрел мимо нас.
– Ах, какая удача! А вот и сам мсье!
Глава тридцать восьмая
Эва
Время исчезло. 1915-й сплавился с 1947-м. Эва видела себя одновременно двадцатидвухлетней, окровавленной и сломленной, и нынешней пятидесятичетырехлетней, так и не оправившейся от пережитого. Рене Борделон предстал темноволосым лощеным бонвиваном и одновременно седым закостенелым стариком в отлично сшитом костюме. В этот миг столкновения двух эпох обе ипостаси казались истинными.
Затем, как по щелчку, прошлое влилось в настоящее, и остался только чудесный летний вечер 1947-го, в котором бывшую шпионку и ее заклятого врага разделяли всего несколько футов мощеного плиткой пола. При взгляде на усохшего старика, опиравшегося на знакомую трость с серебряным набалдашником, душа Эвы испустила безмолвный вопль, а в животе разверзлась черная дыра ужаса, поглотившая всю по лоскутку собранную отвагу.
Он ее не узнал. Борделон снял черную фетровую шляпу и вопросительно взглянул на метрдотеля:
– Кажется, меня ждали?
Эва вздрогнула, услышав этот бесцветный голос из своих кошмаров. Заныли пальцы, когда-то переломанные этим человеком. Встреча с ним застала Эву врасплох. Она думала, что успеет к ней хорошо подготовиться. Но судьба преподнесла ей сюрприз, к которому она была совсем не готова.
Борделон не изменился. Седина и морщины – всего лишь новая витрина. Паучьи пальцы, металлический голос и мелкая душонка палача, облаченного в дорогой костюм, остались прежними.
Вот только шрам на губе. Памятка о прощальном поцелуе Эвы.
Трещал метрдотель, объясняя ситуацию. Чарли взяла Эву за руку и что-то шепнула, но из-за звона в ушах Эва не разобрала ни слова. Она понимала, надо что-нибудь сказать, что-нибудь сделать, но не могла шевельнуться.
Темные глаза Рене обратились на нее:
– Миссис Найт? Простите, мадам, не припоминаю…
Неведомо как, Эва сумела шагнуть к нему и подать руку. Едва она ощутила знакомую хватку длинных пальцев, как ее тотчас окатило былым отвращением. Захотелось выдернуть руку и бежать куда глаза глядят, подвывая от мучительного ужаса.
Поздно. Они встретились. Эвелин Гардинер больше не побежит.
Эва стиснула ладонь Борделона. Он нахмурился, почувствовав ее бугристые пальцы в перчатках. Эва подалась вперед, чтоб только он ее расслышал, и проговорила тихо и внятно:
– Возможно, ты припомнишь Маргариту Ле Франсуа? Или, может, Эвелин Гардинер?
В ресторане, под крышей которого произошло счастливое воссоединение родных, царило возбуждение. Сияющие официанты, руководимые метрдотелем, сервировали самый удобный столик. Посреди этой суеты Эва и Рене скрестили взгляды, точно шпаги.
Наконец Борделон выпустил ее руку и глянул на приготовленное для них место:
– Давайте сядем?
Эва кивнула и пошла к столику, удивляясь, что ноги ее слушаются. Побледневшая Чарли держалась рядом, точно верный оруженосец. Покосившись на Борделона, она дотронулась до Эвиной руки и прошептала:
– Чем я могу помочь?
Прикосновение ее неожиданно наделило покоем.
– Не суйся, – буркнула Эва.
В этой схватке нет места для Чарли Сент-Клэр, которую мерзавец растоптал бы так же небрежно, как походя уничтожил сотни других жизней. Эва порвет его в клочья, но не даст вновь причинить зло дорогому ей человеку.
Порвешь в клочья? – ухмыльнулся внутренний голос. – Да ты боишься взглянуть ему в глаза. Шугнув и голос, и свой страх, Эва уселась напротив Борделона, теперь их разделяла ширь белоснежной скатерти. Примолкшая Чарли села рядом с Эвой. Вымуштрованные официанты парили в отдалении, дабы не мешать счастливым родственникам, нашедшим друг друга.
Откинувшись на стуле, Борделон сложил пальцы домиком. Перед глазами Эвы промелькнули тошнотворные видения: эти пальцы обхватили окровавленный бюст Бодлера… в постели касаются ее обнаженной груди…
– Вот, значит, как, – тихо произнес Борделон. – Маргарита.
Это имя из его уст заставило сердце пропустить такт, но затем Эва вдруг успокоилась, словно давняя агентурная кличка вернула ей былое хладнокровие. Теперь пульс ее бился ровно, и во взгляде, впервые за последние минуты, появилось нечто вроде безмятежности.
– Я п-полагаю, твое нынешнее имя – в честь поэта Теофиля Готье, которому Бодлер посвятил «Цветы зла». А в Лиможе ты взял себе имя издателя Маласси. Как я понимаю, идеал у тебя прежний.
Казалось, они ведут обычную застольную беседу. Рене пожал плечами:
– Зачем еще что-то искать, когда лучшее уже найдено?
– Завуалированное признание в собственной косности.
Возник официант с бутылкой шампанского.
– Не желаете отметить событие, мсье?
– Почему бы и нет, – пробурчал Рене.
– Я выпью охотно, – сказала Эва.
Конечно, было бы лучше влить в себя ведро виски, но и шампанское сойдет. Она сжала кулаки, заметив, что Рене вздрогнул, когда хлопнула пробка. Значит, он только притворяется спокойным. Это хорошо.
Когда официант отошел, все трое синхронно подняли бокалы. Тостов не было.
– Ты постарела, вся в морщинах, – сказал Борделон. – Чем занималась все эти годы?
– Вела нелегкую жизнь. Я не спрашиваю, чем занимался ты. Наверное, чем всегда – процветал, пособничал оккупантам, подводил соотечественников под расстрел. Хотя теперь ты не прочь и сам спустить курок. С возрастом избавился от брезгливости?
– Это благодаря тебе, дорогуша.
Эва гадливо поежилась.
– Не называй меня «дорогушей».
– «Иуда» тебе подходит больше?
Удар пришелся в цель, но Эва сумела этого не показать.
– В той же степени, как тебе – «простофиля».
Борделон криво усмехнулся. Эва смотрела, как он, развалившись на стуле, наслаждается букетом охлажденного шампанского, и в груди ее закипала ярость. Лили сгинула в грязном застенке, Роза и ее малышка погибли под градом пуль, был убит молодой повар, облыжно обвиненный в воровстве, а этот человек знай себе попивает шампанское, и его не тревожат дурные сны.
Кошмары стали посещать Эву после Зигбурга. В холодной камере она, скорчившись на вонючем тюфяке, спала без снов, а вот позже возник ужас зеленых стен, злобных глаз лилий и низвергающегося мраморного бюста. Снилась только комната и никогда – ее хозяин. Эти кошмары и наградили морщинами, о которых так презрительно отозвался Борделон. Сам-то он, похоже, все эти тридцать лет спал безмятежно.
Эва покосилась на бледную Чарли, застывшую в неподвижности. О чем она думает? Как-то Чарли сказала, что не встречалась со злом лицом к лицу. Что ж – познакомься.
Сделав еще глоток, Рене одобрительно причмокнул и салфеткой промокнул губы.
– Признаюсь, я удивлен нашей встречей, Маргарита. Ничего, что я так тебя называю? Для меня ты навсегда осталась Маргаритой.
– Странно, что ты вообще думал обо мне. Не в твоем духе оглядываться на обломки того, что ты разрушил.
– Ты – особенная. Я ждал, что после той войны ты объявишься в Лиможе.
Если б не ложь Кэмерона…
– Сбежав из Лилля, ты хорошо замел следы.
Борделон отмахнулся:
– Если имеешь связи, обзавестись новыми документами несложно. Но ты могла бы отыскать меня, когда вышла из Зигбурга. Я следил за новостями о твоем освобождении. Почему так долго откладывала?
– Какая разница? – Эва залпом опорожнила бокал. Она уже вошла в ритм их прежних словесных баталий. – Сейчас я здесь.
– Чтобы всадить мне пулю меж глаз? Будь у тебя оружие, ты бы пристрелила меня еще на входе.
Черт бы побрал Финна Килгора! Если б не он, «люгер» был бы при мне.
– Конечно, при условии, что эта клешня, называемая рукой, способна удержать пистолет. – Борделон поманил официанта. – Рийет из утки. Я проголодался.
– Слушаюсь, мсье. А вам, мадам?
– Спасибо, ничего.
– Ты почти не заикаешься, – сказал Рене. – Изъян исчезает, когда ты напугана?
– Когда я зла. А у тебя, когда злишься, дергается глаз. Вот как сейчас.
– Кажется, ты единственная женщина, которой удалось вывести меня из себя.
– Уже что-то. Бюст Бодлера еще цел?
– Я его берегу. Иногда перед сном вспоминаю хруст твоих пальцев и засыпаю с улыбкой.
Эва отогнала видение зеленых стен в комнате, пропахшей кровью и страхом.
– А я, чтобы заснуть, вспоминаю твое лицо в тот момент, когда ты понял, что тебя охмурила шпионка.
Борделон даже не моргнул, но слегка напрягся. Эва покрылась мурашками, однако улыбнулась и подлила себе шампанского. Я знаю, чем тебя достать, старая сволочь.
– Как я понимаю, ты жаждешь мести, этого утешительного приза для проигравших, – сказал Борделон.
– Наша взяла.
– Да, но ты-то проиграла. И как теперь намерена отомстить? Для убийства у тебя кишка тонка. Я помню обгадившееся сломленное ничтожество, которое рыдало на моем ковре. Куда уж ему взяться за пистолет.
В глубине души Эва содрогнулась. Тридцать с лишним лет она оставалась этим обгадившимся сломленным ничтожеством. Пока одной промозглой лондонской ночью не раздался стук в ее дверь. Пока, словно по щелчку, не слились прошлое и настоящее. Вот до этой минуты. Больше она не будет обгадившимся сломленным ничтожеством. Никогда.
А Рене все говорил:
– Может, надеешься предать меня позору, обвинив в сотрудничестве с немцами? Но здесь я уважаемый человек, у меня влиятельные друзья. А ты – свихнувшаяся от горя полоумная карга. Как думаешь, кому поверят?
– Ты причастен к гибели Орадур-сюр-Глан. – Чарли вонзилась в разговор, точно сосулька, сорвавшаяся с крыши. Молчи, не привлекай к себе внимание, – взглядом приказала ей Эва, но глаза Чарли сверкали, как два уголька. – На твоей совести смерть шести сотен душ. Плевать, сколько у тебя влиятельных друзей. Такого тебе не простят, подонок.
Борделон перевел взгляд на нее.
– Кем тебе приходится эта малышка, Маргарита? Вряд ли дочерью или внучкой. Твоя старая сморщенная шахна не способна произвести на свет этакую милашку.
Эва молча смотрела на Чарли, и в сердце ее разгоралось какое-то неведомое чувство, похожее на любовь.
– Считай ее крылатым посланником небес, постучавшимся в мою дверь. Благодаря ей я здесь. Благодаря ей на этот раз тебе не удастся улизнуть. – Эва отсалютовала бокалом. – Познакомься с Шарлоттой Сент-Клэр.
Борделон нахмурился.
– Это имя мне ничего не говорит.
– Ты знал мою кузину. – Пальцы Чарли стиснули фужер, грозя его раздавить. – Роза Фурнье, она же Элен Жубер. Красивая блондинка, работавшая у тебя в Лиможе. Ты, сволочь, убил ее, сдав милиции. Заподозрил, что она шпионка. Вместе с другими Роза погибла в Орадур-сюр-Глан.
Официант подал рийет из утки. Задумчиво глядя на Чарли, Борделон развернул салфетку на коленях и, отправив в рот гренок, смоченный в утином жире, вновь одобрительно причмокнул.
– Я ее помню, – сказал он, когда официант бесшумно отбыл. – Эта сучонка, державшая ушки на макушке, походила на одну любопытную официантку. – Борделон покосился на Эву. – Никто не скажет, что я не извлекаю уроков из прошлого.
– Можно было ее просто уволить, – просипела Чарли. – Зачем ты устроил ее арест?
– Так надежнее. И, если честно, приятнее. У меня аллергия на шпионок. – Борделон пожал плечами. – Но не станешь же ты винить меня в гибели всего поселка? Это было бы странно и нелогично. Я-то при чем, если какой-то немецкий генерал решил так тщательно следовать предписанию?
– Я виню тебя в смерти Розы, – прошептала Чарли. – Ты не знал, связана ли она с Сопротивлением, но все равно донес на нее. Тебе было на все плевать, сволочь ты поганая…
– Тише, детка. Не вмешивайся в разговор взрослых. – Борделон взял второй гренок. – Еще шампанского, Маргарита?
– На сегодня хватит. – Эва осушила бокал и встала. – Идем, Чарли.
Но та застыла. Казалось, она готова броситься на Борделона и столовым ножом вспороть ему горло. Эва ее прекрасно понимала.
Нет, америкашка, еще не время.
– Чарли! – Окрик Эвы был как удар кнута.
Девушка встала, ее заметно трясло. Борделон спокойно ел, блестели его губы, измазанные утиным жиром.
– Мы еще не закончили, – прошелестела Чарли.
– Да нет, закончили. – Борделон смотрел на Эву. – Если ты, сука неугомонная, еще раз попадешься мне на глаза, если я узнаю, что ты пытаешься достать мой адрес или очернить мое имя, тебя арестуют за преступное домогательство. Ты канешь в небытие, а я вернусь к жизни, в которой не будет даже мысли о тебе.
– Ты думаешь обо мне постоянно, и мысли эти тебя изводят. Я живое доказательство того, что ты не так уж умен.
Взгляд Борделона вспыхнул.
– Ты – изменница, за каплю опия предавшая своих.
– Однако я тебя одурачила. Уже тридцать лет эта мысль ест тебя поедом.
Борделон наконец сбросил маску, явив бешеную ярость. Казалось, еще секунда, и он прикончит Эву на месте, а та в ответ презрительно улыбалась. Оба замерли, испепеляя друг друга взглядами. Официанты недоуменно взирали на эту сцену, отнюдь не напоминающую счастливое воссоединение семьи.
– До встречи. – Эва взяла и надкусила гренок с тарелки Борделона. – Пора вернуться на круги своя – В каморку сердца, лавочку старья[11].
– Это не Бодлер.
– Йейтс. Говорю же, тебе надо сменить идола. – Эва надела шляпу. – На досуге загляни в лавочку старья, которую ты называешь сердцем, и признайся, что тебе страшно. Ибо твой цветок зла вернулся. – Она крепко ухватила Чарли за руку. – С этим и засыпай.
Глава тридцать девятая
Чарли
На улице мне никак не удавалось продышаться, словно я выбралась из ядовитого облака. В ушах звучал металлический голос того, кто приговорил Розу к смерти: Так надежнее. И, если честно, приятнее.
Эва подробно описала своего врага: немигающий взгляд, длинные пальцы, элегантная внешность. Но то был неполный портрет. В ресторане я увидела гадину в человечьем облике.
Тянуло сблевать. Но пришлось догонять Эву, припустившую по улице.
– Эва, погодите! За вами никто не гонится.
Она ничуть не сбавила шаг.
– Нет, это я кое за кем гонюсь.
Впервые осознав, что отмщение Эвы подразумевает убийство, я оторопела, однако сейчас душа моя согласно поддакнула. Полчаса в обществе Рене Борделона кого угодно убедят, что даже состарившийся мерзавец заслуживает смерти.
И все же здравый смысл пробился сквозь марево ярости, сердце мое скакнуло.
– Эва, постойте! Нельзя так рисковать…
– Поторапливайся!
Невидяще уставившись перед собой, она стремительно шагала по извилистой улочке. Взглянув на ее лицо, встречный прохожий шарахнулся в сторону.
Мысли мои разбегались. Удержи ее! – требовал здравый смысл. Не надо! – вопила ярость.
Мы свернули за угол, и перед входом в гостиницу я увидела сверкающую «лагонду». Уф, слава богу! Сейчас так нужны спокойствие и рассудительность Финна или уж, если что, его сильные руки, которые оттащат Эву от края беды. Однако Финна нигде не было, а портье передал мне записку, накорябанную знакомым почерком.
– Финн выпивает с хозяином автомастерской, – ответила я на вопросительный взгляд Эвы. – Ему предлагают работу – восстанавливать старые двигатели…
– Вот и хорошо.
Эва ринулась вверх по лестнице, шагая через две ступеньки. Я сунула записку в карман и поспешила следом за ней.
– Мадам, вам телеграмма из Рубе! – окликнул меня портье.
– Заберу позже, – бросила я через плечо.
Я вошла в номер Эвы и встала как вкопанная, увидев, что она уже достала пистолет из тумбочки.
– Твою же мать… – чуть ли не впервые в жизни ругнулась я.
– Чего ты всполошилась? – мрачно усмехнулась Эва, стягивая перчатки.
Я прижала пальцы к вискам, в которых грохотали молотобойцы. Ярость моя определенно сменилась страхом.
– Значит, вы дождетесь, когда он, насытив утробу, вернется домой, и разрядите обойму ему в башку?
– Именно так. – Эва дослала патрон в ствол. – Чудесная вилла в конце поля мимоз, сказал метрдотель. Найти ее будет нетрудно.
Я сложила руки на груди.
– Уберите пистолет и выслушайте меня. Преуспеете вы или нет, в любом случае окажетесь в тюрьме. Вы это понимаете?
– Мне все равно.
– А мне – нет. – Я схватила ее за руку. – Я хочу, чтоб у моей дочери была крестная.
Эва поставила пистолет на предохранитель.
– А я хочу увидеть труп Рене.
Отчасти я ее понимала. Она была готова на этот неравноценный обмен – ее будущее за жизнь человека, сожравшего большую часть ее прошлого. Однако я не желала соучастием в убийстве разрушить собственную жизнь, которая только-только стала налаживаться.
– Эва, одумайтесь.
– Я уже все продумала. Свидетелей не будет. У него нет обручального кольца, значит, не возникнет помеха в виде жены и детей. В доме останется хладный труп, а меня – ищи-свищи.
– Сегодняшний метрдотель вспомнит, что мы интересовались адресом Рене. И не он один. Мы же рыскали по всему городу. – Надеясь убедить ее логикой, я лихорадочно искала доводы. – И в случае его смерти…
– А как нас найти-то? Всюду мы появлялись под вымышленными именами. Кроме того, я не собираюсь здесь торчать, дожидаясь полиции.
– Пока Финн не вернется, из города не уехать. И потом, как вы доберетесь до дома Рене?
– На такси.
Эва была спокойна, словно собиралась на чаепитие. В ресторане за ее внешней невозмутимостью я угадывала страх, видела ее дрожащие руки. Но сейчас страха не было и в помине, Эва воспарила, точно орел, безжалостный к своей добыче. Сбросив лодочки почтенной миссис Найт, она переобулась в растоптанные туфли.
– Если хочешь, поехали вместе, поможешь мне. Ты вправе видеть, как он сдохнет.
– Нет. Я не стану пособницей убийства.
– По-твоему, он не заслуживает смерти?
– Это слишком легкий конец. Я хочу его разоблачить, унизить и засадить в тюрьму. Чтоб все узнали, кто он такой. Для человека с непомерной гордыней это самое страшное наказание, он умрет медленно. – Я перевела дух, надеясь, что Эва меня услышит. – Пойдемте в полицию. У нас есть его фотография, где он в окружении нацистов, есть ваше свидетельство. Если понадобится, призовем ту женщину из Лиможа, которая своими глазами видела, как он застрелил повара. Пусть у него влиятельные друзья, но они есть и у вас. Вы – герой войны, вам поверят. Сдайте его властям и превратите его жизнь в ад.
По мне, это стало бы достаточной карой – увидеть его за решеткой, куда он попадет нашими стараниями, после чего будет оплеван французским обществом, всех коллаборационистов и выжиг считающим гнидами. Никаких тебе рийетов из утки и охлажденного шампанского, но только унижение и череда серых тюремных дней, что в свое время изведала Эва.
– В тюрьму он не сядет, – упрямо сказала она. – Всю жизнь Рене Борделон выходил с-с-сухим из воды. Чтоб доказать обвинение против человека с деньгами и связями, понадобится время. И он смоется, как делал всегда. Сбежит и сейчас, ибо знает, что я не остановлюсь. Он не станет ждать, когда за ним придут с ордером на арест, но так спрячется, что я его уже не найду. – Эва положила пистолет в сумку. – И оттого я полагаюсь на пулю.
Я попыталась сбить ее настрой:
– А если что-нибудь пойдет не так? Если он выстрелит первым? Или уже вызвал полицию, и вас закуют в наручники?
– И все же я рискну. – Эва посмотрела мне в глаза. – Дай пройти.
Я выдержала ее взгляд.
– Нет.
Она двинулась на меня. Я шагнула к ней и крепко ее обняла.
– Под аккомпанемент моих воплей вам придется тащить меня на себе. – Я уже чуть не плакала. – Я не пущу вас, Эва. Ни за что.
Я потеряла брата. Розу. И не хотела новых потерь.
Эва напряглась, словно изготовившись к драке, а потом вдруг обмякла. В горле ее булькнуло сдавленное рыдание, сумка соскользнула на пол. Мы стояли так долго. Эва плакала, я держала ее и смотрела, как за окном сгущаются сумерки, окрашивая небо в пурпур.
Потом слезы высохли, но Эва не проронила ни слова. Она позволила уложить ее в постель, приняла от меня стакан с виски, выпила и свернулась под одеялом, временами судорожно всхлипывая. Я сидела у нее в ногах и, грызя ногти, мысленно заклинала Финна вернуться поскорее. Он лучше меня знает, чем помочь Эве в таком состоянии. Когда дыхание ее стало ровным, я на цыпочках сошла вниз, но портье не знал, в какой бар отправились Финн с механиком.
– Телеграмма из Рубе, мадам, – напомнил он.
Я и забыла о ней. Весть от Виолетты. Сердце мое опять заколотилось, но уже по иной причине. Послание было немногословным даже для телеграммы.
Ложь подтвердилась. Вина мадмуазель Телье.
В голове моей грянул ангельский хор. Я почувствовала себя исполином. Значит, я была права в своих подозрениях. Я права. И в кои-то веки сумею склеить разбитое вдребезги. В руках моих было то, что требовалось Эве.
Я кинулась обратно в номер.
Дверь распахнута. Кровать пуста. Сумка с пистолетом исчезла.
Я отлучилась-то всего на минуту! И Эва тотчас улизнула, спокойная и собранная, никаких тебе слез и вздохов. Меня охватил страх, заломило виски. Я кинулась к окну, взглядом обшарила улицу, но долговязую фигуру нигде не увидела. Вот же хитрая тварь! – меня окатило злостью на Эву и на себя, кого так лихо одурачили.
Я знала, куда она отправилась. В полицию звонить нельзя, дожидаться Финна некогда. Но «лагонда» стоит у тротуара.
Я сунула телеграмму в карман, схватила с тумбочки ключи от машины и выскочила из номера.
Глава сороковая
Эва
Трюк, конечно, грязный, – думала Эва.
– Прибавьте ходу, – сказала она таксисту, бросив пачку франков на переднее сиденье.
Плевать на деньги. Обратную дорогу оплачивать не придется.
Таксист дал газу. На коленях Эва баюкала сумку с утешительной тяжестью «люгера». Глаза ее были сухи. Крокодильи слезы легко проливаются и быстро высыхают. Да, это подло и бесчестно, но Чарли не оставила ей другого выхода, когда, сжав губы, непоколебимо встала в дверях. Эва усмехнулась. Сейчас в девице не узнать ту перепуганную грубиянку, что некогда возникла на ее пороге.
Жаль, что мы больше не увидимся. Ужасно жаль.
– Почему вы такая мрачная, мадам? – игриво спросил таксист. – Вы же сказали, что хотите навестить друга?
– Да.
– В гости надолго?
– Весьма.
Вообще-то навсегда. Эва не собиралась покидать дом Борделона. Оттого-то и не боялась тюрьмы. Мертвую не отправишь за решетку.
В обойме семь патронов. Шесть – для Рене, ибо злодеи всегда цепляются за жизнь, последний – для себя.
– В духе Кэмерона, – прошептала Эва, не замечая темнеющих улиц за окном машины.
Перед глазами стоял зернистый газетный заголовок «Кончина солдата». Когда это было, в двадцать втором? Нет, в двадцать четвертом. Слова заметки пробились сквозь тяжелое похмелье. Касательно смерти военнослужащего королевской полевой артиллерии майора С. Э. Кэмерона…
Мир распался на части. Наконец Эва сумела поднять газетную страницу с пола и дочитать сообщение. Глаза пекло, но слез не было. Услышав придушенный всхлип, Эва не сразу поняла, что он исходит из ее собственного горла.
…смерти майора С. Э. Кэмерона, в результате огнестрельного ранения произошедшей в казармах Шеффилда, коронер вынес решение о самоубийстве.
Кэмерон мертв. Кэмерон, у кого ласковые глаза и налет шотландского выговора. Кэмерон, кто, целуя ее синяки, шептал: Бедная моя, храбрая девочка…
Сколько уже они не виделись, пять лет? Да, с того самого дня, как он встретил ее в Фолкстоне. Иногда они перезванивались, обычно глубокой ночью, когда кто-то из них был пьян. Кэмерон вернулся из Ирландии, кое-что рассказывал об учебном центре, радовался своему назначению военным атташе в Риге…
Однако вот взял и вышиб себе мозги.
Как выявило расследование, покойный был удручен не состоявшимся назначением атташе в Риге, чему воспрепятствовала имевшаяся судимость.
За давний грех армия его отторгла, – злобно думала Эва. Офицер с запятнанной репутацией был угоден на войне, но в мирное время стал помехой.
Буду работать, пока есть силы. Эва слышала его голос так отчетливо, словно Кэмерон сидел рядом в такси. А потом, наверное, сдохну. Пуля, скука или бренди – вот что нас приканчивает. Видит бог, мы не созданы для мирной жизни.
– Нет, не созданы, – прошептала Эва.
Визит адвоката, случившийся на следующий день, добил ее окончательно. Заверив, что все останется между ними, юрист показал кое-какие бумаги… Оказалось, что все эти пять лет пенсию ей выплачивал Кэмерон, а вовсе не Министерство обороны. Кроме того, майор оставил завещание, по которому эти выплаты будут продолжены и после его смерти. Накоплений на счете, о котором не ведает вдова майора, доложил юрист, вполне хватит для пожизненного обеспечения Эвы.
Она заорала, выгнала вон стряпчего и рухнула на кровать, скорчившись, точно раненый зверь в своем лежбище. Как ты это сделал, Кэмерон? – думала Эва, разглядывая свой «люгер». – Приставил ствол к виску? Упер в подбородок? Или сунул в рот, и вкус холодного металла вкупе с ружейным маслом стал твоим последним земным впечатлением? Позже бессонными ночами она частенько примеряла на себя эти способы расставания с жизнью, но так и не спустила курок.
Ты малодушная тварь, – клеймила себя Эва, – в тебе ни капли возвышенного благородства Кэмерона. Но сейчас, глядя на поле мимоз, проплывавшее за окном, она подумала, что, возможно, дело вовсе не в ее малодушии. Может быть, это судьба – горе и вина не могли взять верх, пока не восторжествовала справедливость. Может быть, холодный ум разведчицы нашептывал, что вопреки словам Кэмерона давний враг жив и с ним еще предстоит посчитаться. И пока что не время для пули в рот.
Что ж, сегодня враг получит свое. За Лили, Розу, Чарли и за нее, Эву. Нынче Эвелин Гардинер закончит свою войну. С опозданием на тридцать с лишним лет, но лучше поздно, чем никогда.
Конечно, Чарли и Финн проклянут ее за последнюю пулю для себя, но позже поймут, что это им же во благо. Труп убийцы рядом с жертвой избавит их от всяких подозрений. Преступник уже понес наказание. И голубки благополучно упорхнут.
– Приехали, мадам.
Машина остановилась у подъездной аллеи – дорога с четверть мили длиной уходила к изящной вилле, смотревшейся игрушкой: белые стены, сияющие в лунном свете, островерхая крыша, устремленная в темное небо. В зашторенных окнах горел свет. Хозяин дома. Интересно, долго ли еще он трапезничал в ресторане? Пожалуй, нет. Что-то подсказывало – он напуган.
– Подъехать к дому, мадам?
– Я пройдусь. – Эва вышла из машины.
Глава сорок первая
Чарли
Прости, Финн, – всякий раз шептала я, услышав скрежет передачи. Последнее время за руль я садилась нечасто, а тут – мрак, узкие улицы, и ноги мои едва достают до педалей. Клянусь, я все оплачу, если вдруг поцарапаю твою малышку. Я сморщилась, услышав, как негодующе взвыла машина.
Водитель я неважный, но ехала быстро, и вскоре Грасс остался позади. Вот тут и началась морока. «В конце поля мимоз» – отнюдь не точный ориентир на местности, утопающей в цветах. Взошла ущербная луна, а я все еще теряла драгоценное время. В памяти возникла Эва, требующая уйти с дороги. Спокойная и собранная, она смахивала на изможденного рыцаря, готового к последней схватке и уже опустившего забрало.
У Джеймса было такое же лицо, когда последний раз я видела его живым. Оно говорило о готовности к смерти.
Господи, не дай этому случиться с Эвой! Если я потеряю и ее, я себе этого никогда не прощу.
От дороги ответвлялись подъездные аллеи к богатым виллам. Одна привела меня к дому с внушительной вывеской о продаже, другая – к семейному гнезду, где за ужином сидел целый выводок детишек. Потом на фоне темного неба я разглядела островерхую крышу еще одного дома. Сердце мое застучало. Я подъехала ближе, выбралась из машины и при лунном свете прочла витиеватую надпись на почтовом ящике: Готье.
Здесь. Вокруг ни души. Боже, сделай так, чтоб я успела вовремя, – взмолилась я и побежала к дому. Уловив сладкий аромат мимозы, я подумала, что так, наверное, пахнут волосенки младенца. Рука моя прижалась к животу, и на секунду мне стало страшно за себя, ибо пострадать могла не только я одна.
Сегодня никто не пострадает. Уж я об этом позабочусь. Как-нибудь.
Обогнув дом, я устремилась к черному ходу.
Глава сорок вторая
Эва
Черный ход в сельских домах обычно не запирали. Во всяком случае, в мирное время. Дом Борделона был заперт. Эва это предвидела и, поставив сумку на землю, вынула из волос две шпильки. Она еще помнила давние уроки фолкстонских курсов – ничего сложного: одна шпилька в роли фиксатора, другой осторожно манипулируешь с язычком.
Однако изуродованные пальцы слушались плохо, Эва провозилась долго. Хорошо еще, старый замок был примитивным, иначе она могла бы с ним и не справиться. Наконец раздался долгожданный щелчок; Эва выпрямилась, успокаивая дыхание. У нее только одна попытка, нельзя, чтоб скакало сердце и дрожала рука. Решив, что теперь готова, Эва достала «люгер» и, бросив сумку на пороге, вошла в дом.
В просторной кухне ни души, только дощатые столы и утварь, мерцающая в лунном свете. Эва прошла к двери в коридор, осторожно повернула ручку. Скрипнули петли, Эва замерла, прислушиваясь.
Тишина.
Стены коридора были украшены старинными картинами и канделябрами. Толстый половик заглушал шаги – вкус хозяина к роскоши был на руку его убийце. Послышалась тихая музыка. Секунду постояв, Эва свернула направо в холл. Музыка стала громче. Что-то плавное, манящее. Дебюсси, – усмехнулась Эва.
Глава сорок третья
Чарли
Я обомлела.
Дверь черного хода нараспашку, на земле сумка Эвы. Я в нее заглянула – пистолета нет. Значит, я опоздала.
Однако выстрелов и криков не слышно. Дом тих, как неразорвавшаяся граната.
Я уж хотела окликнуть Эву, но вовремя сообразила: этим я всполошу гада, если он еще не ведает, что ему уготовано. Вот именно – если. Может, Борделона уже ничем не всполошишь. Убит он или нет? Все во мне вопило, приказывая бежать – спасаться самой и спасать Розанчика. Но в этом гадюшнике был мой друг, и я шагнула внутрь.
Темная кухня. Дальняя дверь приоткрыта. Длинный, богато украшенный коридор. Сердце мое бухало. Тихая мелодия. Шаги? Сумрак будто пульсировал. Я пошла на звук музыки и, свернув за угол, увидала живую картину в обрамлении арочного входа.
Эва читалась силуэтом на фоне ярко освещенной комнаты, один в один соответствующей ее рассказу о той, что была в Лилле: обитые зеленым шелком стены, граммофон в углу, цветастый павлин на абажуре лампы. В белоснежной рубашке Рене склонился над открытым чемоданом, не ведая, кто стоит у него за спиной. Эва вскинула пистолет. Вмешиваться было поздно. Я замерла, оглушенная стуком своего сердца.
Никто не издал ни звука, но, видимо, змеиное чутье что-то прошипело Борделону, ибо он вдруг обернулся. Его резкое движение заставило Эву вздрогнуть и нажать собачку, еще толком не прицелившись. У меня заложило уши, пуля отрикошетила от мраморной каминной полки. Рене что-то выхватил из чемодана. На лице его не было ни удивления, ни страха, только ненависть. Они с Эвой синхронно вскинули руки. Все происходило, точно в замедленной съемке: два нацеленных «люгера», два спущенных курка, два выстрела в унисон.
И одно падение.
Эвы.
После этой нескончаемой секунды все случилось мгновенно. Выронив пистолет, Эва рухнула на ковер. Я влетела в комнату, намереваясь вцепиться в Борделона, но он оказался проворнее – ногой отшвырнул в сторону Эвин пистолет и, попятившись, взял меня на мушку:
– На колени, живо!
Все произошло невероятно быстро. Держась за плечо, Эва чуть слышно стонала. Я опустилась на колени и ладонью накрыла ее руку, ощутив липкую горячую кровь на своих пальцах.
– Эва…
Она открыла глаза, медленно сморгнула и проговорила тонким бесцветным голосом:
– Твою душу мать…
В комнате, мгновенно провонявшей пороховой гарью, стояла тишина, которую нарушали только шорох закончившейся пластинки и дыхание трех человек: прерывистое – мое, хриплое – Эвы и частое, как у запаленной лошади, – Борделона. На воротник его белой рубашки стекала струйка крови из отстреленного уха. В груди моей застрял рвавшийся на волю вопль.
Эва промахнулась совсем чуть-чуть, – подумала я, уставившись в бездонную черную дырку ствола, нацеленного мне в лоб.
– Отойди. – Ствол качнулся в сторону. – Брось эту старую суку.
– Нет. – Я зажимала Эвину рану. Хоть не медсестра, я знала, что нужна тугая повязка. От Борделона бинтов не дождешься, он хочет, чтоб Эва истекла кровью… – Не отойду.
Я вскрикнула, когда грянул выстрел, и пуля расщепила дверной косяк за моей спиной.
– Брось ее и отползи к стене.
– Делай, что он говорит. – Голос Эвы был хриплый, но четкий.
Через силу я убрала руку с окровавленной ладони Эвы. Сквозь ее пальцы сочилась кровь. Я отползла к стеллажу; пистолет Борделона следовал за мной, однако взгляд его был прикован к Эве, сумевшей сесть и привалиться к дверному косяку. В глазах ее застыла мука, но причиной была не рана, а то, что враг остался на ногах.
Облажалась! – вопил ее взгляд, полный ненависти к себе. – Неудачница.
Но облажалась-то я. Это я не сумела ее уберечь.
– Опусти руку, Маргарита. – Борделон утратил безмятежный тон напрочь. – Я хочу видеть, как ты подыхаешь, так что давай без проволочек.
– Не дождешься. – Эва глянула на плечо. – Рана не с-смертельная.
– Но ты ис-стечешь кровью, дорогуша. Что ж, медленная смерть мне даже больше по нраву.
Эва убрала руку с плеча. У меня перехватило горло, когда я увидела расплывающееся темное пятно на ее блузке. Рана несерьезная, но она ее убьет. В обители своих кошмаров Эва истечет кровью.
Рене заворожено смотрел на ее измазанные кровью уродливые пальцы.
– Днем ты была в перчатках, а мне так хотелось увидеть, во что превратились твои руки.
– Зрелище малоприятное.
– Не скажи. Я сотворил шедевр.
– Что ж, любуйся. Только ее отпусти. – Эва кивнула на меня. – Она не при делах и здесь вообще случайно…
– Однако она здесь, – оборвал ее Рене. – Я не знаю, что ты ей порассказала и насколько эта девица опасна, а потому она тоже умрет. Как только ты сдохнешь, я займусь ею. Пусть эта мысль отравит твои последние минуты. По-моему, девчонка для тебя кое-что значит.
Объятая ледяным ужасом, я прикрыла руками живот. Я умру, не прожив и двадцати лет. А Розанчик не поживет вообще.
– Она тебе не по зубам. – Эва говорила буднично, но я догадывалась, чего ей стоит это спокойствие. – Ладно я, старая развалина без родных и друзей, но у нее-то есть и те и другие, причем люди не бедные. Тронешь ее, и так вляпаешься, что мало не покажется.
Рене задумался, сердце мое почти остановилось.
– Ни черта! – Борделон потрогал кровивший остаток уха и сморщился. – В мой дом ворвались грабители, я, беспомощный одинокий старик, начал отстреливаться, но в темноте не видел, что нападавшие – женщины, да еще те самые, что днем досаждали мне в ресторане. От пережитого у меня случился сердечный приступ. Когда я добрался до телефона и вызвал полицию, обе бандитки уже, к несчастью, умерли. А здешний простой народ на стороне тех, кто не жалует непрошеных гостей.
Надежды мои рухнули. Конечно, все это не так просто, как расписал Борделон (официанты дадут показания о нашей встрече в ресторане), но пока то да се, он успеет скрыться. О готовности к побегу говорил собранный чемодан. Эва права: Борделон всегда выходит сухим из воды. Похоже, удача и деньги – его вечные спутники, ибо он уже дважды ускользнул от наказания за мерзкие грехи. Скорее всего, ускользнет и в третий раз.
Только через мой труп! – подумала я и едва не залилась истерическим смехом, поскольку все к тому и шло. Умрет Эва, следом я, и он перешагнет через наши тела. По трезвому расчету, меня уже давно надо бы прикончить, ибо я, молодая и сильная, представляла реальную опасность. Но сейчас Борделон был не способен на трезвый расчет. На его глазах умирала женщина, которая некогда его перехитрила и унизила. Пока что именно она была его центром вселенной, и он пожирал ее взглядом.
– Думаешь, ты сможешь застрелить человека, который смотрит тебе в глаза? – не сдавалась Эва, хотя кровь, толчками выбегавшая из раны, полилась обильнее. – Всего раз ты спустил курок, но стрелял человеку в спину…
Я-то не сомневалась, что Борделону хватит духу меня убить. Ничуть не сомневалась. Возможно, раньше он брезговал грязной работой, но теперь стал совсем другим.
– Не разговаривайте, Эва, – пискнула я. – Берегите силы.
– Для чего? – усмехнулся Борделон. – Думаешь, помощь придет? Выстрелов никто не слышал. До ближайших соседей мили три.
Помощь. Я подумала о Финне. В гостинице я оставила ему записку, сообщив, куда и зачем отправилась. На всякий случай. И вот он, тот самый случай. На секунду возникла бредовая картинка: Финн врывается в дом и спасает нас. Но вряд ли судьба станет так милостива к нам.
– Поверь, я без колебаний прикончу твою американку. – Рене достал из кармана платок и зажал рану на голове. – Комната уже испорчена, лужа-другая крови значения не имеют…
Что делать, Роза? – в панике думала я, сама не зная, к кому обращаюсь – к кузине или дочке. Взглядом я обшарила комнату. Эвин пистолет лежал далеко. Запрокинув голову, я посмотрела на стеллаж. На верхней полке два серебряных подсвечника. Высоко, пуля меня срежет, прежде чем я до них дотянусь. А вот на средней полке…
– Не убивай ее. Я прошу тебя.
Я почти не слышала Эву. На средней полке что-то белело. Мраморный бюст с незрячими глазами. Я сразу догадалась, кто это. Бодлер.
– Я не ожидал, что ты так быстро отыщешь мой дом. – Борделон расхаживал по комнате, после всплеска активности опять превратившись в негнущегося старика. – Как ты узнала адрес?
– Я выдою информацию из кого угодно. Разве т-ты сам в этом не убедился?
От бешенства Борделона аж перекосило. Нелепый старик все не мог забыть свою давнюю промашку. Однако злость его была мне на пользу. Я прикинула расстояние до бюста. Одно движение – и он у меня в руках.
– О горе! впившись в грудь, вливая в сердце мрак, Высасывая кровь, растет и крепнет Враг[12], – процитировал Борделон. – Однако враг этот оказался не так уж опасен.
– Еще как опасен, – сказала я. – Только ты перепутал, старая сволочь, твой враг не Эва, а я.
Борделон окинул меня удивленным взглядом – казалось, он вообще забыл обо мне. Ужасно хотелось спрятаться от его глаз и пистолета, вновь повернувшегося в мою сторону, но я пренебрежительно вскинула подбородок, хотя мне было совсем не все равно, что со мной станет.
– Уймись, америкашка! – рявкнула Эва.
Бледное лицо ее покрылось испариной. Сколько еще она протянет? Неизвестно.
Надо подманить его ближе. Эва говорила, что Борделон хорош в планировании, но слаб в импровизации. Что ж, я сумею вывести его из себя. Из рассказов Эвы я знаю его как облупленного.
Я постаралась придать своему взгляду максимум презрения.
– Твой враг – я. Это я узнала о твоем ресторане в Лиможе. Я отыскала Эву и притащила ее сюда из Лондона. Я. Ты считал себя умником, который замел все следы, но сопливой девчонке понадобилось всего несколько телефонных звонков, чтобы тебя разыскать.
– Заткнись! – ледяным тоном приказал Борделон.
Я бы охотно заткнулась. Но это не спасет меня и Розанчика. Выбор-то невелик: либо пытаться разозлить Борделона, либо безропотно ждать смерти.
– Я не подчиняюсь приказам всяких дураков, – огрызнулась я, чувствуя, как по спине моей стекает пот. – Твоя одержимость Бодлером не просто невыносимо глупа, но выдала тебя с головой. Ты не умен, ты предсказуем. Не дай ты такое же название второму ресторану, сейчас попивал бы шампанское, а не готовился к бегству, уже третьему в твоей безликой заштампованной жизни.
– Заткнись, я сказал!
– Хочешь поговорить сам? Обожаешь поболтать? Да уж, сколько всего ты порассказал Эве, размякнув от ее больших простодушных глаз. Ты у нас говорун, Рене. – Я впервые назвала его по имени, сочтя, что пули, кровь и угроза неминуемой смерти очень сближают. Губы его сжались, пистолет в руке дрогнул. – И не мечтай, что удастся меня убить. Здесь я с мужем, он тебя закопает живьем. Я оставила ему записку, он едет сюда. Даже если отвертишься от смерти Эвы, хладнокровное убийство американки тебе не сойдет с рук.
Или сойдет. Я лишь старалась сбить его с толку. Пистолет опять дрогнул, я замерла, а потом заметила, что он смотрит на мое обручальное кольцо, пытаясь понять, вру я или нет.
– Это уж точно. Муж ее – шотландец с бешеным нравом, он юрист, известный по обеим сторонам Атлантики. – Даже раненая, Эва блефовала искусно.
– Ты мнишь себя победителем, но ты проиграл, – подхватила я. – Так что, убери пистолет и позволь перевязать Эву…
– Я тридцать лет мечтал увидеть, как она сдохнет. Понятно, сучка ты американская? И я не откажу себе в этом удовольствии, хоть озолоти меня. Потом над ее трупом я выпью шампанского и вспомню, как она, вся в соплях, валялась на моем ковре, выбалтывая секреты…
– Ты врешь, она никого не выдала.
– Да что ты знаешь об этой жалкой трусливой твари! – холодно бросил Борделон.
Краем глаза я заметила, как дрогнул Эвин подбородок. Рене разбередил ее старую незаживающую рану. Карман мой жгла телеграмма от Виолетты. Получи я ее на день раньше, и всего этого, наверное, не было бы.
Пусть Эва истекает кровью, ей еще не поздно узнать правду.
– Ты обманул ее. Эва ничего не сказала даже под действием опия. Луизу де Беттиньи выдала некая мадмуазель Телье.
Видимо, Виолетта раскопала эту информацию в судебных протоколах, недоступных обвиняемым. Бог его знает, кто такая эта мадмуазель Телье. Позже выясним, если выберемся живыми из нынешней передряги.
– Ты понял бессмысленность своих пыток и сдал Эву немцам, которые и так уже все знали. Но ты убедил ее, что предательница – она. – Я глубоко вздохнула. – Ты проиграл, Эва тебя победила. И ты соврал, чтобы украсть у нее победу.
В сверлящем взгляде Борделона мелькнула растерянность, а мою пелену страха серебристой молнией распороло торжество. Эва пыталась сесть прямее, только я не поняла, дошли ли до нее мои слова. Пистолет Борделона качнулся в ее сторону. Нет, смотри на меня!
– Ну и как ощущение? – не отставала я. – Ты пытался ее сломить, однако ничего не вышло. Она тебя переиграла и стала увенчанным наградами героем войны, а ты дважды начинал жизнь заново, потому что тебе не хватило ума быть на стороне победителей…
Я его достала. Забыв об осторожности, человек, убивший Розу, шагнул ко мне и вскинул «люгер». Я вскочила на ноги и долю секунды, показавшейся вечностью, шарила по полке, нащупывая бюст Бодлера, которым со всего маху ударила по руке с пистолетом. Потеряв равновесие, Борделон завалился на стол, однако его цепкая старческая рука «люгер», вопреки моим безмолвным мольбам, не выпустила.
– Бей, Чарли! – хрипло вскрикнула Эва, и я ее поняла.
Издав звериный рык, я размахнулась что было мочи. Борделон вскинул свободную руку, прикрывая голову. Но бюст Бодлера описал дугу, которая замкнулась на его паучьих пальцах, обхвативших рукоятку «люгера». Раздался тошнотворный хруст костей. Борделон закричал. Как кричала Эва, когда один за другим он размозжил ее суставы, как на операционном столе кричала Лили, как кричала Роза, когда в нее входили немецкие пули, уже пронзившие тело ее дочки. И я тоже кричала, раз за разом нанося удары, превращавшие эти длинные пальцы в кровавое месиво из раздробленных костей.
«Люгер» упал на пол.
Я нагнулась за ним, но уцелевшей рукой Борделон вцепился в мои волосы, не подпуская к оружию. От моего пинка пистолет отлетел к Эве.
Окровавленными руками она подняла его с измазанного кровью пола и прицелилась. Боль от усилия превратила ее рот в оскаленную пасть. Я все же вырвалась из мертвой хватки Борделона, нырнула на пол…
И тогда Эва спокойно всадила пулю ему меж глаз.
Лицо его скрылось за алой вуалью.
Пистолет гавкнул еще трижды, посылая пули ему в грудь.
Борделон лежал навзничь, вскинув изуродованную руку, словно в безграничном удивлении, что существуют невыносимая боль, неумолимое возмездие, безвыходные ситуации и непобедимые женщины.
В комнате было не продохнуть от пороховой гари и едкого запаха крови. Свинцовым грузом пала тишина. Я поднялась с пола, все еще сжимая в руке бюст Бодлера. Взгляд мой был прикован к распростертому телу Борделона. Только видела я не жалкого мертвого старика, но уничтоженную ядовитую гадину, опасную до своих последних минут. Меня замутило. Я отвернулась и, держась за живот, подошла к Эве. С пистолетом в руке, вся в крови, она казалась усталым воином, великим и ужасным; на губах ее застыла безжалостная улыбка, точно у валькирии, совершающей триумфальный объезд груды поверженных врагов.
– Остался последний патрон, – четко проговорила она и, не сводя глаз с трупа Рене, приставила «люгер» к виску.
Глава сорок четвертая
Эва
Палец Эвы напрягся на спусковом крючке, но тут ее ожгло такой болью, что небо с овчинку показалось. Причем боль эта, резкая и ослепительная, угнездилась не в раненом плече, а в изувеченных пальцах. Испустив утробный вопль, Чарли Сент-Клэр шарахнула мраморным бюстом по Эвиной руке. Оглушительно грохнул выстрел, пуля ушла в стену. Эва придушенно вскрикнула и прижала руку с пистолетом к груди, из глаз ее катились слезы.
– Сука ты американская! – сквозь стиснутые зубы простонала она. – Пальцы мне сломала… опять…
– Это вам за то, что обманом смылись из гостиницы. – Чарли выхватила у нее пистолет и отбросила его в сторону. – Черта с два вы у меня застрелитесь!
– Да я и так сдохну.
Застрелиться, конечно, было бы романтичнее, тем более из «люгера», когда-то подаренного Кэмероном. Эва его тотчас узнала по царапине на стволе. Ну нет, так нет. Значит, истечем кровью, нужно просто подождать.
– Отвали! – рыкнула Эва, когда Чарли попыталась осмотреть ее рану. Боль неспешно грызла плечо, точно ненасытный зверь. – Не трогай меня! Оставь!
– И не подумаю! – Не обращая внимания на труп, Чарли взяла из чемодана полотняную сорочку, а со стола – графин с бренди. – Дайте я обработаю рану, чтоб какая-нибудь зараза не попала…
Эва ее оттолкнула. Нестерпимая боль пронзила сломанные пальцы. Вновь это ощущение, будто рука зарыта в раскаленный песок. Хотелось свернуться в клубок и умереть. Силы кончились. Врагов не осталось. Ненависть была ее стержнем, а теперь она себя чувствовала беспомощной улиткой, лишившейся своей ракушки. Пора уйти. Неужто девчонка этого не понимает?
Похоже, нет. Вон, мечется, как ртуть, не желая сдаваться. Как она бросила Рене в лицо – мол, ему не хватило ума быть на стороне победителей! В тот миг она будто превратилась в Лили – маленькую, но свирепую, как росомаха, женщину, всегда безоглядно жившую на волосок от гибели. Но Лили все-таки проиграла, а вот Чарли – нет.
– Вам совсем ни к чему умирать. – Останавливая кровь, Чарли прижала смоченный бренди лоскут к плечу Эвы. – В том никакой нужды.
Нужды? Эва хотела умереть. У спившейся заики не было будущего. Злодей, вина и горе сломали ее жизнь. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: даже смерть врага не сделает жизнь слаще.
Видимо, она произнесла это вслух, потому что Чарли взвилась:
– Вы не поняли, что ли? Вы не предавали Лили! Немцы о ней узнали иначе. Когда вы сказали про опий, я засомневалась…
Роняя слезы, Эва покачала головой:
– Нет, ее выдала я.
Иного не дано. Эва смутно помнила, что Чарли обвиняла Борделона во лжи. Но она давно сжилась со своей виной. И никакими словами этого не изменишь.
– Опий – это не сыворотка правды, Эва! Он порождает видения, но не развязывает язык! По моей просьбе, Виолетта отыскала протокол совещания судей. И я оказалась права! Предательница – какая-то заключенная по фамилии Телье…
Эва качала головой, как заведенная.
– Может, стоит самой посмотреть протоколы и все выяснить окончательно? Вы же разведчица, кавалер ордена Британской империи, такие как Аллентон вам многим обязаны! Позвоните Виолетте, расспросите ее…
– Нет. – Голова Эвы качалась, точно маятник.
– Мать твою за ногу! Не хочешь избавиться от надуманной вины? Наше дело телячье, да? Обосрался и стой? – Чарли сунулась лицом вплотную к лицу Эвы. – Ты ни в чем не виновата!
По щекам Эвы катились слезы – настоящие, не крокодильи. Сотрясаясь в рыданиях, она уткнулась в плечо Чарли.
– Здесь оставаться нельзя. – Чарли попыталась ее поднять. – Крепко прижмите лоскут и обопритесь на меня.
Пусть вся кровь вытечет до капли, – думала Эва. – Пусть утром полиция найдет два окоченевших трупа – шпионки и источника, жертвы и палача, предательницы и предателя, неразлучных до горестного конца. Но…
Ты ни в чем не виновата.
Чуть ли не на себе Чарли вытащила Эву в коридор, затем в темную кухню и далее в теплую французскую ночь. Корчась от боли, Эва содрогалась в рыданиях.
– Стойте здесь, я подгоню машину, – сказала Чарли. – Четверть мили вам не пройти…
И тут на дороге заплясал яркий свет фар, пробивший даже пелену на глазах Эвы.
– П-п-п-п… – начала она, но язык ей отказал окончательно, не позволив выговорить слово «полиция».
Эва отбросила лоскут, который прижимала к ране. Нет уж, в тюрьму она больше не сядет.
– Финн! – заорала Чарли.
Знакомый голос с шотландским акцентом что-то гневно ей выговаривал. Сильные руки подхватили Эву, соскальзывающую во тьму. Хорошо бы, в вечную, – успела подумать она.
И совсем уж напоследок мелькнула еще одна мысль:
Ты ни в чем не виновата.
Глава сорок пятая
Чарли
Через двадцать четыре часа мы были в Париже.
Ночью, когда Финн немного успокоился и мы сели в машину, я сказала:
– Эве нужен врач. Но в больницу нельзя, ее арестуют. – Я оглянулась на дом. – Огнестрельная рана вызовет подозрение, когда полиция обнаружит…
– Ничего, я ее подлатаю, продержится. – Финн разодрал сорочку Рене на полосы и, смочив их бренди, занялся Эвой, без чувств лежавшей на заднем сиденье. – Похоже, пуля прошла навылет. Кровопотеря большая, но не критическая…
Нас арестуют, – гулко звучало у меня в голове. Пока Финн перевязывал Эву, я вернулась в дом. В пропахшей кровью комнате я обернула руку подолом блузки и, обходя кровавые лужи, чтобы не оставить своих следов, сбросила лампу с павлином на пол, опрокинула граммофон, выдвинула ящики стола, словно в них рылись в поисках денег. Я пыталась создать картину неудачного ограбления. Вдруг прокатит… Потом из кармана я достала фотографию, которую мы показывали в разных заведениях Грасса. Сняла скрепку и расправила фото. Теперь на снимке были видны сотрапезники Борделона со свастиками на рукавах. Фотографию я бросила на нашпигованный пулями труп.
Накатила волна тошноты. Меня окликнул Финн – пора было сматываться. Забросив оба «люгера» и бюст Бодлера в сумку Эвы, я выбежала из комнаты. Я села за руль «лагонды», на заднем сиденье которой лежала бесчувственная Эва, Финн поехал следом в машине, одолженной у администратора отеля.
Ночь была просто ужасная. Эва очнулась и сумела пройти мимо зевающего портье, но, одолев лестницу, вновь лишилась чувств. Финн занес ее в номер, промыл рану и поменял повязку, теперь располосовав простыню, украденную из бельевого шкафа. Оставалось только ждать рассвета и поглядывать на пугающе неподвижную Эву.
– Я просто готов ее прикончить. – Финн меня обнял. – Втянула тебя черт-те во что…
– Я сама поехала вдогонку за ней, – прошептала я. – Хотела ее удержать. Все пошло не так. Вдруг ее арестуют…
Финн прижал меня к себе.
– Мы этого не допустим.
Нельзя, ни в коем случае. Видит бог, я хотела предотвратить убийство, но теперь не отдам Эву в лапы полиции. Она и без того настрадалась.
Я посмотрела на нее и вдруг расплакалась.
– Она пыталась застрелиться!
Финн поцеловал меня в маковку.
– Этого мы тоже не допустим.
Чуть свет мы покинули гостиницу, я шла рядом с Эвой, поддерживая ее. Заспанный портье ни о чем не спросил. Финн не жалел «лагонду», и через час мы были далеко от Грасса.
– Гардинер, вы должны мне новую машину, – бурчал Финн, прислушиваясь к скрежету передач. – Пятна крови с сиденья не вывести, и мотору, похоже, крышка.
За всю долгую дорогу Эва не проронила ни слова. Съежившаяся на заднем сиденье, она напоминала угловатую композицию из костей. Даже в Париже, когда мы проезжали над темными водами Сены, и я, открыв окно, выбросила бюст Бодлера в реку, она ничего не сказала. Только всем телом вздрогнула.
Одному богу известно, где Финн раздобыл врача, согласившегося осмотреть Эву, не задавая лишних вопросов. Лекарь продезинфицировал рану, наложил швы и отбыл.
– В армейском братстве имеются лишенные лицензии врачи, – сказал Финн. – Кто, по-твоему, втихаря штопает бывших уголовников, пострадавших в драках?
Теперь, когда Эвины пальцы были загипсованы, а рана зашита, когда имелись обезболивающие и противовоспалительные средства, мы решили залечь на дно.
– Нужно время, чтоб все зажило, – сказала я. Эва была странно вялая и лишь иногда проявляла свой скверный характер. – В Париже можно спрятаться, если вдруг…
Если вдруг полиция все-таки выйдет на наш след, – думали мы с Финном, однако в разговорах Борделона не поминали. На Монмартре мы сняли дешевые номера, где никто не мешал Эве много спать, принимать лекарства и скандалить из-за того, что ей не дают виски. Прошло целых пять дней, прежде чем Финн увидел заметку под заголовком «На окраине Грасса найден мертвым бывший ресторатор».
Выхватив у него газету, я зашарила глазами по строчкам: труп обнаружила домработница, пришедшая для еженедельной уборки… состоятельный человек… покойный жил один… в комнате погром… прошло много времени, и потому сбор улик затруднен…
Я уронила голову на руки, охваченная внезапной слабостью. Никаких упоминаний пожилой дамы и юриста, наводивших справки о покойном. Знает о них полиция или нет, но в заметке ни слова о том, что ведется расследование. Значит, никто не свяжет богатую американскую вдову и липового адвоката с прикованной к постели англичанкой и ее затрапезным шофером, обитающими в Париже.
– Он пролежал пять дней, – задумчиво сказал Финн. – Будь у него родные и друзья, его нашли бы раньше. Кто-нибудь позвонил бы ему и, не получив ответа, обеспокоился. Но у него не было друзей. Он никого не любил, ни с кем не сближался.
– На трупе я оставила фотографию. Ту, где Борделон с нацистами. – Я медленно выдохнула и перечитала заметку. – Я подумала, что полиция не станет слишком усердно искать убийцу коллаборациониста. Не важно, грабеж это или возмездие… чего уж теперь.
Финн поцеловал меня в лоб.
– Хитрюга.
Заметку сопровождало фото улыбающегося элегантного Рене. У меня свело живот, я отшвырнула газету. Теперь и мне снилась оглашаемая криками комната в зеленых шелковых обоях.
– Ты никогда его не видел, но, уж поверь, он настоящее чудовище.
– Может, оно и к лучшему, – проговорил Финн. – Я насмотрелся на чудовищ. Вот только жалею, что меня не было рядом, чтоб защитить вас.
А я вот ничуть не жалела. Если б нас арестовали, человек с судимостью получил бы немалый срок. К тому же мы и сами справились. Но этого я не сказала, щадя его гордость.
– Ну что, сообщим Эве, что вроде бы все нормально?
– Давай. Может, перестанет лаяться.
Эва выслушала новость молча, а потом с удвоенным занудством стала жаловаться: мол, чешутся пальцы под гипсом, повязка давит плечо. Мало того, за все это время она ни разу не спросила о документах, которые раскопала Виолетта.
Прошло еще пять дней. Утром я принесла Эве завтрак и увидела, что номер пуст, а на подушке – записка.
Финн крепко помянул всех святых, а я все перечитывала короткое послание: Уехала домой. Не волнуйтесь.
– Надо же – не волнуйтесь! – Финн взъерошил волосы. – Вот куда она намылилась, дубина стоеросовая? К Виолетте? Хочет выяснить все досконально?
Он кинулся звонить в Рубе. У меня зародилось кое-какое подозрение, и я обшарила номер. Оба «люгера» исчезли.
Вернулся Финн.
– Виолетта о ней ничего не знает.
– Вряд ли Эва отправилась в Лилль или Рубе, – тихо сказала я. – Наверное, она поехала умирать. Дома, где никто не помешает ей спустить курок.
Я тешила себя надеждой, что ее старая душевная рана затянется. Теперь она знает, что не предавала Лили, и собственноручно расправилась с заклятым врагом. Разве этого мало? Отныне можно смотреть в будущее, забыв о мрачном прошлом. Но, видимо, Эва глянула в зеркало, и отражение сказало ей, что без ненависти и вины жизнь утратила смысл. И точку в ней поставит пистолет.
Как было с моим братом.
У меня перехватило дыхание.
– Надо ехать, Финн. В Лондон, как можно скорее.
– А если ее там нет? Раз уж она решила свести счеты с жизнью, это можно сделать в гостинице через две улицы отсюда, а мы и знать не будем…
– В записке сказано уехала домой. Тридцать с лишним лет у нее не было другого дома, кроме Лондона. И если она решила умереть…
О господи. Не надо!
Нынешняя поездка по Франции сильно отличалась от прежней. Без едких замечаний пассажирки на заднем сиденье машина казалась пустой, никаких заездов в Лилль и Руан. Дорога от Парижа до Кале заняла всего несколько часов, паром доставил нас в туманный Альбион, и «лагонда», натужно пыхтя, понесла нас в Лондон. У меня сжалось горло, когда я вдруг сообразила, что нынче день моего рождения. А я совсем забыла.
Мне двадцать лет.
Меньше двух месяцев назад я сошла с поезда и отправилась в промозглую тьму, не имея ничего, кроме Розиной фотографии и беспочвенных надежд. Эвелин Гардинер была просто именем на бумажном клочке. Я знать не знала Эву, Финна, Рене Борделона. Да я и себя-то не знала.
Меньше двух месяцев назад. И сколько всего произошло за столь короткий срок. Я потрогала свой округлившийся живот. Интересно, когда Розанчик начнет шевелиться?
– Номер десять по Хэмпсон-стрит, – бормотал Финн, лавируя меж рытвин. В Лондоне следы войны по-прежнему были заметны, но лица прохожих, в этот теплый летний день вышагивавших по разбитым улицам, как будто посветлели. Наверное, мрачными были только наши с Финном физиономии. – Лучше вам оказаться дома, Гардинер.
Живой и здоровой, – мысленно добавила я, зная, что не смогу себя простить, если увижу распростертую на полу Эву с пистолетом в окоченевшей руке. Я вас не пущу, – сказала я в Грассе. – Не хочу потерять и вас. Но если…
Дом десять по Хэмпсон-стрит был пуст. И не просто пуст, но снабжен вывеской.
«Продается».
Шесть недель спустя
– Готова? – спросил Финн.
– Не совсем. – Я обернулась вокруг себя. – Для Парк-лейн я достаточно импозантна?
– Ты выглядишь милой крохой.
– Не такая уж я кроха.
Черное платье, туго обтягивающее мой уже хорошо заметный живот, стало мне тесно, но я влезла в него, потому что оно приносило удачу. В нем я смотрелась элегантно и взросло, что нынче было весьма кстати. В Лондон приехали отец с матерью, и мы договорились о встрече в отеле «Дорчестер» на Парк-лейн.
После моего возвращения в Лондон мы с матерью часто перезванивались. Не важно, что расстались мы плохо, она моя мать и, конечно, тревожилась обо мне.
– Милая, у тебя должен быть хоть какой-нибудь план, – сказала она в один из наших разговоров. – Давай увидимся и всё обсудим…
– Извини, я не хочу возвращаться в Нью-Йорк.
Мать не возразила, и это было знаком, как сильно она за меня переживает.
– Хорошо, мы приедем в Лондон. Тем более что у твоего отца там намечаются дела. Я поеду с ним, и все вместе мы разработаем план.
У меня уже был свой план. И я его шлифовала, обитая в квартирке Финна. Да, мы беспокоились за Эву и почти ежедневно наведывались к ее дому, но за английским завтраком говорили не только о ней. Мы говорили о Розанчике, для кого я потихоньку покупала приданое. Мы говорили о нашем будущем. Финн выдвигал идеи, а я просчитывала, насколько они для нас реальны (увидев фальшивое обручальное кольцо, банковские клерки безропотно выдавали мне деньги с моего собственного счета). Но я сомневалась, что мой план впечатлит родителей. А потому готовилась выслушать их предложения и сказать твердое «нет». Пусть я несовершеннолетняя, они должны понять, что мною нельзя помыкать, как прежде. Когда посмотришь в дуло наставленного на тебя пистолета, родители перемещаются в низ списка того, что может испугать.
Однако я не желала, чтоб после моего отказа наша встреча пошла наперекосяк. Что ни говори, я соскучилась по родителям. И хотела попросить прощения за все причиненные им огорчения, хотела сказать, что теперь понимаю, как уход Джеймса перекорежил их жизнь. Я мечтала, чтоб мы опять стали семьей.
– Думаешь, мне надо идти? – Финн надел темно-серый костюм, в котором изображал поверенного Дональда Макгоуэна. (Ах, мой Дональд!) – В Рубе я не произвел хорошего впечатления на твою матушку.
– Так легко ты не отвертишься, Финн Килгор. Идем.
Финн ухмыльнулся.
– Я поймаю такси.
«Лагонда» была в ремонте – в свободное от починки чужих машин время Финн восстанавливал ее мотор, надорвавшийся на пути из Парижа. Жаль старушку, да и мне добавилось бы уверенности, если б к «Дорчестеру» я подкатила на «лагонде». Пусть под капотом она рухлядь, но снаружи выглядит стильно.
Я надела свою обновку – потрясающую черную шляпу, на которую потратилась, памятуя рассказ Эвы о пристрастии Лили к сомнительным головным уборам. Черная вуалетка и перья определенно заносили эту шляпу в категорию сомнительных. Я усмехнулась и сдвинула ее набок, придавая себе лихой вид. «Очень мило, америкашка», – сказала бы Эва. Сердце мое екнуло, как всякий раз при мысли о ней. Агент, занимавшийся продажей дома, ничего не прояснил – указание от хозяйки он получил телеграммой. Мы оставили записку с адресом Финна, в которой умоляли Эву связаться с нами. Каждый раз, подъезжая к дому, мы надеялись увидеть ее, но вместо этого неделю назад увидели объявление, что дом продан.
Где ты? Похоже, Эва нарочно задала нам эту головоломку. Иногда я страшно боялась, что ее уже нет в живых, а иногда была готова убить за то, что заставляет меня так переживать.
– Чарли, голубушка… – Голос Финна, донесшийся от дверей, был какой-то странный. – Ты только глянь…
Я взяла сумочку и вышла на крыльцо. Все слова замерли у меня на губах. У тротуара стояла сногсшибательная машина – под утренним солнцем царственно серебрился роскошный кабриолет с низкой посадкой.
– «Бентли Марк VI» выпуска сорок шестого года, – шептал Финн, продвигаясь к машине, точно сомнамбула. – Объем двигателя четыре с половиной литра… независимая передняя подвеска на пружинах… карданная передача из двух валов… – Дрожащей рукой он коснулся крыла.
Однако сердце мое засбоило не от вида этой бесспорной красавицы. Под «дворником» лежал большой белый конверт, на котором знакомым почерком были написаны наши имена. Во рту у меня пересохло. Я вскрыла конверт. В нем лежало что-то тяжелое, но первым делом я развернула единственный листок. Письмо начиналось без обращения, приветствия и, уж конечно, без извинений.
Ты подключила Виолетту, но я должна была во всем удостовериться сама. Лили и ее сеть выдала заключенная по фамилии Телье. В обмен на смягчение приговора она дала показания и передала немцам пять писем. Это произошло в то время, пока Рене Борделон меня допрашивал. Морока с этими протоколами суда и закулисного совещания, но все подтвердилось. Известно также, что после перемирия Телье покончила с собой.
Рене солгал. Я никого не выдала.
Ты была права.
Я поняла, что реву в три ручья. Но вовсе не от беспомощности. Гадкий внутренний голос беспрестанно твердил, что я подвела брата, Розу, родителей и себя. Но Эву я не подвела. Может, и других тоже. Изо всех сил я пыталась спасти Розу и Джеймса, мне это не удалось, но в их смерти нет моей вины. А с родителями все можно наладить.
И с Шарлоттой Сент-Клэр я разберусь. Она напортачила, пытаясь найти «икс» через бессмысленные и несовместимые величины «игрек» и «зет». Но потом пришла к простому уравнению: она плюс Финн плюс Розанчик. И она прекрасно знала, как это получилось.
Виолетта мне написала. Я еду в Рубе, мы вместе сходим на могилу Лили. Потом отправлюсь в путешествие. Успею вернуться к крестинам. А пока мой должок: тебе – жемчуг, Финну – машину.
Финн перевернул конверт. На ладонь его выпали ключи от «бентли», сцепившиеся с жемчужной ниткой. Мой жемчуг. Вернувшись в Лондон, я сразу пошла в ломбард, но срок заклада истек, и жемчуг продали. Однако вот он. Сквозь слезы, застившие глаза, я прочла последнюю строчку.
Считайте это свадебным подарком. Эва.
Весь «Дорчестер» замер. Швейцары, коридорные, мужчины в элегантных шляпах и их жены в белых перчатках – все смотрели на «бентли», остановившийся перед входом. Мотор сонно мурлыкал, точно котенок, сиденье в перламутрово-серой обивке баюкало, словно объятие. Финн буквально заставил себя отдать ключи служителю.
– Отгоните машину. – Он открыл пассажирскую дверцу и помог мне выйти на тротуар. – Мы с супругой здесь отобедаем.
Под маркизой террасы я увидела мать в оборчатом платье и отца, оглядывающего улицу. Потом взгляд матери оценивающе обежал красивый костюм Финна, глаза отца остановились на изумительной машине, но рты приоткрылись у обоих, когда они узрели меня в вызывающей шляпе и французских жемчугах.
– Здравствуй, мама. – Я улыбалась, держа Финна под руку. – Здравствуй, папа. Позвольте представить вам мистера Финна Килгора. – Я перехватила взгляд матери на мое фальшивое обручальное кольцо. – Мы еще не объявили о свадьбе, но скоро объявим. У нас большие планы на будущее, и я хочу, чтобы вы в них участвовали.
Мать засуетилась, отец тоже, но все-таки сдержаннее. Финн протянул руку, я представила родителей. Потом мы вчетвером направились в великолепие гостиничного холла. Я обернулась и в последний раз увидела Розу. В белом летнем платье она стояла под маркизой, ветерок играл ее светлыми волосами. Я хорошо помнила этот ее озорной взгляд. Она помахала мне рукой.
Я помахала в ответ, сглатывая ком в горле. Улыбнулась. И вошла в холл.
Эпилог
Лето 1949
Поля в окрестностях Грасса были морями роз, жасминов и гиацинтов. Пьянящий аромат предлагал отдохнуть в кафе, полосатые маркизы которого уговаривали не гнать сломя голову в Канны или Ниццу, но раскинуться на стуле и, заказав бутылочку розового вина, лишний час полюбоваться окружающими холмами. Худая женщина с проседью в волосах сидела там уже довольно давно, о чем свидетельствовал ряд пустых бутылок. Запястье этой очень загорелой дамы, облаченной в брюки хаки и сапоги, украшали браслеты из клыков дикого кабана. Она занимала угловой столик, позволявший видеть все возможные линии огня. Однако сейчас ее внимание было сосредоточено на машинах, проносившихся по шоссе.
– Ждать придется долго, – уведомили официантки, когда появившаяся в кафе дама справилась о хозяевах. – По воскресеньям мадам и мсье уезжают на пикник. Вернутся нескоро.
– Я подожду, – сказала Эва.
Она привыкла ждать. Через тридцать с лишним лет поквитавшись с Рене Борделоном, она частенько сидела в засаде, изнывая под палящим солнцем. Убийство Рене открыло, насколько ей нравится выслеживать и умерщвлять опасные существа. Стыдливые газели и грациозные жирафы ее не прельщали, а вот вепри в польских пущах или львы-людоеды, повадившиеся в деревеньку на востоке Африки, были подходящей мишенью для пары идеально вычищенных и смазанных «люгеров», покоившихся в ее сумке под стулом. К тому же на сафари никого не смущали ее затейливая брань, пристрастие к выпивке и временами случавшаяся бессонница из-за кошмаров, ибо у компаньонов-охотников были свои шрамы, если не на теле, то на душе, и в отдаленных диких уголках света они хотели дать роздых глазам, которые видели много страшного. На последней охоте она познакомилась с подтянутым седоватым английским полковником. Он ни разу не спросил, что случилось с ее руками, а она не выпытывала, почему после сражения при Эль-Аламейне он вышел в отставку. Однажды они засиделись за батареей бутылок со скотчем, и полковник осведомился, не желает ли Эва нынешней зимой вместе с ним прокатиться к пирамидам. Может быть, ответила она. У полковника были изящные руки, немного похожие на руки Кэмерона.
Проехала машина с опущенным верхом – «бугатти», битком набитый гогочущими итальянцами, поспешавшими на побережье. Эва перевела взгляд на просторную автомастерскую рядом с кафе. Судя по всему, торопыги, гнавшие к морю, исправно обеспечивают ее хозяина работой. В одном боксе стоял серебристый «бентли», некогда подаренный Эвой, в соседних – «пежо» с открытым капотом и «астон-мартин» на домкратах. Легко представить, как, дожидаясь окончания ремонта, туристы сидят в кафе: хрустят бисквитами, без меры пьют вино и подпевают песням по радио. Эва прислушалась – Эдит Пиаф исполняла старый шлягер «Мой легионер».
Уже наступил вечер, когда у подножья холма показалась «лагонда» и, посверкивая синими боками, стала неспешно взбираться по склону. Эва улыбалась, глядя, как машина заехала в гараж, откуда через минуту появилась Чарли в узких черных брючках и белой блузке. Золотистый загар и стрижка «боб» ей были к лицу. В одной ее руке покачивалась корзинка для пикника, другой она крепко держала ладошку маленькой девочки в испачканном платьице. Сколько же сейчас Эвиной крестнице – полтора года? Эва не видела ее с самых крестин, и эта свирепо хмурившаяся малышка с остреньким подбородком не имела ничего общего с гулившим свертком в оборках и вышитых розочках, который она держала над купелью. По торжественному случаю Эва надела свои ордена, и крошечные пальчики Эвелин Розы Килгор чуть не сорвали Военный крест с ее груди.
– Финн, прекрати стучать! – крикнула Чарли. – По воскресеньям никакой работы!
– Да тут чуть-чуть, – донесся голос Финна. – Опять масло подтекает…
– Слава богу, на «лагонде» мы ездим только на пикники. Она уж совсем развалюха.
– Имей уважение к старушке. – Из дверей гаража появился взлохмаченный Финн, расстегнутый воротничок рубашки приоткрывал его загорелую мускулистую грудь. Все официантки вперились в этот треугольник плоти, словно желая его съесть. Финн подхватил дочку на руки и обнял жену. – Ах, Эви Роза, красавица ты моя ненаглядная!
– Нет, она скверная девочка, – сказала Чарли, и малышка испустила невероятно пронзительный вопль. – Капризный ребенок минус послеобеденная дрема равняются взбешенности в десятой степени. Сегодня уложим ее пораньше…
Хозяева не заметили гостью в тени навеса. Эва вскинула руку. Как и раньше, искалеченные пальцы ее привлекали стороннее внимание и мало для чего годились, разве что спустить курок. Ну да ладно. Цветок зла, доживший до старости, вправе слегка поизноситься.
Увидев чей-то взмах, Чарли взглянула из-под козырька ладони, вскрикнула и бросилась к дальнему столику.
– Ну вот еще, давай обниматься, – безадресно пробурчала Эва. Она вздохнула и, ухмыльнувшись, покорилась объятию. – Америкашка ты чертова!
Послесловие автора
Луиза де Беттиньи – историческая личность, ныне почти забытая, что несправедливо, ибо отваги, смекалки и решительности той, кого прозвали королевой шпионажа, с лихвой достанет на захватывающий роман. Завербованная неким капитаном Сесилом Эйлмером Кэмероном, куратором разведывательных операций, имевшим нюх на таланты, бывшая гувернантка, взяв агентурный псевдоним «Алиса Дюбуа» (были и другие, но кличка «Лили» – мой вымысел), применила свое владение иностранными языками и организаторский пыл на поприще шпионажа. В результате возникла одна из наиболее успешных шпионских сетей.
Многочисленные источники информации позволяли Луизе сообщать о событиях на линии фронта с такой быстротой и точностью, которые просто поражали руководство британской разведки. «Работа Луизы де Беттиньи бесценна»; «Современная Жанна Д’Арк»; «Если с ней что-нибудь случится, потеря будет невосполнимой». Взбешенные немцы тоже были поражены невероятной точностью этих донесений, столь действенных, что новые артиллерийские позиции уничтожались почти сразу после их развертывания. Сеть Алисы добывала сведения еще большей ценности: визит кайзера, чей поезд не удалось разбомбить, и последнее донесение Луизы о немецком наступлении под Верденом, которому, к несчастью, командование не поверило.
Руководительница шпионской сети постоянно перемещалась из оккупированной зоны в свободную, а также в Бельгию, Англию и Голландию. Она пересылала сообщения, собирала информацию, проверяла работу агентов. Луиза действительно использовала упомянутые в романе способы сокрытия донесений: под обручальным кольцом, в прическе и коробке с тортом, меж страниц журнала. Ее отличала невероятная смелость: под светом прожекторов она пересекала границу, охраняемую вооруженными постовыми. Луизу не отпугивали трупы застреленных беженцев и не испугал даже тот случай, когда у нее на глазах двое из них подорвались на мине. Наверное, самая удивительная ее способность – принимать решение с ходу. Она умела заморочить пограничников, терявших терпение, пока она возилась со своими свертками, и использовать игравших в салочки детей для передачи пропуска напарнице (все это реальные эпизоды). И сцена, когда немецкий генерал, узнав в ней былую партнершу по шахматам, любезно предоставил ей свою машину, тоже произошла на самом деле.
Эва Гардинер – вымышленный персонаж, но две ее характеристики вполне реальны. Первая – заикание. Мой муж заика и хорошо знает, что такое вдруг забуксовать на трудном звуке, а в моменты гнева или сильного волнения говорить без запинки, ему знакомы досада и злость, когда нетерпеливый собеседник сам заканчивает фразу, считая заику недоумком. Именно муж подал идею наградить заиканием юную шпионку и посмотреть, как она превращает свой изъян в оружие против тех, кто ее недооценивает. Вторая реальная деталь – агентурная кличка. Когда осенью 1915-го удача изменила Луизе де Беттиньи, ее арестовали вместе с молодой женщиной по имени Маргарита Ле Франсуа. На допросах быстро выяснилось, что перепуганная Маргарита никакая не шпионка, а просто местная жительница, которая по глупости одолжила свой пропуск незнакомке. Ее отругали и отпустили восвояси, а Луизу отправили в тюрьму. Скорее всего, настоящая Маргарита Ле Франсуа была простодушной дурехой. Но вдруг нет? Пока я читала протоколы ареста, где описывалось, как женщин раздели и обыскали, как Маргарита разжалобила немцев слезами и обмороком, а Луиза взбесила тем, что проглотила шифровку, да еще попросила бренди, меня не покидала мысль: что, если это отличная сцена, напоследок сыгранная разведчицами, закованными в наручники? Вот так родилась Эва Гардинер, и я втиснула этот вымышленный персонаж в тандем реально существовавших Луизы и ее заместительницы.
Очкастая Леони Ван-Гутт – вполне реальная личность, ее подлинную агентурную кличку я заменила на Виолетту, поскольку в романе уже было действующее лицо с именем Шарлотта. Войну Леони начинала как медсестра, но вскоре стала верной помощницей и преданным другом Луизы де Беттиньи. «За ней я была готова в огонь и в воду, – позже писала Леони, – я угадывала в ней человека, способного на великие свершения». Ее арестовали раньше, но судили их вместе и обеих приговорили к тюремному сроку в Зигбурге. Луиза умерла от гнойного плеврита, а Леони выжила. Увенчанный наградами ветеран, после войны она вышла замуж за журналиста и открыла антикварную лавку. С ее слов супруг написал «Войну женщин» – воспоминания о Луизе де Беттиньи, бесценный рассказ очевидца о разведывательных операциях, аресте, суде и страшных годах на каторге, где изредка случались триумфальные моменты вроде забастовки, организованной Луизой. Многие искрометные выражения Лили взяты из этой книги.
Еще одна реальная личность среди агентов – Антуан, в романе мимоходом упомянутый как изготовитель фальшивых документов. Антуан ле Фур, книготорговец с душой поэта, был экспертом по антиквариату. Из сохранившихся писем Антуана его правнуки лишь теперь узнали, как лихо он, агент сети Алисы, использовал свои навыки в обнаружении подделки. Его младшая сестра Орели была проводником курьеров и подверглась изнасилованию немецкими солдатами, о чем в 22-й главе рассказывает Виолетта. Медсестра, знакомая Луизы де Беттиньи, провела аборт, и вполне возможно, что этой медсестрой была Виолетта/Леони. К счастью, Антуан и Орели избежали ареста и продолжили подпольную работу. Письма брата и сестры отражают всю глубину страданий французов и всю мощь их патриотизма.
Английский патриотизм представлен в романе еще одной реальной личностью – капитаном, позже майором, Сесилом Эйлмером Кэмероном, оперативный псевдоним «дядя Эдвард». Именно он завербовал Луизу де Беттиньи и Леона Трулена, впоследствии расстрелянного немцами. Все события непростой судьбы Кэмерона – арест по обвинению в махинациях со страховкой, тюремный срок, который он отбыл вместо жены, взяв вину на себя, возвращение в разведку и самоубийство – произошли на самом деле, хотя в угоду роману я кое-что присочинила касательно причин махинаций и его отношений с женой. Однако его агентурной кличкой и впрямь была «Эвелин», это же имя он дал своей единственной дочери.
Рене Борделон – вымышленный персонаж, в ком собраны крупицы исторической правды, ибо такие барышники реально существовали. В романе он стал мостом между двумя войнами и эпохами, я превратила его в доносчика (в реальности безымянного), который навел фашистов на Орадур-сюр-Глан.
В трагедии поселка много загадочного, сведения о ней сбивчивы и противоречивы. Доносчик уведомил о ячейке Сопротивления, члены которой пленили и убили немецкого офицера. Однако неизвестно, где располагалась эта ячейка – в Орадур-сюр-Глан или Орадур-сюр-Вер, да и существовала ли она вообще. Наверное, мы никогда не узнаем, почему эсэсовский чин решил покарать смертью весь поселок, за что получил строгий выговор от начальства. Возможно, поголовное уничтожение жителей не планировалось – есть предположение, что в церкви взорвался динамит, который там спрятали бойцы Сопротивления. Доподлинно известно одно: мужчин расстреляли в сараях, женщины и дети погибли в церкви. Несколько жителей уцелели, а из пекла в церкви выбралась только мадам Руффанш. Почти слово в слово я повторила ее показания, которые в 1953-м она дала на суде над эсэсовцами, обвиненными в массовой бойне. Все так и было: молодая женщина с младенцем на руках, следом за мадам Руффанш выпрыгнувшая из церковного окна, вместе с сыном погибла под автоматным огнем. Звали ее Генриетта Жойе, в романе она стала Розой Фурнье. По сей день Орадур-сюр-Глан, жуткий поселок-призрак, существует как мемориал: посеченные пулями дома без крыш, оплавленные ходики, замершие на четырех часах, заржавленный «пежо», навеки припаркованный на ярмарочной площади. До конца своей долгой жизни мадам Руффанш обитала неподалеку от поселка.
Финн Килгор – вымышленный персонаж, но его рассказ о Берген-Бельзен основан на свидетельствах солдат 63-го противотанкового полка Королевской артиллерии, освобождавших этот концлагерь. Чарли Сент-Клэр и ее семья – мой вымысел, однако положение беременной незамужней женщины было равно катастрофическим и в 47-м, и в 14-м годах. На запрещенные аборты тайком отваживались женщины богатые (как Чарли), которые могли их оплатить, или отчаявшиеся (как Эва), готовые рискнуть жизнью, но избавиться от нежеланной беременности. В Первую мировую войну такой жесткий выбор стоял перед многими женщинами, оказавшимися на оккупированной территории. Тяжело читать письма Орели ле Фур к родным, в которых она молит Господа о прощении за избавление от ребенка ее насильников. Из-за двойственного отношения к шпионкам Эва оказалась в кошмарном положении. В те времена шпионаж не имел гламурного блеска, который позже приобрел благодаря голливудскому Джеймсу Бонду, и считался профессией малопочтенной, тем более для женщины. И если уж она себя ею замарала, женская ее репутация должна была оставаться безупречной, а потому усиленно подчеркивалось, что такие шпионки, как Луиза де Беттиньи, сохраняли свою добродетель. «Возможно, они были кокетки, но никак не проститутки, – пишет биограф Луизы, повествуя о женщинах из сети Алисы, – и ради информации никогда не прибегали к обычным женским уловкам». Женщины вроде Эвы и Луизы, обитавшие в суровой реальности, прекрасно понимали, что шпионок воспринимают как святых или как шлюх: либо ты незапятнанная мученица Эдит Кэвелл, либо сладострастная вероломная девка Мата Хари.
Ради сюжета я, как обычно, позволила себе некоторую вольность с подлинными фактами. Скажем, в 1947-м существовала паромная переправа во Францию, но я не могу утверждать, что такой паром, доставивший драгоценную «лагонду» Финна в Гавр, отходил из Фолкстона. Луизу и Маргариту допрашивали не в караульном помещении, их отвезли в Турне. О замене смертной казни на тюремное заключение подсудимым объявили лишь через несколько дней.
Остается спорным, на основании чего Луизе предъявили обвинение. Под следствием она молчала, но потом сокамерница мадмуазель Телье передала немцам ее письма, хотя трудно сказать, были ли в них какие-нибудь улики. Ради четкого финала я использовала разные противоречивые протоколы. Вообще-то для обвинения было достаточно того, что на границе Луизу задержали с кучей разных паспортов и чужим пропуском.
Кроме того, я сжала события, сопутствовавшие ее смерти. Луиза умерла не сразу после операции по поводу гнойного плеврита, но инвалидом прожила еще несколько месяцев, что только подтверждает ее удивительную стойкость. В «Войне женщин» говорится, что операция, длившаяся четыре мучительных часа, проходила в неотапливаемой, плохо продезинфицированной палате тюремного изолятора, где лежали тифозные больные. Возможно, тюремное начальство рассчитывало на летальный исход операции, хотя одних только безобразных условий изолятора было вполне достаточно, чтобы без лишних хлопот угробить массу пациентов. Конечно, Луиза была головной болью немецких тюремщиков, и они, нимало ей не сочувствуя, не отпустили ее умирать на волю, но отправили в Кельн, где на одиноком смертном одре она и скончалась вдали от своих верных соратников. Я бы очень хотела изменить историю и одарить Луизу иной судьбой. Сознаюсь, я сгустила обстоятельства ее мучительной смерти. Пышные похороны Луизы де Беттиньи состоялись не в 1919-м, а в 1920-м году, когда ее прах перевезли на родину.
Сегодня о разведчицах Первой мировой почти забыли. Общество оценило их воинский подвиг, но послевоенная судьба этих участниц боевых действий была весьма неопределенной. Кто-то считал, что они растеряли всю женственность, стали грубыми и мужиковатыми, другие полагали, что, невзирая на военные тяготы, в душе они остались нежными и хрупкими, как цветы. Луизу де Беттиньи одарили восхищением, похвалами и орденами, однако современники больше отмечали ее миниатюрность, женственность и патриотизм, нежели ее стойкость и отвагу. «Луиза невероятно женственна, в ней ничего от амазонки…» Нечто похоже происходило и после Второй мировой войны, когда Клепальщицу Роузи[13] призывали забыть о военных тяготах и вернуться к домашнему очагу. Женщины-воины смущали своих современников, однако, бесспорно, оставили наследие: в 30-х и 40-х годах девушки, желавшие сражаться с нацистами, поступали в разведшколы. Их вдохновлял пример Луизы де Беттиньи, но маяком была не ее женственность, а ее мужество, стойкость и бесстрашие. Я думаю, точно так же Эва повлияла на Чарли. Подобные женщины и впрямь цветы зла. Стойкие, выносливые, своеобразные, они подавали пример другим, как распуститься во зле.